В старом здании Московского Университета на Моховой учились
advertisement
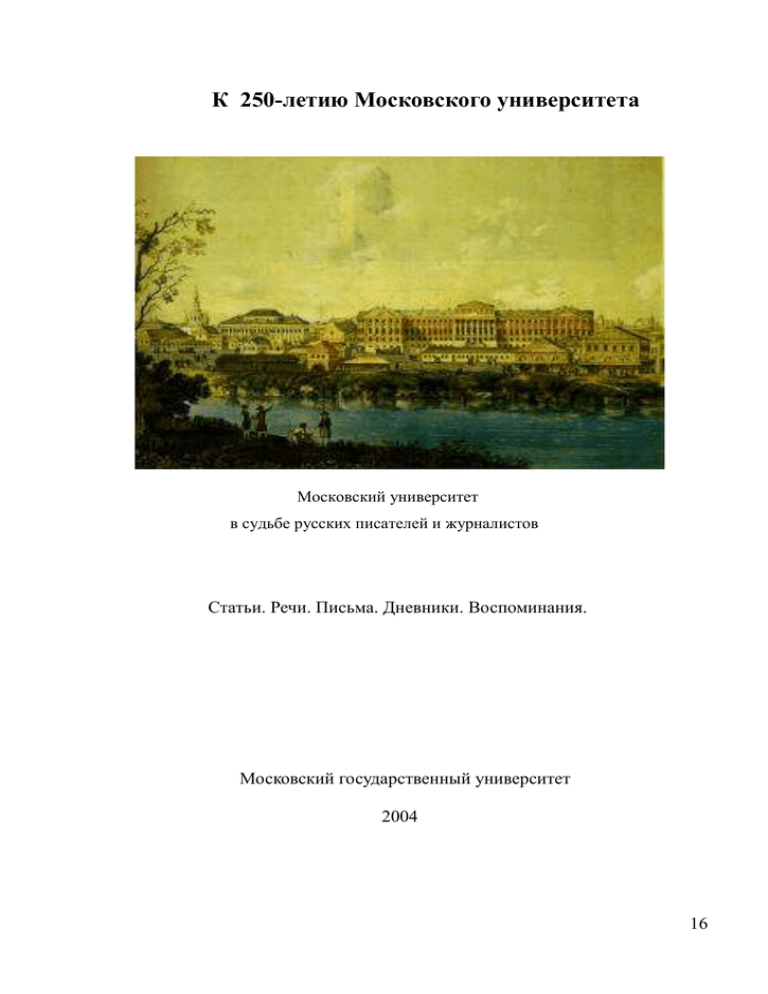
К 250-летию Московского университета Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов Статьи. Речи. Письма. Дневники. Воспоминания. Московский государственный университет 2004 16 К 250-летию Московского университета Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов Статьи. Письма. Речи. Дневники. Воспоминания. Московский государственный университет 2004 17 Преподавателям и выпускникам Московского университета посвящается 18 Содержание Предисловие ....................................................................................................... 23 Проф. Волгин И.Л. ............................................................................................. 23 Михаил Васильевич Ломоносов .......................................................................... 62 Письмо И.И. Шувалову (1754 г., июнь – июль) .............................................. 62 Сергей Михайлович Соловьев ............................................................................. 65 Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове. ....................... 65 Денис Иванович Фонвизин .................................................................................. 70 Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях ........................... 70 Василий Осипович Ключевский .......................................................................... 73 Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени .............................................. 73 Василий Андреевич Жуковский........................................................................... 81 Речь на Акте в Университетском Благородном пансионе .............................. 81 14 ноября 1798 г. ................................................................................................. 81 Павел Афанасьевич Сохацкий ............................................................................. 84 Торжественное слово на полувековой юбилей Императорского московского университета .............................................................................................................. 84 Михаил Александрович Дмитриев ...................................................................... 89 Главы из воспоминаний моей жизни. .............................................................. 89 Николай Иванович Астров ................................................................................. 113 Страничка из истории Московского университета ....................................... 113 Кошелев Александр Иванович ........................................................................... 125 Записки (1812 – 1883 годы.) ............................................................................ 125 Виссарион Григорьевич Белинский ................................................................... 130 Из писем и бумаг .............................................................................................. 130 Иван Александрович Гончаров .......................................................................... 133 Воспоминания. В Университете. .................................................................... 133 Как нас учили пятьдесят лет назад ................................................................ 133 Нил Попов ............................................................................................................ 138 Н.И. Надеждин на службе в Московском университете .............................. 138 (1832 – 1835) ..................................................................................................... 138 Николай Иванович Надеждин ............................................................................ 159 «История поэзии». Чтения адъюнкта Московского университета ............. 159 Степана Шевырева ........................................................................................... 159 Константин Сергеевич Аксаков ......................................................................... 164 Воспоминания студентства 1832 – 1835 годов.............................................. 164 Федор Иванович Буслаев .................................................................................... 186 Мои воспоминания .......................................................................................... 186 Константин Дмитриевич Кавелин ..................................................................... 193 Воспоминания о Грановском Т.Н. .................................................................. 193 19 Юрий Фёдорович Самарин ................................................................................ 200 Из воспоминаний об университете ................................................................ 200 (1834-1838) ........................................................................................................ 200 Александр Иванович Герцен .............................................................................. 207 «Былое и думы». Глава «Московский университет» .................................... 207 Афанасий Афанасьевич Фет ............................................................................... 211 Ранние годы моей жизни ................................................................................. 211 Владимир Александрович Черкасский. ............................................................ 227 Студенческие воспоминания. ......................................................................... 227 Сергей Михайлович Соловьев ........................................................................... 233 Мои записки для детей моих, а если можно, и для других ......................... 233 Борис Николаевич Чичерин................................................................................ 241 Москва сороковых годов. Студенческие годы. ............................................. 241 Петр Андреевич Вяземский ............................................................................... 260 Письмо ректору Московского университета А. А. Альфонскому (1855 г.) 260 Дмитрий Дмитриевич Оболенский ................................................................... 265 Университетские воспоминания студента выпуска 1865 года .................... 265 Павел Николаевич Милюков .............................................................................. 279 Воспоминания. Студенческие годы (1877 – 1882)........................................ 279 Д.В. Викторов. .................................................................................................. 300 Памяти Н.Я. Грота как профессора ................................................................ 300 Михаил Васильевич Сабашников ...................................................................... 310 Записки. Университетские годы (1892/3-1896) ............................................. 310 Наталья Алексеевна Гольцева ............................................................................ 322 Забытое прошлое ................................................................................................. 322 Евгений Николаевич Поселянин........................................................................ 329 Из детских воспоминаний мирянина ............................................................. 329 Александр Валентинович Амфитеатров ........................................................... 334 «Татьяны» ......................................................................................................... 334 Георгий Чулков ................................................................................................. 345 Годы странствий. Из книги воспоминаний. .................................................. 345 Андрей Белый ...................................................................................................... 354 На рубеже двух веков. В университете .......................................................... 354 Михаил Осоргин .................................................................................................. 362 Воспоминания. ................................................................................................. 362 Василий Осипович Ключевский ........................................................................ 368 Набросок речи, посвящённой 150-летию Московского Университета ...... 368 Сергей Николаевич Трубецкой........................................................................... 370 Татьянин день ................................................................................................... 370 Александр Александорович Кизеветтер ........................................................... 376 На рубеже двух столетий. ................................................................................ 376 Студенческие воспоминания .......................................................................... 376 Василий Алексеевич Маклаков .......................................................................... 401 20 Отрывки из воспоминаний* ............................................................................ 401 Николай Сергеевич Арсеньев ............................................................................ 413 Дары и встречи жизненного пути ................................................................... 413 Московский университет в моей жизни ........................................................ 435 Владимир Вернадский ........................................................................................ 444 Разгром .............................................................................................................. 444 Об отношении Московского Университета к «Московским Ведомостям» и к Университетской типографии. ................................................................................ 448 Алексей Федорович Лосев ................................................................................. 461 Из жизни студента начала века. ...................................................................... 461 Николай Михайлович Зернов ............................................................................. 475 Октябрь 1917 года…Крушение империи...................................................... 475 Иван Сергеевич Шмелёв..................................................................................... 483 Мученица Татьяна ............................................................................................ 483 Иван Александрович Ильин ............................................................................... 490 Татьянин день. .................................................................................................. 490 Комментарии ........................................................................................................ 496 Именной указатель .............................................................................................. 497 Указатель периодических изданий .................................................................... 529 21 Там, где Никитская впадает в Моховую, высятся две желто-розовые крепости московской учености. Московский студент, рожденный романтик, до старости улыбается, вспоминая свои улицы, свои аудитории, свою пивнушку и своих профессоров. Это питерцы оценивают, определяют и отдают должное, а мы просто любили и любим. ( М. Осоргин) 22 Предисловие Проф. Волгин И.Л. Возвышение Москвы 25 января 1955 г., в день, когда первому российскому университету исполнилось 200 лет (и событие это не без некоторого горделивого изумления отмечалось еще не вполне отошедшей от могучей сталинской опеки советской общественностью), в парижской газете «Русская мысль» появилась статья одного из старейших писателей-эмигрантов Бориса Зайцева. Она называлась «Московский университет в моей жизни». Жизнь у Бориса Зайцева оказалась длинной. Родившийся в 1881-ом (кстати: 29 января, на следующий день после кончины Достоевского), он умрет в Париже в 1972-ом, 28 января – день в день с девяносто первой годовщиной смерти автора «Братьев Карамазовых» и не дожив нескольких часов до собственного 91-летия. Эти едва ли не мистические сближения как бы приоткрывают тайную, но подспудно ощутимую связь времен. Автору статьи в «Русской мысли» не удалось в свое время окончить Московский университет. Но через много десятилетий, в Париже, «уходя в ночную тьму», он с нежностью вспоминает старые стены на Моховой: «С этой студенческой осени я стал как бы особенным гражданином Москвы. Москве подходили наши синие околыши». Надо сказать, что Москве удивительным образом «подходил» и сам Университет: об этом с редкостным единодушием свидетельствуют едва ли не все мемуаристы. И дело, очевидно, не только в тех преимуществах, которые имели в виду его основатели и устроители: выгодное географическое положение Москвы, сравнительная дешевизна тамошней жизни, наличие родственников у явившихся из провинциального захолустья студентов… Истина, по-видимому, заключалась еще и в том, что Москва самой своей сутью, своей приближенностью к основам национальной жизни была – по контрасту – более расположена к приятию тех благ 23 просвещения, которые в европеизированном Петербурге выглядели бы лишь формальным прибавком к уже устоявшемуся культурному слою. Зато в исконно русской, «корневой», патриархальной Москве новое учреждение могло стать мощным стимулом для развития самобытной духовной жизни и в конечном счете послужить делу национального обновления. Была ли достигнута эта сокровенная цель? «Более чем какая-либо другая тема русской истории, – говорит геттингенский профессор Т. Маурер, – университеты царской России представляют загадку для историка, заставляя его сомневаться в таких категориях, как «отсталость» и «прогресс» – так как в некоторой свойственной им двойственности едва ли можно их отнести к какому-то одному из этих полюсов»1. Строго говоря, появление Университета не диктовалось какой-либо срочной и насущной необходимостью. Система, созижденная Петром, в целом справлялась с теми экономическими, военными и даже научными вызовами, с которыми сталкивалась развивающаяся страна. Проектируемая школа не была предназначена для наполнения армии офицерами, знающими в подлиннике, скажем, Горация, а государственных учреждений – чиновниками, толкующими о дифференциальных уравнениях. Обретение прикладных навыков предполагалось только на одном – медицинском – факультете. Все прочие знания относились к сфере так называемых высших наук. Будущий Университет был, условно говоря, ориентирован более на метафизические умозрения, нежели на узкую практическую пользу. Не последнюю роль, конечно, играли соображения государственного престижа: университеты давно уже стали неотъемлемой принадлежностью всех благоустроенных государств. Претендующая попасть в их число российская монархия желала выглядеть просвещенной. Веселая царица Т. Маурер. Новый подход к социальной истории университета: коллективная биография профессоров. // В кн.: Из истории русской интеллигенции. – СПб, 2003. С. 273. 1 24 Была Елисавет… Что ж: тут был еще один – сугубо интимный – аспект. В своем «Благодарном воспоминании о Иване Ивановиче Шувалове», оглашенном в день столетней годовщины Университета, С.М. Соловьев поспешил отдать должное тому, по чьей мысли «возникло учреждение, долженствовавшее удовлетворить потребности времени, а именно дать науке возможность достигать своей высшей нравственной цели». Именно «высшая нравственная цель» и оказалась истинной сверхцелью Проекта. Не забудем, однако, что первый куратор Московского университета (бессменно остававшийся таковым на протяжении более четырех десятилетий) не достиг в ту пору и двадцати восьми лет. Императрица Елизавета Петровна, утвердившая своим знаменитым указом рождение новой школы, была восемнадцатью годами старше «нашего камергера и кавалера Шувалова», вот уже лет шесть пребывавшего «в случае» – ко благу всей страны. Могла ли стареющая императрица отказать своему молодому избраннику? Великий Петр к нам ввел науки, А дщерь его ввела к нам вкус – как несколько тяжеловато, но, в сущности, справедливо выразится Г.Р. Державин (правда, по несколько иному поводу). Итак, все складывалось самым благоприятнейшим образом. Общее начертание нового учебного заведения и даже его профессорский штат, настоятельно предлагаемые «вашего превосходительства всепокорнейшим слугой» М.В. Ломоносовым в его летнем, 1754 г., письме к И.И. Шувалову, были почти дословно воспроизведены в императорском указе. Трем факультетам – юридическому, медицинскому и философскому (последний, как бы свидетельствуя о тайном един25 стве мироздания, совокуплял в себе столь различные предметы, как экспериментальная физика, всеобщая история и искусство стихотворства2) – надлежало стать твердым подножием новой российской образованности. 26 апреля 1755 г. состоялась «инавурация» университетской гимназии – с молебном и торжественными речами на российском, латинском, французском и немецком языках, после чего, как сообщили из Москвы «Санкт-Петербургские ведомости», «знатнейшие персоны прошены были во внутренние покои, где трактованы были разными ликерами и винами, кофием, чаем, шоколадом и конфектами»3. Судьбе было угодно, чтобы Университет разместился в самом сердце первопрестольной, бок о бок с Красной площадью, у Воскресенских ворот (на месте будущего Исторического музея). С течением времени переместившись на Моховую и прирастая новыми владениями и строениями, он лишь укрепил свое центральное положение. Окна главных университетских зданий выходили на Кремль: символ образованности воздвигся прямо напротив символа государственной власти. В стране появилась новая точка притяжения: она влекла к себе тем сильнее, чем гадательнее и неопределеннее была предназначенная ей роль. «Вот система!» А.А. Кизеветтер замечает, что Московский университет был всероссийским микрокосмосом, продолжавшим «собирательную миссию преемников Калиты». Добавим, что Университету удавалось совершать это куда меньшей кровью. Он сделался таким же «брендом» Москвы, как Спасская башня или колокольня Ивана Указанная тенденция сохранилась и в ту пору, когда формально философия как самостоятельный предмет была упразднена. «Это не помешало ей, – говорит М.А. Дмитриев, – проникать, так сказать, во все невидимые поры университетских лекций по другим предметам». (М. Дмитриев. Главы из воспоминаний о моей жизни. – М., 1998. С. 439.) Может быть, здесь заключались начатки того, что Н. Бердяев свяжет позднее с присущей русской интеллигенции жаждой целостного мировоззрения. 3 «Санкт-Петербургские ведомости». 1755. 16 мая. 2 26 Великого. Как-то сами собой рассеялись намерения перевести его на Воробьевы горы или в Лефортово: все связанные с этим усилия ушли в песок. Университет остался на Моховой4. С 1755 г. Москва могла смело претендовать на звание столицы русского просвещения. И пусть другие стороны ее повседневного быта отнюдь не освящались этим высоким титлом, все равно лишь «в припадке капризного раздражения» меланхолический Сумароков мог утверждать, что улицы ее вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Невежества, конечно, хватало, как, впрочем, и везде (не исключая самые просвещенные страны). Однако наличие именно в Москве сравнительно тесного и весьма заметного по своему духовному притязанию круга заставляло родителей отправлять туда своих недорослей: Митрофанушки уже вызывали всеобщий смех. И если юные сотоварищи Дениса Фонвизина на вступительном испытании не сходились во мнении, куда, собственно, впадает Волга – в Белое или в Черное море, – с течением лет ученые споры стали обретать более положительный смысл5. Позже Константин Аксаков нарисует впечатляющую картину: в аудиториях на Моховой перед русским юношами раздается «тысячелетняя речь божественного Гомера». Впрочем, иные слушатели обращали «больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова “Одиссеи”». Но «странное дело!» – восклицает К. Аксаков. И то, что витало в воздухе в виде неких мировых отвлеченностей, и то, что порой плохо преподавалось и быстро улетучивалось из памяти забывчивых студентов, – все это так или иначе западало в юные души и неопытные Университет не покинул своих пенат и после «большого переезда» – перемещения большинства факультетов на Ленинские горы. Присутствие Университета в историческом центре Москвы – в своих исконных родовых владениях – возможно, последняя, физически осязаемая связь с безвозвратно минувшим. 5 Не следует при этом забывать, что в то время испытуемые часто еще не успевали выйти из первого отрочества. Один воспоминатель повествует, как на вступительном экзамене он «довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т.д. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал». Студентами приняли обоих – с правом ношения шпаги. «Мне было, – добавляет мемуарист, – 13, а брату 11 лет». (Лыкошин В.И. Из Записок. // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М., 1980. С. 33.) 4 27 сердца. Высшее образование, вопреки обозначенному в его названии «верхнему» положению, действует на глубине, исподволь: оно формирует не крону, но корни. На этом, в сущности, сходятся едва ли не все мемуаристы. Автор «Обломова» в своем мемуаре как бы мимоходом сообщает, что во время Крымской кампании главнокомандующий, князь Горчаков, «свидетельствовал, что прошедшие курс университетского образования были и отличными, из ряда вон выходящими офицерами». Но пока впереди кампания 1812 года. «Время летит, – восклицал в 1797 г. на акте в Университетском благородном пансионе пятнадцатилетний Василий Жуковский, – и семена мудрости и добродетели, насажденные во дни юности в умах и сердцах наших, возрастут в древо великое, коего плоды будем мы собирать и в самой вечности!» Плавность и закругленность периода, равно как и содержащиеся в нем чувствования, лучше всего доказывают, что университетским питомцам пошли впрок не только наставления их мудрых профессоров, но и пленительные уроки Карамзина. Храм науки не станет той крепостью, которая, как выразится позднее министр просвещения С.С. Уваров, должна быть отделена от мира действительного рекою забвения, наподобие Елисейских полей древних. Гул новой русской словесности властно проникнет под своды аудиторий на Моховой. И пока любимый не одним поколением школяров профессор красноречия, стихотворства и языка российского А.Ф. Мерзляков прижимает к сердцу трепетную руку, восклицая при этом: «Вот система!», его насмешливые слушатели украдкой, но с равным рвением почитывают Пушкина и Баркова6. Определяющий тогда эстетические пристрастия «сумрачный германский гений» ничуть не мешает живейшему восприятию легкомысленного российского стиха. 27 сентября 1832 г. тот же Уваров (еще не министр, а попечитель) будет со«У Мерзлякова, – говорит М. Дмитриев, – как мало было вкуса в собственных произведениях, так много художественного такта в критических разборах». (Дмитриев М. Указ. соч. С. 67.) Заметим справедливости ради, что «Колумб российского гекзаметра» – автор незабвенного «Среди долины ровныя…». 6 28 провождать Пушкина во время его единственного визита в Университет. Указывая поочередно на ученого лектора и на поэта, Уваров с пафосом молвит: «Вот теория искусства, а вот и само искусство!». (Автор бессмертной формулы «самодержавие, православие, народность» умел выражаться лаконически.) Жаль, что в аудитории не присутствовал юный Лермонтов: за несколько месяцев перед тем он как раз вышел из Университета. Что помешало б ему, сохранявшему на лекциях ленивую («полулежачую») позу и демонстративно углубленному в редкую иностранную книгу, выйти из своей высокомерной задумчивости? Судьбоносное (как ныне выразились бы) свидание двух светил российской словесности (как выразились бы тогда) могло состояться – к вящему удовольствию нетерпеливых потомков. Но увы. История Университета полна подобных невстреч. Белинский тоже будет обретаться где-то совсем рядом, но впервые по-настоящему разглядит автора «Смерти поэта» лишь много лет спустя, когда тому после очередной дуэли придется скучать на петербургском ордонансхаузе. Герцен не заметит студента Белинского; юный Гончаров прошествует мимо юного Константина Аксакова. Фет «лицом к лицу» столкнется с Н.В. Гоголем (последний не бывал в Университете, зато проживал рядом, в доме Погодина), однако, будучи лично не знаком с постояльцем, не поклонится автору «Мертвых душ». (Гроб Гоголя будет поставлен в университетской церкви, хотя сам он принадлежал к другому приходу: более подходящего храма не нашлось бы в целой Москве.) Но родственные души все-таки находят друг друга. Сам Фет проведет университетские годы под дружеским кровом своего соученика Аполлона Григорьева (вернее, его семейства: ему запомнится этот домашний лицей). «Ныне случается, – писал в 60-х гг. XIX в. М. Дмитриев, – что выходят из университета математик или юрист, не знающие литературы, между тем как литература, в обширном смысле, со всеми вспомогательными науками, способствует более к образованности человека, чем специальные предметы других наук. И потому в наше время было менее положительной и односторонней учености, но более общего просвещения, уясняющего идеи». От этого происходило не только бо29 лее «разнообразия в сведениях», но и, что немаловажно, «более жизни в разговоре». Принято как нечто само собой разумеющееся отмечать вклад Московского университета в отечественную науку. С гораздо меньшей отчетливостью «университетский след» обнаруживается в российской словесности. Однако последняя никогда не оставалась только учебной дисциплиной. И если действительно «поэт в России больше, чем поэт», то можно с осторожностью допустить, что и читатель в России не совсем обычного свойства. Тем более когда он, читатель, пребывает в звании студента и располагается в самом чувствилище умственной жизни – там, где свежие книжки столичных журналов (чьими редакторами были действующие или бывшие университетские преподаватели – М.Т. Каченовский, Н.И. Надеждин, П.М. Леонтьев, Н.А. Любимов, М.Н. Катков и др.) обладают достоинством новостей – не менее важных, чем, например, сообщаемые в последних выпусках парижских газет. Тому были свои причины. При полном отсутствии в России публичной политики, гласной парламентской деятельности или, на худой конец, свободно конкурирующих научных школ литература оставалась едва ли не единственной сферой, где могла бы проявиться живая жизнь и нашли бы воплощение потребности национальной души. В невербализованном российском контексте роль текста была исключительно велика. В свою очередь некоторая заведомая – культурная – избыточность университетского учения, изначальная установка его не на узкую специализацию, а на общие гуманитарные цели не могла не пробуждать в душах университетских воспитанников «любовь к высокому». Университет не ставил своей задачей подготовку литераторов; однако число его выпускников, так или иначе проявивших себя на литературном поприще, чрезвычайно велико7. Собственно, тексты, помещаемые в настояСюда относится не только плеяда профессиональных литераторов – от Фонвизина и Грибоедова до А. Белого и Вяч. Иванова – но и значительное количество журналистов, публицистов, историков и философов, обладавших несомненным литературным дарованием. Впрочем, традиция не вполне прервалась, что может засвидетельствовать и автор этих строк, вот 7 30 щем издании, говорят сами за себя. Тот, чье имя носит Московский университет, помимо прочих своих заслуг был писателем. Не без изящества зарифмовал он имя другого основоположника – «первого перед престолом ходатая»: Неправо о вещах те думают, Шувалов, Которые Стекло чтут ниже Минералов. Поэзия еще не вполне отделилась от науки. Зато наука спешила дистанцироваться от религии. В отличие от университетов Западной Европы, на Моховой не было богословского факультета. Предметы, подлежащие веденью веры, считались обязательными, но никогда не доминировали в общем учебном процессе. Правда, нельзя сказать, что светский по статусу и духу Университет, строго надзиравший за воспитанием юношества, не пекся о его окормлении. Но знание Божественного Откровения почиталось лишь одной из сторон светской образованности. Недаром преподававший церковную науку протоиерей Сергиевский не отзывался, когда его именовали «батюшка», но снисходил до ответа при обращении «господин профессор» («Я совсем не имел чести знать вашу матушку», – заметил он одному настойчивому студенту). Здесь не столько являла себя мирская гордыня, сколько подчеркивалась принадлежность к сословию: не пастырей, но ученых. С другой стороны, совершенно неотделима от образа Университета домовая церковь Святой Мученицы Татианы, на фронтоне которой было начертано: «Приидите к Нему и просветитеся» (позже замененное на другую цитату: «Свет Христов просвещает всех»). Ни то, ни другое не означало, что обретение знаний противно приятию благодати. Ибо, как сказал в своем слове при освящении храма в уже более 35 лет возглавляющий Литературную студию МГУ, откуда вышло уже несколько поэтических поколений. Кстати, Студия начала свою деятельность и долгое время занималась в том здании (церковь Св. Татианы – Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ), где отпевали Гоголя. (Подробнее см.: И. Волгин. Литературная студия как жанр // Арион. 2001. № 1.) 31 1837 г. митрополит Филарет: «Итак, вот дом молитвы под одним кровом с домом любомудрия. Святилище тайн приглашено в жилище знаний… Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагораживанию человечества». Достижение этой гипотетической цели с течением времени отдалялось. Ненастной ночью 1919 г., при вспышках молнии и раскатах грома («Прообразом исторического события – в природе служит гроза», – сказал О. Мандельштам), смущенные пролетарии ценой чрезвычайных усилий собьют тяжелые каменные буквы с церковной ротонды. «Дом молитвы» будет изгнан из «дома любомудрия». Но вернемся в XIX столетие. Плоды любомудрия Уже на заре царствования Александра стало очевидно, что идея, положенная в основу Университета, в общем оправдала себя. Была опробована модель, на которую так или иначе стала ориентироваться вся система российского образования. «Обитель высших знаний» (Филарет) самим фактом своего существования поднимала уровень всего школьного дела. Как выразился в 1805 г. профессор и надворный советник П. Сохацкий, великая приносимая Университетом отечеству польза «никогда даже самою завистию не была совершенно отрицаема». Тем более никакие резоны не могут умерить ностальгического воодушевления, которое захватывает воспоминателей, как только они берутся за перо. «И теперь без смеха нельзя себе представить Вас. Мих. Котельницкого, – говорит Н.И. Пирогов, – идущего в нанковых, бланжевых штанах в сапоги (а сапоги с кисточками), с кульком в одной руке и фармакологиею Шпренгеля, перевод Иовского, под мышкою». Профессор медицинского факультета, он бредет от Охотного ряда, где запасся провизией, на Моховую, отдает кулек сторожу и отправляется в аудиторию: «Вас. Мих., с помощью очков читает в фармакологии Шпренгеля, перевод Иовского: «Клещевинное масло, oleum ricini, – китайцы 32 придают ему горький вкус». Засим кладет книгу, нюхает с всхрапыванием табак и объясняет нам, смиренным его слушателям: «Вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному маслу горький вкус». Мы, между тем, смиренные слушатели, читаем в той же книге: вместо китайцев – «кожицы придают ему горький вкус». Для профессора фармации и статского советника Котельницкого процесс учения почти не отделен от домашнего быта. Часто, говорит Пирогов, «заключал он лекцию до звонка такими словами: «а мне пора к Надежде Андреевне (жене); она у меня нездорова». Котельницкий, декан медицинского факультета, неизменный защитник студентов (ему приходилось вступаться и за Белинского), «старик очень добрый и почтенный». Он не обращал никакого внимания, когда, переписывая латинский текст, студенты вместо venenum (яд) писали venerum (венерический) – что, впрочем, не так уж глупо. Садясь на извозчика, он приговаривал: «Смотри, поезжай осторожнее; статского советника везешь»8. Его любили, хотя и подсмеивались над ним. Он как бы олицетворял собой ту патриархальную старину, с которой никак не мог расстаться Московский университет. Возможно, профессор был последним из могикан. В.М. Котельницкий – родной дядя матери Достоевского, любимый ее детьми и сам любящий их «ученый дедушка». Каждую Пасху старшие братья Достоевские (и в том числе брат Федор) непременно являются к дедушке на обед. Дедушка, впрочем, не спешит приобщить племянников к университетским премудростям, особенно по части медицины (будучи доктором, он не выписал в жизни ни одного рецепта из опасения навредить и сам с женой предпочитал лечиться у другого врача – отца Достоевского). К восторгу детей, он ведет их на балаганы – туда, где бал правят паяцы, клоуны, силачи и Петрушки. И хотя этот университет детям куда милее и ближе, можно с известной натяжкой утверждать, что юный Федор Достоевский имел случай войти в некоторое соприкосновение с кругом 8 Русский архив. 1881. Книга 2. С. 50, 68. 33 университетской жизни9. Об Университете его воспитанники вспоминают как о лучшей поре: так обычно всегда вспоминается молодость. Даже о глуповатых или невежественных наставниках бывшие ученики отзываются с благодушной иронией. Что же говорить о любимых учителях, которым прощают все. Так, профессорское пристрастие к пуншу и появление на лекциях в легком подпитии трактуется не без оттенка сыновнего умиления. Важным было другое: то, что высокоторжественно именовалось «психологическим разбором чувства истины» (Н. Надеждин). Наличие в лекционных курсах указанного чувства или, выражаясь иначе, поэтики мысли принимается юными слушателями с чрезвычайным восторгом. Ибо ничто не ценится выше, чем интеллектуальная доблесть. И даже если провозглашаемые с кафедры постулаты окажутся при дальнейшей поверке чуть старомодными, они все равно падут на благодатную почву. Возможно, выучившиеся в школе Каченовского, Мерзлякова, Надеждина неофиты с годами перерастут своих старых профессоров. Но предание будет переходить из уст в уста. Ни «состояние окаменелости», в котором под конец пребывали иные из былых кумиров (Каченовский), ни «отвратительная внешность» и корыстолюбие, вспоминаемые почему-то в одном ряду (Погодин), ни даже проповедуемый с истинным чувством казенный патриотизм (Шевырев), повлекший ехидный вопрос одного студента-поляка – сколько получает профессор за это лишнего жалованья? – ничто не в силах отвратить от названных и не названных лиц стойких ретроспективных симпатий10. Что же говорить о Т.Н. Грановском, лекции которого приравниваются к сфере художества, к творческому акту, а сама артистическая натура лектора вызывает всеобщее поклонение. Конечно, тем, кто не был непосредственным свидетелем таких тайнодействий, трудно, если не невозможно постигнуть их магнетическую природу. Секрет, к сожалению, утрачен. И надо полагать, заключался он не только Подробнее см.: И. Волгин. Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. – М., 1991. 10 В реплике Пушкина, который, «слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! зачем ты не всегда пьян!», можно усмотреть начатки той же исторической снисходительности. 9 34 в занимательном изложении истории Средних веков. Разумеется, тут важно высокое мастерство. Но, пожалуй, еще важнее – особый тип университетской личности, возросший на скудной российской ниве. Многоприемлющая душа историка, его доброжелательность, снисходительность и открытость, благородство и толерантность (чуть было не вымолвил – политкорректность: современник упоминает о вежливости первоначальных споров западников и славянофилов) – все это было довольно ново и необычно. Грановский являл собой невиданный прежде «культурно-исторический тип». Он мог бы напоминать Карамзина, если бы в отличие от автора «Истории государства Российского» не был вполне проникнут либеральным западным духом11. Его нравственные правила были безупречны. И это, казалось бы, постороннее для «чистой науки» обстоятельство воспринималось как часть его профессионального облика. Ему устраивали овации. На исходе николаевского царствования (и даже вплоть до 1880-х гг.!) аплодирующих студентов еще могли упечь в карцер (что, к счастью, не распространялось на присутствовавшую на лекции Грановского светскую публику)12. Слушателям было трудно сдержать эмоции. Князь Д.Д. Оболенский приводит анекдот: митрополит Филарет, с неудовольствием вопросивший профессора богословия Сергиевского (последний, как помним, не любил, когда к нему обращались «батюшка»), почему тому хлопают студенты, и получивший ответ, что, очевидно, – за хорошие лекции, с чувством возразил: «Так читай похуже…». В словах владыки можно помимо прочего усмотреть тонкий намек на неуместность аплодисментов в храме (пусть даже в храме науки), тем более что лектор-богослов касается материй, не требующих особых рукоплесканий. Как сказал Некрасов в «Медвежьей охоте»: «Ты стоял перед отчизною / Честен мыслью, сердцем чист, / Воплощенной укоризною / Либерал-идеалист». Между тем, Достоевский в «Бесах» (образ Степана Трофимовича Верховенского – «Грановского») укажет на опасность тех идейных мутаций, к которым может повести прекраснодушие «отцов». 12 Ф.И. Буслаев вспоминает, как однажды во время лекции С.П. Шевырева «за окном мгновенно пролетела какая-то темная, длинная масса и вместе с тем раздался страшный, раздирающий душу вопль». Оказалось, что студент, посаженный накануне в карцер «за то, что был мертвецки пьян», на другой день по непонятным причинам выбросился из окна. «Тотчас же вслед за этой катастрофой, – говорит воспоминатель, – было приказано в это окно вставить железную решетку». Но и сам карцер стал по большей части пустовать. 11 35 Безукоризненное общественное поведение тоже становится фундаментальной университетской традицией, тем критерием, по которому судят о принадлежности к сословию (то есть к ученой корпорации). И когда профессор римского права Н.И. Крылов будет уличен во мздоимстве и этот скандал не повлечет для его виновника никаких последствий (начальство предпочло отмолчаться), никого не удивит то обстоятельство, что несколько молодых профессоров почтут себя оскорбленными и выйдут из Университета (Грановский не смог к ним присоединиться только по той причине, что ранее учась за границей, он задолжал государству). Трудно припомнить случай, чтобы в наши дни кто-либо последовал этому поучительному примеру. «Не домогаться ничего, – скажет Герцен, – беречь свою независимость, не искать места – все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции». Автор «Былого и дум», возможно, преувеличивает степень фрондерства своих университетских друзей, равно как и подозрительность по отношению к ним государственной власти (он даже именует Университет «опальным»). Он говорит о свободной циркуляции в аудиториях запрещенной литературы и открытом обсуждении довольно рискованных тем («Я не помню ни одного доноса… ни одного предательства»). Конечно, в Москве вообще было вольготнее, чем в Северной Пальмире. Но и та высокая степень умственной независимости, которую, несмотря на вписанность вместе с другими чиновниками в строгую «Табель о рангах», демонстрировала университетская профессура, свидетельствовала о том, что московское академическое сообщество в какой-то мере сумело отдалиться от забот и политических предпочтений Петербурга. Это значит, что Университет стал культурнее правительства. Того самого, которое, по слову Пушкина, будучи «единственным европейцем в России», сначала вызвало это учреждение к жизни, но со временем сохраняло все меньше оснований притязать на интеллектуальное лидерство. Не могло быть речи и о моральном соперничестве. Господствующий в Университете дух был чище общей государственной атмосферы. «Я помню, – говорит Герцен, – юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через 36 край; я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть». Низкие поступки или недостойный образ действий были несовместимы с теми понятиями, которые усвоили слушатели Надеждина и Грановского и которые незаметно вошли в их духовный состав. Имена великих этиков и мыслителей – от античных до новых времен – становились как бы принадлежностью быта – и можно ли осуждать «выпившего не в меру» слугу Аполлона Григорьева, который, выкликая при театральном разъезде экипаж своего молодого барина, ошибочно провозгласил: «Коляску Гегеля!». Да: иные посетители Университета (к ним, разумеется, не относятся казеннокоштные студенты) имели собственный выезд (точнее сказать, пользовались родительскими лошадьми)13. Но учебное заведение, «по своей и Божьей воле» основанное «архангельским мужиком» и формально могущее допускать в свои стены даже крепостных (правда, с письменного разрешения их владельцев)14, никогда не представляло собой академию избранных. В этом смысле Московский университет был гораздо демократичнее, чем, например, Царскосельский лицей. Более того: в первые годы существования Университета дворянские недоросли отдавались туда родителями не без опаски. Гвардейские карьеры выглядели куда предпочтительнее. Зато семинарская публика вольна была теперь выбирать между Духовной (бывшей Славяно-греко-латинской) академией и Университетом. Положение изменилось после знаменитого, от 6 августа 1809 г., указа, инспирированного «Своекоштные студенты были отделены от нас, казеннокоштных, временем и пространством». (Тимковский В.Ф. Воспоминания. // Киевская старина. 1894. № 4. С. 8.) «В наше время (до 1812 г. – И.В.), – говорит Д.Н. Свербеев, – можно было разделить университет на два поколения: на гимназистов и особенно семинаристов, уже бривших бороды, и на нас, аристократов, у которых не было и пушка на губах. Первые учились действительно, мы баловались и проказничали». (Свербеев Д.Н. Из воспоминаний. // Московский университет в воспоминаниях современников. – М., 1989. С. 65.) 14 Не располагая сведениями о присутствии в Университете детей крепостных крестьян, следует все же упомянуть одно указание о появлении на лекциях мужика, в тулупе, с черной бородой, которого мемуаристу представили как второго Ломоносова. Этот студент, Бугров, происходил из казенных (то есть государственных) крестьян и позже, по слухам, «самовольно кончил жизнь». (См.: Сушков Н.В. Московский университетский благородный пансион и его воспитанники. – М., 1858. С. 30.) 13 37 «поповичем» – неугомонным Сперанским. Чтобы достичь на статской службе известного чина, теперь нужно было сдать университетский экзамен. Несмотря на негодование, возбужденное этой стеснительной мерой, дворянские юноши и чиновники летами постарше быстро наполнили аудитории на Моховой. Все это случилось незадолго до пожара Москвы и, соответственно, тех потрясений, которые, как всякое национальное бедствие, пробудили страну. «Царство очарования», или Statu in statu В послевоенной (послепожарной) Москве Университет, большинство помещений которого было уничтожено огнем, не только раздался вширь, но и заметно упрочил свое положение. Император Николай Павлович, судя по всему, не являвшийся большим поклонником университетского воспитания, тем не менее честно выполнял свой императорский долг. В 1835 г. напротив Манежа (выстроенного несколько ранее, в 1817 г.) был открыт новый учебный корпус 15. Нередко во время своих посещений Москвы, бывая в Манеже, где он наблюдал за военными экзерцициями, государь Николай Павлович не удостаивал августейшим вниманием здания напротив. «Ну, я сюда не поеду», – заметил он как-то князю С.М. Голицыну, на что попечитель (то есть высшее надзирающее за Университетом лицо) простодушно ответствовал: «Да и я как можно реже там бываю». Любящий возникать неожиданно, как Каменный гость, император Николай Павлович однажды-таки явился. В новом здании как раз затевалась уборка – и, «увидев могучую фигуру Государя», ошалевшая поломойка опрокинула ему под ноги таз грязной воды. Возможно, эта приведенная воспоминателем сцена (кажется, не вполне достоверная) имеет целью хоть как-то объяснить глубинные причины царской неприязни. При Николае Павловиче независимо от намерений власти умножилось число разночинцев. Стало заметнее размежевание между ними и теми, кто приезжал 15 Там теперь помещается факультет журналистики 38 на занятия «на своих» (хотя уже и без сопровождения гувернеров: именно с ними в начале века являлись на лекции совсем юные Александр Грибоедов и Петр Чаадаев). Однако аристократические замашки, характерные для «английских школ», не привились на московской земле. «Студент, – замечает Герцен, – который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня»…»16 Неравенство состояний умерялось еще и тем, что имела место общая для всех обучаемых форма – мундиры или мундирные сюртуки – то с синими, то с красными воротниками, шляпы и, как символ гражданской чести – декоративные шпаги17. Они, по-видимому, не извлекались из ножен, ибо в университетских анналах не сохранилось сведений о студенческих дуэлях, столь популярных, например, в «Германии туманной». Склонность к вооруженной полемике не была свойственна мирным московским жителям. Простота нравов и незлобивость учащейся молодежи (часть которой в силу происхождения оставалась недуэлеспособной) не споспешествовали утверждению принятых, например, среди господ офицеров способов выяснения истины. Российским бурсакам (если под этим словом подразумевать всех учимых) было далеко до заносчивых буршей. Шрамы в крайнем случае оставались на сердце. Родословная некоторых профессоров также благоприятствовала укоренению демократических привычек. Сын сельского священника и внук дьячка Н.И. Надеждин в продолжение лекции (после которой министр просвещения не без яду заметил: «В первый раз вижу, чтобы человек, который так дурно пишет, мог говорить так прекрасно!») «то навивал себе на палец целый платок, то распускал его во всю длину». Через три десятка лет бывший семинарист Николай Добролюбов, как бы храня в своей генетической памяти образ предшественника (критика и эсМожно согласиться с Т. Маурер, что Университет «в некотором смысле стоял вне сословной градации и даже несколько нарушал ее» (Из истории русской интеллигенции. С. 275.). 17 Парадная студенческая форма была довольно импозантной – недаром юная кузина одного из университетских воспитанников осведомилась у него на балу – «не камер-юнкерский ли на нем мундир». (Цитируется по: А.Ю. Андреев. Московский университет в общественной и культурной жизни России XIX в. – М., 2000. С. 230.) 16 39 тетика, вопреки аттестации министра, писавшего весьма порядочно), будет при сочинении руководящей статьи методически разматывать наверченный на палец длиннющий конспект. Так осуществлялось преемство. Но помимо радостей и огорчений, которые даровала высокая духовная жизнь, существовал еще мир вещественный – может быть, не такой изобильный, однако же не менее важный. И если материя, как принято утверждать, есть объективная реальность, данная в ощущениях, то следует признать, что сами ощущения были довольно однообразны. Стоит внимательнее всмотреться в скупые приметы школярского быта. По свидетельству М. Дмитриева, отданного в благородный пансион при Московском университете в возрасте 15 лет, воспитанники (а это были исключительно дворяне) поднимались «по звонку» в несусветную рань – в начале шестого. Конечно, после жизни дома, в семействах, это было несладко (студенты могли позволить себе подняться в восьмом и даже в девятом, хотя по уставу вставать было должно в шесть)18. В шесть повторяли уроки, и только в семь, после молитвы, детей допускали к чаю, который представлял собой «какую-то жижу с молоком». Трех полагавшихся в качестве завтрака сухарей никогда не хватало: «мы, – говорит Дмитриев, – выходили из-за чая всегда голодные»19. Обед, приуроченный к двенадцати, был ненамного сытнее. Зато в заведении не было розог! (Так что гордившийся их отсутствием Лицей учитывал, очевидно, университетский опыт.) «…Все было тихо, повиновение было совершенное», – говорит мемуарист. Инспектор благородного пансиона А.А. Прокопович-Антонский для устрашения воспитанников посылал человека повесить в залу инспекторскую шинель (что по находчивости сравнимо с посылкой фуражки капитана-исправника, одно появление которой, как известно, способно умирить вышедших из повиновения крестьян). Картины светской – ночной – жизни, укоренившиеся в нашем литературном сознании, затеняют тот факт, что в обеих столицах присутственные места и особенно учебные заведения открывались довольно рано. Онегин, под утро возвращавшийся с бала, мог встретить не только «с кувшином охтенку», но и спешащего на занятия ученика. 19 М. Дмитриев. Главы из воспоминаний о моей жизни. – М., 1998. С. 72. 18 40 Поступив в Университет (имеются в виду 20-е – 30-е гг. XIX столетия), казеннокоштный студент попадал в отлаженную систему довольно строгих правил и регламентаций. Проживая в зданиях на территории Университета (в «нумерах», где помещались 8–12 и более человек), обязанный брать письменное разрешение, чтобы остаться в городе на ночь, с указанием места ночлега, а в противном случае под угрозой карцера понуждаемый вернуться не позднее десяти, бедный студент (буквально бедный, ибо студенты достаточные принадлежали главным образом к категории своекоштных и жили в городе) мог рассчитывать только на снисходительность начальства, университетскую рутину и русский авось. Надо, конечно, иметь в виду и те незатейливые приемы, которые употребляли находчивые студенты, дабы незаметно проскользнуть мимо дремлющих у ворот и не отличающихся неподкупностью стражей или провести бдительных надзирателей, соорудив на кровати отсутствующего товарища некое подобие чучела. И хотя Университет действительно представлял собой statu in statu (известно высказанное в сердцах утверждение, что он соответствует трем идеям – тюрьмы, скотного двора и казармы), у этой крепости было много тайных лазеек, позволявших превозмогать сопряженные с учением тяготы и невзгоды. «Студенты, – честно признается К. Аксаков, – не были точны в посещении лекций». Восемнадцатилетний Белинский по поступлении в студенты спешит навестить университетский Музеум: он именует его «небольшим царством очарования». Собственно, таким царством является для него и сам Университет. Ему, кто еще не заслужил почетного титула «неистового Виссариона», нравится практически все: и прекрасная, на его взгляд, зала для публичных экзаменов, и анатомический кабинет со множеством «уродов, скелетов и отдельных частей человеческого тела», и университетская библиотека, где высятся «алебастровые бюсты великих гениев: Ломоносова, Державина, Карамзина» («жалко, – добавляет, однако, автор еще не написанных «Литературных мечтаний», – что между помянутыми бюстами великих писателей стоят бюсты – площадного Сумарокова, холодного, напы41 щенного и сухого Хераскова»). Явившемуся из своего чембарского далека «симпатичному неучу» (как, в свою очередь, обзовет его высокомерный Набоков) студенческая жизнь мила и приятна. Ее подробности будущий глава натуральной школы прилежно изобразит в письмах к родным. Белинский с удовлетворением отмечает наличие в номерах, где проживают студенты, личных табуреток и столов, а также – аккуратных железных кроватей. «Наволоки, простыни и одеяла всегда бывают белы, как снег, и переменяются еженедельно… Чистота и опрятность необыкновенная». Кого не порадуют сообщаемые в этом источнике (он датирован 5 января 1830 г.) реалии? Они свидетельствуют о том, что гигиенические условия быта студентов (накануне холеры: она разразится в том же 1830 г.) находились на должной высоте. Не вызывает нареканий и пища: булка и стакан молока на завтрак, суп, говядина и каша на обед. «Хлеб всегда бывает ситный и вкусный, и кушанья вообще приготовлены весьма хорошо». У каждого стола, за который садятся 11 человек, прислуживает солдат (любопытно, что к каждому номеру также приставлен солдат – очевидно, отставной, – который «метет пол, прибирает постели и прислуживает студентам»)20. Особенно радует сына лекаря то обстоятельство, что на столах наличествуют не только белоснежные скатерти, но и отдельные приборы, где в числе других предметов имеются серебряные ложки (кстати, в благородном пансионе серебряную ложку обязаны были доставлять из дома сами пансионеры, после чего таковая – видимо, в качестве трофея – навсегда переходила в собственность заведения). Судя по всему, начальство было весьма озабочено тем, чтобы воспитанники УниверИнтересно сравнить эти наблюдения Белинского со свидетельством Ф.И. Буслаева, который учился в Университете несколькими годами позже: «Живя в своих нумерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире». (Московский университет в воспоминаниях современников. С. 204.) Такого рода государственный патернализм, вообще свойственный русской жизни, позволял даже весьма недостаточным студентам вести хотя бы внешне пристойное существование. 20 42 ситета чувствовали себя принадлежащими к приличному обществу. (Недаром один литературный герой, желая унизить сотрапезников, говорит: «Они не умеют порядочно есть»). Но проходит всего чуть более года – и тот, кто будет менять свои литературные мнения со стремительностью, поражавшей его не столь пластичных коллег, отказывается от прежнего взгляда – от раннего, еще не порожденного Гегелем, «примирения с действительностью». Теперь его раздражает общежитский студенческий быт: «теснота, толкотня, крик, шум, споры». («Я не отвык, – говорит Ф. Буслаев, – и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкутся».) Не вызывают ни малейшего энтузиазма и превозносившиеся некогда обеды: «Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть». Автор письма выказывает удивление, как он и его товарищи смогли уцелеть во время холеры (той самой – когда государь бесстрашно явится среди первопрестольной, а Пушкин, запертый в Болдине, будет творить чудеса), «питаясь пакостною падалью, стервятиной и супом с червями». От прежних восторгов не остается и следа. В посланиях Белинского начинают звучать эпистолярные интонации Ваньки Жукова: «Обращаются с нами как нельзя хуже». Из груди пишущего исторгается вопль, который могли бы повторить многие из его коллег: «Какая разница между жизнию казенного и жизнию своекоштного студента!». Однако и на казенном коште неудачнику Белинскому оставаться уже недолго. Вскоре его уведомят о всемилостивейшем, как он выразится, увольнении от Университета (по причинам не столько учебного – «по неспособности», сколько литературно-политического свойства). В августе 1834 г. изгнанника примет под свой попечительный кров профессор Надеждин: журнал «Телескоп» обретет отныне деятельного сотрудника. «Жить мне недурно; у меня особенная комната, – сообщает Белинский родным, – а так как он сам (то есть хозяин квартиры. – И.В.) никогда дома не обедает, то для меня одного готовили постом скоромный стол…». Употребление в пост скоромного, конечно, не красит автора письма; можно, однако, предположить, что 43 домашние Надеждина втайне догадываются о еретических наклонностях своего постояльца (вспомним его позднейшую реплику, в сердцах брошенную И.С. Тургеневу, который звал своего приятеля обедать: «Мы еще не решили вопрос о существовании Бога, а вы хотите есть!»)21. Как бы там ни было, надеждинская кухня в отличие от университетской не вызывает у Белинского никаких нареканий. «Всемилостивейше уволенный» от alma mater Белинский, так сказать, не рвет с ней физической связи. Ибо квартира Надеждина помещается в ректорском доме – на территории Университета, у выхода в Долгоруковский переулок. Ректором в то время состоит профессор А.В. Болдырев, востоковед, знаток персидского и арабского языков и – по совместительству – цензор. Ректор, Алексей Васильевич, благоволит к Николаю Ивановичу, тоже профессору и – по совместительству – издателю «Телескопа». И когда Надеждин в 1835 г. покидает кафедру и выходит в отставку, он остается жить в ректорском доме. Либерализм, как известно, наказуем. В 1836 г., под осень, Николай Иванович по-соседски занес Алексею Васильевичу для цензуирования очередную статью. Статья была по виду весьма ученой – и добрейший Болдырев за чаем ничтоже сумняшеся подмахнул ее: разумеется, не читая. Все совершилось подомашнему. «Телескоп» вышел с «Философическим письмом». Последствия известны. Автор статьи официально был провозглашен сумасшедшим, «Телескоп» запрещен, его издатель сослан в Усть-Сысольск, а старик Болдырев уволен вчистую – без следуемого чина и пенсиона. Белинский, по счастью, отделался легким испугом. (Меж тем, Долгоруковский переулок (куда, напомним, выходил ректорский дом) получил в позднейшие времена имя Белинского, а отнюдь не Надеждина или на худой конец Болдырева, как можно было бы ожидать). В 1890-е гг. в свободомыслящей университетской среде подобный вопрос решался за ужином, где однажды он был поставлен «на баллотировку». «…К сожалению, – говорит воспоминатель, – я не знаю, каким количеством голосов вопрос был решен утвердительно» Впрочем, по русской традиции мировые вопросы часто решаются «за ухой и чаем с вишневым вареньем» (разговор Алеши и Ивана Карамазовых в трактире «Столичный город»), а также – в сопровождении более крепких напитков. 21 44 «Чаадаевская история» как будто не имеет прямого касательства к Московскому университету. И в то же время она связана с ним множеством нитей. И это – закономерно. Университет становится не одним лишь средоточием научной и педагогической мысли, как ему и полагалось по штату. Он делается мощным фактором общественной жизни и, следовательно, вписывается в «большую историю». То есть, иначе говоря, – в судьбы страны. Не играя самостоятельной политической роли (а какое учреждение могло бы тогда с успехом ее играть?), Университет незаметно влияет на протекание общей жизни, на состояние умов – как интеллектуальная данность, как некое духовное существо. В пределах Российской империи у него нет каких-либо реальных конкурентов. Университет как корпорация не мог публично высказать своего мнения по тому или иному государственному, общественному, а в иных случаях – даже сугубо научному вопросу (например, относительно новейших идущих с Запада экономических и философских учений). Все это оставалось прерогативой верховной власти. Однако и в лекциях отдельных профессоров, и в их печатных трудах, и, наконец, в тех метафизических толках, которые возникали на Моховой, – во всем этом был сконцентрирован такой духовный заряд, который не мог не воздействовать на общее культурное пространство – Москвы, Петербурга, целой России. В этом смысле деятельность Университета далеко выходила за рамки чисто образовательных задач. «Московский университет, – скажет Герцен, – свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей». На Моховой не только готовили к профессиональной карьере тех, кто мог похвастать университетским дипломом. Университет воспитывал поколения, приобщая их к высшим ценностям жизни, причем к таким, которые необходимы именно свободному человеку. Он был сообществом людей, для которых смысл жизни, поиск истины, постижение общих законов мироздания не были пустым звуком, а становились частью их нравственного существа – разумеется, в каждом 45 случае в разных степенях и пределах. Университет прививал понятия о достоинстве и, как это ни парадоксально для России, – о правах человека. (Недаром с самого начала – и в XVIII и XIX вв. – до и после совершенной Сперанским кодификации российских законов, – столь важную роль в системе Университета играл юридический факультет – с глубоким изучением римского права и гражданских отношений различных народов и стран.) Да, Университет делал свое дело: образовывал и воспитывал. Но в еще большей степени он нес свет просвещения – ту неопределяемую и в общем неосязаемую реальность, которая оказывалась существеннее многих явных и зримых благ. И сам источник этого света с годами становился все заметнее и ярче. В раннюю пору существования Университета за недостатком национальных кадров там преподавали в основном ученые, приглашаемые с Запада, в основном из Германии. Но постепенно кафедры замещаются российскими подданными, нередко – его же воспитанниками. С течением времени нельзя не заметить и возрастания научного потенциала. Если в первое время Университет выступал главным образом в качестве ретранслятора знаний, что само по себе немало, то с середины XIX столетия он превращается в своего рода учебно-аналитический центр, порождающий целые научные школы и направления. В нем трудятся ученые мирового класса. Возросшие на университетских дрожжах исследователи не уходят в чистую науку: первыми ценителями их ученых гипотез остаются студенты. (Даже В.А. Маклаков, заявлявший, что лекционная система представляется ему варварством, делает исключение для Ключевского, который, по его словам, есть живое опровержение его теории.) Во второй половине XIX в. уже не встретишь таких «внеуниверситетских» фигур, как Карамзин, который в олимпийском уединении совершал свой исторический труд. Ни выпускающий каждый год по тому своей «Истории» С.М. Соловьев, ни блистательный, поражающий своей эрудицией, остроумием и смелостью научных суждений В.О. Ключевский, ни, позже, фундаментальный, вооруженный последним словом науки П.Г. Виноградов (будущий оксфордский профессор сэр 46 Пол, возведенный в рыцарское достоинство за труды по аграрной истории Англии) – никто из них не был только кабинетным ученым. (Мы не упоминаем здесь великолепную плеяду выдающихся ученых-естественников, лингвистов и представителей точных наук: это не входит в нашу относительно узкую тему.) Собственно, сама университетская наука предполагала соединение «кабинета» и «кафедры». Но содержание и того, и другого существенно изменилось. Из Университета почти исчезает свойственная прежним временам патриархальность. И хотя старый университетский служитель еще пытается развешивать по ночам белье на скелетах в анатомическом кабинете, сам анатомический кабинет не уступает лучшим европейским аналогам. Это относится ко всему: и к уровню научных исследований, и к характеру политических предпочтений. В последние десятилетия века здесь уже не найти ни патриотов шевыревского толка, ни глубоких славянофильских умов. Да и бессмертная уваровская триада давно не употребляется для практических нужд. Парадокс заключается в том, что «Московские ведомости» «львояростного» М.Н. Каткова, а затем – его идейных преемников, формально издающиеся от имени Университета и даже украшенные университетским гербом, были газетой антиуниверситетской (о чем, собственно, и толкует в своей записке В.И. Вернадский, настаивая на возвращении Университету его типографии). Профессура предпочитает либеральные «Русские ведомости». Страстному бульвару, где помещалась редакция катковской газеты, и Моховой, несмотря на их географическую близость, трудно было найти общий язык. Скрытое противостояние таит в себе публичный скандал. «Праздник хотя бы раз в год…» (От Достоевского до Толстого) Летом 1880 г. в Москве открывали памятник Пушкину. Это стало событием национального масштаба. Инициатором и устроителем этих торжеств было Общество любителей российской словесности при Московском университете. Разумеется, университетская общественность играла на этом празднике ведущую 47 роль. В момент краткой исторической передышки между двумя волнами террора («диктатура сердца» Лорис-Меликова) московский праздник, на который прибыли делегаты со всех концов страны, приобретал характер корпоративного представительства (своего рода «предпарламента»): русская интеллигенция впервые проводила смотр своих наличных сил. До первомартовских взрывов, прекративших царствование Александра II и открывших не лучшую для Университета эпоху, оставалось менее года22. На обеде, устроенном Московской городской думой 6 июня, где присутствовало много университетских профессоров (в том числе М.М. Ковалевский), случилось то, что пресса обозначила как incident Katkoff. Редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника», смущенный резким изменением общественного климата (удалением ненавистного либеральной партии министра просвещения Д.В. Толстого, крепнущими «конституционными ожиданиями» и т.д., и т.п.), решился обратиться к обедающему большинству с примирительным словом и даже протянул бокал в сторону своего давнего идейного противника И.С. Тургенева (который утром того же дня, 6 июня, на торжественном акте в Университете был избран почетным членом университетского совета). Однако автор «Отцов и детей» отказался чокнуться с оратором, бывшим некогда адъюнктом того же Университета, и даже прикрыл свой бокал ладонью, оставив Каткова, по выражению одного журналиста, «в положении несколько неловком»23. Достоевский, тоже присутствовавший на обеде и подошедший пожать руку издателю «Русского вестника» (где в это время печатаются «Братья Карамазовы»), замечает в одном из писем, что «партия Тургенева», пытавшаяся доминировать на Пушкинских торжествах, «была подготовлена Ковалевским и Университетом». И, пожалуй, только произнесенная через два дня и потрясшая своды Благородного собрания Пушкинская речь смогла воспрепятствовать безоговорочному торжеству Подробную реконструкцию Пушкинского праздника см. в нашей кн.: Последний год Достоевского. – М., 1991. С. 208–298. 23 Дело. 1880. Июль. С. 114. 22 48 «тургеневского» (то есть «западного») направления. (Именно после этой речи Достоевский был немедленно избран почетным членом Общества любителей российской словесности при – напомним еще раз – Московском университете.) Таким образом, в разгар глубочайшего кризиса, переживаемого обществом и государством, Московский университет выступает не только в качестве культурного учреждения, но и как своего рода политическое «опытное поле», где «в общем виде» решается главный вопрос: о выборе исторического пути. Не случайно Тургенев и Достоевский оказываются в самом горниле этой борьбы. Как не случайно и то, что Лев Толстой, блиставший своим отсутствием на Пушкинском празднике, игнорирует сам предмет. П.Н. Милюков описывает одно из своих посещений Л.Н. Толстого – очевидно, на рубеже 1880-х – 1890-х гг. Толстой, скепсис которого в отношении науки все возрастал, захотел потолковать с учеными людьми – в частности, об «общем смысле истории». Он внимательно выслушал Милюкова: Павел Николаевич «был почти побежден» подобным вниманием и видимым отсутствием возражений. Когда собеседники из «аскетической каморки» Толстого (дело происходило в его московском доме) спустились к чаю, «Толстой взял тарелку с тортом и ножик и, прежде чем разрезать, обескуражил меня коротким замечанием: «Ну, что ваша наука! Захочу, разрежу так, а захочу, вот этак!». Реплика, весьма характерная для автора статьи «Что такое искусство?» (хотя в данном случае речь идет о науке), убежденного в тщетности какихлибо научных усилий по достижению истины24. Милюков вспоминает, что после толстовского резюме «было бы уже невежливо доказывать, что, в противоположность строению торта, у науки есть свое собственное внутреннее строение». Торт не примирил оппонентов. «Так пошла насмарку вся наша беседа», – с горечью замечает лидер конституционных демоЧто не отменяло признания Толстым прикладного значения научных знаний. Сохранилась фотография, где Толстой запечатлен на лекции в Московском университете (6 февраля 1896 г.), посвященной цветному фотографированию (снимок, разумеется, черно-белый). 24 49 кратов: он понимает, что ему «никогда не понять Толстого». Постичь Толстого было действительно трудно. Особенно когда он не только посягал на высокие материи, но и отвергал вещи, милые многим простым сердцам. Речь идет о Татьянином дне. Каждый год, 12 января (в этот день Шувалов, почтительный сын, праздновал именины своей матери: указ об учреждении Университета был, очевидно, лучшим именинным подарком), «студенты рассыпались по всей Москве, и по всем ресторанам и трактирам, малым и великим, шел кутеж» (Г. Чулков). Кутеж этот отзывался звоном бокалов во всех городах и весях, где только обретались университетские выпускники. Натурально, исполнялся Gaudeamus igitur с мажорным припевом: Vivat Academia, vivat professores, студенты водружали на стол любимых профессоров (иногда с применением легкого насилия), дабы в неформальной обстановке внимать их явно нелекционным речам. Полиция получала приказ не беспокоить виновников торжества или, по крайности, препровождая в участок, не забыть принести им свои поздравления. Меж тем в ресторанах прятали хорошие скатерти и посуду. 12 января 1889 г. в профессорских «Русских ведомостях» появилась статья Л.Н. Толстого «Праздник просвещения»: имелся в виду приходящийся как раз на это число Татьянин день. Толстой сравнивает ритуальные возлияния в честь Татьянина дня с бессмысленным разгулом деревенских праздников, когда празднующие «валяются и корчатся, наполняя воздух алкогольным зловонием», и «каждый из них готов одурманивать себя до потери образа человеческого». В этом празднующие – едины. «Дикие мужики и образованнейшие люди России», то есть те, кто стоит «на двух крайних пределах просвещения», оказываются очень схожи в своем безобразии – с той только разницей, что «мужики пьют водку и пиво, просвещенные – напитки разных сортов», «мужики падают в грязь, а просвещенные – на бархатные диваны». Толстой полагает, что интеллигентские оргии – не что иное, как 50 школа нравственного разврата и что просвещение ничего бы не потеряло без этих академических вакханалий. Разумеется, Толстой-моралист не мог сказать ничего другого. И в толпе студентов, которые, по некоторым сведениям, вечером того же дня направились от ресторана «Эрмитаж» к его дому в Хамовниках, дабы «поговорить» с автором «Войны и мира», было, очевидно, немало таких молодых людей, которые могли бы разделить его взгляды. Но, как случалось уже не раз, его одинокий призыв будет отнесен к причудам гениального человека. Правда, тут есть еще одна сторона. Дело даже не в живучести давней университетской традиции. По причине довольно однообразной студенческой жизни – с ее учебными и житейскими тяготами, экзаменами и т.д. – Татьянин день мог представляться царством чистой свободы. В метафорическом смысле его можно даже сравнить с Юрьевым днем. Студент на один день обретал полную волю, получая законное право нарушать привычный уклад (что дозволяется обычно лишь во время карнавала и маскарада). Молодости как бы давался карт-бланш; тем же, кто вышел из этой поры, – возможность вспомнить прежний ученический пыл. В «глухую пору листопада» – в 1880-е – нач. 1890-х гг. – праздник имел еще и подспудный политический смысл. «…Нам нужен этот праздник хотя бы раз в год», – скажет через пятнадцать лет после статьи Толстого, в 1904-ом, такой чистый человек, как князь С.Н. Трубецкой. Банкеты, устраиваемые в Татьянин день, «служили той отдушиной, в которую москвичи выпускали принудительно сдерживаемые цивические настроения» (А.А. Кизеветтер даже называет эти гастрономические сборища суррогатом публичных митингов). Иными словами, 12 января (не в укоризну Толстому) позволительно рассматривать не только как факт коллективного умозатмения, но и как робкую, принявшую форму застолья (и поэтому не лишенную приятностей) попытку политического протеста. «Отправляясь на такой банкет, – продолжает Кизеветтер, – можно было за51 ранее предвкушать удовольствие от едкой и пикантной речи Гольцева, наполненной острыми шпильками по адресу вершителей русских судеб <…> от пылких воспоминаний о далеких временах Грановского и Герцена…». Не говоря уже о том, что на университетском акте в Татьянин день ректор Тихонравов не упускал случая «строго-величавым голосом, с бесстрастным выражением лица» дать отпор политическим нападкам газеты Каткова и защитить Университет от неслабеющего пера «московского громовержца». Это тонкое обстоятельство не брал в расчет Лев Толстой.. Если верить П.Н. Милюкову, В.В. Розанов, позже прославившийся «в роли писателя-философа определенного направления» (Милюков благоразумно не уточняет, какого), был в Университете малозаметен. Однако не настолько, чтобы его не заметила (правда, вне стен Университета) Аполлинария Суслова, которая, будучи старше 24-летнего студента третьего курса историко-филологического факультета Василия Розанова на целых шестнадцать лет, осенью 1880 г. стала его женой25. Это произошло менее чем за три месяца до смерти Ф.М. Достоевского – ее первого избранника (который, в свою очередь, был старше ее на четверть века), героя недавних пушкинских торжеств. Так вокруг Московского университета стягивались линии жизни и судьбы. П.Н. Милюков упоминает еще об одном своем соученике – «довольно пассивном» участнике исторического семинара у профессора П.Г. Виноградова, М.Н. Покровском: «Покровский прогремел при большевиках своим квазимарксистским построением русской истории. Ими же он был развенчан. У нас он держался скромно, большей частью молчал и имел вид вечно обиженного и не оцененного по достоинству». «Вечная обиженность» может стать не только источником государственных переворотов, но и движителем научных карьер. В недрах старого доброго учебноСогласно существующему порядку В.В. Розанов должен был написать заявление на имя ректора – с просьбой «выдать ему удостоверение о нечинении препятствий к браку со стороны Университета». Таковой документ был ему выдан 11 ноября 1880 г. (Москва. 1991. № 11. С. 156.) 25 52 го заведения наряду с будущим автором «Опавших листьев», сокрушавшим позднее «традиционные ценности», но при этом еще обладавшим признаками гениальности, возрастает автор «Русской истории в самом сжатом очерке», ставшей на долгие годы обязательным чтением для сотен тысяч познающих законы классовой борьбы неофитов. Оба они слушали «лектора-чародея», «гениального профессора», «бездонно умного» и «беспредельно талантливого» В.О. Ключевского, фундаментального Н.Я. Грота, легендарного учредителя Высших женских курсов В.И. Герье. Каждый из этих корифеев представлял собой незаурядную личность – со своими странностями и уклонениями. Герье, например, не терпел возражений и однажды, «встретив в посетившем его госте несогласие с собой, вскочил, ринулся в переднюю, надел шубу и ушел из своего дома, оставив гостя в одиночестве в кабинете». А.А. Кизеветтер видит в этом случае проявление нетерпимости. Но, с другой стороны, не есть ли это высшее проявление деликатности? Ведь почтенный профессор как-никак не выгнал строптивого посетителя, а счел за благо в известном смысле пожертвовать собой. В этом конгломерате умов, характеров, воль было все. Здесь, в центре Москвы, располагалось самое чувствилище культуры. Пожалуй, только в Московском университете был в такой мере сконцентрирован умственный потенциал нации. Признаки религиозного обновления, вскоре прерванного, также не обошли Моховую. На рубеже веков возникает обаятельная фигура уже упоминавшегося князя С.Н. Трубецкого: он воплощал в себе благородные стороны русского философского ренессанса. В нем, природном аристократе и интеллигенте, высокий религиозный дух вполне уживался со сдержанной политической страстью. «Соборное сознание» и университетская автономия (то есть соединение душ и разъединение лиц26) – вещи как будто противоположные – были постоянной целью его стремлений. Ибо университетская автономия предполагала помимо прочего известное отдаление от государства, в первую очередь – от его должностных лиц. 26 53 Автономия, практически уничтоженная в 1884 г., была с оговорками восстановлена в 1905 г. С «соборным сознанием» дело обстояло сложнее. Между тем, времени оставалось совсем немного. Царь-студент «Гибель или упадок высшей школы есть национальное несчастье…» – скажет в 1911 г. все в тех же «Русских ведомостях», где некогда публиковал свои инвективы Толстой, В.И. Вернадский. Статья называлась «Разгром»: речь шла о демонстративной отставке – после не менее демонстративного ввода на Моховую полицейских сил – более сотни преподавателей Московского университета – приват-доцентов, профессоров и т.д. Они почли себя и Университет оскорбленными и вступились за свою общую честь. «Но автономия и свобода преподавания, – говорит Вернадский, – теснейшим образом связаны с высоким понятием личного достоинства, полной личной независимости в академической области, высоким положением преподавателей высшей школы в среде родной их страны». Сама власть толкала Университет в «оппозицию». Вообще, до самого конца XIX столетия Москва почти не знала серьезных студенческих выступлений. «Маловская история», о которой столь красноречиво поведал Герцен, – это все-таки местный, вызванный личным нерасположением к профессору, инцидент. Знаменитая прокламация «Молодая Россия» (1962), сочиненная одним-двумя ошалевшими от запаха крови юношами и поразившая современников своим людоедским пафосом, не оставила в университетских анналах заметного следа. В отличие от Петербургского, вплоть до конца XIX в. Московский университет никогда не закрывался (за исключением холерного 1830 г.). Однако настало время, когда, как выражается Н.С. Арсеньев, «революционная толпа старалась захватить власть над Университетом». И, надо сказать, немало в этом преуспела. Не спасает положения тот утешительный факт, что иногда сами сту54 денты пытались дать отпор срывавшему лекции горластому меньшинству27. Власть сделала свое дело – молодежь дружно «просила бури». Ключевский, шести лет не доживший до конца царствования Николая II, говорил, что наследник царствовать не будет. С.Н. Трубецкой на приеме у государя прежде всего заметил его глаза «с выражением “жертвы обреченной”» – и ему, очевидно, по чисто профессорской привычке, стало жаль императора – «как студента на экзамене». Этот экзамен так и не будет сдан. Московский университет не мог не отозваться на ту тектоническую энергию, которая накапливалась в глубинах русской жизни, грозя в один прекрасных день смести ее самое. Конечно, и Ключевский, и Трубецкой, и Тимирязев, и Вернадский, и Кизеветтер, и Виноградов, и Герье – как, впрочем, и многие другие из тех, кто прямо не принадлежал к университетскому кругу, – не могли не ощущать этих подземных толчков, которые, возрастая по силе и частоте, сигнализировали о близком пришествии апокалипсических времен. Последние полвека до катастрофы – это эпоха канунов. Крепнущее сознание неизбежности и необходимости перемен, с одной стороны – а с другой, если говорить об университетской среде, надежда на то, что империя сможет пройти этот тернистый путь без необратимых потерь и без утраты исторического лица. Сплачивая вокруг себя значительную часть национальной элиты, Университет вместе с тем подвергался воздействию общей национальной тоски. Профессора, его покинувшие (часто не по своей воле), становились оппозиционными журналистами и лидерами антиправительственных политических партий. Профессора действующие готовы были унести «зажженные светы» именно туда, куда указывал поэт: «в катакомбы, в пустыни, в пещеры». Они не подозревали, что их достанут и там. Университетское общежитие, где обитал молодой философ А.Ф. Лосев, по странной прихоти носило имя Николая II. Не эта ли явно завышенная – разумеется, со «…Было бы заблуждением, – осторожно замечает Т. Маурер, – рассматривать университет как кузницу революционных кадров» (Из истории русской интеллигенции. С. 276). 27 55 стороны общежития – самооценка будет обыграна в одном веселом романе, где фигурирует студенческая общага имени монаха Бертольда Шварца (изобретателя пороха, между прочим)? Николай II пороха не изобретал. Но как бы там ни было, дни монархии были уже сочтены. Меж тем, интеллигенция только тем и занималась, что задумывалась о выборе пути. Путь, в общем, предполагался один – на Запад. (Или еще дальше – к новым сияющим далям, но, разумеется – все в том же направлении.) Никакие другие альтернативы не обсуждались и не принимались в расчет. Возможна ли «наука о России»? В 1934 г. бывший выпускник юридического факультета, а ныне изгнанник, с горечью скажет: «После тяжелых испытаний, на чужой стороне, без родины, ныне я вспоминаю с болью, что ни у кого из служивших в Храме (просвещения. – И.В.) ни разу за все четыре года я не услышал внятного слова о просвещении, о русском просвещении… о том Просвещении, истинный смысл которого сиял на словах фронтона». (То есть: «Свет Христов просвещает всех».) Это свидетельство принадлежит Ивану Шмелеву. Не забывая ничего из того, что дал ему «Дом Мученицы Св. Татьяны» (именно так именует он светский ученый храм), и будучи благодарным ему, автор «Лета Господня» утверждает, что все это «не было прохвачено основной нитью, связывающей юные души с родиной, с национальным, с нашим». Шмелев говорит, что русские университеты не знали главной науки – науки о России («меня, в лучшем случае, в Европу уводили, в человечество уводили»), что в университетском многознании не было системы – «системы познания России». (Вспомним мерзляковское прижимание руки – к сердцу: «Вот система!».) И что в свою очередь Россия не вняла ни Пушкину, ни Достоевскому. «И теперь – что же с ней?» Движение на Запад совершилось буквально. Русских изгнанников разброса56 ло теперь по всему пространству Европы. И. Шмелев пишет свою статью на крайнем западе Франции, в Булони. Для Шмелева Татьянин день – это поминки. «Нет, мы не празднуем ныне, – говорит он, – великой годовщины – 175летия основания старейшего российского университета – Московского Императорского Университета. Праздновать мы права не имеем, и нет у нас оснований праздновать: нашего университета нет. Мы можем его только поминать; и, поминая, каяться». С этим не вполне будет согласен его младший друг и многолетний корреспондент, другой изгнанник, Иван Ильин, для которого прежний Университет – это неуничтожимая духовная реальность: «…Нам, старым москвичам, мило и дорого видеть, что праздник старейшего русского университета получает в русском зарубежье значение общерусского национального праздника». Очевидно, И. Ильин полагает, что Татьянин день – это единственная возможность сплотить многоликую русскую эмиграцию, соединить всех пребывающих на чужбине, отогреть их у одного – хотя бы метафизического – огня28. Такого «поворота сюжета» никак уж не мог предвидеть Лев Николаевич Толстой. Другой русский писатель тоже обращался к студентам: повод, правда, был немного иной. 3 апреля 1878 г. насельники Охотного ряда, торговцы и мясники, с криками «бей их! валяй!» набросились на студентов, шествующих от Курского вокзала вслед за тюремными каретами, перевозившими их высылаемых из Киева коллег. Демонстрантов (если так их можно назвать) сильно помяли. Озверевшая толпа едва не ворвалась в сам Университет, где в лабораториях мирно трудились ничего не ведающие химики, физики, анатомы. («Это, – говорит Кизеветтер об отношениях И. Шмелев поспешит написать Ильину: «Ах, мудрец… Как же Вы глубоко взяли «Татьяну» (имеется в виду приведенная выше статья Ильина. – И.В.). Ничего подобного ни у кого не читал!!». (И.А. Ильин. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов. 1927–1934. – М., 2000. С. 440.) 28 57 Охотного ряда с его «территориальным соседом», – были тогда Рим и Карфаген».) Через несколько дней шесть студентов историко-филологического факультета (среди которых – 19-летний Павел Милюков) пишут письмо Достоевскому. Привыкшие «пользоваться» мнениями своего адресата «и уважать их, даже когда не разделяли», они просят автора «Дневника писателя» разъяснить им вечные русские вопросы – «кто виноват» и «что делать». «В обществе не слыхать сильного, разумного слова; наши учителя молчат – и теряют право на название учителей29». Главная тема их письма – «народ и интеллигенция». Они понимают, что от разрешения этой дилеммы зависят судьбы страны. И – их собственная судьба. «Многоуважаемые г-да, писавшие мне студенты <…> – отвечает Достоевский, – ваши вопросы захватывают все, решительно все современное внутреннее России…» Через сорок лет Россия будет расколота революцией и гражданской войной: некоторые авторы письма доживут до этого часа. Отвечая студентам, Достоевский говорит, что они не виноваты в разладе с народом, ибо они – дети: дети этого общества, которое есть «ложь со всех сторон». И «молодежь несет на себе ложь всех двух веков нашей истории». Но отстраняясь от общества, покидая его, студент «уходит не к народу, а куда-то за границу, в «европеизм», в отвлеченное царство небывалого никогда общечеловека, и таким образом разрывает с народом…». И, чувствуя это, народ отвергает попытки сближения, поскольку видит в них стремление по-барски руководить им: «все эти хождения в народ произвели в народе лишь отвращение». Нельзя насильно навязывать ни религии, ни свободы. Нельзя презирать привычки и обычаи тех, кому хочешь сделать добро: «презрение не ведет к любви!». Автор письма здесь очень близок к тому, о чем через много лет скажет И. Шмелев (вернее, Шмелев близок к Достоевскому). Начинать надо с познания Рос- Письмо студентов опубликовано в 4 томе «Писем» Ф.М. Достоевского (М., 1958), с. 355–356, примечания. 29 58 сии – той, какая она есть. Начинать надо с христианского понимания жизни и истории: то есть с любви. Не это ли есть главная «скрепа», способная удержать нацию от распада? Но пока народ не испытывает к юным интеллигентам никаких дружеских чувств. «Барчонки» – вот его приговор. «А между тем, – продолжает Достоевский, – тут есть ошибка и со стороны народа; потому что никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России!»30 Достоевский имеет в виду прежде всего университетскую молодежь. Разъединение интеллигенции и народа – это не только трагедия нечувствия, неузнавания, взаимной глухоты. И не только сословная рознь, вызванная неравенством и небратством. Тут важен не социальный, а скорее ментальный аспект. И прежде всего – религиозный. Тот, кто в «белом венчике из роз» возникнет вскоре из кровавой метели, засвидетельствует, что вопрос не решен. Засвидетельствуют это и «тела убитых студентов, сражавшихся против большевиков»: поздней осенью 1917 г. они будут сложены в залах университета на Моховой. «Как обезумевшая, – говорит очевидица этих событий, – я ходила вдоль их рядов, вглядываясь в их лица. Это были все лучшие сыны России, сколько было лиц тонких, красивых – цвет нашей Родины». Их отпевали в церкви Вознесения на Никитской, где когда-то венчался Пушкин. За их гробами шли тысячи людей: в том числе их университетские профессора. И если первой публичной манифестацией русской интеллигенции был Пушкинский праздник, то последним ее массовым шествием стал этот погребаль30 Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Т. 30. Кн. 1. С. 21–24. 59 ный кортеж. Агония Университета была недолгой. В 1921 г. на последнем заседании Психологического общества (оно проходило под председательством И. Ильина) А.Ф. Лосев сделал доклад на весьма актуальную тему: «”Эйдос” и “идея” у Платона». Что ж: наступала эпоха идей. В 1955 г. Борис Зайцев напишет: «Недавно я видел (очевидно, в кино. – И.В.) новое здание Университета на Воробьевых горах. Это нечто громадное, американского духа, с башней. Совсем другой мир. Рядом крошечными, бедными кажутся прежние Старый и Новый (то есть постройки 1835 г. – И.В.) Университеты. Не знаю даже, существуют ли они, как Университет, или же там другое теперь». К счастью, Университет существовал. Но теперь «там» действительно было другое. Традиция прервалась (несмотря на ритуальные уверения в обратном) – и то, что возникло, оказалось, может быть, по-своему грандиозным, но совершенно иным. На фоне других – вселенских – событий падение Карфагена было не столь заметно. В нынешнюю эпоху, которая, по-видимому, тщится соединить времена, слабая нить запутывается и рвется. Ни к Святой Руси, ни к Руси Советской вернуться уже невозможно. Нынешняя Россия – это Россия-минус: за вычетом дооктябрьской и послеоктябрьской одновременно. В то же время – это Россия-плюс: опять же с прибавлением и той, и другой. И гипотетическая нить должна пройти сквозь них и соединить оба эти пространства. Но странная вещь. Если, скажем, на заре XX века умозрения века минувшего – его первых, отдаленных на столетие дней – казались безнадежной архаикой или сентиментальной грезой, то этого ощущения совершенно нет в наши дни – применительно к началу XX в. Как будто те интеллектуальные страсти, которые кипели в религиозно-философских собраниях или в аудиториях на Моховой, произносимые там имена и, наконец, поднимаемые проблемы – все это не только не утратило своего жгучего интереса, но, напротив, в силу приобретенного нами 60 опыта стало еще значительнее и современнее. Как будто не было этих ста лет, напоенных светом и тьмой, славой и горем, и самое время снова начать заседание – хотя бы с доклада «”Эйдос” и “идея” у Платона». «Университетский слой» в начале XX в. был слоем крайне тонким и ненадежным: принадлежащие к нему не могли не чувствовать, что под ними «хаос шевелится». Цветущая культура не смогла спасти нацию от грядущей беды. В веке двадцать первом ситуация довольно похожая: разве что культуру следует оценить гораздо скромнее. Вопрос о будущем не может быть снят, пока прошлое остается под вопросом. В своей статье «Мученица Татьяна» Иван Шмелев вспоминает другую Татьяну – пушкинскую. Он говорит об их мистической связи. Для него – это образ утраченной России. Будет ли она обретена вновь? То есть – найдена, постигнута, возрождена? Не забудем, что в русском языке это слово может иметь и другой смысл. Проф. И. Волгин 61 Михаил Васильевич Ломоносов Письмо И.И. Шувалову (1754 г., июнь – июль) Граф И. И. Шувалов М.В. Ломоносов Милостивый Государь Иван Иванович! Полученным от Вашего Превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет Вашему Превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, Вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени, или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую Вашего Превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского Университета кратко вообще. 1) Главное мое основание, сообщенное Вашему Превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане Профессоров и жалованных Студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект наберется. Остальную с 62 порожних мест сумму полезнее употребить на собрание Университетской Библиотеки, нежели, сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы. 2) Профессоров в полном Университете меньше двенадцати быть не может в трех факультетах. В Юридическом три: I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой Империи. II. Профессор юриспруденции Российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права. III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки Государств и Государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время. В Медицинском 3 же I. Доктор и Профессор химии. II. Доктор и Профессор натуральной истории. III. Доктор и Профессор анатомии. В Философском шесть. I. Профессор философии. II. — » — физики. III. — » — оратории. IV. — »— поэзии. V. — » — истории. VI. — » — Древностей и критики. 3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет. Не в указ Вашему Превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу, непременно с глубоким высокопочитанием пребывая Из Санктпетербурга Октября 7 дня 1753 года. Вашего Превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов. 63 Печатается по: Сочинения Ломоносова. Том I. Издание Александра Смирдина. Санктпетербург. 1847. Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1756) – основатель Московского университета. Вся обширная научно-организационная деятельность М.В.Ломоносова была проникнута идеей беззаветного служения Родине. В июле 1754 г. в письме к графу И.И.Шувалову Ломоносов выступил инициатором создания русского университета, "первую причину подал к основанию помянутого корпуса". Проект учреждения Московского университета, поддержанный известным русским меценатом И.И.Шуваловым, носил просветительский и демократический характер. Ломоносов выдвинул требование, чтобы к обучению в университете допускались лица податных сословий и даже крепостного состояния, имеющие "увольнительное письмо" от помещика. Понимая трудности поступления в университет лиц недворянского происхождения, Ломоносов предусмотрел основание гимназии, "без которой Университет, как пашня без семян". 26 апреля (5 мая) состоялось открытие университета. Стремясь связать науку с практической деятельностью, Ломоносов возлагал надежды на талантливых молодых людей из разночинной среды: "... в университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын. в том нет нужды". Вся деятельность Ломоносова в области науки и просвещения была направлена на то, "чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство". 64 Сергей Михайлович Соловьев Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове. Речь, произнесенная ординарным профессором Сергеем Соловьевым в торжественном Собрании Императорскаго Московскаго университета, пред раздачею Студентам дипломов и наград, 12-го января 1855 года <…> Из царствования Елисаветы … лучшие люди Екатерининского времени вынесли убеждение в необходимости просвещенного воспитания, сознание о высшей, нравственной цели науки; в это царствование1 у престола Императрицы явился человек, при образовании котораго «наука и искусство подали руки, чтоб сделать его отечеству полезным, между людьми любезным и всегда желательным;» – и по мысли этого-то человека в царствование же Елисаветы возникло учреждение, долженствовавшее удовлетворить потребности времени, а именно, дать науке возможность достигать своей высшей, нравственной цели, дать ей значение мудрости гражданской. Этот человек был И.И. Шувалов2; это учреждение был Московский университет. Обыкновенно с именем Шувалова соединяется у нас знаменитое по классическим преданиям название Мецената; это понятие о Шувалове, как Меценате, в это царствование - имеется в виду Елизавета Петровна, подписавшая Указ об основании Императорского Московского университета – Ред. 2 Шувалов Иван Иванович (1727-1797) - государственный деятель, учредил совместно с Ломоносовым М.В. Московский университет, университетскую типографию, издатель «Московских ведомостей». 3 Державин Гаврила Романович (1743-1816) - поэт, представитель русского классицизма, государственный деятель. 4 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - русский ученый, поэт, академик Петербургской АН (с 1745 г.), основатель Московского университета. 5 Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) - поэт, переводчик, дипломат. В 1730-е гг. посланник в Лондоне, посол в Париже. Просветитель-рационалист, один из основоположников русского классицизма в жанре стихотворной сатиры. 6 говорят его современники - здесь имеется в виду Тимковский Е.Ф. (1790-1875) - писатель, дипломат, чиновник Министерства иностранных дел, автор статьи «Мое определение на службу» - Ред. 7 одним из первых его преподавателей - так назван ученик М.В. Ломоносова по академии Барсов Антон Алексеевич (1730-1791) - русский ученый-лингвист и общественный деятель. Был командирован для преподавания в Московском университете при его образовании. Являлся академиком Российской АН, профессором Московского университета – Ред. 1 65 запечатлено в нас стихами Державина 3: Бессмертны музами Периклы И Меценаты в век живут: Подобно память, слава, титлы Твои, Шувалов, не умрут. Великий Петр к нам ввел науки, А дщерь его ввела к нам вкус; Ты, к знаньям простирая руки, У ней предстателем был Муз. Досель гремит нам в Илиаде О Несторах, Улиссах гром: Равно бессмертен в Петриаде Ты Ломоносовым пером. Здесь Державин разумеет известный отзыв Ломоносова4 о Шувалове, что он Для счастия наук в отечестве рожден. Но мы, питомцы Московскаго Университета, не можем быть удовлетворены этим сравнением нашего Шувалова с Меценатом. Покровительство науке, искусству, произведения которых служат часто только украшением, забавою праздной, роскошной жизни, такое покровительство не дает еще права на то высокое значение, с каким является для нас Шувалов. Если мы хотим с кем-нибудь сравнивать его, то должны сравнивать не с Меценатом, а с лицами более отдаленной древности, с теми благодетелями людей, которым предание приписывает вывод колоний, изобретение или принесение благодетельных искусств и знаний, основание учреждений, распространявших людскость, поддерживавших основы общества. Шувалов не отличался одним только легким, ничего не стоющим при его положении покровительством науке и искусству: но, познав на самом себе благое действие науки и искусства, приобретши благо, он старался распространить его между соотечественниками своими, старался, чтоб сколько можно большее число их пользовались этим благом и становились чрез это пользование такими же, каким был он сам. Каков же был Шувалов? Как на нем отразились благия действия науки? Рано приблизился он к престолу Монархини, рано получил могущественное влияние; его провозгласили счастливцем и мудрецом за умение пользоваться этим влиянием, за уменье пользоваться всем, не употребляя ничего во зло. Но такое определение деятельности Шувалова односторонне: Шувалов не довольствовался тем, что 66 не употреблял только во зло своего влияния, он постоянно употреблял его на добро. У престола благодетельствовавшей ему Монархини он стоял с высоким характером посредника, миротворца, верно служа и будущему России как в лице непосредственнаго наследника престола, так и в лице малолетнего внука Императрицы; с тем же характером миротворца являлся он и для семейств частных и для семьи, к нему близкой, для семьи ученых, литераторов. Следовательно имеем полное право не ограничиваться для Шувалова названием счастливца: в наших глазах Шувалов является человеком, искавшим не счастия только, но блаженства, обещанного миротворцам. – Провозглашали, что даже самые соперники Шувалова не могли ничего сказать о нем, кроме добра: это происходило от того, что у Шувалова, собственно говоря, не было соперников, ибо он не искал почестей, выгодных мест, не заслонял никому дороги при их достижении, старался о приобретении только нравственнаго значения, нравственнаго превосходства; высокий титул, к которому он стремился и котораго достиг, был титул просвещеннейшаго вельможи в государстве. Просвещение есть самое лучшее средство против корыстолюбия, против неуменья приносить частныя выгоды в жертву общему благу, благу отечества: Шувалов понимал, что титул просвещеннейшаго вельможи налагает на него обязанность быть бескорыстнейшим, и он ограничился своим небольшим состоянием, когда мог так легко и даже безукоризненно приобрести обширное имение. Мы не остановимся долго на известии биографов Шувалова, что просители имели к нему свободный доступ; важнее для нас уменье, приобретенное просвещеннейшим вельможею, уменье предупреждать просьбы людей, медленных на просьбы. В каких отношениях находился Шувалов как господин к своим подвластным, показывает следующий случай: однажды он решился продать деревню для уплаты долгов; крестьяне этой деревни немедленно сделали складчину и явились к нему с просьбою принять деньги и оставить деревню за собою, потому что им не нажить такого добраго помещика. Когда Шувалов явился за границею, то первыя знаменитости времени нашли в нем одного из самых образованных и самых любезных людей. Этот отзыв иностранцев важен для нас потому, что Шувалов производил такое же точно господствующее впечатление на своих соотечественников: на нем более чем на ком-либо виднелось это сияние просвещения, которое, по словам Кантемира5, делает человека между людьми любезным и всегда желательным; к Шувалову подходили с какою-то радостию, говорят его современники6. Это качество в Шувалове засвидетельствовано и знаменитым духовным оратором, которому выпал жребий ска- Император Павел I в рескрипте Шувалову писал, что «всегда с благодарностью вспоминает попечение его о нем во время младенчества». Тимковский: Мое определение на службу. 67 зать надгробное слово просвещеннейшему вельможе XVIII века. «Время его жизни показывает, - говорит оратор, - что Бог хранил его для счастия многих. Течение его жизни растворено было желанием, чтоб благодетельствовать. Он счастливым себя почитал в тот день, когда имел случай удалить несчастие и поспешествовать (поспособствовать – ред.) счастию других… О! Если образуемое юношество можно нарещи обновляющеюся юношестию (юностью – ред.) человечества, как орла, то в обоих престольных градах питомцы свободных и художественных наук соблюдут нестареющуюся память той его ревности, с какою он тщился не меньше о украшении науками умов, как и поступков благородным учтивством. Остается желать, дабы они совершили, согласно Евангелию и закону, доброе намерение его.» Конечно, духовный оратор, и при таком случае, под благородным учтивством разумел не одну внешнюю учтивость, требуемую светскими приличиями; конечно, не одной этою внешнею учтивостию хотел он определить характер человека, котораго жизнь растворена была желанием благодетельствовать, который счастливым себя почитал в тот день, когда имел случай удалить несчастие и поспешествовать счастию других. В благородном учтивстве Шувалова отражалась внутренняя людскость, сознание человеческаго значения в себе самом и в других. И здесь, в слове нашего оратора, как в сочинениях других лучших писателей времени, выставлено двойное требование от просвещеннаго человека, требование, чтобы в нем украшенному наукою уму соответствовали поступки, удовлетворяющие нравственным требованиям, нравственному достоинству человека. Шувалов удовлетворил этому требованию самим собою, своим нравственным существом, и потом старался, чтоб и другие одинаково удовлетворяли ему, тщился, как говорит оратор, не меньше о украшении науками умов, как и поступков благородным учтивством. Плодом этого тщания был наш Университет, учрежденный вследствие ходатайства Шувалова у престола Елисаветы, причем в первый же год основания Университета, одним из первых его преподавателей7 было провозглашено, что цель наук есть возможное нравственное совершенствование человека. Таково предание старцев наших, предание, живущее в нравственном образе Шувалова. «Нестареющуюся память высокой ревности Шувалова соблюдут питомцы наук.» К вам, питомцы Московского Университета, обращался пятьдесят семь лет тому назад духовный оратор, говоривший свое слово над гробом Шувалова, от вас требовал вечной памяти тому, кто современных ему предшественников ваших называл своими детьми. И какое законное требование! Но как же вы его выполните? Ваша обязанность состоит не в одном воспоминании о Шувалове; она состоит в напоминании о нем; вашими поступками вы должны напоминать челове Преосвящ. Анастасiем. Речь А. Барсова о пользе учреждения Московскаго Университета, говоренная при начатии Университетских Гимназий , 1755 года, Апреля 26 дня. Тимковский в вышеозначенной статье. 68 ка, нравственный характер котораго составляет живое, образное предание Университета, давшаго вам воспитание. Дети Шувалова должны сохранить в своем нравственном образе родственные черты. Вы лучшие, вы избранные, вы, более других знающие! примите награды, примите права, даруемые вам покровительствующею властию, и удержите воспоминание о важных обязанностях, налагаемых на вас этими правами; не оставьте вашего знания безплодным, а плод знания есть мудрость гражданская, законность всех поступков; вы, более других знающие! вам незнанием законности отговориться уже нельзя. Да вечно слышится вам этот голос, исходивший от гроба Шувалова; да вечно слышатся вам эти слова пастыря церкви, который давал нелестное определение нравственному образу почившаго, и обращался к вам с упованием, что вы сохраните этот прекрасный образ, что вы совершите, согласно Евангелию и закону, доброе намерение Шувалова. Печатается по: Историческая записка, речи, стихи и отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании, 12-го января 1855 года, по случаю его столетнего юбилея. Университетская типография. 1855. Примечания: 1. Имеется в виду императрица Елизавета Петровна, подписавшая Указ об основании Императорского Московского университета. 69 Денис Иванович Фонвизин Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях 70 <…> Родители мои были люди набожные; но как в младенчестве нашем не будили нас к заутреням, то в каждый церковный праздник отправляемо было в доме всенощное служение, равно как на первой и последней неделях великого поста дома же моление отправлялось. Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и-, знать невозможно. Я должен благодарить родителя моего за то, что он весьма примечал мое чтение, и бывало, когда я стану читать бегло: «Перестань молоть,— кричал он мне,— или ты думаешь, что богу приятно твое бормотанье?» Сего не довольно: отец мой, примечая из читанного мною те места, коих, казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд изъяснять мне оные; словом, попечения его о моем научении были безмерны. Он, не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал. Остается мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны,— говорил он,— но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак,— продолжал он, ударя по столу рукою,— извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот каков был экзамен наш! О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы, послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга? В Черное море,—отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; в Белое,—отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; не знаю,—сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать правду, заслужил бы ее из класса практического нравоучения, но отнюдь не из географического. Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нем, обучась по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. 71 В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам. <…> Денис Иванович Фонвизин. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях (отрывок) Печатается по: Денис Иванович Фонвизин. Сочинения. М., 1981. Денис Иванович Фонвизин (1745-1792) - воспитанник университетской гимназии, а затем студент философского факультета Московского университета, который не окончил из-за переезда в Петербург, где представилась служба переводчиком в Коллегии иностранных дел. Еще в университетские годы начал писать, занимался также переводами произведений Вольтера, Гроссе, Гольберга и других писателей. Знакомство с театром, состоявшееся в Петербурге и произведшего на Фонвизина завораживающее действие, определило направление его литературных интересов: Фонвизин прославился своими замечательными комедиями "Бригадир" (1769 г.) и "Недоросль" (1781 г.), в которых проявилась его врожденная насмешливость ("Природа дала мне ум острый"). Появление этих комедий свидетельствовало о росте реалистических тенденций в русском классицизме (тяготение к правде жизни). Фонвизин был другом с Н.И.Паниным, стоявшим во главе Иностранной коллегии и возглавлявшим группу независимых и оппозиционно настроенных дворян, мечтавших об ограничении самодержавия конституцией. Екатерина II не простила Фонвизину ни близости к Панину, после смерти которого Фонвизин вынужден был уйти в отставку, ни вольнодумства его комедий и публицистических произведений, особенно его острых "Вопросов", обращенных к ней самой и напечатанных в журнале "Собеседник любителей российского слова", поэтому сделала все возможное, чтобы прекратить его литературную и журналистскую деятельность: писателю не разрешили издавать ни журнал "Друг честных людей, или Стародум", ни журнал "Московские сочинения". В последние годы жизни тяжелобольной, парализованный писатель работал над автобиографическим "Чистосердечным признанием в делах своих и помышлениях", завершить который помешала смерть в 1792 г. (повествование доведено только до юности). В первой главе романа "Евгений Онегин" А.С.Пушкин благодарно вспоминал о "волшебном крае" театра, отдал должное этому писателю: "сатиры смелый властелин", "друг свободы». 72 Василий Осипович Ключевский Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени Доклад, прочитанный В.О. Ключевским 13 ноября 1894 г. на заседании Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Ключевский В.О. Новиков Н.И. <...> Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство (1); на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка — это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. <...> Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народнопросветительною силой. <... > У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, подни73 мавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума. <...> Московский кружок Новикова (2) — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составился именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России (3), Сумароков (4), конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее,— в обществе, где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцании от Голубиной книги (5) до Системы природы (6) Гольбаха и где на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина (7). <...> А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца (8), по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества и внутреннего человека. А для изображения С. И. 74 Гамалеи (9), правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов. <...> Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники называли «божьим человеком». И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев (10) и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова (11) и нескольких профессоров. <...> Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, вовторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п. Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца Дружеском ученом обществе, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов -- Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой Типографской компании, со складочным капиталом в 57 500 руб. и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. <...> Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. <...> Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков Московских Ведомостей, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемеро (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяй75 ству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. <...> В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — общественное мнение. <...> Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала Утренний Свет (12). Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете учительскую семинарию, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы приготовлять их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения, в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита - Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, переводческую, или филологическую, в которую приняло 16 76 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства ... Татищева, остальные — на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — Вечерней Зари 1782 г. и Покоящегося Трудолюбца 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семин аристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем Собрание университетских питомцев. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, наклонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) (13) и пять профессоров. Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет, с своей стороны, немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обще77 ством. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу. Ключевский Василий Осипович. Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени. Доклад, прочитанный 13 ноября 1894 г. на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете Печатается в сокращении по: Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени // Исторические портреты. М., 1991, с. 364 - 391. Впервые: журнал «Русская мысль». 1895. № 1. Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911) – крупнейший русский историк, почетный член Петербургской АН, автор фундаментальных трудов «Курс истории», «Боярская дума Древней Руси…» и др., охватывающих века развития русского государства. Его перу принадлежат статьи по русской культуре, историографические этюды, мысли о русских писателях, стихи, проза, афоризмы… Публичные лекции и торжественные Речи Ключевского заслуживают особого внимания. Воспитанный Московским университетом 1860-х гг. и любовью к русскому народу, к русской истории, профессор Университета Ключевский читал лекции в четырех высших учебных заведениях Москвы. В Университете на его лекции «шли стеной» не только студенты историкофилологического факультета. Всех желающих услышать Ключевского не вмещала самая большая Богословская аудитория. Лекции Ключевского были содержательны и всегда новы. Прошлое России представлялось профессором в «неподражаемой ясности и краткости» (А.Ф. Кони). Читал Ключевский с редким искусством, тихо, иногда шепотом, но чеканно, чудесным русским языком, без словесного «мусора». «Нельзя было не удивляться, как много сути и содержания можно вложить в самую фонетику речи», - вспоминал Ю. Айхенвальд о переливах интонации и модуляциях голоса лектора. «Из ничтожных остатков прошлого» возникали живые образы людей, исторические сцены, а лектор словно только вернулся из гущи событий. Слушателям он казался «чем-то вроде колдуна или чародея». Иногда сарказм Ключевского вызывал в аудитории «шелест смеха», сменявшийся «многоговорящей» тишиной. Лекции В.О. Ключевского называли праздниками. Но эти праздники не были чудом. «Я говорю красно, потому что мои слова пропитаны моей кровью», – признавался профессор. Примечания 1. В 1779 г. Николай Иванович Новиков по предложению М.М. Хераскова взял в аренду на 10 лет типографию Московского университета и книжную лавку, успешно издавал университетскую газету «Московские ведомости», «Приложение к «Московским ведомостям» (1783 – 84), а также журналы «Московское ежемесячное издание» (1783 – 84), «Детское чтение» (1785–89), «Экономический магазин» (совместно с Болотовым) в 1780-89 гг. и другие прибавления к газете. «Типографская (типографическая) компания» с тремя типографиями, созданными «Дружеским обществом» в 1783 г. на средства масонов с целью издании просветительских книг для народа, позволили Новикову издать много учебных пособий, переводных философских сочинений, прикладных научных работ, познакомить своего читателя с классиками европейской лите- 78 ратуры – всего 461 издание. Учебные книги раздавались народу бесплатно. В 1791 г. «Типографская компания» была распущена Московским главнокомандующим кн. Прозоровским. 2. В 1782 г. (1781 /?/) под руководством Н.И. Новикова и И.Г. Шварца в Москве было основано филантропическое просветительское «Дружеское общество» («Дружеское ученое Общество») с целью распространения просвещения в народе, воспитания юношества. Так, бессменный директор Благородного пансиона при Университете профессор Университета, председатель ОЛРС А.А. Прокопович-Антонский (1771–1846) учился в Университете на иждивении «Дружеского Общества». В Общество входили члены новиковской масонской ложи «Гармония», созданной в 1780 г.: кн. Н.Н. Трубецкой, М.М. Херасков, кн. А.А. Черкасский, кн. К.М. Енгалычев, И.П. Тургенев, А.М. Кутузов, позже – И.В. Лопухин, кн. Ю.Н. Трубецкой, П.А. Татищев, В.В. Чулков, Ф.П. Ключарев и другие. 3. После учреждения указом Петра I в 1724 г. высшего научного учреждения России Академии Наук была сделана неудачная попытка создать при Академии университет. В 1743 г. Елизавета Петровна выделила из Академии университет. Однако воспитав несколько студентов (среди них талантливые ученики Ломоносова А.А. Барсов и Н.Н. Поповский) при усиленной поддержке М.В. Ломоносова, заведовавшего учебной частью, в 1766 г. Академический университет прекратил свое существование. Так что во времена Новикова Москва была единственным университетским городом России, а основанный М.В. Ломоносовым и И.И. Шуваловым в 1755 г. Московский университет стал первым в собственном смысле слова высшим учебным заведением России. 4. Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777) – поэт, писатель и журналист, сторонник просвещенной монархии, имел чин бригадира. Известность в литературном мире принесли ему оды и любовная лирика, славу – трагедии («Хорев», 1747 г., «Синав и Трувор», 1750 г., «Дмитрий Самозванец», 1771 г. и другие), двенадцать комедий, драма, оперы, а также 378 басен-притч. В 1759 г. Сумароков издал первый в России ежемесячный частный журнал «Трудолюбивая пчела». Печатал свои стихи и статьи в журналах: «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», «Праздное время в пользу употребленное», «Полезное увесение» и «Свободные часы» М.М. Хераскова, «Адская почта» Ф.А. Эмина, «И то, и се» М.Д. Чулкова, в «Модном ежемесячном издании», или Библиотеке для дамского туалета» Н.И. Новикова и др. 5. Голубиная книга – духовные стихи, памятник древнерусской словесности ХVII века, бытующий на грани книжности и устного народного творчества. См.: Стихи духовные. М., 1991; Голубиная книга. Русские народные духовные стихи (составители Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошин). М., 1991. Содержит беседу двух мифических царей Давида и Владимира (Волота, Волотомана), в ходе которой первый объясняет второму основы мироустройства, сформулированные при этом в очевидно фольклорной стилистике. При этом герой якобы пересказывает содержание огромной книги, которая якобы упала с неба на гору Фаворскую (вар. Сионскую) и которую никто не может прочесть. Наблюдаются отчетливые переклички «Голубиной книги» с рядом апокрифов, и особенно с так называемой «Беседой Иерусалимской», где действуют те же персонажи. Одно из возможных объяснений заглавия этого памятника заключается в том, что, согласно большинству дошедших до нас вариантов его текста, чудесная книга упала с неба «около Ерусалима», к камню Алатырю», в то время как возле Иерусалима реально существует скала, за которой в древнерусской литературной традиции закрепилось название «Голубный» или «Голубен камень». Датировка памятника ХУП веком условна. Текст «Голубиной книги» в списке 80-х годов ХУШ века был опубликован в сборнике Кирши Данилова. Всего к началу ХХ века было известно болеее сорока вариантов, включая поздние записи. 6. Поль Арни Гольбах (1723 – 1789) – французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии, один из авторов «Энциклопедии» Д. Дидро и Д Аламбера. Придерживался идеалистической теории общественного договора. Его идеи повлияли на утопический социализм Х1Х в. Главный труд «Система природы» – (1770). В комментарии к докладу Ключевского в кн.: «Исторические портреты» ошибочно вынесен 79 Христиан Гольбах – математик. 7. Иван Владимирович Лопухин (1756 – 1816) – государственный деятель, сенатор, публицист, один из самых выдающихся московских масонов, противник французских революционных учений. «Равенство» и «необузданную свободу» считал снами, рожденными «в угаре тусклой ложной мудрости». Написал «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями». В своих трудах сохранил полный ритуал посвящения в степень «духовного рыцаря». Автор «Нравственного Катехизиса истинных франкмасонов», Лопухин разъяснял смысл и характер русского масонства. На его имя была записана одна из типографий «Товарищества». 8. Иван Григорьевич (Иоанн Георг) Шварц (1751/?/ – 1784) – экстраординарный профессор немецкого языка Московского университета. Приехал в Россию «насаждать и распространять просвещение». С 1876 г. в Москве. В 1779-82 гг. читал в Университете популярные у студентов лекции по немецкой литературе и философии на русском языке. Среди почитателей Шварца были Н.М. Карамзин и В.А. Жуковский. Просветительские идеалы сблизили масона Шварца с Новиковым. «Человек, пребывающий без просвещения, – говорил Шварц, – менее способен усвоить истину», и он стремился теоретически обосновать свое служение Богу, народу и России. В 1779 г. Шварц открыл на средства масонов «Учительскую» (педагогическую), а в 1782 г. «Филологическую» (переводческую) семинарии, а также организовал «Собрание университетских питомцев». 9. Семен Иванович Гамалея (1743 – 1822) – член кружка Новикова, масон–мистик, прозванный «Божьим человеком» за христианские добродетели и благотворительность. Служил в Сенате и Канцелярии Московского генерал-губернатора. 10. Иван Петрович Тургенев (1752 – 1807) – последний директор Московского университета (1796 – 1807). Член масонской ложи Новикова «Гармония». Отец декабристов Николая и Александра. Князья Н.Н. и Ю.Н. Трубецкие и А.А. Черкасский – масоны, члены «Дружеского общества». 11. Михаил Матвеевич Херасков (1733 – 1807) – поэт, писатель, журналист. 39 лет жизни отдал служению Московскому университету. В 1755 г. – асессор Конференции Университета. С 1763 по 1770 г. – его директор. С 1778 по 1802 г. – четвертый куратор Университета (после И.И. Шувалова, В.Е. Ададурова и И.И. Мелиссино). За время службы ведал библиотекой, типографией, театром; ратовал за перевод преподавания с латинского на русский язык, добился открытия Благородного пансиона при Университете. Состоял в масонстве (был «оратором» Великой провинциальной Ложи), близок к Н.И. Новикову. С группой околоуниверситетских молодых писателей издавал журналы «Полезное увеселение» (1760 –62), «Свободные часы» (1763), «Вечера» (1772) и др., участвовал в журналах А.П. Сумарокова, И.Ф. Богдановича, Н.М. Карамзина, В.В. Измайлова. Автор бессмертной «Россияды», философских од, сонетов, элегий, басен, эпиграмм, многих драматических произведений. 12. Религиозно-философский журнал петербургских масонов «Утренний свет» Н.И. Новиков издавал с сентября 1777 по август 1780 г. (с мая 1779 г. – в Москве), затем прибавление к «Московским ведомостям» – журнал «Московское ежемесячное издание» (1781) в пользу Екатерининского и Александровского училищ Санкт-Петербурга. В «Вечерней заре» (1782) и «Покоящемся трудолюбце» (1784) участвовали студенты Университета, ученики И.Г. Шварца. 13. см. сноску 10. 80 Василий Андреевич Жуковский Речь на Акте в Университетском Благородном пансионе 14 ноября 1798 г. В.А. Жуковский <…> Просвещение и добродетель! – соединим их неразрывным союзом; да царствуют они совокупно в душах наших. К сему должны стремиться все мысли и дела наши. Сего ожидает от нас отечество, ожидают благотворные наши попечители, которые в награду за всю свою к нам нежность. За всю любовь, за все труды, о нас прилагаемые. Ничего больше не желают, как только видеть нас просвещенными, добрыми и прямо счастливыми. Бесчисленны к нам их благодеяния; но дела их, но добродетельный пример их есть то, что мы драгоценнейшего от них получили. Воззрите на сии изображения. Се лик Шувалова! Грозная судьба похитила его от нас; но сердце еще бьется в груди нашей, и Шувалов там живет. Друг человечества! Ты достоин венка бессмертия; и грядущие, отдаленные веки с благоговением повторят имя твое. – Се образ Мелисино!.. Любезные товарищи! Почто не можем мы повергнуться на гроб его, на сие вместилище драгоценного для нас праха! Почто не можем окропить его своими слезами! От них возрасли бы на нем цветы. И благоуханием своим возвестили бы страннику: Здесь почиет покровитель наук. – Шувалов! Мелиссино! Тени ваши, может быть, носятся теперь над нами и улы81 баются, видя любовь нашу. Божественная улыбка! Она побуждает нас следовать по стопам вашим. И если можно. Вам уподобиться. Тени священные! Покойтесь в селениях праведных; мы не возмутим тишины вашей уклонением от пути добродетели. Херасков, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворного места, воспитанию благородных юношей посвященного, – Херасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует. Питомцы столь знаменитых мужей! Потщимся заблаговременно пользоваться благодетельными поучениями, из уст наставников наших текущими. Время летит; и семена мудрости и добродетели, насажденные во дни юности в умах и сердцах наших возрастут в древо великое, коего плоды будем мы собирать и в самой вечности. Университетский Благородный пансион (реконструкция) Печатается по: Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. Под редакцией проф. А.С. Архангельского. Приложение к журналу «Нива» за 1902 г. Т. 11. // СПб, издание А.Ф. Маркса, 1902. Жуковский Василий Андреевич (1783 – 1852) – поэт, переводчик, литературный критик. В 1797 г. был определен в Благородный университетский пансион; в 1800 г. окончил его с серебряной медалью. Время пребывания в пансионе – период формирования будущего поэта. Здесь он находит близкую ему по духу дружескую среду. «Тургеневский кружок» был ядром будущего Дружеского литературного общества Жуковский стал первым председателем «Собрания воспитанников университетского Благородного пансиона», в котором проявились светское и нравоучительное направление пансиона. Целью Собраний провозглашалось «исправление сердца, очищение ума и вообще исправление вкуса» воспитанников. Печатался в выпускаемом Собранием литературном альманахе, состо- 82 явшем из сочинений воспитанников пансиона. Пансионские сочинения Жуковского – по большей части торжественные оды «на случай» или речи, предназначенные для ежегодных пансионских актов и выступлений в «Собрании воспитанников…», лирика (первое напечатанное произведение Жуковского – стихотворение «Майское утро», 1797 г.). Кульминационным моментом жизни воспитанников Благородного пансиона при Московском университете был Торжественный акт, на который съезжались почетные гости, профессора и ректор университета. Акт открывался речью на русском языке, посвященной какой-нибудь нравоучительной теме, объявляли о присужденных за год наградах. Имена награжденных золотыми буквами были запечатлены на доске, висевшей в зале пансиона, рядом с портретами кураторов университета. Среди них – В. Жуковский, А. Раевский. В. Одоевский, С. Шевырев… Примечания 1. В начале Х1Х века в подготовке к учебе в университете огромную роль играл Благородный пансион. Обучение в нем имело энциклопедический характер, система воспитания признавалась образцовой и послужила примером при создании Царскосельского лицея. Открытый М.М. Херасковым в 1779 г., Благородный пансион обрел подлинную жизнь в 1790-е гг., когда к руководству пришел профессор А.А. ПрокоповичАнтонский, реализовавший многие педагогические идеи круга Хераскова и Новикова, направленные на всестороннее развитие личности воспитанников. Особенное внимание уделялось развитию литературных способностей: в пансионе действовало литературное собрание, основанное учившимся там В. Жуковским. Званием воспитанника Благородного пансиона гордились; недаром среди его выпускников столь много выдающихся имен. 2. Шувалов Иван Иванович, граф (1727-1797) – первый куратор Московского университета, генерал-адъютант (1760), государственный деятель, меценат. 3. Мелиссино Иван Иванович (1718 – 1795) – директор (1757 – 1763), куратор (с 1771 г.) Московского университета 4. Херасков Михаил Матвеевич (1733 – 1807) – писатель, поэт, журналист; директор и (сменивший И.И. Мелиссино) куратор Московского университета с 1763 по 1802 г. Им был открыт университетский Благородный пансион. 83 Павел Афанасьевич Сохацкий Торжественное слово на полувековой юбилей Императорского московского университета ТОРЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО НА ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА празднованный 1805 года июня 30 дня, произнесенное надворным советником, философии, эстетики и древней словесности профессором ординарным, секретарем Совета, членом Училищного комитета действительным членом и секретарем Общества истории и древностей российских Павлом Сохацким Далее Слово о пользе физической антропологии произнесенное в публичном собрании Иваном Венсовичем, адъюнктом, повивального института при императорском Московском Воспитательном доме профессором июня 30 дня 1805 г. Хор с оркестром музыки играет на полувековом торжестве московс. муз. 84 Пятьдесят уже лет, почтеннейшие слушатели, существует сие высокое Училище. Великая, приносимая им отечеству польза никогда, даже самою завистию не была совершенно отрицаема. Без громких о себе похвал и провозглашений, среди знаменитого древнепрестольного града, - средоточия толико пространные империи, - в кроткой тишине оно от малых начал постепенно приходило в сое цветущее состояние. В сей самый год кончилось пятидесятилетнее, истинно достохвальное его поприще. Путешественник по совершении дальнего пути к предназначенной себе цели, остановясь при некоем определенном расстоянии, с удовольствием протекает мыслями пренесенные дотоле свои подвиги. И что ж может свойственнее быть при сем нашем полувековом торжестве, как не то, чтобы обратить в сии минуты испытательный взор и внимание на оные времена протекшие, на оные подвиги, уже понесенные? С радостию при драгоценных и достославных именах, - хотя купно и с праведным сетованием о невозвратной потере! – возбуждается здесь, как бы непроизвольно, в мыслях и в сердце живое и благодарное воспоминание о том, какие, сколь ревностные, сколь просвещенные мужи своим мудрым управлением, своею патриотическою деятельностью, своими неоцененными наставлениями, своими общеполезными трудами основывали, воздвигали, украшали почтенное сие наук святилище! Так удивительны ли столь быстрые, толико обширные, толико вожделенные следствия и успехи? Ибо, вскоре по учреждении оного и устроении, распростерлась всюду благоприятствующая о нем слава; ощущены подлинные опыты преимуществ, заключающихся в образовании и просвещении; вскоре из отдаленных стран России, где токмо возжены были хотя некоторые искры сведений и где возродилась к ним в душах любовь, начало стекаться сюда немалочисленное разных состояний юношество, дабы из сего благотворного открывшегося источника почерпать полезные и необходимые человеку познания. Не взирая на еше весьма скудные в то время пособия учености, - готовые и легкие в других землях Европы, - усердие и благожелательство усердных путеводцев заменяло и почти в полноте вознаграждало таковые недостатки. Уже юные любители наук, при собственном употреблении тщания и постоянной деятельности, ясно могли обозревать весь круг приятных, важных и основательных учений. Желания удовлетворены, надежда увенчана! Обогащенный неотъемлемыми сокровищами человек, в самом цвете лет своих, с укрепленными силами души и тела, к чему не может способен быть в обществе и государстве? Так, почтеннейшие слушатели! имея щастие чрез двадцать три года находиться неотлучно при сем знаменитом месте, я приемлю на себя смелость торжественно пред вами о том свидетельствовать. Кажется, ныне вижу пред глазами, как новые сонмы за сонмами благовоспитанных и образованных людей, подобясь выходящим роям трудолюбивых пчел, вступают непрестанно, чрез целый ряд прошедших лет, в различные служения ко благу возлюбленного нашего отечества! Да и подлинно! какое найдется из высших и благороднейших в нем званий, 85 где Московский университет не мог бы похвалиться своими воспитанниками? Достойные Первосвященники и Пастыри Церкви, высокие министры, проницательные политики, мудрые градоправители, праавотворные судии, знающие письмоводцы, искусные врачи, даже отличные военнослужащие приносили и приносят государству честь и украшение. Отличительные черты характера их и поведения суть честность, прямодушие, верность и любовь к отечеству - плоды истинного просвещения. Вот живые и действующие, если могу так выразиться, подлинники главных трудов сего Училища, собственно ему предлежащих, и по праву от него требуемых! Вот видите, почтеннейшие слушатели, что едине токмо простое повествование или быстрое всеобщее обозрение и как бы некоторый отчет составляет уже сам собою не какую либо вымышленную и витийственную, но прямую и существенную похвалу пятидесятилетнего существования императорского Московского университета. Не уменьшая нималейше уважения к подобным высшим Училищам, процветающим в Европе, я имею многие причины утверждать, что едва ли какое из них в толь краткое сравнительно время своего бытия произвело столь ощутительное и непосредственное влияние на благо собственного отечества. Но и где ж, - скажите! где есть толико великодушные, несравненные , истинно царственные способствования народному просвещению, как в высоком примере зиждущих благоденствие России мудрых ее и благопромыслительных государей? Благословенны да будут сердцами Россов священные имена их навеки! Патриотическим ходатайством пред великою в кротости ЕЛИСАВЕТОЮ незабвенного друга просвещения Шувалова в златый век ее царствования положено в 1755 году первое основание мирного храма наук среди сего, древностию, величием, множеством и знаменитостию обитателей славного града; и отселе свет познаний чрез полвека уже озарял способные отлично по природе умы, достойных сынов России. Радостотворные мысли и чувствования! Здесь, погрузясь в глубоком безмолвии, надлежало бы совсем остановиться и, исчисляя мысленно спасительные от того последствия, предаться всею душою приятным и неизъяснимым чувствиям сердечной благодарности, заключив пред вами, почтеннейшие слушатели, краткое сие, по приличию торжества нашего, изображение. Но сей Гений – покровитель наук, коего именем вся Европа и целый свет гордится , пред коим осчастливленная Россия с восхищением благоговеет; се! великий в чистой, небесной доброте своей АЛЕКСАНДР о сем торжествующем Университете, в сей самый вечно достопамятный год, в высочайше дарованной грамоте являет от престола свету и потомству несказанное монаршее благоволение утверждением прав его и преимуществ, распространением круга деятельности в образовании и просвещении, возвышением ученого состояния в государственное, великим подкреплением учащих, простертым даже на их вдов и сирот, видящих ясно верную в будущем надежду свою и отраду. Что ж вожделеннее, почтеннейшие слушатели! бытие - или его блаженство? 86 И что Университет наш радостнее ныне торжествовать долженствует, основание ли свое или возведение к совершенству? – Ах! какие слова, какой язык выразит по достоинству все высочайшие милости, щедроты и благодеяния, на Училище сие излиянные! Достоверность, чувствование, совесть, внушают непреложное веление провозгласить истину: Московский университет, чрез все пятьдесят лет совокупно, не получил толико благотворений, как в благословенное нынешнее царствование гения на престоле! Более, нежели усугубляется торжество наше! Блистательный свет осиял даже к примрачные, оставшиеся тени прошедшего! Сколь восхитительна, сколь неописанна животворная надежда на будущее! «Патриотическое представление знаменитого любителя наук Шувалова, признание из уст венчанной правды, великодушия, мудрости и добродетели произнесенное! Поистине! может ли быть что-либо столь патриотическое, как решительное в великой душе и добром сердце намерение содействовать посвещению умов своих соотечественников? Сия-то и была единственная цель первого нашего перед престолом ходатая. Любовь ли к отечеству требуется для патриотизма? Нет любви чистейшей, как хотеть душам благодетельствовать. Совершенное ли бескорыстие? Злато седмь крат в горниле искушенное, не возможет светлостию превзойти души, по всем опытам чуждой искания за сие славы, выгод, наград, почестей. Твердое ли и непоколебимое постолянство? Целая жизнь, до самой преклонности лет, даже до кончины дней, неопровергаемо сие доказала. Печатается по: Речи, произнесенные в торжественном собрании императорского Московского университета в разное время на разные случаи. С. 22-23. Сохацкий Павел Афанасьевич (1766-1809) – воспитанник учрежденной в 1782 г. Филантропической семинарии при Московском университете, затем университета, учитель латинского и греческого языков в обеих гимназиях университета, с 1795 г. экстраординарный, с 1801 г. ординарный профессор философии, эстетики и древней словесности, возглавлявший кафедру древней словесности Московского университета. Журналист: редактор журналов «Приятное и полезное препровождение времени» (совместно с В.С. Подшиваловым), «Иппокрена, или Утехи любословия», «Новости русской литературы», «Политического журнала» (совместно с М.Г. Гавриловым). В 1797 г. инспектор Учительского института. Будучи экстраординарным профессором Московского университета, он преподавал филологию и древности, читая из римской литературы речи Цицерона, Тита Ливия, Энеиду Вергилия, оды и послания Горация, а из греческой - Одиссею Гомера, Прометея прикованного Эсхила, Лукиана и диалог Платона Менон; кроме того, он упражнял студентов в переводах с латинского языка на русский. – писатель, профессор эстетики и древней словесности Московском университете, сын священника Полтавской губернии. Вместе с некоторыми другими студентами киевской академии, Сохацкий был вызван с философского класса в филантропическую семинарию при Московском университете. По удалении Мельмана (XIX, 40) из университета, Сохацкий был назначен его преемником по кафедре и ректором академической гимназии. По древней словесности 87 Сохацкий издал "Филлеборново краткое начертание латинского слога" (Москва, 1796), "Principia sermonis graeci" (Москва, 1796), "Цицероновы рассуждения о должностях (De officiis)" (с замечаниями, 1807; не окончено), "Федон, разговор Платона" (в "Эфемеридах", Москва, 1804). В университетском пансионе Сохацкий преподавал российскую словесность, логику и нравоучение и для своего класса издал в русском переводе "Уатсову умственную науку или логику". Для руководства слушателям к лекциям эстетики, Сохацкий издал в 1803 г. "Мейнерсово начертание и историю изящных наук"; к этому переводному сочинению Сохацкий прибавил "Чертеж системы эстетики". Кроме того, сам занялся сочинением эстетики, под названием "Изъяснения об изящных науках и искусствах" (напечатал общую или теоретическую часть). Свои воззрения на изящные искусства Сохацкий выразил в слове, произнесенном в 1801 г.: "О предметах, свойстве и влиянии изящного вкуса на счастье жизни". Как классик, Сохацкий ставил выше всего "высокие и наставительные творения этические". Свои философские понятия Сохацкий изложил в "Слове о главной цели воспитания" (сказанном на торжественном собрании Московского университета в 1703 г.). Сохацкий произнес в память Шувалову (1797 - 1800) "Похвальное слово" и оду под заглавием "Памятник другу просвещения отечества"; также торжественное слово на полувековой юбилей Московского университета, в 1805 г. Сохацкий написал несколько од на коронацию императора Павла, на восшествие на престол императора Александра I и др. Сохацкий издавал журналы: "Приятное и полезное препровождение времени" (1793 - 1798, вместе с Подшиваловым ), "Ипокрену, или Утехи любославия" (1799 - 1801), "Новости Русской Литературы" с 1802 г. По предложению куратора Мелиссино начал с 1790 г., вместе с Гавриловым , "Политический Журнал", который потом продолжаем был Гавриловым под именем "Исторического, Статистического и Географического Журнала". Некоторые из журналов Сохацкого замечательны потому, что в них были печатаны сочинения лучших писателей того времени, а также первые юношеские опыты Жуковского, Нарежного и др. Примечания Речь П.А. Сохацкого впервые произнесена 30 июня 1805 года в Большой аудитории Московского университета по случаю празднования его полувекового юбилея. 88 Михаил Александрович Дмитриев Главы из воспоминаний моей жизни. ГЛАВА 3 Университетский благородный пансион Cо страхом вступили мы в пансион. Вход наш в толпу пансионеров, которых было тогда вместе с приходящими до 400 человек, можно уподобить вот чему: это было похоже, как бы человека, едва умеющего плавать по небольшому пруду, вдруг бросили в море и велели плыть с другими! — Толпа мальчиков из нашей и из других комнат окружила нас с вопросами: как ваша фамилия. Бесчисленное, как мне казалось, множество лиц, и всегда новых, мелькали мимо нас с шумом, заглядывались на нас, подбегали к нам, а мы, робкие и всем чужие, не знали, где стоять и куда приютиться. Но не прошло полугода, как мы привыкли; однако всетаки не могли забыть семьи, ее обычаев и привычек, родных и даже женщин и дворовых людей, которые тогда сохраняли именно патриархальную привязанность к своим господам и любили нас, детей, как свое, а не чужое. Обращаюсь к университетскому пансиону. В воспитательном заведении надобно различать две цели: учение и собственно воспитание. И то и другое стояло не высоко1; но и то и другое соответствовало потребностям того времени и тогдашней образованности общества, и потому и то и другое, в относительном своем достоинстве, было не хуже нынешнего. А в мире все относительно. Теперь мы не довольны настоящим нашим воспитанием, и мы правы; тогда были довольны воспитанием того времени, и тогдашние люди были тоже правы. Больше не было нужно! Тогда параллельных классов не было; да, может быть, это было и лучше. Нынче требуется, чтобы ученик шел во всех предметах равно, что решительно невозможно. Из этого выходит, что, успевши в каком-нибудь предмете, он не переходит в класс высший потому только, что отстал в других предметах. Но как хотите вы 89 этого равенства? Есть головы, способные к языкам или к словесным наукам и не способные к математике. Таков был и я. За что же угнетать способности, данные природою, и не давать им дальнейшего ходу из того только, что ученик отстал в предметах другого рода? — У нас было так, что в некоторых предметах учения можно было достичь высших классов, оставаясь по другим предметам в средних. <…> Однако, скажут после этого, что же хорошего было в этом пансионе? — Вот что: литературное образование, которое более всех других способствует не к специальным знаниям, а к общей образованности, которая, соответствуя потребности тогдашнего просвещенного общества, была действительно нужнее положительных знаний. Хорошо всегда то, что соответствует потребности. Эта часть шла хорошо. Доказательством тому — воспитанники пансиона, давшие ему действительную и справедливую славу: Дашков, Тургенев, Жуковской, Милонов, Кайсаров, Аркадий Родзянка и многие другие. Большая часть имен, прославившихся у нас в литературе и на поприще как бы, вышли из университетского благородного пансиона. Я сам, не сравнивая себя с ними, положил, однако, начало своего литературного образования в этом же пансионе и ему обязан моею любовию к литературе. С самых средних классов мы привыкали уже к именам и произведениям лучших писателей. Мы учили их наизусть и изучали и дух и красоты их в подробностях. Нам преподавали теорию словесности постепенно, начиная с логики, как формы мышления, и переходя к риторике, как к внешней форме речи. В высшем классе преподавалась пиитика и эстетика. Но начиная с средних классов подвергали лучшие произведения слова критическому разбору. Истории литературы собственно не преподавали; но она составлялась сама собою в уме нашем, при последовательном обозрении писателей. А вместе с оценкой русских писателей параллельно упоминались и иностранные, то есть больше французские и знаменитейшие поэты Италии; немецкая литература была тогда мало известна и не пользовалась у нас классическою славою, а об английской почти не было и слуху. Нам задавались и самим упражнения в стихах и прозе, что иногда доходило даже до излишества. Так, когда я поступил в подвышний класс, у нас очутился на кафедре тот самый Ханенко9, который давал нам уроки еще в доме Бекетовой. Этот надутый собою педант вздумал задавать нам к каждому понедельнику темы для стихов; некоторые я и доныне помню: басня «Пчела и осел», «Ночь», «Зима» и проч. — У всех, кто мог, должны были явиться к понедельнику стихи одного и того же заглавия. Некоторые совсем не могли писать стихов и оставались у преподавателя по одной этой причине на заднем плане. <…>Вскоре, однако, дали нам вместо его человека, достойного уважения и по уму, и по характеру, и по учености. Это был только что возвратившийся из чужих краев профессор университета Алексей Васильевич Болдырев10. — Он принял совсем другую методу. Он начал с того, что продиктовал нам прозу, и потом пересадил нас по сведениям нашим в правописании. Это показалось нам, которым прежде показывали одни высоты Парнаса, несколько унизительно, но вскоре мы все увидели, что это полезнее. 90 Начавши с такого мелкого требования, с правописания, он нечувствительно ввел нас, так сказать, в тайны русского языка; он разбирал критически, и грамматикально, и риторически, прозу Карамзина, показывая нам порядок его речи, согласие ее законов с красотою слога и зависимость одного от другого. Одним словом, это было учение прочное, основательное и методическое, чем он дал нам прочные основания к литературе вообще. Главным предметом Болдырева были семитские и азиатские языки; он знал еврейской язык и арабской, персидской и турецкой, но знал также греческой и латинской. В основательном, научном знании русского языка ручаются его рассуждения о глаголе, напечатанные впоследствии в «Трудах общества любителей российской словесности»". К 1812 году я был переведен в некоторые вышние классы, и, между прочим, в высший класс русской словесности к Мерзлякову12. Он преподавал нам теорию словесности, по известным французским теориям Ле-Батте и других13, но главное, занимал нас подробным изучением русских писателей, то есть поэтов, потому что тогда, кроме Карамзина и его подражателей, ничего не было в прозе. Хераскова «Кадм и Гармония»14 и проч. устарели и никогда не могли почитаться образцами. Русская академия15 отстала во всем от Московского университета, а петербургская литература с «Беседой» Державина16 была в пренебрежении. Один Крылов" из всех тамошних поэтов привел нас в восхищение изданием двух книжек своих басен18. Ломоносов, Петров19, более всех Державин, потом Дмитриев — вот кто были предметом критических разборов Мерзлякова20. Эти разборы были верны, подробны и обильны плодами разных сведений: в них заключалась и история поэзии в применении к истории времен, и теория в применении к образцам; обзор и целости идеи, и подробностей, как в плане, так и в исполнении. Это был, несмотря на ложность французской теории, художественный курс поэзии. У Мерзлякова как мало было вкуса в собственных произведениях, так много художественного такта в критических разборах. Он был не красноречив и имел недостаток в выговоре и произношении, но когда входил в восторг, а он без восторга не мог говорить о великих поэтах, тогда незаметен был его недостаток: он увлекал нас; мы его любили слушать, любили его самого и уважали. В вышнем классе были уже прежде меня некоторые взрослые воспитанники, которые между нами и сами имели уже славу поэтов. Таковы были: Сергей Гаврилович Саларев21, молодой человек прекрасного лица и прекрасной души, умный, скромный и просвещенный; Аркадий Гаврилович Родзянка, написавший несколько стихотворений, полных воображения, картин и жизни22. Мы, младшие, уважали их и смотрели на них как на избранных, тем более, что они не далеки еще были от времени Жуковского и были как бы его наследниками в славе пансиона. Сам Литовской и Мерзляков отличали их знаками какого-то почетного благоговения. Много способствовало литературному образованию пансионерское общество любителей словесности. Оно было учреждено еще при Жуковском; имело свой устав, под которым после Жуковского и его современников подписывались по мере вступления все члены этого общества, и принадлежать к нему было высшею 91 честию23. — Оно собиралось всякую середу в шесть часов вечера. При мне председателями были Сергей Гаврилович Саларев, секретарем Григорий Васильевич Полетика24; членами Аркадий Гаврилович Родзянка, Алексей Павлович Величко25, Илья Иванович Полугарской26, Григорий Эси-монтовский27, других не помню, но их было девять. Кроме членов были сотрудники, в число которых приняли и меня. Порядок заседания происходил так. После прочтения протокола предыдущего собрания и после подписи его членами начиналось обыкновенно очередною речью одного из членов, всегда нравственного, или философского, или чисто литературного содержания. За нею следовали рассуждения или прения членов по предмету этой речи. Потом читались стихи и проза членов или и посторонних, еще не принадлежащих к обществу воспитанников. Вслед за этим чтением иногда один из членов разбирал на словах читанное произведение. Потом один из сотрудников читал письменный разбор какого-нибудь лучшего произведения знаменитых тогда русских поэтов: Державина, Ломоносова, Дмитриева, Карамзина и других. В этих разборах строго рассматривались и эстетическое достоинство произведения, и нравственное его начало, и красоты или недостатки языка, и относительные его стороны; и все это основательно и с доказательствами, основанными на твердых началах. Так, я помню, после разбора «Ермака» Дмитриева28 один из членов сделал вопрос критику: «Верно ли изображен костюм шаманов, или это только изобретение поэта?» — Критик отвечал положительно: «Я нарочно с этой целию перечитывал «Сибирскую историю» Миллера29 и могу утвердительно сказать, что костюм и вооружение — все верно!» — Так строго и основательно смотрели тогда на произведения поэзии; так привыкали мы к основательной оценке. Под конец заседания обыкновенно один из членов предлагал вопрос на разрешение, по большей части возникший в его уме при чтении какого-нибудь иностранного мыслителя. Вопрос обсуживался в общем прении, в котором хотя бывали иногда и горячие споры, но всякой желающий говорил в свою очередь и не был никогда ни перебиваем, ни прерываем другими. Антонской всякую середу приходил в эти собрания, но сидел в стороне и слушал, нисколько не мешая свободе мнений. Только когда случалось, при прениях и вопросе, кому-нибудь сбиваться в сторону и выходить из вопроса, он напоминал его и наводил на сущность рассуждения. Почетными членами этого маленького собрания были люди, известные в литературе или достойные особого уважения по службе и по месту, ими занимаемому, как-то: попечитель университета Кутузов30, Карамзин, Дмитриев31 и другие. Когда случалось, что в середу кто-нибудь из них приезжал к Антонскому, он непременно приводил его в собрание. Выборы действительных членов и сотрудников происходили по предложению председателя и всегда при баллотировке. В следующую середу после выбора избранный приходил в комнату, которая вела в небольшую залу заседания. Там, при затворенных дверях, прочитывали протокол предшествовавшего заседания, в котором прописывали выбор. По подписании членами этого протокола, председатель просил секретаря ввести избранного; председатель приветствовал его дружескими объятиями и братским поцелуем; потом, указав ему место, читал ему приветственную речь, в 92 которой кроме указания на предмет литературных занятий настаивал более на том, что это общество друзей, что члены обязаны питать друг к другу это святое чувство, делиться друг с другом мыслями и дружескою взаимностию и хранить тайну о всем, что происходит в их собраниях. Это последнее правило составляло действительно один из важнейших пунктов устава, и никогда не случалось, чтобы кто-нибудь рассказал посторонним, что читалось и говорилось в обществе. Это, между прочим, охраняло самолюбие и членов, и посторонних, держало его в пределах и не давало повода оскорбляться, хотя бы чье сочинение и подвергалось всей строгости критики. Это оставалось известным только между членами и не распространялось далее. Из всего сказанного мною можно видеть, что это собрание имело цель не одну литературную, а воспитывало старших и лучших юношей в понятиях о нравственности, о дружбе, о чистосердечии, о скромности; что оно приучало мыслить и выражаться, что оно поднимало дух и воспитывало самолюбие в благоразумных пределах; одним словом, что оно, так сказать, взаимным самовоспитанием довершало обязательное самовоспитание юношей. Этим обществом изданы были многие книги: «Утренняя заря» в шести томах, в которых находятся и юношеские произведения Жуковского; «Избранные сочинения из Утренней зари»; «И отдых в пользу»; «В удовольствие и пользу», две части32. Первая издана была до меня; а во второй напечатан и ' мой перевод жизни Младшего Плиния: первый слабый труд, под которым в первый раз было напечатано мое имя. После моего выхода из пансиона издано было несколько частей «Каллиопы». Антонской был самый тонкий воспитатель. Он редко давал наставления, а воспитывал, так сказать, фактически. Так, призвав меня к себе, он сказал: «Ты бы перевел что-нибудь; вот хоть из этой книги. И это вот в ней хорошо, и вот это, и это». — При этом указании я заметил, что он как-то чаще указывает на жизнь Младшего Плиния. Прочитавши ее, я понял, что ее-то он и почитал приличнее, и понял вот почему. В ней говорено было о знаменитом дяде его, Плинии Старшем, и сказано, что племянник шел по стопам его33. — Это было и мне наставление, и дяде моему легонькой комплимент. Я ее перевел, Салареву отдали ее поправить и напечатали. Так вел он рядом и литературную, и моральную пользу. Вообще надо бы заметить, что имя отечества встречалось нам во всем; о любви к отечеству говорило нам все окружающее, и люди, и вещи. На актах университета в речах и стихах воспитанников раздавалось имя отечества; зала, где происходили акты, была уставлена портретами кураторов университета, как верных сынов отечества и благодетелей юношества. Имена Муравьева, Хераскова, Мелиссино, равно как и черты лица их, и предание об их действиях на пользу просвещения, были всегда присутственны в нашей памяти34. Торжественный акт пансиона был обязательно35 в декабре, перед Рождеством и зимними ваканциями. На него съезжались все значительнейшие лица Москвы, родители воспитанников и любители просвещения. Акт начинался всегда произнесением речи, которые можно и ныне видеть напечатанными в книгах, изданных 93 воспитанниками36. Потом следовали их же стихи; потом было пение, музыка и фехтованье: все это с тем, чтобы показать посетителям все их способности и успехи. Наконец раздавались награды: высшая награда была глобус; другие состояли в книгах и так называемых учебных пособиях: дорогих чернильницах, математических инструментах и проч. Имена награждаемых провозглашались громко и потом обнародовались посредством печати. В заключение читался отчет за минувший год, о всем, относящемся до пансиона. После акта воспитанники, имевшие в Москве родных, распускались по домам. Дом университетского благородного пансиона был тогда на Тверской, против дома Бекетова. Он выходил двумя фасами еще на два переулка, старый Газетный и другой, ближайший к университету37. Церкви в те времена в доме пансиона еще не было; приходская наша церковь бьиа Успенья на Вражке 38, куда мы каждое воскресенье ходили к обедне и где мы на страстной неделе говели, исповедовались и приобщались святых тайн. <…> Кормили нас очень дурно. Утренний чай был какая-то жижа с молоком, а трех сухарей было мало: мы выходили из-за чая всегда голодные. За обедом подавали нам суп или щи, всегда жидкие, мутные, холодные, с небольшим кусочком мяса; а в Великой пост в тарелке плавали два или три снятка. Соус был обыкновенно какая-то смесь, не имеющая никакого ни вида, ни вкуса; жареное — дурная, черная телятина. Мы никогда не наедались сыты. Один раз, я помню, как полуотличный стол, человек 25 или более, сговорились не пить чаю и вылить все чашки на поднос; потоп этот был доведен до сведения Антонского. Нас спросили; мы сказали всю правду. Говорят, что досталось эконому54; с неделю нам давали чай получше, потом пошло по-прежнему. <…> По мере наших заключений о главных лицах пансиона, у нас от поколения к поколению передавалась следующая их характеристика: Антон Антонской Царь пансионской! Иван Пантелеевкч Пансионской царевич! Василий Загорской Конь заморской! Барон-дергач Пансионской палач!60 Малейшее доброе слово Антонского, малейший знак его благоволения были для нас великою наградою и знаком хорошего признания в его мнении. <…> Нынче, когда наши журналы силятся ввести и в воспитательные заведения вместо безусловной покорности равенство эмансипации и вместо благоразумной дисциплины — мнимый прогресс, достигают ли до тех целей спокойного исполнения долга, до чего достигал Антонской своими патриархальными средствами! Нынче возбуждают в воспитанниках какую-то благородную гордость (а гордость, правду сказать, никогда не бывает благородною), нынче внушают им не бояться наставников и не внушают любви к воспитателям; за то сами наставники боятся мальчиков и не любят их! Недавно начали у нас восставать против всяких наказаний, особенно против розог: для меня все это просто непостижимо! В нашем пансионе не было и слуху о телесных наказаниях; а все было тихо, и повиновение 94 было совершенное. Стало быть, можно обойтись и без розог, да только надобно уметь без них обходиться! А то нынче внушают мальчикам, чтоб они не уважали начальников и держали себя в отношении к ним как равные; словом, сами же взбунтуют их да и требуют, чтобы не было розог! — У нас их не было; а мы и доныне, следуя слову Священного писания: «Поминайте наставники ваша»63, поминаем добром наших наставников, вспоминая с благодарностью, как они соединяли строгость власти с добродушием и правдою! -------------------------------------------------*Вот осел-та! Бестолковый-та! Бестолковейший-та! (лат.). **Самые старшие суть самые глупые! (фр.). В пансионе же, вскоре после моего вступления, я видел в первый раз Карамзина . Он был в первой молодости своей дружен с моим отцом, знал потом и мою мать, а с дядей Иваном Ивановичем сохранил взаимную горячую дружбу до конца своей жизни. Дяди тогда не было в Москве: он был министром юстиции и жил в Петербурге. Карамзин, узнавши, что мы с братом в пансионе, приехавши к Антонскому (у которого он бывал нередко), пожелал нас видеть. Поговоря с нами, он занялся разговором с Антонским; а мы постояли и были потом отпущены. Я сказал уже, что имя Карамзина повторялось в нашем семействе как имя существа высшего разряда, и потому я смотрел на него с благоговением и слушал его как оракула. Возвратясь оттуда, я упомнил и записал весь разговор их. Помню, что они говорили о императрице Екатерине, оба превозносили ее царствование и сравнивали с настоящим временем*5. Помню, что Антонской сказал между прочим: «Говорят, что нынешний Государь любит откровенность». — Карамзин возражал с жаром: «Нет! Екатерина любила откровенность; а Александр любит только фамильярность!» — Впоследствии времени Карамзин, узнавши коротко Александра, без сомнения, переменил свое мнение, особенно после своей записки о Польше, которая доказывает, как Александр ценил разумную откровенность66. До 1812 года воспитанников пансиона производили в студенты без экзамена. Имена назначенных к слушанию университетских лекций провозглашались на торжественном акте пансиона: это происходило зимой, перед Рождеством. С генваря они начинали ходить в университет и были признаваемы студентами: следовательно, звание студента для пансионера зависело от одного Антонского. Так были провозглашены последние на акте 1811 года. Но с этого времени положено держать экзамен в университет. В феврале 1812 года отобрали нас, человек тридцать, назначенных к экзамену<…> В июне же, в конце месяца, был университетский акт; тогда университетские акты были летом. Многие тотчас же по наступлении ваканций отправлялись по деревням, но нам надобно было дожидаться акта, потому что тогда студенты получали на нем шпаги. Я должен был сшить себе студенческий мундир, синий с малиновым воротником. На лекции тогда ходили во фраках, но мундир был необходим для актов университета и пансиона, а я и по возвращении в Москву не предполагал его оставить. Наконец при звуках труб я торжественно получил шпа64 95 гу, хотя уже и прежде имел право носить ее, потому что был записан в службу. Напрасно отменили эту торжественную раздачу шпаг новым студентам: эта публичность придавала много значения новому званию, как гласное признание университетом и всей московской публикой вступления на некоторую степень между согражданами и как печать их участия в дальнейшей судьбе молодого человека. Тогда акты были гораздо торжественнее. Кроме речей иногда произносилось похвальное слово, и всегда были хор и ода. Слова и музыка хора сочинялись нарочно на этот случай, а ода произносилась Мерзляковым, иногда стихи и другой формы, но всегда торжественного содержания. Раздача медалей и других наград производилась как и нынче: но присоедините к этому еще и раздачу шпаг, радостные лица новых студентов и радость их родных, и вы поймете, что это был не один ученый праздник, а семейный для всей столицы. *«Кто с Пиндаром стремится состязаться...» (лат.). Это описал я с лишком через тридцать лет после того в одной из моих «Московских элегий»: Помню годичный торжественный день я — во храме науки! Это был праздник Москвы; вся Москва между нас ликовала! Хор прогремит — и всходил Мерзляков на кафедру — и оду, Пышную оду громко читал, иль похвальное слово! С звуком трубы раздавались потом и награды, и шпаги!71 Глава 5 Поездка в Петербург и возвращение в Москву Надобно, однако ж, было думать о вступлении моем в университет, который скоро должен был открыться. Но приготовлен был я очень худо. Дядя вздумал, что мне надобно будет, по крайней мере, поучиться по-немецки. По рекомендации ректора Гейма явился ко мне профессор Юлий Петрович Ульрихс79. Вероятно, оба они думали, что мне нужно только усовершенствоваться в немецком языке; а я не знал и склонений. Для Ульрихса, для профессора, нужен был ученик не такой! — Он заставлял меня твердить наизусть склонения и спряжения; потом со вступлением в университет эти уроки прекратились, не принеся мне никакой пользы. В сентябре 1813 года открылся университет, в Газетном переулке, в небольшом каменном доме какого-то купца80, нанятого по случаю сгорения общем пожаре университетского дома. Так как в нем было всего три аудитории, то поневоле лекции читались и после обеда, с двух часов до шести, иначе не было бы места для лекций всех профессоров. Я опишу в особой главе университетское ученье и университетскую жизнь. Теперь скажу только, что мне с непривычки чрезвычайно трудно было рано вставать, чтобы поспевать к осьми часам утра на лекции статистики Гейма. А вставать надобно было тем ранее, что с Маросейки в Газетный переулок дорога была неблизкая, а ходить надобно было пешком: денег на извощика 96 не было. Все деньги, которые давались дедушкой, шли на пищу моего дядьки и на необходимые расходы для меня. Так, например, я привык ужинать, а ужина у дяди не было. Чтобы не ложиться голодным, дядька покупал мне всякой вечер калач и стакан густых сливок. Помнится, это стоило гривен шесть ассигнациями; в десять дней — шесть рублей, а в месяц осьмнадцать. Это было уже начетисто! А другого ужина мы не придумали, да и достать было ничего нельзя; после неприятельского нашествия Москва только начала отстраиваться, и удобств жизни не было никаких. Да и до французов в Москве хотя было гораздо более роскоши, чем ныне, но удобств жизни несравненно менее. Нынче каждый кучер может за несколько копеек напиться в трактире чаю; каждая прачка имеет дома самовар и может на несколько же копеек купить в лавочке чаю и сахару: тогда этого не было! Простолюдины вместо чаю пили сбитень, с которым сбитенщики ходили по улицам. Ныне сбитню совсем нет, а жаль!81 Он согревал на морозе лучше чаю, не расслабляя желудка, и не приучал к ' барству и пустой роскоши. В целой Москве было только две кондитерских: Педоти на Тверской и Гуа на Кузнецком мосту. Кажется, и кондитерская Гунгера82, в которую я хаживал студентом, завелась после французов. Когда ночи стали делаться длиннее и темнее, ходьба моя в университет сделалась еще труднее. Вспоминаю один пример, довольно смешной, из моих ночных путешествий. Путь мой лежал, между прочим, через Фуркасовский переулок 83. Флигель дома, принадлежащего теперь Черткову84 и выходящий в этот переулок, в то время только что отстраивался, и угол, мимо которого мне надобно было заворачивать в этот переулок с Мясницкой, был тогда завален кирпичами и глиной. Кто поверит, что всякой раз, проходя тут в потемках поутру в университет и вечером оттуда, я падал на эти кирпичи, сколько ни оберегался: так что наконец привык к этому; знал, что упаду, а все-таки падал! ГЛАВА 6 Университет и знакомство с некоторыми писателями Я сказал уже, что в сентябре 1813 года открылся университет. Здесь началась для меня новая жизнь, сначала, с непривычки, довольно скучная, но вскоре самая веселая из всей моей жизни. Здесь вступил я, так сказать, в новое семейство студентов университета; здесь сделал новые, самые приятные знакомства; здесь узнал дружбу, продолжавшуюся до старости. Студенты университета и в мое время, и ныне сохраняют к Московскому университету какое-то родственное чувство, сладостное и в самой старости. Московской университет — это вторая наша родина! Университет и тогда разделялся на четыре факультета, или отделения. В мое время они были следующие: словесный, этико-политической, физикоматематической и медицинской1. Не знаю, обязаны ли были в наше время казенные студенты принадлежать к какому-нибудь факультету, кроме медицинского, который всегда стоял особняком, но мы, своекоштные, могли выбирать предметы разных наук, по своему усмотрению. По большей части в этом выборе мы руководствовались указом 1809 года, то есть слушали необходимо те лекции, которые требовались для получения коллежского асессорства2, а другие выбирали уже по 97 собственной наклонности к той или другой науке. Это представляло большую выгоду в отношении к просвещению вообще. Менее выходило специалистов, но более людей образованных. А так как в России главная цель — служба и, по большей части, не знаешь, в какую попадешь, да потом, в продолжение жизни люди по обстоятельствам, от них не зависящим, переходят иногда из одной службы в другую, то и нельзя специально приготовлять себя к какой-нибудь одной цели. По этой причине и нынче России нужны больше люди, имеющие общее образование, чем ученые и специалисты. Ныне случается, что выходит из университета математик или юрист, не знающие литературы, между тем как литература, в обширном смысле, со всеми вспомогательными науками, способствует более к образованности человека, чем специальные предметы других наук. И потому в наше время было менее положительной и односторонней учености, но более общего просвещения, уясняющего идеи. От этого происходило более разнообразия в сведениях, более жизни в разговоре и более широты в их предметах. Многие восстают нынче против университетов. Не говорю уже о том, что всех предметов, преподающихся в университетах, негде узнать, кроме как в них, но главное достоинство университетского учения состоит в том, что науки ложатся в голову в.связи и в системе. Недостаток системы и связи обнаруживается всегда в знаниях самоучек или учившихся дома, как бы хорошо они ни знали ту или иную науку; а те из них, которые чувствуют сами этот недостаток, составляют иногда произвольную систему. От этого-то мы видим такое множество совопросников и слышим такое множество споров. В них возникают иногда вопросы, давно разрешенные, или превращается в вопрос такое сомнение, которое происходит от недостатка связи, так сказать, от пробела в знаниях. При систематическом учении, которое приобретается только в университетах, этого произойти не может. Я слушал следующие лекции: словесности — у Мерзлякова; церковнославянского языка — у Гаврилова3; эстетики, теории изящных искусств, археологии и русской истории — у Каченовского4; метафизики — у Брянцева5; естественного права, теории законов, римского права и истории римского права — у Цветаева6; практического законоискусства — у Сандунова7; теории русских законов — у Смирнова8; всеобщей истории— опять у Черепанова; статистики — у Гейма; политической экономии — у Шлецера; физики — у Двигубского10, и наконец, немецкого языка — у Ульрихса. Таким образом, я составил курс моего учения из предметов, принадлежащих к трем факультетам. — Одни удовлетворяли требованиям указа 1809 года; другие — кругу знаний, необходимых для литературного образования, к которому я всегда чувствовал непреодолимое влечение. — Само собою разумеется, что все эти предметы я слушал не вдруг, а разделил их на все годы полного курса, начав или с самонужнейших, или с легчайших. Из всех тогдашних наших профессоров я должен упомянуть прежде всех о Каченовском, как о человеке, стоявшем наравне с наукою своего времени и следившем за дальнейшими успехами. В курсе эстетики он был благоразумным эклектиком, исторически он открывал нам весь постепенный ход этой науки, начиная с ее 98 родителя Баумгартена12 и переходя к последующим: он говорил с уважением о системах Сульцера13, Эбергарда14, Бутервека15, но предпочитал Бахмана16 и в основаниях держался Аста17. О Лессинге18 он говорил с восторгом и из отдельных замечаний его об отношениях поэзии и живописи19 умел извлекать общие истины изящного, которые были бы недоступны другому, привыкшему видеть в частных замечаниях одни частные правила. Его лекции были истинною философией изящного. В теории изящных искусств не было, по свойству самой науки, такого обширного поля, такого простора для его идей: это была наука, почти основанная только на опыте. Для нас было очень достаточно его указаний и примеров; но для художника это было бы только началом, только необходимым введением к практике. Но на этих лекциях узнали мы Винкельмана20, Монфокона21, графа Келюса22 и других. Обширна была и эта часть при его подробном преподавании. Но более всего познакомились мы с этими лицами на его лекциях археологии: это была археология в тесном смысле, то есть археология искусств. Но она-то и служит к образованию вкуса и служит необходимым дополнением вообще к науке изящного; между тем как общая археология занимается древностями вообще, по отношению их ко времени и без всякого отношения к изяществу. Эта последняя нужна только для ученого историка, а та для всякого образованного человека: она необходима для художника, для поэта и для всякого любителя художеств. Каченовский приносил иногда на лекции огромные томы Монфокона «Les antiquites expliquees»23 и показывал нам в гравюрах изображения знаменитых произведений ваяния; в книгах гр. Келюса — обращал наше внимание на медали, камеи и другие предметы древности. Вообще его лекции были занимательны и плодотворны, несмотря на его малое искусство выражаться. Он был далеко не красноречив, но точен и не говорил ни одного слова даром. У него можно было записывать лекции почти слово в слово. Русскую историю преподавал он не так, как вообще понимали ее в это время: не так как повествование происшествий, по годам и много-много что с разделением на эпохи. Он опередил свое время, и из всех тогдашних профессоров, может быть, один он годился бы на кафедру и в нынешнее время. Он читал русскую историю критически, что в то время было большою новостью. Он начал с обозрения источников русской истории в их хронологическом порядке и с критической их оценки. Он столь подробно разбирал их, что в этом прошло почти полгода. До него мы знали только по именам и Болтина24, и Шлецера25; он разоблачил нам и их и многих и довольно коротко познакомил с Нестором26. Одним словом, наша история, вообще довольно утомительная и скучная, в некрасноречивом преподавании Каченовского представлялась нам живою, самою интересною наукою, требующею не одной памяти, а деятельности сил умственных!27 Таков был Каченовский, хотя иногда он был и смешон, когда, например, говоря об Аполлоне Бельведерском28 или о Венере Медицейской29, не имея под Руками их изображений, он вскакивал с кафедры и, бледный, в сером фраке, вдруг становился перед нами в позе Аполлона или Венеры! Это случалось наиболее [часто], 99 когда он приходил в восторг вслед за Винкельманом и повторял его слова: «Мне кажется, я сам становлюсь благороднее, взирая на Аполлона Бельведерского» и проч. Но, несмотря на наши улыбки, на наш смех после лекции и на наше передразнивание уже не Аполлона, а самого профессора, мы уважали Каченовского и дорого ценили его лекции. О Мерзлякове я говорил уже, упоминая об университетском благородном пансионе. В университете в мое время он ограничивался преподаванием теории поэзии по Батте и разбором наших русских поэтов. Мы чрезвычайно любили Мерзлякова за его ум, его познания, его добрую душу и, наконец, за его восторженную речь, которою он иногда и нас доводил до восторга! Но надобно сказать правду: тогда Мерзляков уже клонился к падению. Здесь должно упомянуть вкратце часть его истории. До 1812 года он бывал и был любим в хорошем обществе. Он был хорошо знаком с князем Борисом Владимировичем Голицыным30, с Кокошки-ным31, который и сам был тогда еще на виду в московском большом свете; он преподавал русскую словесность в доме Вельяминовых-Зерновых32, был у них ежедневным посетителем, принят ими дружески и даже живал у них в подмосковной деревне33. Все эти хорошие светские общества действовали благотворно на добродушного и веселого Мерзлякова. Это было и лучшее время его литературной деятельности. Кроме публичных лекций, читаемых им в доме князя Голицына34, он издал полный перевод эклог Виргилия35, перевод идиллий г-жи Дезульер36, печатал в «Вестнике Европы» переводы греческих трагиков и отрывки из «Одиссеи»37; все эти труды его ценились по достоинству и заслужили ему у современников большую славу: имя Мерзлякова было современною громкою известностью. Наконец, тогда же он занимался переводом Тассова «Освобожденного Иерусалима», который кончил гораздо позже38. После французов многое переменилось в Москве. <…> Цветаев был один из самых достойных профессоров, и по науке, и по своему нравственному характеру. Строг к себе в исполнении своих обязанностей, строг и к студентам в требованиях науки, но чрезвычайно мягкого свойства как человек. Тогда еще профессоры не обращались с студентами как с равными и руки им не жали, но Цветаев отличался добродушною вежливостию и приветливою улыбкою. Его не так любили, как Мерзлякова, но уважали, как одного из лучших людей и из лучших профессоров. Он в молодости, не помню, с каким-то вельможей путешествовал по Европе53 (что тогда было право на отличие человека от других), и потому он привык к хорошему тону и один из всех профессоров хорошо говорил пофранцузски. Лекции его были не глубоки, но полны и основательны. Он не цитировал нам подлинных слов римского законодательства: да мы и не были приготовлены к этому, и по-латыни знали еще довольно худо. Он во всех четырех предметах своих лекций следовал изданным им учебникам54; однако для римского права, не знаю почему, и без его совета, мы пользовались еще книгой петербургского профессора Кукольника55, которая казалась нам полнее и ученее книги Цветаева, хотя это и несправедливо. Естественное право и теорию законов мы изучали хо100 рошо; римское право — только чтобы благополучно выйти из экзамена, а история римского права осталась у меня в памяти только в крупных своих предметах, например, в «Непременном Едикте» Адриана?56 и тому подобном. Но на экзаменах он был строг и уважал свой предмет, как немногие из тогдашних профессоров57. Метафизике у Брянцева я учился с большою охотою и с большим уважением к этой науке58. Он знал все системы до Шеллинга59 наизусть, а следовал в своих лекциях Вольфу60. Он читал по своим тетрадям, как и ныне читают в духовных академиях, но делал на словах множество примечаний. Так как мне трудно было записывать в точности его лекции, где всякое слово имело значение, почти как в математике, а пропуск чего-нибудь делал тотчас неясным последующее, то я решился сходить к нему на дом и выпросить у него тетради списать для своего употребления. Старика удивила эта любовь к метафизике, и это было ему очень приятно. Он привык думать, что читает по-пустому и вдруг увидел доказательство участия к его науке. Он был один из самых старых профессоров того времени, когда наука считала в университете много людей глубоко ученых: Шадена61, Страхова62 и других. По наружности старик был странен и смешон. Длинное, суровое лицо его было все в крупных морщинах и какого-то коричневого цвета; белые волосы, которые зачесывались по старинке назад и привыкли к буклям, были очень коротко острижены. Носил он голубой фрак старинного покроя с огромными перламутровыми пуговицами, розовый ситцевый жилет, короткие черные штаны с пряжками и козловые сапоги с зеленой сафьянной оторочкой. Ходил он медленно и важно и кланялся одной головой, поворачивая ее на обе стороны. Между нами был студент Курбатов (о котором после будет говорено много); он был большой весельчак и проказник63. Он, бывало, караулит Брянцева у дверей, и пока тот доходит до кафедры, он идет за ним и поет потихоньку: «По мосту-мосту шелпрошел детинка; голубой на нем кафтан»64. — Больше таких детских шалостей между нами не было. Сандунов не читал собственно лекций. Он занимал нас, как сказано выше, практическим судопроизводством65. Бывши прежде обер-секретарем Сената, он имел доступ в его канцелярию; что и было ему дозволено; оттуда, а также и из нижних инстанций брал он решенные дела; потом, смотря по содержанию процесса, учреждал из нас суды и палаты, стряпчих и прокуроров. Начиналось с того, что, объяснив предмет просьбы, с которой началось дело, выбирал истца и велел написать прошение с приведением законов, которое выслушивал и исправлял. Потом по порядку дело начиналось в нижней инстанции, по апелляции поступало в высшую и так далее. У Сандунова были между студентами некоторые, обыкновенно не из лучших фамилий, которых он преимущественно занимал писанием просьб и другим, что было потруднее. Он, кажется, преимущественно готовил их к судебной практике и выделывал из них стряпчих и подьячих66, желая дать им этим хлеб в будущем. Они были самые приверженные к нему люди, но зато он и обращался с ними, как в старину обращались с канцелярскими служителями. Иногда скажет: «Что ты, 101 батинька, жуешь бумажку-то? Ты знаешь ли, из чего ее делают? Из матросских порток, батинька!» — Или: «У кого ноги начало, у того голова мочало!» — и тому подобные любезности и поговорки. Кроме своего предмета он мало чем уважал, хотя был некогда сам литератор: он издал драму «Отец семейства», издал «Детский театр»67 и писал сатиры, которые, однако, по их резкости нельзя было напечатать. Он умел иногда сразу огорошить к общему смеху студентов. Один из них читал в классе какое-то рассуждение и часто повторял имя Цицерона68. Сандунов слушал с большим вниманием и вдруг закричал: «Что ты, батинька, все по глазам нам своим Цицероном? Да знаешь ли ты, что был Цицерон? Такой же взятошник, как и мы, грешные! Ведь он защищал своих приятелей-то за деньги!»69 — Все расхохотались! — Однако Жихарев пишет в своих «Записках студента», что Сандунов тем и отличался от других своих товарищей, что не брал взяток70. <…> Вслед за Сандуновым всего ближе вспомнить о Смирнове, потому что предмет их был один: только один занимался практикой судопроизводства; другой преподавал законы. Семен Алексеевич был совсем другой человек: очень простой и служивший некоторым из нас почти шутом. Он знал хорошо и законы, и судопроизводство, и даже был отсылаем на практику в Сенат, где, не считаясь в сенатской службе, занимался делами. Но все это нисколько не служило в пользу слушателей и по его недалекому уму и неспособности к преподаванию, и потому, что его не слушали, а позволяли себе только разные над ним шутки! Зато от его лекций ни у кого из студентов ничего не осталось в памяти, кроме проказ над ним и шуток. Например, у него всякую лекцию составлялся журнал о чтении, по обыкновенной форме: «такого-то числа прибыли» и проч. — Всякой раз писали: «профессор, надворный советник и бронзовой медали кавалер!» — И всякой раз Смирнов говорил с важностию, которую любит брать на себя, глупость: «Это, господа, право, лишнее! Я чувствую, что вы даете мне титул кавалера из любви и уважения; однако что же я за кавалер? Оставьте это!» — А на другой день опять являлся в журнале «бронзовой медали кавалер» — и опять та же оговорка: «Я чувствую, господа! однако...» — и проч. — И это круглый год.76 Он оказывал большое уважение к людям знатным или имеющим влияние. У меня был дядя министр; у другого студента, Новикова, был дядя сенатор Алябьев77, у третьего — у Курбатова был дядя, кажется, директор гимназии78. Смирнов всякой раз, являясь на лекцию, спрашивал нас поодиночке о здоровье дядюшек. Студенты не любят этих отличий, и потому мы все трое уговорились, чтобы первый, к которому он подойдет с вопросом о здоровье дядюшки, отвечал за всех: «У всех троих дядюшки здоровы!» — Отучили мы его наконец от этого вопроса! <…> Гаврилов преподавал нам церковно-славянской язык и отчасти литературу этого языка. Старик был добрый, весьма учтивый с нами и несколько смешной. Иногда он почти до слез восхищался славянским языком и всегда желал показать его преимущество над русским. Это преимущество в богатстве грамматических форм неоспоримо: довольно познакомиться с спряжениями славянских глаголов, чтобы удостовериться, как, например, богаты в них формы времен прошедших. Но Гаврилов, не углубляясь в разбор грамматических форм, отдавал преимуще102 ство словам и хотел доказать подобиями. Например, он говорил: «Юная дева трепещет! Какая красота! Скажите это по-русски: «молодая девка дрожит»! Гадко! Скверно!» — Мы тотчас заучивали эти фразы и после повторяли их с хохотом! Таким образом, его некоторые изречения, а более дикие присказки Черепанова между студентами сделали их бессмертными: их затвердили все поколения и передают одно другому. Заставляя нас переводить с славянского языка на русский, он иногда запинался на таком слове, которое в обоих языках одно и то же. В таком случае мучился старик, отыскивая синоним79. Такое слово было, например, «Бог». — «Ну, — скажет Гаврилов, — нечего делать! Напишите: «Господь, Творец, Вседержитель»!80 Однако, несмотря на это, его наставления в славянском языке не прошли совсем бесплодно. Он объяснил нам многие обороты, многие термины, многие особенности конструкции церковного языка; объяснил нам, что собственно принадлежит ему, что вошло из греческого языка при переводе Библии и где от ошибочного перевода превращен смысл подлинника. Вместе с этими объяснениями должно было касаться иногда и иудейских древностей. Все это было очень полезно! Но о сравнении новейших, современных нам славянских языков тогда нечего было и думать. Языки эти были у нас неизвестны; польза знания их не была открыта, а сравнительной грамматики языков вообще у нас не существовало! <…> О профессоре Никифоре Евтропьевиче Черепанове, у которого мы слушали историю, я говорил уже, рассказывая об университетском пансионе. Он был добрый человек, но ума до крайности ограниченного и тупого! Я сказал уже, что история была для него последовательность происшествий — не более, периоды были просто остановками памяти; эпохи — просто крупными происшествиями, без всякого отношения к судьбе народов. В республике, в деспотизме — он видел, кажется, только различие правления, не думая о духе, который производит то или другое. Цари были для него все важны, потому что они цари, а великие люди различались только подвигами, не силою души и не целию, определявшею их направление. Он преподавал, рассказывая как сказку, однообразно, монотонно, скушно, говоря беспрестанно, как и в пансионе: «с позволения вашего, государи мои!» — и употребляя другие поговорочные фразы: «так как», «поелику уже», «равномерно» и тому подобные. Я думаю, право, что Александр Македонский не отличался в его уме от Карла Великого, потому что оба были завоеватели! Для него не существовал ни характер времени, ни характер народов: все это сливалось в бесцветном пространстве, совершалось машинально и двигалось в безбрежном направлении, как в вечности! Тошный он был человек, тошны и бесполезны его лекции! — Он и сам это чувствовал и перед экзаменом трусил больше нас! Говорят, правда ли, нет ли, что однажды он сказал некоторым баричам из студентов: «Что уже мне и делать с вами, государи мои! Все вы люди богатые и знатные; выдете в генералы, приедете ко мне и скажете: «Ты дурак, Черепанов!» Жалкой был человек! Статистику преподавал сам ректор Иван Андреевич Гейм. Память у него была 103 обширная и вместительная, особенно на слова, зато он и известен более изданием словарей, хотя есть его и география, и немецкая грамматика82. Он всякой день с утра надписывал каким-то составом по одному иностранному слову на каждом ногте, даже и правой руки, и, что бы ни делал, беспрестанно поглядывал на свои ногти и таким образом затверживал всякой день десять новых слов, а так как жил он долго, то мудрено ли, что кроме обыкновенного затверживания вокабул он одним этим средством вытвердил их много. Так как память была у него главною его способностию, то и в статистике он видел более науку памяти, чем политическую науку о силах государства. Его требовательность помнить номенклатуру и цифры без отношения к жизни вместе с его брюзгливостью были истинно несносны! Не любили мы его науки, а учились прилежно из страха. Он же был ректор — первое лицо в университете, от которого все зависело! Шлецер, сын знаменитого объяснителя Нестора, преподававший нам политическую экономию, был умом и способностями, кажется, не по отце! Ограниченного ума, застенчивый, робкой, какой-то запуганный, он знал хорошо свою науку, но не умел передавать ее! — По-русски говорил он плохо, так, что вместо слова «гвозди» говорил «гвоздички», а в положениях и истинах своей науки, не слада с доказательствами, иногда на кафедре божился: «Ей-Богу, господа! Поверьте чести моей, что это так!» — Помню я эту высокую, мясистую, неповоротливую фигуру, с поднятыми плечами, в длинном нанковом сертуке горохового цвета и с огромным крестом Анны 2-го класса на шее83. Это был человек нетребовательный и безопасный: была бы прочтена лекция, а знают ли что, ему не было дела. На экзаменах он краснел, как будто совестно спрашивать, а в университетском совете не имел никакого веса! — Он содержал какой-то пансион в собственном доме и жил совершенно уединенно, всегда на запоре. Светского общества убегал и боялся и не знал никаких обычаев. Однажды, это было еще до французов, князь Борис Владимирович Голицын давал большой обед, на которой пригласил лучшее общество Москвы, и мущин, и дам, пригласил и некоторых профес-соров. Шлецер приехал в длинном синем сертуке и с Анной на шее. Хоа ин удивился, но Карамзин говорил ему, что, верно, у него есть какая-нибудь причина для такого костюма, и взялся спросить его. Шлецер очень удивился и сказал Карамзину, что «надел сюртук в знак своего уважения к хозяину; что сюртук он почитает приличнее фрака потому, что и сукна пошло больше, чем на фрак, следовательно, и стоит дороже; а потом и закрывает все тело: стало быть, и пристойнее фрака». — Карамзин сам при мне рассказывал это.— Нынешние славянофилы, ненавидящие фраки84, не подозревают, что Шлецер упредил их в умозаключениях. Физика не составляла для нас необходимого предмета; но я, удовлетворяя моей любознательности и желая сколько-нибудь вникнуть в тайны природы, всегда желал узнать науку, объясняющую видимые явления невидимыми силами. Я вникал с величайшим вниманием и с постоянною прилежностию в лекции Двигубского. Старики говорили, что прежний профессор, Страхов, преподавал физику красноречивее и вообще лучше, чем Двигубской. Но мы того уже не застали в университете, а для нас было очень достаточно чтений и нашего профессора. Метода у него 104 была рациональная, точная и постепенно ведущая от одной части науки к другой, так что предыдущее всегда вело к последующему, а последующее было всегда подробнейшим раскрытием предыдущих законов науки. Не говорю уже о предварительных понятиях о телах и их свойствах, как-то: о непроницаемости, тяжес силе центробежной и центростремительной и проч. Его лекции о электриче стве, магнетизме и гальванизме открывали нам новый мир чудес и приковывали, так сказать, наше внимание. В преподавание его входило, само собою разумеется, и учение о свете, о различных законах преломления лучей и теория зрения. Какое обширное поле знания, которого предмет у всех перед глазами и которое без науки от глаз сокрыто! Как жалел я, что вместе с словесными науками не предался вполне и изучению природы, особенно химии! Но время было уже упущено! — Физические опыты не всегда вполне удавались Двигубскому, думаю, от недостатка машин, особенно же потому, что по недостатку помещений для университета после разгрома войны физической кабинет не был еще приведен в настоящий порядок и устройство; однако и этих опытов было достаточно для наглядного объяснения и доказательства теории. Одним словом, лекции Двигубского приносили нам истинную пользу, а сам он был достойно уважаемый профессор. Остается сказать о лекциях немецкого языка профессора Ульрихса. Это были не лекции, а просто упражнения в этом языке с целию хоть как-нибудь и когонибудь выучить ему. Профессора нечего и винить в этом, потому что в мое время почти никто не знал по-немецки: как же тут было говорить собственно о литературе. Этот класс, опять повторяю, без малейшей вины со стороны Ульрихса, был в жалком и детском состоянии! Он принужден был заставлять нас переводить на немецкой язык «Письма русского путешественника» Карамзина; диктовал порусски, потом сказывал каждое слово по-немецки, оставалось только найти конструкцию, но и этого никто не мог. Во всем его классе только двое, я и Курбатов, знали по-немецки. У нас, бывало, перевод всегда готов, но Ульрихс, после нескольких разов просмотра, перестал, наконец, брать от нас переводы и говорил нам: «Извините меня, гг. Дмитриев и Курбатов, я не могу заниматься с вами, будучи уже уверен в ваших переводах; позвольте мне, сберегая время, заняться с другими, которые более вас этого требуют». Вот и все двенадцать профессоров, у которых я слушал лекции. Из моего рассказа видно, что большая часть из них были люди, истинно знающие свой предмет и достойные полного уважения; другие, впрочем, немногие, были тупы и нисколько нами не уважаемы, но Черепанов и Смирнов были просто машины. Из этого же рассказа, где я вывел не теперешнее, а тогдашнее наше мнение и о лекциях, и о преподавателях, можно, я думаю, вывести такие два справедливые заключения: во-первых, что успехи в какой-либо науке много зависят от самих преподавателей, а во-вторых, что студенты, несмотря на молодость и неопытность в науке, бывают всегда самыми верными и беспристрастными ценителями и знаний, и достоинств профессоров и что их мнением пренебрегать не следует! Много было в это время и других профессоров, достойных уважения и по познаниям, и по личному характеру. Я об них не говорю, потому что у них я не слу105 шал лекций. Но не могу не упомянуть о некоторых: например, о знатоке греческого и латинского языков и их словесности Романе Федоровиче Тимковском85, человеке, отличавшемся кроме глубокого знания своего предмета еще скромностию, важностию и строгими нравами. Я был не довольно силен в латинском языке, чтобы пользоваться его лекциями [о чем и доныне сожалею]86, но Курбатов слушал его лекции и всегда говорил о нем и о его преподавании с уважением и даже с удивлением к его знанию. В медицинском отделении был знаменитый Мудров87, которого я узнал после и о котором буду говорить впоследствии, другой — в том же отделении, Вильгельм Михайлович Рихтер88. Химия и чистая математика имели вообще отличных профессоров89. <…> Здесь кстати сказать, что петербургские литераторы не отличались тогда ни знанием языка, ни талантами. Они упорствовали против нового карамзинского языка и держались старины и языка церковного, которого тоже не знали порядочно. Такова была и Академия, такова была и Беседа: невежество и бездарность, соединенные с упорством, которое назвали бы ныне застоем, но тогда этого слова еще не было. Напротив, Московской университет и московские писатели с Карамзиным и Дмитриевым во главе были представителями прогресса, хотя и этого слова еще не существовало! — Само собою разумеется, что это были два противные и враждебные лагеря: петербургцы ненавидели московцев, а московцы платили им за это насмешками и презрением. Сила была на стороне московских писателей, к которым, по своему направлению, по по таланту и образованности причислял себя и Батюшков, хотя никогда не жил в Москве138. Он был наружностию — невысок ростом, тонок, как-то ссутулен и до крайности осторожен и в обращении, и в разговорах. Сколько я могу судить по преданию, он, напоминал собою Богдановича139. Наконец должен я сказать о самом добрейшем, хотя не самом даровитом нашем стихотворце, о Василии Львовиче Пушкине. Прежде опишу его наружность: он был среднего роста, довольно полон, с небольшим орлиным носом и, пока не развеселится, очень важной наружности. Портрет, изданный при его стихотворениях, очень похож140. Дядя говорил, что он похож на италианского импровизатора. <…> ГЛАВА 7 Университетские знакомства и поездки на свою сторону1 Теперь следует сказать о моих университетских знакомствах между студентами и другими молодыми людьми. При самом вступлении в университет, по непривычке к людям вообще, по какой-то врожденной застенчивости, я чуждался товарищей, не скоро составил знакомства и первые два года посещения лекций провел уединенно в толпе сверстников и скушно дома. Единственным посетителем моим был Гердер2, у которого я продолжал учиться по-немецки и уже упивался красотами немецкой поэзии: Шиллера, Виланда, Тидге, Фосса, Маттисона и даже «Мессиады» Клопштока3. Но до Гете4, как слишком трудного по своей национальности, мы не касались: с ним познакомился я после. В начале 1816 года пре106 секлась для меня эта отшельническая жизнь: я сблизился со многими студентами и с двоими даже подружился: с Курбатовым5 и Новиковым6. Не помню, как я сошелся с Александром Дмитриевичем Курбатовым, но помню, что вскоре мы сделались неразлучными друзьями. Отличительная черта его характера в это время была неистощимая и неисчерпаемая веселость, добродушие, живость и острота ума. Где был Курбатов, там не могло быть скушно. Он имел необыкновенную память: изучение языков ему ничего не стоило, и потому он, мало-помалу учась им всю жизнь, выучился, где с помощию учителей, а где и сам собою, многим языкам древним и новым. Он тогда уже знал языки: латинской, французской, италианской, немецкой и английской, впоследствии прибавил к ним: еврейской, эллинской, новогреческой, польской и какой-то азиатской, кажется, грузинской7. Но об лекциях мало заботился и слушал их пополам с шуткой, только для получения аттестата. Когда, бывало, станешь в этом упрекать его, он всегда говорил: «Я и в аттестате большой нужды не вижу; а хотелось бы получить его только для своего спокойствия, чтобы крепче спать. Я уверен, что когда положу его под подушку, то крепче усну». — Он много шалил на лекциях, особенно у Смирнова; но у хороших профессоров слушал, по крайней мере, по наружности, внимательно, и его вообще любили и профессоры, и товарищи. С Петром Александровичем Новиковым познакомился я вот как. В Обществе любителей российской словесности8 по предложению Каченовского забрали меня 26 февраля 1816 года в сотрудники. В то же время был при Новиков. Мы не знали друг друга, но встретились в дверях в университете — и в то же время встретился с нами студент Титов9, который сказал: ну, оба вы сотрудники, так познакомьтесь!» — Мы улыбнулись, подали друг ругу руку, познакомились и с тех пор сделались очень дружны. Вот как легко в молодости делаются связи. Новиков был совершенная противоположность Курбатову: смирен, тих; благонравен, как требуется в нравоучитель-: книжках; так же наклонен к чувствительности10, как тот к смеху; горд и не очень сближался. Товарищи его не любили. Третье знакомство было с Михаилою Аполлоновичем Волковым". Ему : уроки немецкого языка тоже Гердер, как и мне. Часто говорил он мне • нем как об ученом молодом человеке. Когда я спрашивал об его учености: «In welchem Fache?»*, — Гердер отвечал мне: «In ihrem Fache!»** — ----------------------------------------*«В каком роде?» (нем.). **«В вашем роде!» (нем.). Я недоумевал, потому что в себе не подозревал учености ни в каком роде. Но любопытно мне было узнать этого молодого человека. Гердер сказал, что и желает познакомиться со мною и что он держит в университете асессорской экзамен. <…> Четвертое знакомство было с студентом же Дмитрием Николаевичем Вербеевым13. Этот был всегда благоразумен; хотя и весел, но воздержан в речах; совсем 107 не горд, но чрезвычайно осторожен и разборчив в знакомствах, он скоро дружился, но его приязнь была прочна и надежна. Он особенно прожил дельными лекциями Сандунова и Цветаева, но с пользой слушал и Мерзлякова, и Каченовского. К чести его надобно сказать, что другие приели наши не раз менялись во многом, и к лучшему, и к худшему, а ему было меняться нечего, и до старости он остался тем же основательным и порядочным человеком14. Еще надобно упомянуть о внучатом моем брате15, Михаиле Никитиче Философове16, который с начала моей университетской жизни был еще в пансионе, но потом ходил на лекции и был тоже нашим товарищем. От его общества мы не отказывались; но как-то он не вполне принадлежал к тесному нашему кругу. Он был умен и весельчак; но такая сорвиголова, что мы отчасти пренебрегали им и стыдились тесной с ним дружбы. Он был родной племянник Карамзина; ценил его чрезвычайно как писателя, но часто забывал его как дядю. Сколько раз случалось, что Карамзин поручал мне его отыскивать и приводить к нему, только затем, чтобы хорошенько побранить его. Но ничто не помогало! <…> С Новиковым я сначала был дружнее, чем с другими: меня привлекала его чувствительность, которую я принимал за нежность сердца; меня приближала к нему общая у обоих наклонность к литературе, которую я почитал и у него за истинное его призвание; наконец, меня обманывала его важность, которую я принимал за признак ума! Немножко только не сходился я с ним в его чувствительности, потому что в нем ограничивалась она вздохами к луне17, чтением Руссо и вместе Сенанкура18, а у меня была идеалом любви и дружбы; литературу я любил как наслаждение души, а он как средство показать себя в числе ее любителей; ум я признавал в собственном упреждении мысли, а он с важностию принимал только то, что сказали знаменитости. Поздно узнал я, что мы с ним в сущности люди совсем розные. Но у Курбатова было что на уме, то и на языке, то есть острота, шутки и откровенность: он был славный малый и славный товарищ; его все любили, а я с каждым днем более и более. Где он, там не могло быть скушно; он забавно рассуждал и умно дурачился! Так как я тоже был очень веселого нрава, то в промежутках лекций или по окончании их вокруг нас с ним всегда собирался кружок умнейших студентов. В числе их помню Павла Петровича Шеншина"; Яковлева, который после написал несколько духовных книг20; Федора Ивановича Гильфердинга21 и черноглазого умного италианца — Чеколини, которого с тех пор я совсем потерял из виду22. Мы с Курбатовым составляли какую-то somitee**, какую-то силу, дававшую тон окружающим ----------------------------------------------------**Точнее: la sommite — общество умнейших; самые выдающиеся люди (фр.). нас, в роде клиентов! За этим ближайшим кругом помещались иногда и другие, не вступавшие в наш разговор, а слушавшие. Что они думали о нас, не знаю; но полагаю, что иные, поумнее, ловили остроты Курбатова, а другие, не понимавшие его шуток и нашего смеха, вероятно, видели в нас пустых людей, занимавшихся 108 только этим, и после на экзаменах дивились нашим ответам: когда-де они успевают учиться! <…> Мы трое, Новиков, Курбатов и я, видались почти ежедневно и кроме лекций, особливо мы с Курбатовым. Новикову надо было всякой раз проситься у отца, который был человек добрый, но холодный, угрюмый, неподвижный; и надобно было всякой раз закладывать дрожки: он пешком не ходил. А мы оба, не зависящие ни от кого и оба безлошадные, ходили пешком и на лекции, и к друг другу. Новикову всегда нужно было быть под чьей-нибудь командой: сперва под командой отца, а потом, когда женился, под командой жены: он не умел быть самим собою, но мастер был отыскивать милостивцев, которые его выдвигали на вид: так, в литературе он пользовался поправками Мерзлякова; а потом по службе выводил его в люди, с помощию жены, князь Сергей Михайлович Голицын. <…> С каким удовольствием вспоминаю я и ныне наши вечерние беседы с Курбатовым за Шиллером и Вилландовым «Обероном»25 и наши летние прогулки, в которых Новиков никогда не участвовал, и по неумению ходить, и потому, что не смел не воротиться домой к отцу, да и потому, что при его важности это ему казалось слишком ничтожно! — А мы, бывало, после вечерних лекций, которые кончались в шесть часов, отправлялись пешком, не спрашивая, далеко ли, близко ли, только бы походить по воле, посмотреть на зелень, на деревья, на воду и дать полный простор своей силе и молодости. Так иногда хаживали мы в сад Корсакова, в котором еще не было публичного гулянья26; на Пресненские пруды27 и просто за город. Однажды, я помню, мы вздумали сходить пешком к Симонову монастырю и на Лизин пруд28. Это верст семь; мы устали до чрезвычайности. Когда по набережной дошли до Кремля, где еще не было саду ни кругом, ни к Москве-реке29, а гора заросла вся кустами, мы, чтобы сократить путь, решились пройти через проломные ворота30 и вскарабкаться по кустам на гору. В то время отстраивались соборы31; мы присели на каменных плитах отдохнуть и в десять часов вечера дошли до моего жилища. Потом пошли к дяде. Никогда не забуду этого вечера! Мы нашли у него Жуковского, Воейкова и других, которые удивились, что мы сходили пешком в Симонов, и долго смеялись нашей юношеской прогулке! Но за то мы много наслушались в этот вечер о литературе и кончили наш отдых самым приятным образом! В это время (не помню, именно в котором году) учредилось в Петербурге Арзамасское ученое общество32. Цель его была осмеивать, в речах и пародиях, державинскую «Беседу» и Академию. Между прочим, положено было в каждом заседании похоронить одного из их членов, то есть сказать ему надгробное слово. Члены имели свои имена, взятые по большей части из баллад Жуковского. Некоторые из них я помню: Жуковской назывался — Светлана; Тургенев — Эолова арфа; Уваров33 — Старушка; Блудов34 — Кассандра; Жихарев — Громобой; Вигель35 — Ивиков журавль; Северин36— Резвый кот; ВЛ. Пушкин — Староста37. Других не помню38. Название Арзамасского дано этому обществу вот почему. Один академик, или воспитанник Академии художеств, по фамилии Ступин 39, завел в Арзамасе школу живописи. Молодым людям показалось очень забавным, 109 что в Арзамасе открыта как будто Академия; и поэтому они дали своему забавному обществу имя Арзамасского. В нем всякому заседанию составлялся протокол, и как эти протоколы, так и их забавные сочинения до меня доходили. В этом обществе были не одни те, которые сами смеялись, но случались и такие, над которыми забавлялось общество. К числу их принадлежал добродушный Василий Львович Пушкин. Вот как его принимали в члены, уверив, что этот ритуал употребляется со всеми принимаемыми. Кабинет Уварова, где собиралось общество, отделялся от другой комнаты аркой. Ее задернули занавесом оранжевого огненного цвета, за которым место собрания было освещено, а входная комната оставалась темною, кроме этой огненной преграды. Пушкина ввели сначала в другую комнату, самую переднюю, где водитель объявил ему, что начинаются испытания и что прежде всего, в знак отречения от «Беседы» и для истинного понятия действия «Расхищенных шуб», поэмы Шаховского, надлежит испытать и вытерпеть ему шубное прение. После этого положили его на диван и навалили на него шубы всех членов. Это испытание должно было продолжиться, то есть он должен был преть, пока выслушает какуюто французскую трагедию, которую и заставили перед ним читать самого автора, какого-то полушута, француза40. — За сим ввели его во вторую темную комнату, где перед завесой стояла вешалка, окутанная простыней и с шляпой наверху. Пушкину сказали, что это эмблема дурного вкуса, в образе Шишкова, которого он должен поразить стрелою. Ему подали стрелу и лук. Пушкин натянул тетиву, прицелился и выстрелил, в то время мальчик, сидевший за простыней, выстрелил и в него из пистолета. Чучела повалилась; упал от страха и Пушкин! Его подняли и объяснили, что испытания кончились. Завесу отдернули, и он увидел ярко освещенную комнату и всех членов; их превосходительства, гении «Арзамаса» (такой был их титул) важно сидели вокруг стола. Пушкина поставили на пороге и дали ему в руки мерзлого гуся, эмблему «Арзамаса», которого он должен был держать в руках, пока один из членов говорил ему длинную приветственную речь. После речи взяли у него гуся и поднесли ему лоханку и рукомойник умыться после прения и мерзлого гуся — липецкими водами, в память комедии Шаховского «Липецкие воды». — За сим посадили его как члена на приготовленное ему место. Так забавлялись тогда молодые люди и не первой уже молодости, и главное — люди умнейшие и даровитейшие из литераторов. Шутка не мешала Делу. Многие из них занимали уже тогда важные должности по службе; таковы были: Тургенев, Уваров, Блудов и Жихарев41. Другие были представители таланта и вкуса; и все — первые люди по просвещению. Когда подумаешь о важности нынешних бездарных копунов, славянофилов, собирателей мужицких песен и сказок, кропателей и исследователей всякой старой дряни42, тогда почувствуешь всю свежесть умственной атмосферы, которою так легко было дышать в то время, и всю пустошь и духоту, окружающие настоящие поколения! — Им не душно и не тошно, потому что они не жили и не Дышали прежним живым и питательным воздухом! Надобно и то сказать, что после 1815 года вся Россия ожила новою жизнию! Всем было легко и свободно, и все веселилось. Говорят газетчики, что ныне-то и 110 настала для нас новая жизнь; но что-то жить тяжело и тошно, и не видно ни особенного ума, ни особенного веселья! Вздумали и мы, московские студенты, завести подражание Арзамасскому обществу и учредили «Общество громкого смеха»43. Собирались у меня, в доме дяди. Меня выбрали в председатели; Курбатова — в секретари. Членами были: Новиков, Волков, Философов, бывший пансионер Попов44, сын саратовского губернатора Дмитрий Панчулидзев45, С.Е. Раич46 и другие, которых не помню. Всякое заседание начиналось забавною речью, потом читали шутливые, часто остроумные стихи и пародии: самые забавные и самые остроумные из них принадлежали Курбатову; таковы были «Смотр профессоров»; «Распря профессоров» (пародия Гнедичева отрывка из «Илиады», «Распря вождей»47), кантата «Рождение графа Хвостова» и многие другие. Все эти сочинения Философов переписывал в одну тетрадь, в которой одно из первых мест, по забавному остроумию, занимала его поэма в трех песнях, под названием «Гаврилиада», написанная на профессора Гаврилова. Эта поэма получила такую славу, что в пансионе переписали ее великолепно с виньетками пансионера Бруевича48. Наше общество получило в университете известность: профессоры Мерзляков и Давыдов49 брали нашу тетрадь для прочтения; мы дали, несмотря на то, что тут было и о Мерзлякове. Они посмеялись и рукопись нам возвратили! Что было бы с этим, если бы это безвредное общество и эта тетрадь стихов и прозы существовали в царствование незабвенного Николая Павловича? — Мы были бы все в солдатах! Так мы, слушая лекции, в то же время по-своему пользовались свободой и силой юношеской жизни, не отступая, впрочем, ни малейше от нравственной чистоты поведения: мы не употребляли во зло нашей свободы; мы были чисты, как младенцы. Ручаюсь не только за себя, но за Новикова, Волкова и Свербеева. <…> Это наводит меня вот на какую мысль: нет лучших воспитателей для юношества, как те же юноши. Если кому выпадет на долю счастие попасть в круг добрых и нравственных товарищей, они непременно переделают пылкую или шаткую натуру, если в ней есть хоть сколько-нибудь благородного и наклонного к добру, если это не совсем дерево и камень. Во-первых, между молодыми товарищами нет ничего тайного и скрытного! Где официальному наставнику усмотреть так, как они усмотрят друг за другом! А во-вторых, и советы, и журьба товарищей, не имея в себе характера обязательного, принимаются охотнее. В этом смысле та свобода, которая предоставлялась студентам в наше время, производила самое благодетельное действие. Но надобно и то сказать, что время на время не приходит. Ныне свобода имеет совсем другое направление и присвоила себе другие и более широкие размеры. Она простирается не на одну частную домашнюю волю, а на свободу политическую. Мы не имели этих притязаний и потому умели пользоваться своею свободою в законных ее пределах. Ныне, конечно, мудренее справиться! А кто виноват в этом? Виновато подозрительное и стеснительное время Николая Павловича. При нем давали политическую важность всякой детской шалости; этим приучили молодых людей думать, что их шалости могут и в самом 111 деле иметь важную цель, и приучили их думать о себе, что они и сами люди важные! Одним словом: внушили тот дух, которого боялись, когда его еще и не было! В 1816 году мне минул срок трехгодичного курса, который требовался тогда для аттестата; но мне хотелось еще поучиться, кроме того, жаль было бросить и товарищей, которым приходилось слушать лекции еще два года; и потому я решился остаться в университете еще на год. Наконец в 1817 году, 12 июня, я получил аттестат и вышел из университета. Товарищи завидовали мне, что я наконец на воле; а я хотя рад был чрезвычайно, но жаль было университетской жизни. Печатается по: М. Дмситриев. Главы из воспоминаний моей жизни. М.: Новое литературное обозрение, 1998. ГЛАВА 3. Университетский благородный пансион; Глава 5 .Поездка в Петербург и возвращение в Москву; ГЛАВА 6. Университет и знакомство с некоторыми писателями; ГЛАВА 7. Университетские знакомства и поездки на свою сторону (в сокращении) ДМИТРИЕВ Михаил Александрович (1796-1866) , русский писатель, критик. C 1811 по 1812 г. Дмитриев учился в Благородном пансионе, в 1813 по 1817 – в Московском университета. Курс учения его состоял из предметов, входящих в программу двух факультетов: словесного и этико-политического (юридического), посещал он также лекции по физике. В университетском благородном пансионе много часов отводилось словесности, продолжало действовать «Собрание питомцев благородного пансиона», основателем и первым председателем которого был В.А. Жуковский. Дмитриев регулярнро печатается в московском (реже – петербургской) периодике, в 1816 г. становится членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В журнале «Московский вестник» печатает ряд статей. посвященных религиозно-философским вопросам. Участник литературных дискуссий в 1820 гг. с Грибоедовым, Полевым,;острая полемика с П. Вяземским о романтизма по поводу пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1824). Журнальные бои вел в 1820—40 годы с «плебейским», по его мнению, направлением Н.А. Полевого и В.Г. Белинского. В поэзии (сборник "Московские элегии", 1858; стихотворные пародии и памфлеты) - сатира на современные нравы и литературу, ностальгия по прошлому. Мемуарная книга "Мелочи из запаса моей памяти" (1853-54). В литературно-критических статьях 1820-х гг. - полемика с П. А. Вяземским, А. С. Грибоедовым, Н. А. Полевым и др. Переводы. Стихотворец, при жизни вошедший в литературный пантеон, сумел сойти с поприща словесности удивительно вовремя. Востребованным оказалось и юридическое образование Дмитриева: в 1828 г. он занимает должность советника в 1 департаменте Московской уголовной палаты, позже – заведующий делами общих собраний московских департаментов Сената. Пансионское обазование носило энциклопедический характер, однако следствием многопредметности была некоторая поверхностьность знаний, на которую жаловались даже лучшие выпускники пансиона. 2.«Беседа любителей русского слова» возникла как дружеский литературный кружок, члены которого поочередно собирались в домех Г.Р. Державина, А.С. Шишкова, А.С. Хвостова. Отзывы Дмитриева о Российской академии и «Беседе» несколько предвзяты. 112 Николай Иванович Астров Страничка из истории Московского университета Н.И. Астров В своих донесениях о состоянии Москвы после нашествия французов в 1812 году граф Ростопчин писал в Петербург, что все здания Московского университета, Московское Благородное собрание, Английский клуб — сгорели. В протоколах временной комиссии, образованной попечителем П. И. Голенищевым-Кутузовым для управления текущими делами университета и его учебного округа — «на время, пока университет соберется в одно место, а все его части примут свое действие» — (в состав Комиссии входили: ректор университета Гейм и профессора Рихтер, Снегирев, Мерзляков и Каченовский), — имеются указания, что все университетские здания, за исключением двух домов, называвшихся в свое время больничным и Пушкинским, были разрушены пожаром. От пожара погибли университетская библиотека и большая часть ученых и учебных пособий. Сгорел университетский архив, и сведения о студентах устанавливались профессорами по памяти. Для восстановления университетской библиотеки объявлен был прием пожертвований книгами. Большинство профессоров университета лишилось своих библиотек и растеряло свои ученые труды в рукописях. Такое разрушение уни113 верситетского имущества произошло, между прочим, вследствие того, что лишь часть «университетских вещей» была вывезена в Нижний Новгород. В таком плачевном состоянии оказался Московский университет после «нашествия Наполеона». «Московские Ведомости» в своем первом номере от 23 ноября 1812 г., вышедшем после трехмесячного перерыва, писали: «Наконец, благодарение Богу, мы вновь начинаем дышать свободою. Враг человечества, упившись кровью неповинных, с адскою в сердце злобою оставил древнюю нашу столицу, и каждый из нас, за попечительным о благе нашем правительством, занимается теперь беспрепятственно отправлением дел своих». Нужно было решить вопрос, — где и как восстановить Московский университет, разрушенный пожаром, разоренный имущественно, с разбредшимися по России профессорами и студентами. Как известно, первоначально Московский университет помещался в старом здании на Красной площади, на том самом месте, где впоследствии, в начале 80-х годов, был построен Исторический музей. В 1785 г. Екатерина II пожаловала Московскому университету дом генерал-поручика князя Барятинского на Моховой. «Сие распространение жилищ Муз, — писали 11 октября 1785 г. «Московские Ведомости» (№ 82), — будет служить новым средством к распространению наук и просвещению, равномерно сия милость Ее Императорского Величества воспламенит в юных сердцах университетских питомцев вящее прилежание к наукам и вечную благодарность к источнику своего просвещения и своего счастья. Университет же, принимая с благоговением и искреннею благодарностью сие монаршее о себе попечение, поставляет себе за долг неусыпно стараться споспешествовать благим видам и великим намерениям своей милосердной Покровительницы». В следующем году в тех же «Ведомостях» (№ 68) давалось описание торжественной закладки большого университетского корпуса, совершенной 23 августа. Из этого описания видно, что, когда в университетский дом прибыл его превосходительство господин действительный статский советник и куратор Михаил Матвеевич Херасков, то, во-первых, отправлено было благодарственное молебствие, потом на месте закладки совершено водоосвящение, по окончании которого, при окроплении святой водой всего начинающегося здания, «положен первый камень самим его превосходительством, присутствовавшим тут же господином куратором, со вложением в него медной доски, изображающей высочайшие щедроты Ее Императорского Величества, всемилостивейше оказанные университету в сооружении Московским Музам столь огромного здания, и несколько монет, битых в благополучное царствование Великой Екатерины». После этого «его превосходительство господин действительный статский советник и директор университета Павел Иванович Фонвизин положил несколько камней, с присутствовавшими тут членами университета, господами профессорами оного, при радостном восклицании "ура" от каменщиков, чем сие действие и кончилось». На медной доске, положенной при закладке в нарочито изготовленный круглый камень, между прочим было обозначено, что «строение производилось под 114 смотрением д. с. с. и оного же университета директора П. И. Фонвизина, архитектором надв. сов. Матвеем Козаковым». Это здание было освящено в 1791 году, и с этого времени в него переведен университет. К пожертвованному Екатериной владению было прикуплено университетом владение надворного советника И. П. Иевлева близ церкви св. Георгия Победоносца на Красной горке, а в 1786 г. было куплено угловое владение по Моховой и Никитской. Это владение в отдаленные времена принадлежало боярину и начальнику Сибирского приказа князю Ив. Бор. Репнину, умершему в 1697 г., затем сыну его фельдмаршалу, Военной коллегии президенту и Лифляндскому генералгубернатору князю Н.И. Репнину. В зданиях этого владения были размещены университетская библиотека и квартиры служащих. А. Мартынов в своей «Московской старине» передает предание, что, когда императрица Екатерина II приказала архитектору Козакову составить план для постройки университета, то Прокопий Акинфиевич Демидов изъявил желание построить его своим иждивением на Воробьевых горах и назначил для этого полтора миллиона рублей. Однако соизволения на это почему-то не последовало. В 1790 г. директор университета Фонвизин просил митрополита Платона3 «прикосновенную к университету церковь св. Дионисия Ареопагита сломать с предоставлением университету навсегда полной власти на владение всем принадлежащим к ней местом в пользу и надобность его». Эта церковь находилась на углу Никитской ул. и не существующего теперь Леонтьевского переулка, названного по имени другой церкви, находившейся тут же, а именно церкви св. Леонтия, чудотворца Ростовского. Эта последняя была построена в 1519 г., а церковь Дионисия Ареопагита — в 1514 г. Алевизом Фрязиным. Консистория определила Дионисиевскую церковь дозволить разобрать и землю отдать под строения университета. Та же участь постигла и церковь св. Леонтия Ростовского «на Вражке» близ университета. В 1791 г. благочинный донес митрополиту Платону, что «эта церковь до крайности обветшала, так что в приделе Чудотворца Николая и службы отправлять нет уже возможности, поскольку кровля обвалилась и сквозь свод проходит течь, печь упала, над дверью расселина, и входить в нее небезопасно, а западная стена расселась; в настоящей церкви подобным образом крыша совершенно сгнила, и как в алтаре, так и в церкви бывает течь; иконостас облинял, церковное местоположение стало низко, что во время весеннее и дождливое церковь с улицы наполняется водою не менее аршина глубиною; священник служит редко, приход один только двор, а вкладчиков никаких нет». Эта церковь по определению митрополита Платона была упразднена. А в следующем году тот же Фонвизин писал митрополиту, что названная церковь «вошла во внутренность самого университетского дома и застроена с великим утеснением, деревянным, в совершенную уже ветхость дошедшим строением, так что угрожает публичному месту опасностью и сверх того делает ему безобразие». В 1793 г. обеих церквей уже не существовало, а участки земли, когда-то ими занятые, были поглощены усадьбой Московского университета. 115 Так округлилось к концу XVIII века владение Московского университета. После пожара 1812 г., только в ноябре 1816 г. разрешен был окончательно вопрос о возобновлении главных зданий университета. Было три предложения: или восстановить прежние погоревшие университетские здания, или поместить университет в так называемом Запасном дворце, принадлежавшем Кремлевской экспедиции, или купить для университета дом генерала Апраскина на Знаменке (где помещалось впоследствии Александровское военное училище). Совет университета, большинством всех голосов против одного голоса профессора Сандунова, полагавшего желательным обстоятельно обследовать как Запасной дворец, так и дом генерала Апраскина, высказался за восстановление погоревших зданий. Таково же было мнение и Московского военного генерал-губернатора графа Тормасова. 14 февраля 1817 г. состоялось высочайшее повеление о возобновлении прежних зданий университета, а для губернской гимназии был назначен так называемый Лопухинский дом. При этом указано, что Комиссия для строений в Москве может «в сем случае вспомоществовать материалами за дешевевшую цену, нежели как приобрести можно оные покупкой у частных людей, и в нужном случае рабочими людьми». Возобновление зданий, принадлежавших университету, началось с главного типографского корпуса по Страстному бульвару. Главный же каменный корпус так называемого «Старого здания» университета отстроен был вновь в 1818 году, покоем с двумя крыльями в четыре этажа. Усадьба университета выходила на улицы Моховую и Никитскую и в Долгоруковский переулок. В здании университета считалось тогда 86 комнат, 27 сеней при шести лестницах, проведенных во все этажи, и восемь кладовых. Уцелевший от пожара Пушкинский корпус имел 31 комнату, больничный корпус — 43 комнаты. В 1819 г. был отстроен аптечный каменный корпус, Мосоловский или медицинский институт имел 31 комнату и анатомический театр — 22 комнаты. В 1832 году университетом приобретено обширное здание на углу Моховой и Б. Никитской, где сооружено так называемое «Новое здание» университета. Это в старину владение князя Григория Сунгулеевича Черкасского, умершего в 1693 г. Владение это переходило к адмиралу Ф. М. Апраскину, к генералу фельдмаршалу князю В. В. Долгорукову. После ссылки его в Нарву дом отошел в казну и в 1737 г. отдан во владение Медицинской канцелярии для содержания в нем Главной аптеки. Корпус во двор был занят аптекой с материальными и конторными палатами. Во флигеле, где впоследствии была университетская церковь, была квартира аптекаря Липольда, в другом, направо от ворот, жили аптекарские гезели4 и ученики; позади устроен был аптекарский огород. В 1738 г. к этому огороду были присоединены дворы: церкви Урвана-мученика, что при дворце, попа Прокопия Михайлова и Бутырского полка капитана князя Ф. И. Голицына. В 1793 г. все это владение перешло к жене коллежского асессора Д. И. Пашковой, а в 1826 г. к действительному тайному советнику В. А. Пашкову, от которого и перешло к университету. После перестройки эти здания были открыты 17 августа 1836 г. Сохранившиеся воспоминания бывших студентов Московского университета 116 восстанавливают своеобразные черты давно минувшего быта этого университета, его профессоров и студентов начала прошлого века. В воспоминаниях И. М. Снегирева («Русский Архив», 1866) один за другим намечаются силуэты старых профессоров Московского университета начала XIX столетия. Снегирев поступил в университет в 1807 году. «С детским восхищением, — говорит он, — надел я студенческий мундир, треуголку и привесил шпагу, которую клал с собой на постель. Мое торжество разделяли со мной матушка и бабушка. Мне казалось, что не только родные и соседи, но и встречные и поперечные заглядывались на мою шпагу, а что более льстило моему ребяческому тщеславию, — будочники и солдаты отдавали мне честь...» Рассказывая о первом ректоре университета Харитоне Андреевиче Чеботареве, начавшем свою службу еще при Екатерине II, Снегирев отзывается о нем как о почтенном, сановитом старце, ученейшем профессоре, друге Новикова, товарище Потемкина, бывшем в тисках у Шешковского5. Знаменитый Шлецер6 называл Чеботарева «своим руководителем в русской истории». Он был профессором русской словесности и истории, был участником трудов Вольного Российского собрания при университете; масон, первый председатель Общества Истории и Древностей Российских. К изумлению своему, автор воспоминаний встретил однажды ректора университета в классе в одном нижнем платье и в коротком плаще без воротника, с Анненским орденом на шее, с плюмажной шляпой на голове и с тростью в руке. Он не носил ни пуклей, ни косы, не пудрился, голова у него была гладко острижена; в поставке и в походке его выражалась самоуверенность. Всем он говорил «ты», почти всех называл по имени, а не по отчеству. Обхождение его могло бы показаться грубым, если бы оно не было выражением благодушия. Новое поколение едва поверит, говорит Снегирев, что никто, при виде Харитона Андреевича, не смел улыбнуться, а тем паче засмеяться и зашикать. Так его уважали! Место ректора Чеботарева заступил Страхов, профессор физики. Это был «статный без принуждения, величественный без напыщенности, красивый без притязаний и вежливый без манерности — истинно почтенный и благородный муж». Самый вид его внушал невольное к нему уважение. Его уважали и любили. На его публичные лекции cобирались из всех почти сословий в Москве. После лекций из аудитории до квартиры его провожали толпы слушателей, которые дорогой получали его объяснения на свои вопросы и недоумения. Такие переходы представляли нечто торжественное. Как просвещенный любитель изящных искусств, Страхов завел в университете превосходный хор певчих из его питомцев. В воскресные дни двор его был полон карет и колясок, а церковь тесна для многочисленных посетителей. Стройное, изящное и одушевленное пение при-водило в благоговейный восторг. В вакационное время, в классах устроен был, при содействии Страхова, театр, на коем играны были питомцами комедии и оперы. Здесь проявились блестящие таланты, которыми любовались специалисты в этом — оба брата Сандуновы7. Восхищалась своя и посторонняя публика, так что не доставало места для желающих. Страхов пользовался большой популярностью среди все117 го населения Москвы. Далее идут профессора Московского университета. Профессор философии, декан этико-политического отделения А. М. Брянцев, маленького роста, неуклюжий, с длинной косой, в старомодном кафтане с большими пуговицами. По праздникам его всегда можно было видеть в Успенском соборе у левого столба. Он был не по имени, а по делам философ христианский, считавший, что «поверхностное знание философии ведет к безбожию, а основательное — утверждает в спасительной вере». Профессор математики Панкевич — образец честности и прямодушия. П. А. Сохацкий, преподававший эстетику и римских классиков, с обильной ученостью соединял он тонкий вкус и развитое чувство изящного, а также редкий дар слова, которым увлекал слушателей. Филолог и знаток эллинского и латинского языков Маттен. Его лекции посещались охотно. Однажды, изображая Юпитера Олимпийца, который мановением своих бровей потрясал небо и землю, Маттен свалился со стула, и парик его не удержался на голове. М. Т. Каченовский — полковой аудитор, потом правитель канцелярии попечителя Московского университета графа Разумовского, произведенный без экзамена, распоряжением попечителя, сперва магистром, потом доктором словесных наук, «по возложенной от университетского начальства обязанности» читал сначала в университете риторику, потом перешел к русской истории, потом к археологии и теории изящных искусств. По словам автора воспоминаний, он был одарен восприимчивым умом и счастливой памятью, был деятелен и необыкновенно трудолюбив и во многих предметах учености был самоучкой. Его замечания, дельные и находчивые, обнаруживали его ученость, или, лучше сказать, начитанность и остроумие. Особенно интересны страницы, посвященные воспоминаниям о «законоискуснике» Захаре Аникеевиче Горюшкине. По словам Снегирева, это был муж опытный, любознательный, честный, твердого характера. Службу свою он начал почти ребенком в воеводской канцелярии, в самом начале царствования Екатерины II, когда секретари и повытчики за маловажные проступки таскали за волосы подьячих, а судьи самих секретарей. Проходя все степени канцелярской службы, он был подьячим в страшном Сыскном приказе, на Житном дворе у Калужских ворот, где при допросах пытали и того, кто закричал роковое «слово и дело», и того, против которого это слово было произнесено. Кровавые сцены в Сыскном приказе и сообщество с палачами и подобными им судьями и подьячими ему омерзели. Добыв себе русскую грамматику, арифметику и логику, он принялся сам учиться без учителя. Вместо чтения пыточных речей он стал твердить части речи в грамматике. При помощи малограмотной жены выучил склонения. С неимоверным трудом выучил арифметику и логику, с усиленным вниманием изучил исторические, богословские, философские и юридические книги; искал знакомства с учеными. С этой целью он сблизился с профессорами Аничковым и Десницким. Приложение приобретенных знаний ему доставило место члена в уголовной и казенной палатах. Спор его с главнокомандующим князем Прозоровским по делу Новикова в уголовной палате обнаружил в Горюшкине гражданское мужество; один опирался на личное мнение императрицы, а другой — на силу за118 кона и не убоялся гнева и угроз сильного вельможи, желавшего угодить государыне обвинением Новикова. Познания и опытность в отечественном законоведении сделали Горюшкина известным директору Московского университета П. И. Фонвизину; он пригласил его преподавать в университете и потом в бывшем при университете Благородном пансионе практическое законоведение. Своим лекциям он давал драматическую форму; класс его представлял присутствие, где производился суд по законному порядку. Из студентов и учеников избирались наставником председатели, судьи, секретари и т. д. Впоследствии из них выходили сенаторы и министры. Изданное им сочинение — «Описание судебных действий» — замечательно не только в юридическом, но и в археологическом отношении, как значительный материал юридических древностей. «Руководство к познанию Российского законоискусства» Горюшкина есть созданная им самим система, в которой сильная, но бесформенная народность борется с классическими понятиями древних и новейших юриспрудентов. Он едва ли не первый у нас показал источник юриспруденции в нравах, обычаях и пословицах русского народа. Как опытный законоискусник он был оракулом для многих. К нему прибегали за советами в затруднительных случаях и запутанных делах вельможи, сенаторы и профессора. У него была домашняя школа законоведения; образовавшиеся у него молодые люди выходили хорошими стряпчими. Как любитель изящных искусств он в гостеприимном своем доме завел маленький театр и музыку. По приемам и костюму Захар Аникеевич не походил на прежнего подьячего, но скорее на щеголеватого барина... Студенческие воспоминания инспектора Рязанской гимназии и потом инспектора Одесского учебного округа Ф. Л. Ляликова («Р. А.», 1875 г.) относятся к несколько более позднему времени. Ляликов поступил в Московский университет в 1818 году. Тогда университет временно помещался в доме Яковлева, потом купца Монахова, в Долгоруковском переулке. По приезде в Москву его отец, в парадном красном екатерининском мундире, повел его в университет. Прошение о поступлении в университет, по просьбе отца, было написано Кондратьевым, позднее секретарем правления, за что дан ему был полтинник. «Уже не знаю почему, — пишет Ляликов — по слухам ли о влиятельных лицах в университете, или так, из уважения (чистого, без побуждений: действительно, то был век уважения), родители решили сделать визиты со мною Н. Н. Сандунову и М. М. Снегиреву8. То было время сюрпризов, и с пустыми руками не ходили. Матушка запаслась полотенцами, хорошими, с вышивками и кружевами». Полотенца были поднесены как Сандунову, так и супруге Снегирева. Из окон комнаты, куда поместили Ляликова, виден был университетский двор, где только что еще начинали рассаживать деревья. Theatrum anatomicum * еще отделывался, и «мы, бывало, — пишет он, — смотрим из окна, как знаменитый Лодер9, приезжавший четверкой в карете, со звездой на груди, лазил по лестнице, чтобы осмотреть и исправить латинскую на фронтоне надпись. Из любопытства мы несколько раз ходили на его лекции. Помню, внутри полукруглой залы или аудитории была надпись: "Руце Твои сотвористе мя и создаете мя, научи 119 мя заповедям Твоим". А над камином, за кафедрой, тоже надпись: "Искушайте время, яко дние лукави суть". При выходе же, в сенях, по-гречески: "Познай самого себя". Инспектор студентов, Матвей Яковлевич Мудров, знаменитый в свое время профессор патологии и директор терапевтической клиники, отличался особой набожностью. По его требованию во всех коридорах больничного корпуса на стенах были вылеплены из алебастра кресты. В приемной у доктора Мудрова на стене была вывешена табличка за стеклом в рамке, с оглавлением, написанным киноварью, каким святым и от какой болезни должно служить молебны, и затем длинный ряд названий болезней на одной половине листа и исчисление святых на другой. Там, где теперь алтарь университетской церкви, была, – продолжает Ляликов, — театральная гардеробная, и, когда начинался съезд артисток, артистов и кордебалета (в огромных каретах, которых теперь уже не видать), можно было из окон, где теперь университетские часы, видеть всю эту разукрашенную суматоху: окна или вовсе не занавешивались, или занавешивались плохо... В бенефисы какой-то неведомый театральный посланец раздавал нам несколько даровых билетов, разумеется, в раек, со словами: "Хлопайте, господа, больше". Близость театра подавала возможность, у кого были деньги, посещать лучшие спектакли. Все помнится: и "Эдип в Афинах" (Семенова) и "Димитрий Донской", и "Поликсена", и "Русалка", и "Коварство и любовь" (Мочалов)11... В 1820 г. мы задумали в своей среде основать общество литературное, то есть читать заготовляемые сочинения и разбирать их критически. Для наших заседаний предложил просторную свою квартиру И. В. Титов близ церкви Николы в Голутвине, за Москвой-рекой. Мы сходились раза три; потом слышим, что квартальный с будочниками за нами наблюдает, а дальше и хозяин дома объявляет Титову, что он держать его в своем доме, если не прекратятся сборища, не может. Нечего думать, надо было бросить. Таким образом, самое невинное, чистое дело погасло не от беса полуденного, а от неотесанного алгвазилы». К более позднему времени относятся воспоминания С. Смирнова о Ф.И. Иноземцеве («Р. А.», 1872). Память об этом выдающемся человеке и профессоре Московского университета, даже имя его, едва ли сохранилась у новых поколений. Между тем это был один из крупнейших деятелей в области русской медицины, сочетавший «служение научной истине со служением общественному благу». Иноземцев жил и работал в то самое время, когда жил и совершал свое общественное служение Т. Н. Грановский. Влияние Иноземцева в сфере его деятельности было столь же значительно, как и влияние Грановского и других выдающихся деятелей Московского университета. Современниками Иноземцева были Пирогов, Филомафитский, Редкин, Крылов, Баршев, Неволин 12 и др. Иноземцев появился в темную пору, когда русской медицины еще не было и когда, как говорит автор воспоминаний, «носилось смутное убеждение, что ее и быть не может». В представлении народа русский лекарь был чем-то совершенно иным, чем «немец-дохтур». Русским лекарем могла быть повивальная бабка, зна120 харь, мельник-колдун, много-много фельдшер, а дохтуром непременно должен был быть немец. Русский лекарь — это создание собственной среды. Немецкий доктор — по историческим преданиям времен петровских, скорее нечто страшное, чем полезное. Высшее общество того времени признавало только иностранную медицинскую науку, а к русским врачам относилось, как к «париям». <…> Русских врачей и в помине не было. «Непризнанные с одной стороны, не поощренные с другой, они теряли веру в самих себя и готовы были отступиться от научного соревнования». Лишь изредка раздавался с кафедры русский голос — Мудрова, Мухина, Дядьковского... «В ученых профессорах немецких не было личного сочувствия к нам, — пишет Смирнов, — мы сами имели горесть слушать от них, что для русских студентов они считают своим долгом выполнить только свою служебную обязанность, то есть просидеть на кафедре от звонка до звонка... Вся их наука заключалась в старых записках, которые не давали даже идеи науки, а в живом слове передавались разные анекдоты на латинском языке, и мы не слыхали даже и намеков на путь, по которому надо идти навстречу науке. Затвердив тетрадки, мы уже знали науку и должны были считать себя достаточно учеными для предстоящего нам поприща». В эту пору появился Иноземцев. Он верно оценил положение русского врача в обществе и в науке. С него началась новая эпоха. «От него, — говорит Смирнов, — мы услыхали в первый раз новое для нас тогда слово "русская наука", "русская медицина". Это был начинатель русской медицинской науки. Он сумел вызвать в слушателях любовь к науке ради науки, вне зависимости от материальных выгод, которые может принести знание медицины. В Иноземцеве его слушатели видели олицетворенную, абсолютную любовь к науке, любовь, охотно жертвовавшую удобствами житейскими и находившую в себе самой вознаграждение и счастье. От него постоянно слушали, что честность в науке столь же обязательна и важна, как и честность в жизни. В этом было нравственное основание его учения. Стремясь к объединению труда русских врачей и после окончания ими университета, Иноземцев на собственные средства основал в Москве «Медицинскую Газету», а вскоре в Москве же возникло при его содействии Общество Русских Врачей, а за ним начали образовываться первые медицинские общества в губернских городах России. «Любовь творит, — говорил Иноземцев, — один эгоизм ничего не производит». Его задачей было примирить теорию с практикой; образовать врачей научнопрактических — было его любимой мечтой. И эта мечта Иноземцева стала действительностью. Иноземцеву Россия обязана в значительной мере тем типом русского врача, образованного служителя общественному благу, который так отличает русских врачей от столь распространенного типа врачей-ремесленников.<…> К. Леонтьев в своих воспоминаниях делает интересное сопоставление двух знаменитых в то время врачей в Москве — Иноземцева и Овера. Он приводит отзыв одной великосветской дамы, которая в разговоре с приятельницей говорит: «Нет, милый друг, если бы от меня зависел выбор, я бы любила Иноземцева, а лечилась у Овера. Федора Ивановича можно обожать, но он все бы меня "питал 121 млеком", а я этому не верю»… «Он казался, — продолжает Леонтьев, — или добрым и вместе энергичным русским барином, с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, или даже каким-то великодушным, задумчивым и благородным поэтом с берегов Инда или Евфрата, поступившим, по обстоятельствам, на коронную службу к Белому Царю». Вот силуэты далекого прошлого нашего Московского университета. Виденья прошлого, картины прошлых лет, давно забытые, проносятся, как слабые тени. А между тем в этом прошлом слагались славные традиции Московского университета как источника знания и благого просвещения. Н. Астров. Страничка из истории Московского университета Печатается по: Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. Изд. Парижского и Пражского Комитетов по ознаменованию 175-летия Московского университета под ред. проф. В.Б. Ельяшевича, А.А. Кизеветтера и М.М. Новикова. Париж, «Современные Записки», 1930. С. 141 – 155.(в сокращении) Астров Николай Иванович (1868 – 1934) – окончил (в 1892 г.) юридический факультет Московского университета – видный политический и общественный деятель, юрист. С 1890-х гг. работал в органах московского городского самоуправления: секретарем и гласным (с 1903 г.) Московской городской думы, затем Московского губернского земского собрания, в 1906 – 1907 гг. заведовал канцелярией 1-й и 2-й Московской Городской думы. Сторонник общественного управления Москвы, введенного в 1862 г., продолжил традиции деятельности на поприще городского головы – кн. В.А. Черкасского, Б.Н. Чичерина. Сотрудник газеты "Русские Ведомости", в 1912 г. стал членом Товарищества по изданию газеты, где публиковал материалы о деятельности Московской городской думы. В 1905 г. участвовал в работе общеземских съездов. Член кадетской партии, входит (1916 г.) в ее Центральный комитет. В Городской думе в 1913 – 16 гг. председатель Комитета прогрессивной группы гласных. После Февральской революции 1917 г. на учредительном заседании Московского комитета общественных организаций избран в исполнительный комитет, назначен товарищем комиссара Временного правительства в Москве. В марте - июне – московский Городской Голова, позже – председатель Всероссийского союза городов. В 1918 г. вошёл в руководство "Союза возрождения России" (вместе с Д. Шаховским, А. Аргуновым, Н. Кишкиным). В 1920 г. эмигрировал, обосновавшись в Чехословакии; в Праге вошел в число сотрудников П.Н. Милюкова, объединившихся вокруг газеты «Последние новости». Активный участник общественной жизни эмиграции, активно занимается публицистической деятельлностью. С 1924 по 1932 гг. выступает с докладами и публикуется в различных изданиях Парижа, Праги, Варшавы, Белграда. Занимает пост председателя союза писателей и журналистов в Праге. Организатор Русского заграничного исторического архива в Праге – собрания документов по истории революции и русской эмиграции; опубликовал в парижском журнале «Голос Минувшего на чужой стороне» ряд документов и воспоминаний о Деникине и Колчаке; в 1929 г. в Париже под его редакцией издана книга «Памяти погибших». В 1930 г. сделал доклад «Положение об общественном управлении города Москвы 20 марта 1862 г. и первый всесословный московский городской голова князь А. А. Щербатов» (Русское историческое общество, 1930. Прага); во время празднования 175-летия Московского университета для юбилейного сборника написал статью «Страничка из истории Московского университета», 122 Автор «Воспоминаний» (Париж. 1941), переизданных Государственной публичной исторической библиотекой России (2000 г.). Примечания 1 Козаков (Казаков) Матвей Федорович (1738—1812) — архитектор, один из основоположников русского классицизма; руководитель создания генерального плана Москвы. 2 Демидов Прокопий Акинфиевич (1710-1786) — представитель известной семьи промышленников. 3. митрополит Платон (Левшин) (1737—1812) — митрополит Московский, архимандрит Троицко-Сергиевой Лавры, при котором завершилось создание современного облика Лавры, ректор Московской Духовной академии, проповедник, духовный писатель, мемуарист. 4 Гезели— служащие, подмастерья (нем. geselle). 5 Шешковский Степан Иванович (1742—1793)— обер-секретарь Тайной экспедиции Сената, одна из центральных фигур политического сыска конца XVIII в. 6 Шлецер Август Людвиг (1735—1805)— немецкий историк, в 1761-1767 гг. работал в России, позднее преподавал в Геттингенском университете. Иностранный почетный член Петербургской Академии наук (1769). Его сын, Христиан Август (1774—1831), в 1801—1820 гг. был профессором политической экономии Московского университета. 7 Имеются в виду Николай Николаевич Сандунов (1769-1832), драматург, переводчик, профессор гражданского и уголовного права Московского университета, и его брат Сила Николаевич (1756—1820), известный актер, выступавший на московских и петербургских сценах. 8 Снегирев Михаил Матвеевич (1760— 1820) — профессор логики и нравственности, позднее — естественного, политического и нравственного права Московского университета. 9 Лодер Христиан Иванович (1753—1832)— врач-анатом, в 1818-1831 гг. профессор Московского университета. 10. трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах», «Димитрий Донской», .«Поликсена»; волшебно-комическая опера Ф. Кауэра «Днепровская русалка» 12. трагедия Шиллера «Коварство и любовь». 13. Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) —ведущая актриса русской драматической труппы в Петербурге. 14. Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый актер, дебютировавший на московской сцене в 1817 г. 15. Пирогов Николай Иванович (1810-1881) – хирург, патологоанатом, педагог, общественный деятель, член-корреспондент Академии наук. 16. Филомафитский Алексей Матвеевич (1807—1849) —физиолог, профессор Московского университета. 17. Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — юрист, профессор Московского (1835—1848) и Петербургского (1863—1878) университетов 18. Крылов Никита Иванович (1807-1879)— профессор римского права Московского университета 19. Баршев Сергей Иванович (1808—1882)— профессор уголовного права и полицейских законов Московского университета, в 1863-1870 гг. ректор 20. Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — профессор русского гражданского права Петербургского университета. 21. В 1912 г. в связи с выходом из товарищества по изданию газеты «Русские ведомости» Д.Н. Анучина, М.Е. Богданова, В.М. Соболевского, В. Е. Якушкина в него вошли новые члены: ученые-публицисты, уже сотрудничающие в газете: А.Э. Вормс, А.А. Кизеветтер, Ф,Ф. Кокош- 123 кин и общественные деятели: Н.И. Астров, И.П. Демидов, М.В. Сабашников. 124 Кошелев Александр Иванович Записки (1812 – 1883 годы.) <…> Весною отец и мать поехали в Москву и меня взяли с собою. Обгорелые стены каменных домов; одинокие трубы, стоявшие на местах, где были деревянные строения; пустыри н люди, бродящие по ним, - все это меня так поразило, что доселе сохраняю об этом живое воспоминание. Вскоре мы возвратились в деревню. Тут и мать, и отец занялись моим обучением. Отец учил меня русскому языку и слегка географии и истории; мать учила меня французскому, а дядька-немец немецкому языку. Я сильно полюбил чтение; так к нему пристрастился, что матушка отнимала у меня книги. Особенно сильное действие произвела на меня вышедшая в свет в 1816 году Карамзина "История Государства Российского". Из сперва вышедших восьми томов я сделал извлечение, которое заслужило одобрение моего отца. 7-го ноября 1818 года я имел несчастие его лишиться. Я очень жалел о нем; но еще более сокрушался о матери, которая была глубоко поражена этим горем и постоянно со слезами о нем вспоминала и говорила. Лето мы проводили в деревне, а зиму в Москве. Когда мне минуло 14 лет, то матушка моя вместо обыкновенных второстепенных учителей дала мне профессоров. Двое из них имели на мое образование сильное действие: Мерзляков по русской и классической словесности и Шлёцер по политическим наукам. Мерзляков бывал иногда великолепен, но, к сожалению, часто ленился, и нередко любимый им "ерофеич" связывал его язык18 и путал его понятия до того, что он вовсе не мог преподавать. В хорошие дни он прекрасно объяснял свойства русского языка и приохочивал к древним классикам. Это и побудило меня учиться по125 гречески сперва у кандидата университета19 В.И. Оболенского, а потом у грека Байло, человека очень образованного, издавшего в Париже на счет братьев московских греков Зосимов нескольких классиков (Плутарха, Исократа и др.). Успехи мои в греческом языке были таковы, что я стал читать греческих классиков почти без лексикона, знал наизусть первую песнь "Илиады", перевел несколько книг Фукидидовой истории Пелопонесской войны и много отрывков из Платоновой республики2, а Ксенофонта читал, как будто он писал по-русски. Латинский язык я знал порядочно; но он остался для меня языком мертвым. Особенно помогло мне в усвоении греческого языка то обстоятельство, что Байло говорил со мною по-новогречески. После двух-трех лет я выражался на новогреческом наречии довольно свободно. Древний греческий язык мне нравился и по собственной его красоте, и потому, что его простой, естественный склад речи казался мне очень схожим с славянским и даже русским слогом. Это и заставило меня много переводить с греческого на русский язык. Шлёцер, хотя немец, следовательно, человек мало живой и большой теоретик, вводил меня в немецкую науку, и этим он был для меня весьма полезен. Он познакомил меня с Геереном и вообще пристрастил меня к немецкой литературе. Сам Шлёцер был человек очень умный, очень ученый и весьма общительный. Я ожидал с нетерпением его уроки, которые вместо полутора часа продолжались и два и три часа. В это время, т.е. в 1820-22 годах, познакомился я с некоторыми сверстниками, которых дружба или приязнь благодетельно подействовала на дальнейшую мою жизнь. Первое мое знакомство было с И.В. Киреевским. С ним мы познакомились на уроках у Мерзлякова. Мы жили на одной улице (Большой Мещанской) в первых двух домах на левой руке от Сухаревой башни. Часто мы возвращались вместе домой; вскоре познакомились наши матери21; и наша дружба росла и укреплялась. Меня особенно интересовали знания политические, а Киреевского — изящная словесность и эстетика; но оба мы чувствовали потребность в философии. Локка мы читали вместе; простота и ясность его изложения нас очаровывала. Впрочем, все научное нам было по душе, и все нами узнанное мы друг другу сообщали. Но мы делились и не одним научным - мы передавали один другому всякие чувства и мысли: наша дружба была такова, что мы решительно не имели никакой тайны друг от друга. Мы жили как будто одною жизнью. Другое мое знакомство, превратившееся в дружбу, было с кн. В.Ф. Одоевским. С ним мы вскоре заговорили о немецкой философии, с которою его познакомили возвратившийся из-за границы профессор М.Г. Павлов и И.И. Давыдов, заведывавший университетским пансионом, в котором воспитывался кн. Одоевский. Кроме того, в это же время я сошелся с В.П. Титовым, С.П. Ше-выревым и Н.А. Мельгуновым. Здесь я упоминаю о них только мимоходом, потому что впоследствии об этих сверстниках я буду иметь случай говорить обстоятельнее. В сентябре 1822 года я поступил в Московский университет22 по словесному факультету. Тут я слушал лекции Мерзлякова - о словесности, Каче-новского - о русской истории, Гейма — о статистике, Давыдова — о латинской словесности и 126 Двигубского - о физике. Эти лекции оставили во мне мало живых воспоминаний: профессора читали, а мы их слушали только по обязанности. Возбудительного, животворного они нам ничего не сообщали. - Тут познакомился я с М.П. Погодиным; но в это время мы мало близились; ибо он уже выходил из университета, а я туда только поступал; но хорошо помню, что он был отличным студентом и всегда славно отвечал на вопросы профессоров. Ведь тогда профессора хотя читали и говорили, однако вместе с тем и предлагали слушателям вопросы, как то теперь делается в средних и низших учебных заведениях. В следующем, т.е. 1823 году, Совет университета сделал постановление, в силу которого студенты должны были слушать не менее восьми профессоров. Это нас, студентов, сильно раздражило и даже взбесило, и многие не захотели подчиниться такому распоряжению. Тогда нас, "бунтовщиков", призвали в правление, и ректор А.А. Прокопович-Антонский объявил нам, что если мы вольнодумничаем и не хотим исполнить требование Совета, то должны выйти из университета. Мы доказывали ректору невозможность с пользою, т.е. с надлежащими приготовлениями, слушать восемь курсов; но он твердил свое и выражался так повелительно и даже дерзко, что иные покорились воле начальства, а человек десять (и я в том числе) подали просьбы об увольнении из университета. Освободившись от университета, где мы мало учились и много времени тратили напрасно, я налег на чтение и возобновил уроки у Мерзлякова, Шлё-цера и других преподавателей, которые мне живо передавали разные знания. В это время особенно полезною была для меня дружба с И.В. Киреевским, с которым мы занимались вместе и друг друга оживляли и поощряли. Всего более занимали нас немецкие философские сочинения. Около этого времени мы познакомились с даровитым, весьма умным и развитым Д.В. Веневитиновым, к прискорбию, рано умершим. Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы посвящали немецким любомудрам23. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь, и они оказывались для нас много плодотворнее всех уроков, которые мы брали у профессоров. Наш кружок все более и более разростался и сплотнялся. Главными самыми деятельными участниками в нем были: Ив.В. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я. Этим беседам мы обязаны весьма многим как в научном, так и в нравственном отношении. Не могу также не упомянуть здесь о благодетельном влиянии, которое имели на меня и Киреевского наши матери, т.е. моя и его, Авдотья Петровна Елагина, друг Жуковского, женщина высокообразованная и одаренная чрезвычайно любящим сердцем. Они руководили нами очень умно, давая нам полную свободу в выборе и предметов для занятий и наших приятелей. Они были между собою дружны и действовали заодно ко благу своих детей. В 1824 году мы держали с Киреевским экзамен в университет, требовавшийся указом 1809 года для поступления на службу25. Много забавных воспоминаний оставил в нас этот экзамен. В статистике, за кончиною профессора Гейма, экзаме127 новал нас Мерзляков, который столько же мало ее знал, сколько обстоятельно и весьма педантически ее знал покойный Гейм. Цветаев экзаменовал в политической экономии, едва знавши первые начала этой науки. Председательствовал на экзамене ректор Антонский, недовольный моим "вольнодумным" (так он выражался) выходом из университета. Он всячески ко мне придирался: мне удавалось очень ловко ему отвечать и из этого выходили презабавные сцены. По окончании наших испытаний возник между профессорами важный спор о значении слов "весьма" и "очень". Цветаев, у которого Киреевский брал уроки римского и естественного права и политической экономии, хотя и с небольшим успехом, хотел написать Киреевскому "весьма хорошо", а мне, хорошо знавшему эти науки, но не бравшему уроков у Цветаева и даже во время экзамена неоднократно его одурачивавшему, он думал написать "очень хороню". Тогда Мерзляков вступился за меня, и после долгих споров решено было написать и тому и другому одинаковую аттестацию. А. И. Кошелев. «Записки». Впервые «Записки» А.И. Кошелева были изданы в 1884 г. в Берлине. Отрывок из 1 главы публикуется по книге «Записки Александра Ивановича Кошелева» (1812-1883 годы).М., 2002., С. 12-13, сер. «Лит. Памятники». Александр Иванович Кошелев (1806-1883) принадлежал к дворянской знати: род Кошелевых известен с конца 15 века, дядя Кошелева Р.А.Кошелев был личным другом императора Александра 1, отец, получивший образование в Оксфорде, служил адъютантом у князя Г.А. Потёмкина-Таврического. К поступлению в Московский университет Кошелева готовили его лучшие професора (А.Ф.Мерзляков, Х.А .Шлёцер и др.). Юноша свободно читал на старогреческом, новогреческом, латинском языках, говорил на английском, немецком, французском, любил переводить. Благодаря дружбе с Иваном Киреевским приобщился к серьёзным философским занятиям, читал Локка, Канта, Фихте, Шеллинга, Спинозу. Являлся членом московского кружка любомудров, философские собрания которого прервало восстание декабристов. Кошелев сочувствовал восставшим, некоторые его родственники и знакомые были арестованы, и он «почти желал быть взятым и тем стяжать и известность и мученический венец», как он писал в своих «Записках». Сдав экзамен по словесному отделению, Кошелев поступил на службу в Московский архив иностранных дел. В конце 1840-х годов стал членом славянофильского кружка и, будучи очень практичным, деловым, энергичным человеком, принял участие в журнально-издательской деятельности славянофилов: на свои средства издал «Московский сборник » 1852 г., внёс самый большой взнос на выпуск журнала «Русская бседа» (1856-1860) и стал его редактором. Издавал и свой собственный журнал «Сельское благоустройство» (1858-1859), газету «Земство» (18801882). Член Рязанского комитета по крестьянскому делу, председатель Общества сельского хозяйства (1860-1862), бессменный гласный Сапожковского уездного и Рязанского губернского собраний, в течение нескольких лет почётный мировой судья в уездном присутствии по крестьянским делам, член комиссии для устройства земских банков (1859-1860), министр финансов в Царстве Польском (1864-1866), председатель Общества любителей российской словесности (1869-1872), председатель уездного (Сапожковского) училищного совета (1874-1880), член финансовой комиссии Московской думы до последнего дня своей жизни, известный публицист, автор многочисленных статей, напечатанных в «Дне», «Новом времени», «Русской мысли» и 128 других изданиях, а также около двадцати брошюр, напечатанных в России и за границей, - вот далеко не полный перечень того, чем занимался Кошелев в течение 77 лет, отпущенных ему судьбой. В некрологе Кошелеву газета «Новое время» писала: «В его лице Россия потеряла одного из образованнейших и ценных общественных деятелей, а русское печатное слово в частности- талантливого публициста» (Записки Александра Ивановича Кошелева(1812-1833 годы). С семью приложениями. М.,2002. Серия Лит. Памятники). Примечания 1. В сентябре 1822 года я поступил в Московский университет…- Ошибка памяти: в действительности в 1821 г. 2. …он уже выходил из университета…- М. П. Погодин окончил Московский университет в 1821 г. 3. …возобновил уроки у Мерзлякова, Шлёцера…- Они готовили А. И. Кошелева к поступлению в Московский унивеситет и оказали на его образование «сильное действие» ( Записки Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 годы). М., 2002 (серия Лит. памятники ). 4. …полезною для меня была дружба с И. В. Киреевским…-С И. В. Киреевским А.И.Кошелев познакомился ещё до поступления в Московский университет, на уроках у А.Ф.Мерзлякова, их общего учителя по русской и класической словесности. 5. Около этого времени мы познакомились с … Д.В.Веневитиновым…- В 1822-1823 гг. Д.В.Виневитинов вольнослушателем посещал лекции в Московском университете. 6. …наше время мы посвящали немецким любомудрам. – Т.е. Канту, Фихте, Шеллингу, Окену, Гёрресу. 7. … о благодетельном влиянии, которое имели на меня и Киреевского наши матери, т.е. моя и его, Авдотья Петровна Елагина, друг Жуковского… - Мать А.И.Кошелева –Дарья Николаевна Кошелева (умерла в 1835 г.) происходила из семьи французского эмигранта. А.П.Елагина была племянницей В.А.Жуковского. 8. …мы держали с Киреевским экзамен в университет, требовавшийся указом 1809 года для поступления на службу. – Указ от 8 августа 1809 г., запрещавший получение чинов Колежского асессора и статского советника без свидетельства об успешном окончании университета или сдаче специальных экзаменов. 9. Председательствовал … ректор Антонский …-А.А.Антонский (Прокопович). 129 Виссарион Григорьевич Белинский Из писем и бумаг 130 <...> московская барышня, московский поэт, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша: все это типы, все это — слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве. Это происходит от исключительного положения Москвы, в которое постановила ее реформа Петра Великого. Москва одна соединила в себе тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва — город промышленный. В Москве находится не только старейший, но и лучший русский университет, привлекающий в нее свежую молодежь изо всех концов России. Хотя значительная часть воспитанников этого университета по окончании курса оставляет Москву, чтоб хоть что-нибудь делать на этом свете, но все же из них довольно остается и в Москве. Эти остающиеся, вместе с учащимися, составляют собой особенное среднее сословие, в котором находятся люди всех сословий. Их соединяет и подводит под общий уровень образование или, по крайней мере, стремление к образованию. Среднее сословие такого рода — оазис на песчаном грунте всех других сословий. Такие оазисы находятся во многих, если не во всех, русских городах. В ином городе такой оазис состоит из пяти, в ином из двух, в ином и из одной только души, а в некоторых городах и совсем нет таких оазисов — все чистый песок или чистый чернозем, поросший бурьяном и крапивою. К особенной чести Москвы, никак нельзя не согласиться, что в ней таких оазисов едва ли не больше, чем в каком-нибудь другом русском городе. Это происходит от двух причин: во-первых, от исключительного положения Москвы, чуждой всякого административного, бюрократического и официального характера, ее значения и столицы и вместе огромного губернского города; во-вторых, от влияния Московского университета. Оттого в деле вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяем, лучшая сторона московского быта. Но на свете все так чудно устроено, что самое лучшее дело непременно должно иметь свою слабую сторону. Что нет в мире народа ученее немцев, — это известно всякому: сами москвичи, по науке, не годятся немцам — в ученики. Но зато и у немцев есть Та слабая сторона, что они до тридцати лет бывают буршами, а остальную — и большую — половину жизни — филистерами и поэтому не имеют времени быть людьми. Так и в Москве: люди, Поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды, и о том, если вовремя не выедут из Москвы, делаются москвичами и тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь ды, как люди, для которых прошла пора обещать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающие о себе большие надежды», в Москве имеют тот общий недостаток, что часто смешивают между собою самые различные и противоположные понятия, как-то: стихотворство с делом, фантазии праздного ума с мышлением. Многим из них (исключения редки) стоит сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорию или фантазию о чем бы то ни было, — и они уже твердо решаются видеть оправдание этой теории или этой фантазии в самой действительности, — и чем более действительность противоречит их любимой мечте, тем 131 упрямее убеждены они в ее безусловном тождестве с действительностью. Отсюда игра словами, которые принимаются за дела, игра в понятия, которые считаются фактами. Все это очень невинно, но оттого не меньше смешно. Что бы ни делали в жизни молодые люди, оставляющие Москву для Петербурга, — они делают; москвичи же ограничиваются только беседами и спорами о том, что должно делать, беседами и спорами, часто очень умными, но всегда решительно бесплодными. Страсть рассуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. Нигде нет столько мыслителей, поэтов, талантов, даже гениев, особенно «высших натур», как в Москве; но все они делаются более или менее известными вне Москвы только тогда, как переедут в Петербург; тут они, волею или неволею, попадают в состав той толпы, которую всегда бранили, и делаются простыми смертными, или действительно находят какое бы то ни было поприще своим способностям, часто более или менее замечательным, если и не гениальным. Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и между тем именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере теперь. Если там появится журнал, то не ищите в нем ничего, кроме напыщенных толков о мистическом значении Москвы, опирающихся на царь-пушке и большом колоколе, как будто город Петра Великого стоит вне России и как будто исполин на Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русского народа; не ищите ничего, кроме множества посредственных стихотворений к деве, к луне, к Ивану Великому, Сухаревой башне, а иногда — поверят ли? — к пенному вину, будто бы источнику всего великого в русской народности; плохих повестей, запоздалых суждений о литературе, исполненных враждою к Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащих к приходу этого журнала и не удивляюшихся гениальности его сотрудников. Если выйдет брошюрка – это опять или не совсем образованные выходки против будто бы гниющего Запада, или какие-нибудь детские фантазии с самонадеянными притязаниями на открытие глубоких истин <...> Петербург и Москва 1844. опубликован в первой части «Физиологии Петербурга» (СПб., 1845). Переиздан в 1984 г. Печатается по книге: Москва–Петербург: Pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент., библиогр. К.Г. Исупова. – СПб., РХГИ, 2000. 132 Иван Александрович Гончаров Воспоминания. В Университете. Как нас учили пятьдесят лет назад И.А. Гончаров В настоящее время, наряду с важнейшими вопросами русской жизни, стал на очередь университетский вопрос. Это — наш всеобщий вопрос, по тому значению, какое имеет у нас университетское образование. За исключением некоторых специальных и технических частей знания — военной, морской, инженерной и других, имеющих свои заведения, представители высшего универсального образования до сих пор почерпают знания в университетах. Даже, говорят, в военное время, например, в Крымскую кампанию, главнокомандующий войсками, князь Горчаков, свидетельствовал, что прошедшие курс университетского образования были и отличными, из ряда вон выходящими офицерами. Рассадниками высшего образования служат еще духовные академии, лицеи, училища правоведения. Были так называемые университетские пансионы; эти заведения выпускали – и выпускают — людей высшего образования, но в незначительном против университетов количестве. Университет пока превозмогает все. Немудрено, что и само правительство и общество поглощены разработкой университетского вопроса. И в настоящее время все бывшие студенты с участием ждут его решения, молодые современные — и подавно. Печать то и дело проводит раз133 носторонние взгляды и мнения на занимающую всех тему. Везде идут оживленные толки, высказываются надежды, ожидания. Молодость волнуется, со свойственным юности нетерпением спешит заявлять свои желания. Задача нелегкая со стороны тех, от кого зависит судьба университетского образования,— решить так, чтобы удовлетворить стремлениям молодых людей в духе времени, не делая малодушных уступок в ущерб образованию и во вред самим учащимся. Нелегко и со стороны последних, заявляя свои задушевные желания, кровные нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпение и не переступить кое-где и кое в чем за черту своих законных желаний. Бывшие студенты всех возрастов, рассеянные по всем путям общественной деятельности, не могут, конечно, смотреть на эту борьбу равнодушно, как старые инвалиды не смотрят равнодушно на молодых бойцов. Тем, которые лично не втянуты в эту борьбу по своему положению или занятиям, остается вспоминать прошлое — от этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военного инвалида). Меня собственно,— глядя на эту современную пчелиную работу в наших университетских ульях и прислушиваясь к толкам в обществе,— как старого студента Московского университета тридцатых годов, тянет к воспоминаниям совсем не самолюбивая мысль о пользе какой-нибудь, не желание поднести публике и студентам урок — нет. Я не одарен никакими свойствами и способностями учительства, да и сам не желал бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урок от молодежи, если что-нибудь в моих воспоминаниях не пришлось бы ей по сердцу. Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни— молодости — и об ее наилучшей части — университетских годах. Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было. Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Я говорю о Московском университете, на котором, как и всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток. Впрочем, всякий из восьми наших университетов, если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие. Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разнословной и разнохарактерной толпе, при различии 134 воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе — впрочем, редкие — слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полициею и т. п. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества. Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества. Дух юношества поднимался; он расцветал под лучами свободы, падшими на него после школьной и домашней неволи. Он совершал первый сознательный акт своей воли, приходил в университет сам, его не отдают родители, как в школу. Нет школьной методы преподавания, не задают уроков, никто не контролирует употребления им его часов, дней, вечеров и ночей. Далее следуют шаги все свободнее и сознательнее, достигается «степень зрелости» без всякого на нее гимназического диплома. Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождающееся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу. Университет отворял ему широкие ворота, не в одну научную сферу, но и в самую жизнь. С учебной почвы он ступает на ученую. Умственный горизонт его раздвигается, перед ним открываются перспективы и параллели наук и вся бесконечная даль знания, а с нею и настоящая, законная свобода — свобода науки. Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она с университетской кафедры изливается широким и вольным потоком. Между профессором и слушателями устанавливается живей ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез. Этой свободы не дают или не давали (так как я говорю о прошлом) другие из высших гражданских, военных или духовных заведений. <…> Этот год (с авг<уста> 1832 по авг<уст> 1833) был лучшим и самым счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всяки й жил по-своему. Делал, что хотел, развлекался, как умел, – все вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких других забот и дел. И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее последователей <…> Наконец университет пройден. В июне 1834 года, после выпускных экзаменов, мы все, как птицы, разлетелись в разные стороны. Мы с братом уехали домой, на Волгу, где я, прожив около года, в 1835 году переехал в Петербург и остался там навсегда. Университетский официальный курс кончился, но влияние университета про135 должалось. Потеряв из вида своих товарищей, словесников, я не забывал профессоров и их указаний. В Петербурге, тщательно изучая иностранные литературы, я уже регулировал свои занятия по тому методу и по тем указаниям, которые преподавали нам в университете наши вышеозначенные любимые профессора. То же самое, конечно, более и лучше меня, делали современные мне студенты: К. Аксаков, Станкевич, Бодянский, Сергей Строев. Не называю их товарищами, потому что не был с ними знаком. Я слыхал только тогда, что они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями — и едва ли не являлись в печати уже тогда. Это, может быть, покажется странным нынешним студентам, что мы, собираясь ежедневно в одной аудитории, могли быть друг с другом незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, как теперь, корпорации и не были ни в чем солидарны между собой, не имели никаких обязательных друг к другу отношений. Университет был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех ищущих знания. Мы собирались там, как собираются на публичные лекции, в церкви и т. п. Не было никакой платы с студентов; правительство помогало только, как выше сказано, бедным студентам тем, что давало им квартиру и стол. Стипендий никаких не было. Студенты приходили на лекцию и уходили, как посторонние друг другу лица. Никто не заботился о том, что тот или другой делает дома, чем он живет, чем особенно занимается. Поэтому у нас не было никаких сходок, никаких сборов в пользу неимущих слушателей и, следовательно, никакой студенческой кассы. Все студенты делились на группы близких между собой товарищей: иногда прежних соучеников в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей на университетской скамье. Я здесь упомянул о группе Станкевича, Строева и других; потом была группа казенных студентов, семинаристов и много других, мелких кружков. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало их друг с другом. Каждая группа имела свой центр; члены ее собирались между собою, вместе вели записки лекций, вместе читали книги, готовились к экзаменам — и, конечно, часто вместе проводили время вне университета. Студенты были раскиданы по всей обширной Москве, сходились — кто пешком, кто в экипаже — на лекции. Ничто не отвлекало от занятий тех, кто хотел заниматься, потому что других обязательных занятий, кроме лекций, не было. Никаких балов, концертов, спектаклей в пользу неимущих слушателей не давалось; не было сходок, студенты не являлись в роли устроителей и распорядителей означенных увеселений, также не несли на себе забот решать вопрос о пособиях наиболее нуждающимся товарищам и; заведовать классами. Все было патриархально и просто; ходили в университет как к источнику за водой, запасались знанием кто как мог — и, кончив свои годы, расходились. Не берусь решать — было ли это лучше или хуже нынешнего. Полагаю, что есть 136 своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая — та, что студент, как сказано, не отвлекался ничем посторонним от своих прямых занятий, что особенно удобно было в московских уголках и затишьях, отдаленных от всякого шума и суеты. Дурная сторона медали — это равнодушие к товарищам, из которых многие, очевидно, боролись с нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства не только к прохождению курса, но обеспечена поддержка, и после, когда не посчастливится кончившему курс вскоре пристроиться к какому-нибудь делу. Печатается по изд.: Гончаров И.А. Собр. соч. т. 1 – 8. М., 1977– 80.. т. 7 Гончаров Иван Александрович (1812 – 1891) – учился на словесном отделении Императорского Московского Университета с 1831 г по 1835 г. – из профессоров студенческих лет он выделял М.Т. Каченовского, С.П. Шевырева, Н.И. Надеждина, чертами которого наделил «профессора эстетики» в своем романе «Обыкновенная история» (1847 г.) Второй год учебы в Университете Гончаров назвал «золотым веком», тогда определилась и его увлеченность литературой, состоялась первая публикация – перевод двух глав из романа Э. Сю «Атар-Гюль» – в журнале «Телескоп», 1832, № 15. Навсегда осталось в памяти Гончарова посещение А. С. Пушкиным Университета 27 сентября 1932 г.: «для меня точно солнце озарило всю аудиторию…». В 1876 г. был избран членом Общества любителей российской словесности при Московском университете – русский писатель, литературный критик, цензор, мемуарист * Автор не припомнит с точностью года, когда были писаны им настоящие заметки. Но из некоторых подробностей текста можно, почти с уверенностью, заключить, что эти заметки были набросаны им в самом начале 70-х годов. (Прим. авт.) Примечания 1. Неточная цитата из монолога Фамусова (д. П, явл 5) Следует: «На всех московских есть особый отпечаток» 2. Ошибка: Герцен окончил Университет в 1833 г. 3. Журнал «Вестник Европы» был основан Карамзиным (1802 – 1830) 4. Каченовский был его редактором и издателем в 1805 – 1807, 1811 – 1813 гг. и совместно с В.А. Жуковским в 1809 – 1810. 5. Посещение А.С. Пушкиным Московского университета состоялось 27 сентября (9 октября) 1832 г. 6. Имеется в виду статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука», опубликованная в 1863 г. в журнале «Русское слово» (№7, 8) 7. Неполное название брошюры А.Д. Закревского (?) «Подарок ученым». Это сатира на профессоров Московского университета 30-х г.: М. Каченовского, Ф. Булгарина, О. Сенковского, М. Павлова, Н. Надеждина, П. Вяземского, Н. Полевого. 137 Нил Попов Н.И. Надеждин на службе в Московском университете* (1832 – 1835) Примечания, отмеченные в тексте римскими цифрами, принадлежат автору статьи Н.А. Попову. Комментарии редактора отмечены звездочками. Печатается в сокращении. * 138 Николай Иванович Надеждин (род. 5-го окт. 1804 г., ум. 11-го янв. 1856 г.) принадлежал бесспорно к числу замечательнейших русских писателей и ученых деятелей своего времени. Судьба связывала его с духовным званием, но он и в этой сфере искал себе педагогических занятий; затем перешел в Московский университет, где был одним из лучших преподавателей, и в то же самое время прославился как издатель (с 1830 по 1836 г.) ежемесячного журнала Телескоп и при нем то ежедневного (1), то еженедельного листка Молвы (I). Его критические статьи как в этих изданиях, так и печатавшиеся ранее в 1828-1830 гг. в Вестнике Европы и Московском Вестнике (2), сделали его имя столь же известным в обширном круге читателей того времени, как ученая и профессорская деятельность – в университетском кружке. Но и та, и другая были внезапно прерваны, с одной стороны, вследствие закрытия уставом 1835 года кафедры, которую занимал Надеждин, с другой – вследствие помещения в Телескопе известного «Философического письма» Чаадаева (3), за что Надеждин был удален сперва в Усть-Сысольск, потом в Вологду (4) <…> Но собственно о службе Надеждина при Московском университете, продолжавшейся около пяти лет, имеются лишь самые краткие сведения в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Московского университета» и в автобиографии, напечатанной уже по смерти его. (II) А потому считаем не лишним познакомить читателей с этим временем из жизни Надеждина по тем данным, которые мы нашли в делах, хранящихся в архиве Московского университета. Из послужных списков Надеждина видно, что с 1815 г. он учился в Рязанской семинарии языкам русскому, латинскому, греческому, еврейскому и французскому, теории и истории словесности, всеобщей истории, философии и математике. В 1820 г., по предписанию комиссии духовных училищ, поступил в Московскую духовную академию, где в продолжении четырех лет слушал лекции богословия, философии, всеобщей и церковной словесности, церковной истории, математики и языков греческого, еврейского, немецкого, французского и английского <…>, а 20-го октября 1824 года, с утверждения той же комиссии, он возведен академическою конференцией на степень магистра и определен в Рязанскую духовную семинарию профессором словесности и немецкого языка. 23-го ноября того же года ему поручена была должность библиотекаря при семинарии, в которой его и утвердил 14-го февраля следующего года епископ Рязанский и Зарайский Филарет. В это же время Надеждин около года преподавал латинский язык в Рязанской гимназии, по приглашению ее начальства и с разрешения совета Московского университета. В семинарии он занимался преподаванием не более двух лет и 9-го октября 1826 г. уволен был, согласно прошению, в котором он ссылался на свое болезненное состояние, для поступления в гражданскую службу. <…> С лишком пять лет Надеждин не имел никаких официальных занятий. Он переехал в Москву, где сперва поселился у земляка своего, профессора медицинского факультета Ю. Е. Дядьковского, и тут познакомился с редактором Вестника Европы М. Т. Каченовским, который был тогда ординарным профессором 139 истории, статистики и географии Российского государства: Надеждин стал сотрудником этого журнала, издававшегося тогда от университета (III). В апреле 1828 г., побуждаемый отчасти Каченовским, Надеждин подал в совет Московского университета прошение о допущении его к испытанию на степень доктора словесных наук, что и было разрешено министерством, хотя и после долгих ожиданий31(IY)/ Удовлетворив всем требованиям, соединявшимся тогда с испытанием на степень доктора, которое производили Мерзляков (6), Каченовский, Снегирев Нил Александрович Попов (1833 -- 1891) – историк и славяновед, заслуженный профессор Московского университета. В 1854 г. окончил историко-филологический факультет Университета. С 1857 по 1859 г. – адъюнкт по кафедре русской истории в Казанском университете. В 1860 г. переведен на кафедру истории в Московском университете, где оставался до 1888 г. Трижды избирался деканом историко-филологического факультета (1873-1976, 1877-1880, 1882-1885). За докторскую диссертацию «Россия и Сербия…» Н. Попов был удостоен Уваровской премии Академии наук. Он внес значительный вклад в разработку истории православных славян. Ему принадлежат работы по истории Сербии, Польши, духовной культуре Чехии. В отличие от славистов дворянско-буржуазной историографии, так называемой государственной школы, и стоящих особняком В.О. Ключевского и Н.И. Костомарова, Н. Попов ближе к официально-охранительному направлению и славянофилам. В 1872 г. вместе с С.М. Соловьевым профессор Попов принял горячее участие в громкой дискуссии по магистерской диссертации В.О. Ключевского, а в 1882 году в качестве оппонента высоко оценил его докторскую работу «Боярская дума Древней Руси». Ключевский в свою очередь назвал Н. Попова «одним из последних представителей лучших времен Московского университета – времен Грановского, Кудрявцева и Соловьева». Нил Попов был корреспондентом «Московских ведомостей», печатался в «С.-пб. Ведомостях», «Русском вестнике», «Православном обозрении» и др. изданиях, вел отдел «Хроника» в «Современной летописи». Большая статья Н. Попова «Н.И. Надеждин на службе в Московском университете» была напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1880 г.(ч.ССYII, №1, отдел 2, стр. 2-43. Здесь статья печатается в сокращении с сохранением всех журнальных грамматических особенностей как памятник времени. Примечания Нила Попова. I. «Молва» - газета мод и новостей, за 1831 год – 52 номера, за 1832 год – 105, за 1833 г. – 156, в 1831 и 1835 годах – по 52 номера. II. Биогр. Слов. Моск. унив., ч. II, стр. 153-155; «Русск. Вестн. за 1857 г., №5. III. Статьи, печатавшиеся Надеждиным в «Вестнике Европы» за 1829 и 1930 гг., он подписывал весьма известным в то время псевдонимом Недоумко или: с Патриарших прудов. Некоторые из них поименованы в указателе к «Вестнику Европы», составленному М.П. Полуденским (М., 1861), стр. 258-268. В том же журнале (ч. 172, №15, стр. 138)помещено было письмо «П.С. Правдилина к Н.И. Недоумке», в коем говорилось о втором томе «Истории русского народа» , соч. Полевого. Срв. также примечания П.С. Савельева к автобиографии Надеждина в «Русском Вестнике за 1856 г., №5, стр. 59 и сл. 31 IV. На основании положения о производстве в ученые степени, Высочайше утвержденного 20-го января 1819 года. См. в архиве Моск. унив., дела Совета за 1828 г., № 168. Срв. также автобиографию в Рус. Вест. За 1856, № 3, стр. 59-61. 140 (7), Ивашковский (8) и Победоносцев (9), Надеждин продолжая свое сотрудничество в Московском Вестнике32(Y), напечатал замечательную для своего времени диссертацию, произведшую немалое впечатление на ученых современников и затрагивавшую любимый в то время историками и теоретиками словесности вопрос о романтизме. Она носила такое заглавие: “De origine, natura et fatis Poeseos, quae romantika audit. Disertatio historico-critico-elenchica”33(YI). Тезисы к этой диссертации бли изложены на латинском языке, на котором производилась и публичная защита ее. 24-го сентября 1830 года Надеждин утвержден был в степени доктора этико-филологического отделения, и в то же время вошел в соприкосновение с университетскою корпорацией, члены которой вступили в ученую борьбу между собою из-за вопроса: быть или не быть Надеждину их товарищем? Дело в том, что существовавшая по уставу 1804 года кафедра изящных искусств и эстетики, преподавателями которой были преемственно: П. А. Сохацкий (1805-1809 гг.), I. Q. Буле (1809-1811 гг.), М. Т. Каченовский (1811-1821 гг.) и М. Г. Гаврилов (18211828 гг.) (11), считалась за смертию последнего свободною, хотя преподавание предметов, входивших в ее состав, и поручено было временно сыну покойного, адъюнкту А. М. Гаврилову. Последний не отличался ученостью, что, повидимому, и было известно тогдашнему министру народного просвещения, генералу от-инфантерии князю Карлу Ливену(12). Не удовлетворяясь преподаванием младшего Гаврилова, он рекомендовал для кафедры изящных искусств надворного советника Глаголева, имевшего степень доктора. По обычаям, соблюдавшимся и тогда при избрании нового профессора, следовало, чтобы кто-либо из членов университетского совета вошел в оный с формальным представлением о Глаголеве. Эту обязанность принял на себя ординарный профессор прав политического и народного, бывший прежде преподавателем в академии художеств, Д. Е. Василевский (13). <…> Так как А. М. Гаврилов действительно не занимал кафедры, на которую предлагался Глаголев, и так как ни ученые труды, ни преподавательские способности последнго не были известны совету университета, то решено было для . См. его статьи о переводе Горациевых од Д. Орловым в Моск. Вест. За 1829 г., ч. IV, №№ 14-16. Y I. Mosquae, 1830. Еще до выхода в свет диссертации Надеждина о ней уже говорили и сообщали отрывки из нее журналы 1830 года: Вестник Европы № 1, стр. 3-37, и № 2, стр. 122151; Атеней, № 1, стр. 1-33. После напечатания в Атенее отрывка из нее в русском переводе в Московском телеграфе появилась критическая статейка о эстетических мнениях Надеждина под заглавием: «Литературные прииски», т. XXXI (1830 г., № 3), стр. 345-355. По напечатании всей диссертации в том же Телеграфе помещена очень неблагосклонная рецензия оной, т. XXXIII (1830 г., № 10), стр. 229-238. К тому же году относится и первый опыт Надеждина по исторической географии, напечатанный в Трудах и Летописях Общ. Ист. и Древн. росс., ч. V, стр. 92-105, под заглавием: «Предначертание историческо-критического исследования древнерусской системы уделов». Надеждин избран был в соревнователи Исторического общества в заседании 8-го марта 1829 года, а названную статью читал в торжественном заседании 14-го мая. См. Труды и Летописи Общества, ч. VIII, стр. 100, 132-133. Y 141 приискания достойного профессора прибегнуть к конкурсу, в котором, конечно, могли принять участие и оба названных лица. Программа конкурса, составленная I-м отделением философского факультета, напечатана была в № 12 Московских Ведомостей от 8-го февраля 1830 года. Сроком представления конкурентами, как ученых трудов своих, так и конспекта лекций по теории изящных искусств и археологии, назначался последний день июня. Доктор Глаголев не принял участия в конкурсе. Надеждин, кроме уже известной своей диссертации, представил в совете рукописное “Предначертание учебного изложения теории изящных искусств и археологии для публичного преподавания”. Но явился еще конкурент – евангелический пастор, учитель закона Божия при кадетском корпусе, латинского, русского и немецкого языков при московском отделении медико-хирургической академии и немецкой словесности при коммерческом училище, имевший диплом на звание доктора философии и магистра вольных наук от Кенигсбергского университета, К. А. Зедергольм (род. 25-го мая 1789 г., ум. 15-го июля 1867 г.)34(YII). Он кончил курс философских и богословских наук в Абовском университете в 1810 году, имел уже большую семью и был сорока лет. <…> Только 14-го февраля 1831 г. отделение словесных наук, рассмотрев все поданные в конкурс сочинения, определило донести совету, что члены отделения разделились в своих мнениях: профессора Болдырев (декан), Каченовский и Ульрихс(14) (профессор всеобщей истории) отдают преимущество пред другими диссертации доктора Надеждина, а профессора Ивашковский, Снегирев и Победоносцев – лекциям адъюнкта Гаврилова. Но А. В. Болдырев присоединил к донесению отделения особое мнение, в котором высказывал, что лекции Гаврилова, представленные не в срок, нельзя было принимать в конкурс; но если ж и принять их, то и тогда встретилось бы большое затруднение в оценке разнородных трудов: «ибо предположим, - говорил Болдырев, - что лекции г. Гаврилова лучше рассуждений Надеждина и Зедергольма; справедливо ли заключить из того, что он должен быть предпочтен Надеждину и Зедергольму? – Ни мало; лекции г. Гаврилова могли бы быть лучше, ибо они суть плоды нескольких лет, между тем как Надеждин и Зедергольм трудились над своими рассуждениями не более четырех или пяти месяцев». Далее Болдырев сомневался в праве экстраорд. проф. Победоносцева участвовать наравне с ординарными в суждении о достоинстве рассматривавшихся сочинений. Наконец, заметив, что Надеждин, как доктор, должен иметь преимущество перед магистром Гавриловым, декан словесного отделения заключал таким образом: "Поступающие в конкурс сочинения должны быть представляемы без подписи имени сочинителя, а означаемы приличными эпиграфами, дабы сочинение могло быть рассматриваемо и оценяемо без всякого построннего влияния35(YIII) Совет, поставленный в затруднение таким разделением голосов в словесном отделении, постановил, чтобы отделение вошло с новым представлением, в котором достоинства сочинений д-ра Надеждина, адъюнкта Гаврилова и пастора II. Биографию Зедергольма и список его сочинений см. в «Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau, zusammendestellt von A. W. Fechner (Moskau, 1876), B. II, S. 488-492. Y III. Архив Московского университета за 1831 г., № 97. Y 142 Зедергольма были б оценены, без участия однако ж в том проф. Победоносцева, в надлежащей полноте. <…> Каченовский, Болдырев и Ульрихс отдали преимущество Надеждину, признав его достойным занять вышеупомянутую кафедру с званием ординарного профессора; профессора же Ивашковский и Снегирев объявили, что они мнение свое по сему предмету представят прямо в совет36(IХ). В чрезвычайном заседании совета, происходившем 8-го апреля 1831 года, Ивашковский и Снегирев заявили, что мнение свое могут подать только к следующему заседанию, и совет постановил: решительное суждение о конкурсе на кафедру археологии и изящных искусств отложить37(Х). Это суждение происходило в заседании 6 мая. Мнение, представленное на этот раз, написано было от имени одного лица, хотя и подписано обоими вышеназванными профессорами. Главным образом оно состояло в нападении на общее направление в сочинениях Надеждина как последователя Шеллинга, и в критике отдельных выражений в плане, представленным им на конкурс; о сочинениях же Гаврилова и Зедергольма говорилось вкратце. Странное впечатление должно было произвести это мнение на членов совета, между коими было немало последователей Шеллинга (15) Вот это мнение: “желательно прежде всего знать, может ли сие учение быть допущено в нашем университете. Что касается до системы сего рассуждения, то она действительно представляет нечто целое и полное, но достоинство ее условливается справедливостью и точностью основания самого учения, и потому если сии основания, как я упомянул выше, допущены быть не могут, то и самая система сего учения достоинства никакого иметь не может…” Далее рецензент высказывался против неопределенности некоторых выражений, употребленных Надеждиным в конспекте, или же против выражений, еще не вполне привившихся тогда к ученому языку, например: людскость в смысле humanitas или работная материя. По поводу этих выражений рецензент замечает: «Если вышепреведенные мною выражения и обороты диссертации г. Надеждина неопределенностью и сбивчивостью своею затрудняют и затемняют смысл даже для самих упражнявшихся в сем деле, то какой пользы могут ожидать учащиеся молодые люди от самого учения, таким языком излагаемого? По всем сим причинам я почитаю со своей стороны справедливым отдать преимущество рассуждению г. Гаврилова, который учение эстетики и археологии излагает согласно с конспектом, утвержденным от высшего начальства; если же оно формою своей не вполне соответсвует требованию конкурса, то сие вознаграждается обширностью сочинения, точностью и ясностью изложения, двухлетнею опытностью сочинителя в преподавании… Что касается до рассуждения г. Зедергольма, то его эстетические начала одинаковы с началами г. Надеждина, с тою только разностию, что выражены языком самым чистым и ясным; в рассуждении же археологии, им изложенной, я согласен с мнением ординарных профессоров словесного отделения гг. Каченовского, Болдырева и Ульрихса. Х. Дела совета Моск. университета за 1831 г., № 208. . Дневная записка заседания совета 8-го апреля 1831 г., стр. 307-308. I Х 143 Выслушав это мнение, значительное большинство членов совета нашло, что Ивашковский и Снегирев «замечают лишь недостатки одних частных выражений, которые нисколько не уменьшают существенного достоинства сочинений Надеждина, о чем в начале своего мнения упоминают они даже одобрительно». Впрочем, профессора Ф. Ф. Рейс, И. И. Давыдов и В. М. Котельницкий (16) заявили, что нужно было бы прочитать в совете самое сочинение Надеждина. Остальные члены, ввиду мнений, представленных профессорами словесного отделения, не нашли этого нужным и примкнули к мнению, благоприятному для Надеждина, прибавив, однако ж, что, для удостоверения в преподавательских способностях Надеждина, необходимо предложить ему прочитать пробную лекцию38(17). <…>Только 26-го декабря последовало утверждение Надеждина ординарным профессором по искомой им кафедре; а за три недели пред тем министр императорского двора утвердил его в звании преподавателя логики, российской словесности и мифологии при Московской театральной школе. В течение своей службы в университете Надеждин, кроме чтения лекций и практических занятий со студентами по занимаемой им кафедре, исполнял и другие поручения совета, а именно: в течение трех лет (1832-1835) он был членом училищного комитета; два года (1833-1835) членом комитета для испытания гражданских чиновников; год (1834-1835) надзирателем курсов для чиновников, службою обязанных; два года (1833-1835) секретарем университетского совета; год (1834-1835) преподавал логику для первокурсных студентов, и наконец, участвовал в издании Ученых записок университета(18). Из всех перечисленных поручений, исполнявшихся Надеждиным, более всего следов по себе оставили в делах университета занятия в училищном комитете. Но прежде чем сказать о них, а равно и о лекциях Надеждина, не лишне будет упомянуть, что за участие в издании Ученых записок ему было объявлено 6-го августа 1834 года39(ХII). Высочайшее благоволение, а за все время его секретарства в совете протоколы заседаний оного отличались ясным, всегда мотивированным, но в то же время свободным от многословия изложением, а поправки к ним принятые советом, везде писаны рукою самого Надеждина. Как в автобиографии Надеждина, так и в воспоминаниях других лиц, бывших в то время студентами Московского университета, сохранилось несколько сведений о характере и содержании лекций, читанных Надеждиным с университетской кафедры, а равно и о том впечатлении, какое они производили на слушателей. Считаем не лишним дополнить известия, взятые нами из архивных документов и умалчивающие о преподавательской собственно деятельности Надеждина, свидетельством современников. Вот что говорил о том сам Надеждин: “Еще в сочинении моем на конкурс, равно как и в пробной лекции, я изъяснил, что цель моего преподавания археологии есть историческое оправдание той теории изящных исХ I. Эта лекция потом была напечатана в журнале Надеждина Телескоп (т. III, стр. 131154) под заглавием: «Необходимость, значение и сила эстетического вкуса». Х II. В Ученых записках (1833, ч. I) Надеждин поместил свою речь, сказанную в торжественном собрании университета: «О современном направлении изящных искусств». 144 кусств, которую я должен был читать моим слушателям, а потому буду излагать эту науку, то есть археологию, как историю искусств, по памятникам. Это было одобрено, и оттого моя археология распространилась в объеме своем значительно против прежних пределов. До тех пор в круг ее допускались только памятники Греков и Римлян. Я предположил касаться памятников искусств у всех древних народов, какие только оставили по себе памятники. Вследствие того, как начало моего курса приходилось в половине года, то я начал с сей последней, то есть с археологии, и именно с древней Индии. Руководств по этой части, которыми я мог бы пользоваться, в то время на русском языке не было, да и ныне нет. Я прибегнул к единственным тогда бывшим у меня под рукою источникам: Герену (19) и его “Ideen”, и к другим исследователям древностей. Метод преподавания моего был следующий: я не писал лекций, но предварительно обдумав и вычитав все нужное, передавал живым словом, что мне было известно, а студенты записывали и давали в следующий класс мне отчеты. Таким образом, ни одной лекции моей не было напечатано; но сохранились у меня кипы тетрадей студентских, которые я обыкновенно просматривал по очереди и исправлял или пополнял, где было нужно. Таким образом, с 1831 академического года до вакационного времени я успел прочесть историю памятников всех древних народов, собственно до Греков. С наступлением следующего 1832 года, пришла очередь теории изящных искусств. Следуя тому же порядку, я постановил и в следующие классы преподавания сей науки держаться отчасти Бутервека, Бахмана(20) и других немецких эстетиков. При сем не могу также не упомянуть, что мне много послужили в этом случае лекции эстетики, которые я слушал в духовной академии у бакалавра, покойного П. И. Доброхотова, преподавшего сей предмет со знанием дела и с живым одушевлением. Чтоб иметь твердую, положительную опору в своих умозрительных исследованиях, я начинал с психологического анализа эстетического чувства и отсюда выводил идею изящного, показывая, как потом эта единая идея раздробляется и с какими оттенками является в мире изящных искусств под творческими чертами гения, сообразно требованиям вкуса. Из этих лекций также не было ничего напечатано. Остались одни лишь студентские записки. Между тем я вскоре заметил, что при этом преподавании важным препятствием для студентов было совершенное незнакомство их с общими правилами умозрения. Тогда не преподавалась в университете даже логика: это лишало их возможности следить за теорией. Я обратил на то внимание совета, вызываясь отвратить это неудобство собственным безмездным преподаванием логики. Совет признал пользу этого и исходатайствовал мне разрешение высшего начальства преподавать логику студентам всех факультетов университета первого курса, что и исполнялось мною чрез целый год по два, а потом и по три раза в неделю. Преподавание шло тем же порядком, то есть импровизацией; но план самой науки я расположил по-своему, не придерживаясь никакого образца. Я вел логику совершенно параллельно с эстетикою, то есть начинал с психологического разбора чувства истины, или того, что назвается убеждением, удостоверением, и таким образом восходил до идеи истины, которой известные формулы, назваемые иначе началами мышления, разъяснял потом со 145 всею подробностию, наконец заключал теорией науки вообще и архитектоникою систем, что обыкновенно относилось к так называемой прикладной логике”40(ХIII). Один из слушателей Надеждина, бывший студентом Московского университета в начале его службы, П. Прозоров (21), в своих воспоминаниях поместил такой отзыв о лекциях Надеждина: “Он принес с собою на кафедру всеобъемлимость Шеллингова воззрения на искусство и свободную, живую импровизацию бесед, своим светлым умом и необыкновенным даром слова умел самым отвлеченным гегелевским понятиям сообщить осязаемость и заставил некоторых из своих слушателей ближе познакомиться с системой тождества и логическиисторическим учением о развитии мирового духа (Weltgeist) Гегеля (22), обработавшего гениальную сторону природы, а других применить впоследствии развитые им идеи и воззрения на изящные искусства к литературе собственно русской”41(ХIY). Другой из слушателей Надеждина, Н. Лавдовский (23), так выражается о содержании его лекций: «Начиная археологию, Н. И. счел нужным сперва раскрыть пред глазами слушателей сцену, где должна разыгрываться художественная драма искусств индийского, вавилонского, персидского и т. д. Для этого он прочитал нам две лекции о быте, торговле, сношениях и пр. этих древнейших стран, - и в две лекции успел представить все это в прекрасной, яркой и вразумительной картине. Логику излагал Н. И. по Бахману – с некоторыми изменениями. Например, желая привести логику в соответствие со своей теорией эстетики, он ставил отправления мышления в таком порядке: суждения, понятия и умозаключения»42(ХY)/ Особенно сильное впечатление производил г. Надеждин на слушателей внешнею стороною своих лекций, о чем отзывы всех современников почти одинаковы. Так, Максимович (24), сам профессор ботаники, в своем «Воспоминании»43(ХYI) называет лекции Надеждина живыми импровизациями, возбуждавшими к себе общее внимание и сочувствие. Н. Лавдовский, написавший свое «Воспоминание» по прочтении статьи Максимовича, говорит в свою очередь следующее о характере чтений бывшего своего профессора: «Лекции Н. И., - как справедливо замечает г. Максимович, - были действительно импровизации. Он никогда не приносил с собою в аудиторию ни одного клочка бумаги, на котором был бы написан хоть план его лекции, хоть какие-нибудь заметки для памяти. Из этого правила он сделал несколько раз исключение только в тот год, когда читал археологию или историю изящных искусств, и сколько могу припомнить, именно тогда, когда читал об искусстве индийском, персидском и других древнейших азиатских народов: тогда он приносил с собой на лекцию микроскопический лоскуток бумаги, на котором, говорят, были записаны для памяти мудреные и трудные имена языческих боХ III.См. Русский Вестник за 1856 г., № 5, стр. 62-64. IY.См. П. Прозорова. Белинский и Московский университет в его время - в Библиотеке для Чтения за 1859 г., № 3, стр. 235-236. Х Y.См. Московские Ведомости 1856 г., № 81. Х YI.См. Московитянин, 1856 г., № 3, стр. 225-236. Х 146 жеств, памятников и пр. этих народов. Н. И. любил употреблять в своих лекциях вместе с философским воззрением и философскую терминологию, что, впрочем, требовалось и самим предметом (философским) его лекций. Иные слушатели его, не приготовленные к тому прежним своим воспитанием, не получившие никакого философского образования, даже не получившие логического образования в порядочной степени, не мало затруднялись этим, и даже некоторые не скрывали своего неудовольствия, называя это схоластикой, школярством, припоминая тут же и все, что не любит в своем учении молодость, как конь – узды. Зато другие, все, кого не затрудняло философское воззрение и философская терминология, были без ума и от того, и от другой. Способ выражения Н. И. употреблял самый блестящий, язык самй яркий: неожиданные сравнения, непредвиденные антитезы, самые смелые метафоры, остроумные сближения языка ораторского и поэтического с обыденною, простою речью и т. д., все это восхищало, поражало, изумляло слушателя. Каждая лекция Н. И. представляла собою целое, полное, замкнутое, стройное, прекрасное. Профессора – так водилось тогда – обыкновенно пред началом каждой лекции назначали кому-нибудь из студентов составить лекцию, имеющею быть ими прочитанною, по записке, которую он успеет записать с голоса профессора (и прочие студенты записывали вслед за профессором, но для себя, для собственного своего употребления), или после лекции назначали кому-нибудь сделать это, а на следующей лекции выслушивали – что и как сделано по их распоряжению. Бывало, составить иную лекцию, особенно если студент был плохой скорописец, - сущее мучение. С лекциями Н. И. этого вовсе не было: было достаточно запомнить или записать только точку отправления его мысли, главнейшие пункты и порядок; остальное, при составлении его лекции, являлось при помощи припоминания как бы само собою, легко и свободно: и составлялась лекция без труда, и выходила она из рук студента чем-то целым, благоустроенным, порядочным, весьма недурным и по содержанию, и по форме, и даже по языку. Слушатель выходил с его лекции с непоколебимым убеждением в истине его слов. Несмотря на возвышенность своей философской теории в эстетике, он умел с ясною и точною последовательностью выводов излагать ее так, что все понимали и принимали ее несомненно. Начала, основания своей теории, представлял он с такой осязательною отчетливостью и ясностью, что мудрено было их не выразуметь даже и ленивому и неповоротливому уму. Стройная и непреодолимая сила его доказательств, его диалектическое искусство могли приводить иногда к мысли, что он способен убедить слушателя в чем угодно»44(ХYII). Особенно памятна была для слушателей Надеждина его лекция, читанная в сентябре 1832 года, в присутствии С. С. Уварова (25) и прибывших с ним посетителей. П. Прозоров говорит: «Предметом лекции было объяснение идеи безусловной красоты, являющейся подсхемою гармонии жизни, о ее осуществлении в Боге под образом вечной отчей любви к творению и проявлении в духе человеческом стремлением к бесконечному, божественным восторгом, а в душе художника образованием идеалов. Студенты, записывавшие лекцию, бросили свои перья, чтобы Х YII.См. Моск. Вед. 1856 г., № 81. 147 чрез записывание не проронить ни одного слова, и только смотрели на профессора, которого глаза горели огнем вдохновения; одушевленный голос сопровождался оживленностью физиономии, живостью движений, торжественностью самой позы; даже посторонние посетители, вместо тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекциях других профессоров, невольно обратились к профессору и смотрели на него, как будто на оракула. Уваров, пораженный возвышенностью развиваемого им предмета и изящным изложением, спросил Н. И-ча: понимают ли его студенты? Профессор отвечал, что по журналам (запискам) его лекций он утвердительно может сказать, что слушатели вполне его понимают. Сергей Семенович, обращаясь к прибывшим с ним посетителям, тихо и неслышно сказал: «Читает лучше, чем пишет». А писал Надеждин, как это было известно тогда каждому, прекрасно (в смысле стиля, а не почерка, которого нельзя было похвалить)»45(ХYIII). Профессор Максимович, бывший на этой лекции, подтверждает произведенное ею впечатление, говоря: «Надеждин и в ту лекцию, по своей особенной привычке, сидя на кафедре, то навивал себе на палец целый платок, то распускал его во всю длину; а между тем в продолжении часа он пересказал учение Канта и Фихте(27) об изящном так ясно и красиво, как один только Павлов (28) умел в своих писаных, округленных лекциях излагать нам глубокомысленные, но темнословные истории немецких гениев… Красноречивый писатель-министр, по выходе из аудитории, сказал сопровождавшим его профессорам: «В первый раз вижу, чтобы человек, который так дурно пишет, мог говорить так прекрасно!». «Слог первопечатных статей Надеждина не нравился вообще в литературном кругу, будучи еще не устроен, излишне витиеват, недовольно художественен»46 (ХIХ). Важно то, что посещение С. С. Уварова, как свидетельствует Максимович, - было неожиданно. Лавдовский говорит, что посетители явились уже с четверть часа спустя после начала лекции, и когда С. С. Уваров предложил Надеждину продолжать лекцию, последний «не изменил ни тона голоса, ни обыкновенного положения своего на кафедре, даже не прервал нити той мысли, которую прежде прихода министра начал выражать, и повторил только несколько слов начатого им периода». Лекцию эту, продолжавшуюся около полутора часов, Лавдовский называет настоящим потоком волшебного, увлекательного красноречия и говорит, что очень многие желали иметь хоть какой-нибудь список ее, но никто из студентов не записывал за профессором, чтобы только слушать его. Кроме внутренних и внешних достоинств, которыми отличались лекции Надеждина, он привлекал к себе своих слушателей деликатным обращением с ними, что в то время не было общим правилом, а с некоторыми из своих студентов Надеждин был даже в очень близких отношениях. Не лишне будет заметить, что в числе его слушателей находились: В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич, О. М. Бодянский и К. С. Аксаков (28). Об отношениях к первому имеется такой рассказ П. Прозорова: «Образовался литературный кружок у своекоштного студента Х YIII. См. Библ. для Чтения за 1859 г., № 12, стр. 10-11. IХ.. См. Москвитянин 1856 г., № 3, стр. 225. Х 148 Станкевича, который жил тогда у профессора Павлова. Белинский переселился в квартиру Николая Ивановича в доме Самарина (29), подле Страстного монастыря. И здесь привелось мне быть у Виссариона Григорьевича по особому случаю. По распоряжению товарища министра народного просвещения Уварова, посещавшего в то время каждый день профессорские лекции, назначено было, в числе прочих, и мне говорить с профессорской кафедры лекцию. Предметом лекции я выбрал развитие идей о творческой силе в искусстве или гение. Николай Иванович, выслушав наши приготовительные чтения и приготовясь к ответам на могущие встретиться со стороны Уварова возражения, обратился ко мне и сказал: «Я вполне надеюсь на вас». Обрадованный словами любимого профессора, я прямо устремился в комнату Белинского передать ему о будущих наших чтениях. Виссарион Григорьевич, заваленный книгами и французскими журналами, доканчивал тогда свои «Литературные мечтания». Кто только посещал лекции Надеждина, не хотел верить, что эти «Мечтания» писаны Белинским, а не Надеждиным. Так они были проникнуты духом редактора Телескопа и Молвы. Составляя записки полного курса эстетики Надеждина и будучи членом литературного студенческого общества, я могу хорошо отличить, что в этих мечтаниях принадлежит Надеждину и что Белинскому. Из своекоштных студентов занимался составлением лекций Надеждина Н. В. Станкевич, которому я сообщил в пособие записки эстетики профессора Московской духовной академии Доброхотова (о котором упоминается в автобиографии Надеждина). Сочувствуя вполне восторженному удивлению молодого поколения к плодотворной деятельности Белинского, я обязан сказать, однако, что он в первые годы своей литературной деятельности был только сознательным органом выражения идей Надеждина. Как редактор журнала Николай Иванович, найдя в Белинском человека, одаренного эстетическим пониманием, вполне способного развивать его мысли и излагать их в изящной форме, сообщил молодому таланту философско-художественное направление для последующей независимой деятельности. Когда талант Белинского созрел под благотворным влиянием Надеждина, он пошел далее своего учителя в приложении к литературе, как это и должно быть по закону прогресса, тем более что деятельность Надеждина приняла более обширные размеры, чем одна изящная литература»47(ХХ). Следует, однако ж, заметить, что наиболее подготовленные из слушателей Надеждина, студенты старших курсов, бывавшие в кружке Н. В. Станкевича, из коих некоторые названы выше, относились, хотя и сочувственно, но взыскательнее к содержанию его лекций, чем те, с отзывами которых читатели уже познакомились. Так, К. С. Аксаков, в своем «Воспоминании студентства 1832-1835 годов», говорит: «Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, почуяв, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных заХ Х.Библиотека для Чтения за 1859 г., № 12, стр. 12-14. 149 нятий. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили, и уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими знаниями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан48(ХХI). Тем не менее благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили, и конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучей речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел»49(ХХII)/ Для полноты очерка ученой деятельности Надеждина в среде Московского университета, следует упомянуть еще о его участии в трудах Общества любителей российской словесности, состоявшего при университете с 1811 года. Надеждин избран был в членs этого общества в 1834 году, во время председательства М. Н. Загоскина (30), когда оно уже клонилось к упадку отчасти по недостатку материальных средств, отчасти по другим причинам. В первом же заседании после своего избрания Надеждин обратился к сочленам с речью, в которой самым решительным образом указывал на необходимость безотлагательных мер для оживления угасавшей деятельности общества. «Настоящая минута есть решительная для нашего общества», говорил он, «я не причисляю теперешнего нашего собрания к числу тех обыкновенных и чрезвычайных заседаний, которые с некоторого времени составляют всю историю нашего общества и которых все действие ограничивалось составлением протокола, припечатываемого в газетах и потом тихо, безмолвно приобщаемого к прочим таковым же. Судя по себе, я полагаю, что мы все утомились достаточно прошедшим, хотя это прошедшее – скажем откровенно – состояло в совершенном бездействии. Общество находится теперь в таком положении, что ему надо не продолжать, а начинать вновь свое существование. Уже несколько лет от него существует только имя в адрес-календаре… В последние годы мы ограничивали всю нашу деятельность выбором членов; мы их выбрали довольно; но из этих новых сочленов был ли тот один, который уведомил бы общество, хоть из приличия, что он принял выбор его с признательностью? Кто теперь дорожит его дипломом? Но что я говорю: дипломом? Общество само чувХ ХI.Н. В. Станкевич был с 1831 по 1835 г. постоянным сотрудником Телескопа и Молвы, издававшихся Надеждиным, и живя у профессора М. Г. Павлова, имел частые случаи беседовать с Надеждиным, посещавшим Павлова. См. П. В. Анненкова, Н. В. Станкевич. Переписка его и биография (М., 1857); стр. 2-3, 31-37. Х ХII.См. газету День 1862 г., № 40, стр. 3. Надеждин был также в числе обычных посетителей на вечерах С. Т. Аксакова, о чем упоминает Максимович в Москвитянине за 1856 г., № 3, стр. 226. 150 ствует свое положение; оно уже и не посылает никому дипломов; оно даже не может посылать их, если б и хотело, потому что нечем их печатать: доска, последний остаток его существования, и та погибла! Ее, говорят, удержали за долги в типографии, и может быть, так же продадут с молотка, как продают теперь наши Труды»… Надеждин думал, что прежняя программа для деятельности общества, состоявшая в распространении сведений о правилах и образцах здравой словесности, а также в доставлении публике обработанных сочинений в стихах и прозе, отжила свой век, а потому предлагал сочленам изменить цель и направление своей деятельности, обратив ее на исследование истории русского языка и русской словесности. «Пусть каждый, кто изъявит желание, - говорил он, - возьмет себе по выбору ту часть, которая к нему ближе, которою он преимущественно занимался, и обрабатывает постепенно ее важнейшие явления, сообразно предложенной точке зрения. Относительно произведений собственно народной словесности, мы имеем уже между нашими сочленами людей, трудящихся над разными ее частями – именно: над пословицами – г. Снегирева, над сказками – г. Макарова, над песнями – г. П. Кириевского (31). Пусть они ими и занимаются, имея в виду цель общества. Что ж касается до памятников собственно книжной словесности, то, я думаю, может быть следующее разделение. Я возьму себе нашу духовную словесность, как учено-богословскую, так и литературно-проповедническую, с присовокуплением литературы учено-философической, которая у нас немногочисленна и большею частью принадлежит писателям духовного чина. Г. Шевырев (32) пусть займется изящною словесностию, то есть поэзией и красноречием или витийством в собственном смысле (кроме духовного). Г. председатель не откажется, конечно, облегчить его труд, отделив для себя из круга поэтических произведений театр, где он в своей даче. Г. Погодин (33) есть законный владелец литературы исторической. История юридического нашего языка, начиная с древнейших грамот, может быть предоставлена г. Морошкину (34). Язык естественнх наук, по части физики, химии и сельского хозяйства, поручим г. проф. Павлову, а по части натуральной истории – г. Максимовичу. Для медицинских наук мы не имеем у себя работника; но я предлагаю обществу избрать в члены свои г. адъюнкта К. Лебедева (35), известного своими сочинениями по сей части, который, я уверен, не откажется участвовать в наших трудах. Истории языка математических наук будем ожидать от г. Перевощикова (36). Не знаю, к кому обратиться по части технологии и военных наук; но со временем верно найдутся желающие принять участие в общем деле. Наконец, довершить сию работу изложением и разбором всех опытов грамматики и риторики, бывших доселе у нас, кому приличнее, как не г. Давыдову.?»50(ХХIII). Известно, однако ж, что предложение Надеждина не было осуществлено и общество вскоре прекратило свои заседания. Переходим к трудам Надеждина в должности члена училищного комитета при Московском университете. Тогда учебными делами целого округа непосредственно заведовал совет университета под ближайшим наблюдением попечителя. Х ХIII.См. П. Савельева. “Участие Надеждина в Трудах Московского общества любителей российской словесности”, в Библиографических записках за 1858 г., № 17, стр. 541-544. 151 Не только учебная и хозяйственная деятельность низших и средних заведений министерства народного просвещения в округе была управляема университетским советом, но и самое назначение служащих в этих заведениях, представление их к наградам или взыскания с них по службе шли также чрез университетский совет. Кроме того, учебные заведения всех других ведомств в том же округе, за исключением духовных и военных, должны были ежегодно представлять в университетский совет отчеты о ходе преподавания в них вместе со списками служащих и учащихся51(ХХIY). Такая обширная деятельность, продолжавшаяся до 1836 года, разумеется, требовала разделения занятий между членами совета. А потому внутри университетского управления, в качестве подчиненных совету инстанций, существовало несколько учреждений, между коими и разделены были дела учебного округа: так, надзором за хозяйственною частью во всех учебных заведениях, начиная с Демидовского училища высших наук в Ярославле и оканчивая приходскими училищами, заведовало правление университета, которое в то время состояло из ректора, проректора, деканов четырех факультетов, непременного заседателя из профессоров, без подписи коего не выходила ни одна бумага из правления, и синдика, избиравшегося до 1831 г. также из профессоров. Все исчисленные должности не могли уже соединяться ни с какими другими по университету и его округу, кроме профессорской. Синдик (37) правления обыкновенно командировался, в качестве депутата университета, в гражданские и уголовные палаты при рассмотрении последними дел обоего рода, если они касались интересов учебных заведений, и только уголовных, если они касались лиц учебного ведомства. В виду этих обязанностей в синдики всегда избирались профессора этико-политического, то есть юридического факультета. Все дела по хозяйственной части, превышавшие компетенцию правления, шли чрез совет к попечителю и далее к министру. В числе этих дел были, между прочим, дела по управлению крестьянами, принадлежавшими университетской типографии и Демидовскому училищу. Для управления учебною частью в округе существовал училищный комитет, в котором, под председательством ректора, заседали шесть человек, избиравшиеся советом на каждый учебный год преимущественно из ординарных профессоров всех факультетов, но из медицинского реже других. На этом-то комитете, членом коего Надеждин был в продолжение трех лет, и лежало управление текущими учебными делами в округе и надзор за служащими по этой части. <…>Таких визитаторских поручений, во время своего трехлетнего служения в училищнном комитете, Надеждин имел четыре: в мае 1833 года он осмотрел Московскую гимназию; в феврале 1834 года – Тверскую гимназию, уездные и приходские училища в Твери, Торжке, в Вышнем-Волочке и Клину; в июле и августе того же года был визитатором в Рязанской и Тульской губерниях; наконец, в сентябре того же года обозревал 1-ю Московскую гимназию, уездные и приходские училища в Москве. Отчеты, поданные Надеждиным после этих визитаций, Х ХIY.Таких учебных заведений насчитывалось в 1828 году 13. См. дело архива Моск. унив. За 1828 г., № 747. 152 сохранились в архиве университета и могут дать понятие не только о его личных взглядах на состояние учебного дела в то время, но и вообще на значение подобных визитаций, принесших свою долю пользы народному просвещению в России52(ХХY). Х ХY. Дело архива Моск. унив. за 1834 г., № 231. Примечания редактора Нил Попов неточен. Издателем «Телескопа» Надеждин был с 1831 по 1836г. «Молва» выходила в 1831г. еженедельно (по вторикам), в 1832г. 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам), в 1833г. 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), в 1834г. «Молва» выходила вместе с «Телескопом», но пагинация отдельная – еженедльно (по понедельникам), в 1835г. – еженедльно (по субботам), в 1836г. выщло 15 номеров. «Вестник Европы»(1802-1830) – журнал, основанный Н.М. Карамзиным. «Московский »естник» – журнал московских «любомудров». Издатель-редактор – М.П. Погодин. Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева напечатано в журнале «Телескоп», 1836, ч. ХХХIY, №15, с. 275-310. (Пер. с фр. А. Норова). В 1838 г. Надеждин был возвращен из ссылки после ходатайства Д.М. Княжевича и Я.И. Ростовцева. В 1840-1841 гг. путешествовал вместе с Д.М. Княжевичем по славянским странам. По поручению Министерства внутренних дел изучал новейшую историю русского раскола, «трудился для Одесского общества истории и древностей и Русского географического общества». О деятельности Надеждина после ссылки Н. Попов рекомендовал смотреть Надеждинскую «Записку о путешествии по южно-славянским странам» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1842 г., ч. ХХХIY, с.87-106, и «Отчет о путешествии, совершенном в 1840 и 1841 годах по по южно-славянским землям» в «Записках Одесского Общества Истории и Древностей», т.1(1844), стр. 518-558. Ср. также «Письма Платона Атанацковича, Вука Караджича, Миклошича и Коллара к Н.И. Надеждину», напечатанные Н. Поповым в «Русском Архиве 1873 г. (без номера, см. вып.7. – Ред.), стр. 1131-1221. Дядьковский Идетин Евдокимович – врач, доктор медицины, профессор Московского университета с 1831 года. В 1836 году уволен за пропаганду антирелигиозных и материалистических взглядов. Каченовский Михаил Трофимович (1775-1342) – историк, критик. В Университете с 1805 г., доктор философии и изящных искусств, профессор теории изящных искусств и археологии (1810), профессор истории, статистики и географии Российского государства (с 1821 г.). С 1831г. декан словесного отделения, с 1835 по 1841г. возглавлял кафедру истории и литературы славянских наречий. С 1847г. – ректор Университета. С 1841г. – академик Академии наук. В 1805-1807, 1811-1813, 1815-1830 гг. редактировал журнал «Вестник Европы». Свои статьи в «Вестнике Европы» Надеждин подписывал по-разному: «экс-студент Никодим Надоумко», «С Патриарших прудов» и др. Литературную маску Надеждина (Никодим Аристархыч Надоумко» немедленно переделали на Недоумку его журнальные оппоненты: «Сын отечества» и «Северный архив» в 1829 г.; журнал «Галатея» в 1830 г.; «Северные цветы» в 1830 г.; так называл Надеждина и рассерженный Пушкин. 6.. Мерзляков Алексей Федорович (1778-1830 – поэт, критик литературы, профессор Московского университета по кафедре российского красноречия и поэзии, выдвинул идею национально-самлбытной литературы. Оставлен в Университете после его окончания со степенью магистра литературы. С 1804 по 1830г. читал словесность и теорию поэзии. В 1817-1818 и в 1821-1828 гг. – декан словесного отделения. 7. Снегирев Иван Михайлович (1793?2 - 1868) – этнограф, собиратель и исследователь русского фольклора, археолог, искусствовед. Окончил Университет по слвесному отделе- 153 нию (1814), преподавал латинский язык (1818-1826), профессор по кафедре латинского языка и римских древностей (1816-1835). Цензор (1828-1855). Ивашковский Семен Мартынович (1774-1843?1) - профессор греческого языка , словесности и латыни в Московском университете (1819 г. - 1835 ). Лекции не пользовались популярностью у студентов. Победоносцев Петр Васильевич (1771-1843), профессор российской словесности. в Московском университете, преподавал риторику и словесность «по старинным преданиям, невероятно скучно» (К. Аксаков). Цензор. Диссертация Н.И. Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии романтической» печаталась отрывками в журналах «Вестник Европы» (1830, №№ 1-2), «Атеней» (1830, №1), На латинском языке издана в 1830г. На русском языке полностью опубликована Ю.В. Манном в кн.: Н.И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. Сохацкий Павел Афанасьевич (1766-1809) - писатель, профессор философии, эстетики и древней словесности Московского университета . В юности был переведен из Киева в филологическую семинарию на учебу курвтором Университета М.М. Херасковым. Студентом Университета вместе с В.С. Подшиваловым и др. участвовал в «Покоющемся трудолюбце» (1784-1785) Н.И. Новикова. Редактировал с М.Г. Гавриловым «Политический журнал» (1790-1830); с В.С. Подшиваловым редактировал журнал «Приятное и полезное препровождение времени» (17941798) – приложение к «Московским ведомостям», затем «Иппокренау» (1799-1801) и «Новости русской литературы» (1802-1807) с Подшиваловым. Буле Иоганн Феофил (Теофил) (1763-1821) – профессор естественного права и теории изящных художеств в Московском университете, автор «Опыта критической литературы русской истории». Профессор философии Иттингенского университета. с 1787 года, был учителем принцев Англии и Ганновера. Приглашен в 1804г. в Московский университет его попечителем М.Н. Муравьевым (1803-1807) в числе одиннадцати лучших ученых Германии. В Университете занимал кафедру естественного права этико-политического отделения. Издавал первую еженедельну. научную газету в Москве «Московские ученые ведомости» (1805-1807), отражавщую деятельность Университета. В 1807г. издавал первый русский художественный журнал «Журнал изящных искусств». Гаврилов Александр Матвеевич (1795-?) адъюнкт по кафедре славянского языка, теории изящных искусств и словесности в Московском университете. После смерти отца Матвея Гавриловича Гаврилова – первого профессора славянскихз языков, востоковеда, продолжил издание «Исторического и географического журнала». Ливен Карл Андреевич (1767-1844), князь – министр народного просвещения (18281833). При наступлении на университетскую автономию не допускад мысли, что «чиновникам и неученым и не сведущим в управлении столь важными учебными заведениями» можно этл доверить. Глаголев Андрей Гаврилович (?-1844) – доктор словесности, писатель, автор «Записок русского путешественника». Др. источник: воспитанник Московского университета. Кандидат университета (1816), магистр словесносных наук, доктор медицины. Василевский Дмитрий Ефимович (1780-1842) – юрист, профессор публичного и народного права в Московском университете. 14. Болдырев Алексей Васильевич - (1780-1842), воспитанник Московского университета. Ориенталист, профессор арабского и персидского языков. С 1806 магистр философии, с 154 1811г. адъюнкт кафедры восточных языков, с 1815г. экстраординарный, 1818г. ординарный профессор Московского университета по кафедре восточных языков, в 1836-1837г.г. ректор, 2ой сторонний цензор Московского цензурного комитета. Автор трудов по арабской поэзии и прозе. Хрестоматия персидской поэзии Болдырева считалась лучшей в Европе. Уволен от должностей за пропуск в печать "Философического письма" Чаадаева (1836) Ульрих Юлий Петрович (1773-1836) профессор всеобщей истории, статистики и географии в Московском университете, специалист по немецкой литературе. С 1809г. читал лекции на немецком языке, успехом не пользовался. В 1832г. подал в отставку. 15. Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854), немецкий философ-идеалист. Центральное произведение «Система трансцендентального идеализма» появилось в 1800г. и популяризировалось «любомудрами». Рейс Федор Федорович (Рейсс Фердинанд Фридрих) (1778-1852) – химик, профессор по физико-математическому факультету. Оформил каталоги университетской библиотеки. Давыдов Иван Иванович (1794-1863), математик, физик, историк, философ и словесник, профессор Московского университета В 1826г. ему было запрещено читать лекции по философии, в которых он пропагандировал теорию Шеллинга. Кафедра философии была закрыта, Давыдов был переведен на физико- математическое отделение преподавать алгебру. В 1831 г. занял кафедру русской словесности, но лекции читал холодно, «с напускной величавостью, которая быстро превращалась в позу гордости и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны из начальства» (И. Гончаров). Котельницкий Василий Михайлович (1770-1844) – фармацевт, воспитанник Московского университета., профессор (1804-1835), декан медицинского факультета, читал фармацевтическую химию о сложных лекарствах. 17. Нил Попов неточен. Лекция Надеждина была напечатана в «Телескопе» (1831, ч.111, №10, с. 151-154) под названием «Необходимость, значение и сила эстетического образования». Сокращенную нами часть дискуссии Н. Попов откомментировал, сравнив Дневную Записку Совета Московского университета от 6 мая 1831г.(с. 400-402) с приложением к ней со словами самого Надеждина: «Странно после этих подлинных известий читать в автобиографии Надеждина о его конкурсе на университетскую кафедру следующее: «У меня было несколько соперников, коих имена покрыты были, как и следует, тайною…Наконец, уже весною в начале 1831 года я получил от Совета университета официальное уведомление, что из представленных в конкурс сочинений факультет отдал предпочтение тому, которое, по вскрытии маски, оказалось принадлежащим мне!!» 18. «Учёные записки» начали выходить в Университете в июле 1833г. 19. Герен (Арнольд Херман Людовик (1760-1842) – немецкий историк и философ, профессор Геттингенского университета, автор «Jdeen uber die Politik, den Verkehr und den Handeln der ronehmsten der alten Weet». Gottingen, 1803. 20. Бутервек Фридрих (1756-1828) – немецкий философ и историк литратуры. Читал лекции в Геттингенском университете. Бахман Карл Фридрих (1785-1855) – немецкий учёный, филолог, теоретик «искусства», профессор Иенского университета. 21. Прозоров Павел Иванович (1811-1859) – университетский товарищ В.Г. Белинского, автор студенческих воспоминаний «Белинский и Московский университет в его время».- 155 Библиотека для чтения, 1859, т.157, №9. 22. Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) – немецкий философ, диалектик. 23. Лавдовский Николай - университетский слушатель Надеждина, автор воспоминаний о Надеждине. Перевел с латыни на русский язык диссертацию Надеждина «пр собственному выбору». 24. Максимович Михаил Александрович (1804-1873) - ботаник, историк, филолог, фольклорист, этнограф. Учился на словесном и природоведческом отделениях Университета, ученик М.Г.Павлова. Адъюнкт с 1829 г. С 1833 г. профессор ботаники в Московском университете. В 1834-36 г.г. – ректор Киевского университета. Издатель альманаха «Денница» (1830, 1831, 1834), печатался в «Московском телеграфе», «Телескопе» и др. изданиях. Автор сборников «Малороссийские песни», «Украинские народные песни» 25. Уваров Сергий Семенович (1786-1855), граф – с 1818 г. президент Академии наук, с марта 1833 г. управляющий Министерством народного просвещения, с апреля 1834 по 1855 г. – Министр народного просвещения, председатель Главного управления цензуры. Автор сочинений по филологии и археологии, один из основателей «Арзамаса». Оформил официальную идеологию в формулу «Православия, самодержавия, народности». 26. Кант Иммануил (1724-1804) – основоположник немецкой классической философии. Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) – немецкий философ-идеалист. 27. Павлов Михаил Григорьевич ( 1793-1840 ) – философ, физик, агробиолог. Окончил медицинское и математическое отделение Московского университета. С 1820 г. в Университете профессор-энциклопедист читал курс минералогии и сельского домоводства , физику и другие предметы. Издавал журналы: «Атеней» (1828-1830) с приложением «Записок для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов» (с 1829 г.), «Русский земледелец» ( 1838-1839). Много печатался в московских журналах. Талантливые лекции профессора-истолкователя натурфилософии Шеллинга пользовались редкой популярностью на всех отделениях Университета. 28. Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) – критик, публицист демократического лагеря, общественный деятель. Исключен из Московского университета по политическим мотивам. Активный сотрудник журналов «Телескоп» ( и газеты «Молва»), «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Современник», внесший большой вклад в развитие теории критического реализма и теории русской журналистики. Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) – поэт, философ, общественный деятель. Воспитанник Московского университета (1830-1834); получил медаль за сочинение «О причинах возвышения Москвы до смерти Иоанна III».Вокруг Станкевича образовался литературнофилософский кружок ( 1831-1839): В. Красов, И. Клюшников, В. Белинский, К. Аксаков, В. Боткин, М. Бакунин, А. Кольцов, Т. Грановский, М. Катков, Ю. Самарин и др. Поэт печатался в «Телескопе», «Московском наблюдателе». Бодянский Осип Максимович (1808- 1877) – славист. Окончил отделение словесных наук философского факультета Московского университета. С1842 г профессор кафедры истории и литературы славянских наречий, секретарь ОИДР и редактор его «Чтений». С 1845 г. сыграл важную роль в развитии славяновидения в России. Печатался в славянофильских изданиях. Близок к официальной идеологии. 156 Аксаков Константин Сергеевич (1818-1860) – поэт, филолог, историк, публицист и общественный деятель, один из идеологов славянофильства. Окончил Московский университет. Печатался в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Москвитянин», участвовал в издании «Московского сборника», сотрудничал в журнале «Русская беседа», редактировал газету «День». Автор оригинальных работ по языкознанию, русскому фольклору и истории. 29. Самарин Федор Васильевич ( 1784-1853) – действительный тайный советник, отец Ю.Ф. Самарина (1819-1856) – славянофила, воспитанника Московского университета, автор исторических сочинений. 30. Загоскин Михаил Николаевич (1789-1852 ) –писатель, драматург-комедиограф, автор популярных романов «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и «Рославлев, или русские в 1812 году» (1831). В 1817-1818 служил в дирекции императорских кадров, в 1818 -1820 – в императорской Публичной библиотеке. В 1831 директор императорских театров, с 1842 директор московской оружейной палаты. 31. Макаров Михаил Николаевич (1789-1847) – поэт, писатель, драматург, собиратель фольклора, журналист, противник А.С. Шишкова. Издавал «Журнал для милых» (1804), участвовал в журнале «Аглая», «Журнале драматическом», «Дамском журнале». Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) – этнограф-фольклорист, публицист, археолог, собиратель и издатель русского народного поэтического творчества, примыкал к славянофилам. Подготовил «Собрание народных песен», что Н.В. Гоголь назвал «великим подвигом». Киреевский владел семью языками и печатал переводы в «Московском вестнике», участвовал в «Европейце», «Москвитянине». Нил Попов пишет П. Киреевский, через «и». 32. Шевырев Степан Петрович (1806 – 1864) – историк и теоретик литературы, критик, журналист, поэт, воспитанник университетского Благородного пансиона. Профессор Московского университета, в 1832 г. в качестве адъютанта начал читать лекции по русской словесности, затем курс всеобщей истории поэзии, истории русского языка и слога (с 1834). Профессора (с 1837) отличал педантизм и авторитарность. Почетный доктор Пражского университета. Деятельно участвовал в журналах «Московский вестник», «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Москвитянин». Поддерживал формулу «официальной народности». В 1852г. избран академиком. К столетнему юбилею подготовил издание "«стории Московского Императорского университета... 1755 -–1855. М., 1855. 33. Погодин Михаил Петрович (1800 – 1873 ) – историк, писатель, драматург, журналист, общественный деятель, знаток и собиратель древних рукописей по истории России и славянских государств. Окончил Московский университет в 1821 г. и стал преподавателем Благородного пансиона, с 1826 г.- Университета в качестве адъютанта, затем профессора ( с 1833) русской и всеобщей истории. В 1835г. занял кафедру русской истории. С 1841г. – академик Академии наук, почетный член русских и иностранных университетов. Организатор, редактор и сотрудник многих московских журналов: «Московский вестник», «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Москвитянин».. Был секретарем (1834) и председателем ОЛРС (1860-1866). Эволюцинизировал от умеренного либерализма к «официальной народности». 34. Морошкин Федор Лукич (1804-1857) – воспитанник Московского университета, адъютант, затем профессор Университета по кафедре права, читал римское право. С 1836 по 1854 г. читал Законы гражданские общие, особенные и местные российской империи, теорети- 157 <…> Как за службу по университету вообще, так и за визитацию училищ Тверской, Рязанской и Тульской губерний, Надеждину высочайше пожаловано было, по удостоению комитета министров, от 16-го апреля 1835 года, в единовременное награждение 1000 р. из хозяйственной суммы университета; а 15-го мая того же года он получил совершенную признательность министра народного просвещения за обозрение 1-й Московской гимназии, уездных и приходских училищ в Москве. Но это уже были последние шаги Надеждина на университетской службе <…> ческое и практическое гражданское судопроизводство. 35. Лебедев Козьма – адъютант медицинского отделения университета, доктор медицины, лектор общей патологии и терапии. 36. Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788-1880) – математик, астроном, физик, пропагандист естественнонаучных взглядом М.В. Ломоносова, отстаивал его приоритет перед Гумбольдтом, основатель астрономической обсерватории Московского университета на Трех горах (1830), автор первых русских курсов астрономии. Академик Петербургской академии наук (1855). Основная деятельность талантливого профессора Перевощикова связана с Университетом 1820 – 30-х годов. Он издал много пособий, заложив основы математической университетской литературы. 15 лет (с 1833 по 1848 гг.) был деканом физико–математического факультета и ректором Университета ( с1848 по 1851 гг.). Издавал с 1826 по 1837г. «Ручную математическую энциклопедию» (8 томов), участвовал в московских журналах. Труды Перевощикова высоко ценили на Западе. 37. Синдик – (от греч. Syndicus стряпчий или прокурор) – представитель какого-либо учреждения, в данном случае – Университетского правления. 158 Николай Иванович Надеждин «История поэзии». Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева Надеждин Николай Иванович Шевырев Степан Петро- вич <…> Вот книга, которою достойно открылся новый 1836 год, после которой нельзя, по крайней мере, бояться преставления литературного света в этом роковом году! Чтения г. Шевырева имеют то важное, неоспоримое достоинство, что в них видим мы русского профессора в современных европейских формах; слышим ученого, говорящего на кафедре языком светского, блестящего красноречия. Такие 159 явления у нас редки. Сохраняя все уважение к достопочтенным мужам, украшавшим и украшающим русские университеты, нельзя, однако, не согласиться, что, кроме Мерзлякова (1), редкие из них были ораторами-профессорами. По крайней мере, все издаваемые ими книги носили на себе печать суровой важности, отличались большею или меньшею основательностью, стройностью, последовательностью, без притязания на увлекательность и живость. Это еще вопрос, каковы должны быть чтения университетские; вопрос, различно решаемый в просвещеннейших странах Европы. Немецкие профессоры доныне держатся железной дороги строгого, холодного систематизма; они чуждаются всякого постороннего украшения; представляют истину в нагом скелете понятий. Напротив, французские ученые приносят на кафедру всю ловкость, всю развязность, все изящество современной цивилизации: их чтения имеют прелесть речей; у них истина является нарядною, красивою. Оттого немецких профессоров лучше читать, чем слушать; французских лучше слушать, чем читать. <…> Трудно решить, который из этих двух способов предпочтительнее. Оба они, в своих крайностях, неудовлетворительны, вредны: один превращает науку в мертвый остов, другой рядит ее куклой. Надо знать меру в том и другом; но эта мера чем может быть определена, как найти ее? <…> Университет, высшее училище, должен действововать на высшую область познавательной системы духа, на ум! Предполагается что в благоустроенной лествице народного просвещения слушатели приходят в университет в известном возрасте, с пользой прошедши полный курс среднего коллегиального учения; следовательно, смысл в них должен быть развит и обогащен разнообразными сведениями. Что ж должны они находить в университете? Им не довольно читать науку по книге, как бы она ни была написана, как бы ни были широко и глубоко представлены в ней начала и положения науки: книгу эту они могут прочесть и сами, дома, на досуге! Университетское учение должно быть акроаматическое. (2) Университетская лекция должна быть живым парением ума опытного, искушенного, крепкого, которое бы, силою пробужденного сочувствия, увлекало за собой умы юные, неопытные, только что оперяющиеся. Профессор должен показать жизнь в науке; а это невозможно, если он сам не чувствует этой жизни, если эта жизнь не дышит из его уст, не трепещет во всех речах его. Он должен не только учить, он должен вдохновлять своих слушателей. В науке, как и во всем, есть своя поэзия. Те, которые представляют истину сухим, обнаженным скелетом, не доходят дальше ее преддверия; они видят издали только тень, бросаемую ее кумиром. В науке есть красота вечная, беспредельная! Науку можно любить! И вот почему кто из тружеников ее успевал заглянуть ей в лице, тот повергался в благоговейном восторге пред сиянием истины, сжимал ее в пламенных объятиях чувства, проповедовал об ней с пророческим энтузиазмом. Так было со всеми великими жрецами знания, двигателями и творцами науки. Таковы Пифагор и Ньютон, Платон и Шеллинг, Августин и Гердер. Я не знаю, где приличнее поместить их: в истории наук или в истории поэзии. Они равно принадлежат обеим. 160 Эту-то поэзию науки должен схватывать университетский профессор и сообщать своим слушателям. Но поэзия не может передаваться в сухих формах школьного, методического чтения: она требует живой, огненной импровизации. Как бы ни были отделаны фразы приготовленного урока, мысль всегда в них стынет больше или меньше. <…> В живой речи всегда больше жизни; слово, выпадающее из уст, сохраняет блеск и теплоту чувства, как искра, отлетающая от костра; на бумаге эта искра подергивается золою. И вот почему я предпочитаю слышать французского профессора, который импровизирует на кафедре: невольно увлекаясь его речью, которая не тащится тяжелой скрыпучей фурой, нагруженной всякого рода ученостью, а летит воздушной, легкой колесницей,— я не могу не сочувствовать этой речи, которая родится пред моими глазами, идет и растет вместе с моим вниманием, применяется к нему, не отстает и не выпереживает; я отождестворяюсь с профессором; мне легко повторять его слова в том естественном порядке, в каком они изливаются из его уст, следовать за его мыслью в том свободном парении, в каком она развивается в его душе. Нет нужды, что в подобных импровизациях иногда страдает систематическая строгость науки. «Вот где система!» — говаривал наш Мерзляков, указывая на сердце, и слушатели понимали эту систему единодушным чувством. Совсем другое бывает, когда живое слово профессора вверяется букве, когда оно переходит с одушевленной кафедры под мертвый типографский станок, когда назначается уже не для слушанья, а собственно для чтения. Книга и речь, две вещи розные. В книге очарование живого голоса, трепещущего чувством, исчезает; книга доходит до нас мертвой кристаллизацией застывшей мысли. От всякой книги, которую я читаю на досуге, в кабинете, требуется больше стройности, последовательности, отчетливости, чем от свободного, естественного разговора. Тем более это необходимо при изложении науки. Отличительный характер, сущность науки есть система. Когда я говорил о поэтической импровизации профессора и допускал в ней возможность ослабления систематической строгости, это не значит, чтоб наука не имела вовсе нужды в системе; я хотел только сказать, что в живой лекции скелет понятий должен облекаться в живое тело, кипеть живой кровью. В голове профессора должна находиться самая стройная, самая последовательная система: свобода должна быть только в форме изложения. И эта система должна являться во всей своей наготе, как скоро наука переходит в книгу; иначе наука не будет наукою.<…> Книга должна быть полным, безусловным отголоском его (профессора) умственной жизни, математической формулой, выражающей его отношение к истине. Она должна иметь двоякое назначение: первое и главное для слушателей, которые будут иметь в ней чертеж преподаваемой науки, видеть связь и целость отдельных истин, слышанных с кафедры; второе и побочное для публики, которая, если имеет охоту и возможность, заключит по ней о современном состоянии науки, так, как по образчикам, предлагаемым на выставках, заключает о современном состоянии промышленности. Разумеется, я предполагаю, Профессора – Ред. 161 что профессор не имеет целью быть народным, общеполезным учителем; в таком случае он входит в разряд литераторов, подчиненных условиям практической, общежительной словесности. Но тогда его книга не будет профессорскою книгою; она не будет университетским учебником. <…> Я разумею профессора как профессора — таинника и пророка науки! И вот почему я предпочитаю читать книги немецких профессоров, где истина представляется во всей логической наготе, где я могу ее видеть лицом к лицу. <…> Нет нужды, что эти книги сухи, отвлеченны, холодны; если в основании их лежит живая идея, я схвачу ее и разовью сам. Так бывает, например, в музыке: композитор наставит вам точек и крючков; но по этим точкам и крючкам артист поймет и сыграет верно пьесу, тогда как никакой одушевленный рассказ не даст ему об ней удовлетворительного понятия. Итак, вот мое мнение: профессор должен читать, как француз, писать и печатать, как немец; его живая речь должна веять поэзией вдохновения, книга носить печать строгого систематического порядка! <…> Перехожу к книге г. Шевырева. По свободе изложения, чуждой систематического порядка, она принадлежит к французской методе преподавания. Но это не импровизация, это плод терпения и работы: г. Шевырев обделывал свои уроки, он читал их для слушателей. Значит, его лекции не принадлежат, собственно, ни к той, ни к другой категории. Значит, к ним нельзя иметь ни той снисходительности, в которой нельзя отказать импровизации, ни той строгости, которой подлежит ученое профессорское сочинение, опыт науки, иначе наука не будет наукою. Книга г. Шевырева есть прекрасное литературное произведение, замечательный факт нашей изящной, но не ученой словесности… Печатается по: Н.И. Надеждин. «История поэзии». Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе историю поэзии индзейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов новой Западной Европы. Москва, в типографии А. Семена, 1835. IY 353 (8)». // «Телескоп», отдел «Критика». 1836, ч. ХХХI, № 4, с. 649 – 716. Николай Иванович Надеждин (1094 – 1856) – выдающийся философ, эстетик, критик, профессор Московского Императорского университета. Основал при Университете и редактировал журнал «современного просвещения» «Телескоп» (с прибавлением «Молва»), привлек к участию в нем действующих и будущих профессоров (М. П. Погодина, М. Г. Павлова, М.А. Максимовича, Д.М. Перевощикова, С. П. Шевырева, А.Х. Востокова, А.Д. Галахова и др.); Н. Станкевича, А. Герцена, Н. Огарева и их друзей – университетских студентов (А. Савича, В. Соколовского, М. Чистякова, К. Аксакова); московских литераторов, ученых и мыслителей (Н.Ф. Павлова, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, В.П. Андросова, Д.П. Ознобишина, М.Н. Загоскина, Н.А. Мельгунова и других). В «Телескопе» талантливый ученый–энциклопедист и педагог Надеждин подготовил к самостоятельной деятельности, выражаясь языком Пушкина, своего «своенравного» ученика Виссариона Белинского – лучшего критика демократического лагеря 1830 – 40 годов. До последнего времени остается трудно измеримым вклад Надеждина в развитие научных знаний в России, настолько обширны и разнообразны были его интересы. Обращение исследо- 162 вателей к работам Надеждина, распыленным по разным русским журналам, всякий раз вознаграждается маленькиим открытиями, плодотворными перспективами. Неоценима роль Надеждина – профессора, пробуждавшего студентов своими точно выверенными лекциями–импровизациями к познанию тайн жизни и искусства. Примечания Здесь помещен отрывок из вводной части статьи Н.И. Надеждина, где говорится об университетском учении как посвящении «в рыцари знания». Надеждин отстаивает свой взгляд на просвещение в целом и публичное преподавание в особенности. Выступление Надеждина с критикой книги лекций С. П. Шевырева (1808 – 1864) стало поводом для острой полемики между «Телескопом» и «Московским наблюдателем» по проблемам эстетическим и методологическим. Кроме того, Надеждин, покинувший университетскую кафедру в 1835 г. ординарным профессором, тонко, но больно задел самолюбие начинающего лектора и ученого Шевырева. Полемика вызвала резонанс в обществе и в печати, включились даже Ф. Булгарин и О. Сенковский. С.П. Шевырев начал читать лекции по всеобщей истории поэзии в 1834 г., после защиты магистерской диссертации «Дант и его век», но его лекции пользовались ограниченным успехом, воспринимались слушателями неоднозначно. В 1837 г. Шевырев стал экстраординарным профессором, в 1852 г. был избран академиком. 1. Алексей Федорович Мерзляков (1778 – 1830) – критик, теоретик литературы, поэт и переводчик, профессор красноречия, стихотворства и языка в Московском университете. Воспитанник гимназии при Университете, Мерзляков закончил Университет и в 1804 г. в звании магистра занял кафедру российского красноречия и поэзии. В 1817 – 18, 1821 – 28 гг. – декан словесного отделения. При участии Мерзлякова в 1801 г. в Университете было образовано «Дружеское литературное общество». Литературные собрания с его участием заложили основу «Общества любителей российской словесности» (1811), где Мерзляков был председателем. Литературная популярность Мерзлякова связана с его участием в журналах и альманахах Москвы и Университета. Он печатал свои песни в народном духе («Среди долины ровные..,», «черноокий, чернобровый..» и др., переводы Виргилия, Горация, Т. Тасса, лекции по эстетике. Мерзляков обладал талантом оратора–импровизатора, привлекавшим в студенческие аудитории и в ОЛРС многочисленных поклонников поэзии из высшего света. Неизменным успехом пользовались публичные лекции профессора о российской поэзии и красноречии (о гении, таланте, о вкусе, критике и т.д.). 2. Акроаматический – назначенный для слушания, состоящий из сплошной, не прерывающейся вопросами речи (В. Даль) метод, действующий «на высшую область познавательного духа, на ум», по мысли Н.И. Надеждина. Надеждин противопоставляет этот университетский метод преподавания катехитическому, состоящему из вопросов и ответов, или «огласительному», пригодному для преподавания в школах «низших», и эротематическому – для «средних» учебных заведений – не позволяющему превратить «смысл в попугая», т.е. обогащающему положительными знаниями, объясняющему, развивающему смысл, спускающему «книгу в смысл учащегося». 163 Константин Сергеевич Аксаков Воспоминания студентства 1832 – 1835 годов 164 Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен,— экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался для меня страшен; А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет. В мое время полный университетский курс .состоял только из трех лет или трех курсов. Первый курс назывался подготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было сравнительно довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас, человек 20—ЗО. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидали друг друга в первый раз; во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи,— чувство для меня новое. В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодыхлюдей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время, слышалось, хотя несознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были точно молоды, не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, ни вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатьй и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства в силу человеческбго имени, давалось университетом и званием студента. Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы; мало, почерпнули из университетских лекций и много вынесли, из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя, собственно, товарищи мои ничем не сделались замечательны,— кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду,— но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим основание, воспоминанием. <…> На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, невыносимо скучно.<…> Кроме Победоносцева были у нас профессорами: богословия – Терновский, латинского языка Кубарев, греческого Оболенский, немецкого Геринг, французского Куртенер, географии Коркунов; Гастев читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики и еще чего-то (1). Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее 165 они меня довольно интересовали.От времени до времени поднимался какойнибудь студент, обыкновенно духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Терновским диалектический спор, который Терновский поддеживал, иногда с досадою, – но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял когонибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихеньким голоском своим, Тита Ливия, и только (2). Гастев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртенер толковал о participe present (3). Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его - иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомерову Одиссею. <…> Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтоб не обратиться в совершенного слушателя. Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и, скорее, забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, - и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя, и полные глубокого значения выражения богословия, и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые смешным Герингом, - падали более или менее сознательно, более или менее сильно в души юношей - лишь бы они только не противились впечатлению – нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства. Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю «Иллиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением (4) и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли.Что же было бы, если б при этой свободе студенческой университетской жизни, было у нас живое глубокое слово профессора! <…> На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии (4); все они были очень хорошо приготовлены. Я познакомился с ними со всеми и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович (5). Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно (5). Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими 166 синонимами. Я помню, как, переводя немецкое ziehen, Коссович сказал: идут, тянутся, стремятся. Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык. Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекциею Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустою. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье; на другой скамье был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, а потом за ним ректор Двигубский. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день, студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского, - и обвинили Окатова, который тут был и это знал.В этом суждении под видом товарищества высказывалась связь общего союза – одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек. Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его обьяснения. Однажды на лекции очень серьезно я вздумал я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает со скандовкой? - Оболенский отвечал: «А это-с лучше всего объясняется пением», - и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печальноторжественною миною, что просто не было почти никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию, - и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучаясь, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне было? – Я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами», - я незнаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция кончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболенского, что ты с нами наделал?» – говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их. Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на их основывали профессора наиболее свое мнение о студентах. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызвал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегорию?» - «Как аллегорию? – сказал Терновский, - Почему вы так думаете?» - «Древо жизни, - отвечал я, - было прообразованием Христа».- «Оно было прообразованием; но это не значит, что оно не существовало», - заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне 3, а не 4. В наше время четыре был высший балл. <…> Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовле167 творял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсу, познакомился я через Дмитрия Топорнина с Станкевичем, бывшим на втором курсе. У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса; кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Клюшников; в первый раз также видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. <…> В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир,— воззрение большею частию отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было,— не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многими не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет (6). Но, видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка (7) и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми, более или менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов, Толмачев принадлежали к этому курсу. Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского,—следовательно, перестала быть свободною, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя как невольное следствие от излишества стремления, но это не было раз принятою оппозициею, которая есть дело вовсе не мудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко,— и что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч. была ему 168 смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего более Станкевича, именем которого по справедливости называю кружок; стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу — быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство (8), было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. <…> Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания, миновало и когда заменялось оно стройною свободою мысли, еще не подавляемой форменностью. Когда я поступил в университет, форменность, как сказал я, начинала вводиться, но еще слабо; были мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование, чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы носили темнозеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя с красным воротником); на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье. Я помню, что я еще во второй год своего студенчества был в Собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым. Потом, вводя форменность, нарисовали студентов на бумажке, одного в мундире, другого в вицмундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтобы мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались, и в театре, и в собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах, студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные. Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо. <…> 169 Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано: Словесное отделение. Здесь слушали вместе студентов сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессоры, и из них некоторые — люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченовский — русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом — Погодин, начавший читать всеобщую историю. Давыдов читал риторику и русскую литературу. <…> Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, ощутив, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных знаний. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку,— и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел. Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке! Я помню, какое действие произвели слова его на Станкевича, когда Шевырев произнес: «честное занятие наукою».— «Это уже не Надеждин,— сказали студенты,— это человек, точно трудящийся и любящий науку». После лекции к Станкевичу подходил Клюшников.— «Ты что мне скажешь?» — спрашивал его Станкевич. Я не помню, что Клюшников сказал ему, но помню насмешливое выражение его лица. Шевырев казался для студентов радостным событием,— но и тут скоро разлетелось очарование. Студенты скоро увидали педантичность приемов, ограниченность взглядов, множество труда и знания — это правда, но отсутствие свободной мысли, манерность и неприятное щекотливое самолюбие. Однако чуть ли уже не на третьем курсе, чуть ли уже это не мы раз170 рушили сладкие мечты о Шевыреве. Шевырев объявил нам однажды мнение, что так как уже мысль выражена его словами удовлетворительно, то он бы желал, чтобы студенты высказывали ее в ответах своих его же словами,— это весьма нам не понравилось. Наконец, скоро в Шевыреве обнаружилась раздражительная требовательность и отчасти полицейские движения. Так, помню я, что когда один студент зашумел как-то на его лекции или что-то вроде этого, то Шевырев сказал: «Милостивый государь, такое поведение не приносит вам чести, а напротив — приносит бесчестие, и, покрытые этим бесчестием, извольте выйти». Я почти буквально помню эти его слова. Справедливое негодование проникло в молодые сердца, и Шевырев скоро стал нелюбим положительно. <…> Погодин, заняв кафедру всеобщей истории (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя молодые люди были враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин при стольких своих достоинствах восстановлять против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но недаром же так дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина — неуменье обращаться с людьми. <…> В наше время любили и ценили и боялись притом, чуть ли не больше всех,— Каченовского. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение,— и исторический скептицизм Каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич, хотя не занимался много русскою историею, но так же думал. Я тоже был увлечен. Давыдов Иван Иванович был важен, очень важен, невыносимо величествен и скучен. Лекции его не имели ни малейшего достоинства. <…> На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился-таки от своих друзей-товарищей. Коссович на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским учением, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он, между тем, глотал один древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссорич был оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом. На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общею студентскою нашею песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак» (9). За туманною горою и проч. <…> Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знат171 ности, не хлопочущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнующуюся неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория в 100 человек по какому нибудь пустому поводу вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука, и всякому любо. Но чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. <…> Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела. <…> Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает. <…> Я всегда выдерживал себя вполне в каждом возрасте; но, однако, это относилось именно к тому, в чем проявлялся возраст, именно к внешней стороне. Я не желал быть большим, не желал поскорее надеть галстук, ходить без человека и т. п. В университете и после университета я долго не хотел ни курить, ни пить вина, даже до 23-летнего возраста. По 22-му году я пил рейнвейн с водой на берегах Рейна. Право, мне казалось, что я не мог бы смотреть на себя с уважением, если б поддался желанию поступить в большие, и когда мне входили в голову насмешливые слова, хотя и не ко мне обращенные, юношей, поступавших иначе, слова: «Это детство, это страх не послушаться»,— то я чувствовал, что детство будет именно в противоположном, и что делать так, как они делают,— их заставляет страх послушаться. Так всегда поступал я относительно внешней стороны. Что же касается до того, что не зависит от возраста, до мысли, до внутренних убеждений, до самостоятельности мнения, то я высказывал самостоятельно свое мнение от самых малых лет, и в тех случаях, когда я видел неуважение к моему мнению ради моих лет, я сильно оскорблялся и происходили у меня с большими людьми жаркие схватки. Говорю все это для того, что интересно вообразить, в какие отношения станет такой человек с товарищами. Не знаю, что за студенты теперь, но тогда с товарищами я был в наилучших отношениях. Они видели, впрочем, что во всех тех случаях, где не было для меня чего-нибудь или безнравственного, или просто недолжного, или, что хотя в моих глазах было дело и пустое, но чего не хотели в моей семье,— я был добрым товарищем; они видели, что не от робости или слабости, не из ложного детства происходит мое противодействие мелочным проявлениям совершеннолетия, мое совершенное послушание семейным требованиям, никогда, впрочем, не стеснявшим свободы нравственной. Между прочим, было мне сказано желание, чтоб я не ходил в кондитерскую во все время студентства,— и я вышел кандидатом, не бывши в кондитерской. Бывало иду с лекций с товарищами мимо Бера. «Мы к Беру,— говорят они,— Аксаков не зайдет». «Не зайду, 172 господа, ступайте». Студенты входили к Беру, а я шел далее. Товарищи подсмеивались слегка, но насмешка никогда не имела никакого действия на мои поступки. Но знали мои товарищи, что не выдам я их ни в каком случае, не останусь позади ни при каком независимо - бщественном порыве. К тому же подсмеивались надо мною только близкие мне товарищи. Один студент хотел было присоединиться к ним, но я сказал ему, что позволяю шутить только близким мне и чтоб он не смел этого делать. Сказано было решительно, и студент отошел Другому, который долго не унимался, я обещал, что выброшу его из окна; в те пылкие годы я, пожалуй, буквально исполнил бы свои слова. <…> Не любя непристойностей, я непрочь был немного безобидно побуянить, пошуметь, попробовать силу. На третьем курсе, идя однажды в таком расположении духа, я и еще человека четыре студентов, по Кисловке с лекции,— помню, что Сазонов был в числе, пошли мы рядом по середине улицы и принуждали сворачивать экипажи, крича: «Объезжай». Решительный вид молодых людей заставлял исполнить их требования, но некоторые из товарищей простерли это безобидное буйство до непозволительного: они вздумали говорить любезности попавшейся девушке. Я громко этому воспротивился, сказал, что это дурно, никуда не годится, объявил, что не хочу идти с ними, и взошел на тротуар. Товарищи взошли и сами, оставив девушку в покое, и мы продолжали путь мирными гражданами. <…> Во время наше каждый месяц, в субботу, кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на этом не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре (10), чтения крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Иван Иванович Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр в сопровождении многочисленных посетителей. Вызван был Толмачев, взошел на кафедру и сильно сразился. За ним вышел Соловьев, врал немилосердно, только и слышалось: нуменон, феноменон. Уваров пустился с ним в рассуждение, и когда Соловьев окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, Соловьев говорил свое; а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотрико, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я наконец заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кой-как я продолжал жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи (11): Ретивый конь, осанку горду Храня, к тебе порой идет; Крутую гриву, жарку морду Подняв, храпит, ушьми прядет. «Где же тут простонародное слово?»— спросил меня Уваров. «Морда»,— отвечал я ему. Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько 173 помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо. В 1835 году праздновали день основания университета, ровно 20 лет тому назад. Мне было семнадцать лет. Однажды Давыдов, после или прежде своей лекции, объявил мне, что профессора просят меня написать стихи на этот день; Давыдов, говоря это, обнимал меня как-то сбоку, называл: «товарищ». Я согласился охотно и здесь должен повиниться в том, что и теперь лежит на моей совести. В извинение себе скажу, что я тогда еще многого не успел себе определить. Я знал, что надобно приделать официальное окончание, и, чтоб облегчить себе эту необходимость, я окончил свои стихи стихами Мерзлякова, в которых собственно лести нет, но которые имеют казенный отпечаток. Вот эти стихи: Цвети, наш вертоград священный, Крепися в силах, зрей в плодах, Как был, пребуди неизменный Общественных источник благ! Под Николаевым покровом Явись в величия, в счастье новом! В доказательство, как были еще не ясны мои мнения, я могу привести следующие стихи из того же моего стихотворения. И Русь счастлива! Гений мочный, Великий царь страны полночной Восстал и смелою рукой Разбил неведенья оковы, И просвещенья светоч новый Зажег в стране своей родной. Он нетерпением кипел И, мыслью упреждая время, Насильно вырастить хотел Едва посаженное семя; Но семя то из рук Петра На почву добрую упало, И подвиг славы и добра Елисавета продолжала! Написав свои стихи, я должен был приехать к Давыдову и их ему прочесть; он принял стихи, исключив только начало, как не идущее к делу. Стихотворение начиналось так: Когда Создатель жизни бремя На человека наложил, То разума святое семя В его главу он заронил. И семя чудное созрело, И плод богатый принесло; И слово обратилось в дело, И дело в слово перешло. 174 Пришло 12 января 1835 года. Круглая зала в боковом правом строении старого университета была уставлена креслами и стульями; кафедра стояла у стены. Зала наполнилась университетскими властями, профессорами и посетителями; во глубине ее толпились студенты. Кубарев читал латинскую речь, конфузясь и робея так, что шпага его тряслась. Наконец он кончил; я взошел на кафедру. Вначале я смутился и читал невнятно. Наконец смущение прошло, я громко читал свои стихи и, обратясь к своим товарищам, прочел с одушевлением: И вместе мы сошлись сюда С краев России необъятной Для просвещенного труда, Для цели светлой, благодатной! Здесь развивается наш ум И просвещенной пищи просит; Отсюда юноша выносит Зерно благих полезных дум. Здесь крепнет воля, и далекой Видней становится нам путь, И чувством истины высокой Вздымается младая грудь! 175 176 177 Я видел, как на них подействовало чтение. Только я окончил стихи — раздались дружные рукоплескания профессоров, посетителей и студентов. Но рукоплескания эти напомнили мне рукоплескания на лекции Геринга, на первом курсе, и я со смущением слушал. Товарищи мои, впрочем, были в самом деле очень довольны. <…> 178 Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице, мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по - прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали, пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наполняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, назначенную предметом и для первого курса. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; тут раздался в аудитории язык французский (12). Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды. <…> Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно, и я вышел кандидатом. <…> Впервые «Воспоминания студентства…» напечатаны в 1862г. в газете И.С. Аксакова «День» (№39, 40 от 29 сентября, 6 октября). Редактор к печатаемым мемуарам сделал сноску, объяснив, что в 1855 г. в день празднования столетнего юбилея Московского университета, «Воспоминания студентства…» было прчитано К.С. Аксаковым в доме Ю.Ф. Самарина, где собрались несколько бывших студентов. Известно, что кроме Самарина и Аксакова на вечере присутствовали также кн. В.А. Черкасский и М.А. Стахович, также читавшие личные воспоминания об университетских годах. Отдельным изданием, воспоминания К.С. Аксакова, подготовленные ранее И.С. Аксаковым, выщли в 1911г. в Петербурге (издательство товарищества «Огни»). В заметке И.С. Аксакова было отмечено, что записи К.С. Аксакова никогда не предназначались для печати, но исторический интерес их содержания, простота изложения, имя автора, заставляющее дорожить всем, вышедшим из-под его пера, побуждают сделать их достоянием печати. В данном издании «Воспоминания студентства…» печатается с сокращениями по книге: Русское общество 30-х годов Х!Х в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1939. С. 312334. 179 Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860)-старший сын известного писателя С.Т.Аксакова, поэт, драматург, критик. Окончил словесное отделение университета, по выходе из которого(1835) в 1847 г. защитил магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Надеялся занять кафедру русской грамматики в университете (мысль подал О.М.Бодянский), но не оказалось вакансий. В 1840 г. познакомился с А.С.Хомяковым и стал деятельным участником славянофильского кружка. В публикуемых отрывках из «Воспоминаний студенства» К.Аксаков писал о том болезненном впечатлении, которое вызывало в нём отрицательное воззрение на Россию в университетском кружке Н.В.Станкевича. Поездка в 1838 г. за границу ещё более укрепила его в любви ко всему русскому. При таких склонностях он должен был стать славянофилом. А.С.Хомяков обрёл в нём единомышленника, верящего в историческую миссию России среди других стран, в её народ, в сельскую общину, в силу предания. Завороженный хомяковской идеей воспитания общества, всю свою жизнь посвятил истовой проповеди славянофильских воззрений в салонах того времени. «Всегда возвышенная речь» и красивый баритон К.Аксакова производили чарующее впечатление на слушателей, особенно на женщин. Человек увлекающийся, он первым из славянофилов оделся в русскую одежду(сапоги, зипун, мурмолку), отпустил бороду. Оличался необыкновенной страстностью и твёрдостью своих убеждений, ради которых, по словам А.И.Герцена, готов был идти «на плаху». Жизнь К.Аксакова не богата внешними событиями, тесно связана с семейством, которое покидал на считанные месяцы: две заграничные поездки, несколько поездок в Петербург, одна- в Киев, одна- в Оренбургскую губернию с отцом и братом Иваном, одна- в Ярославскую губернию к служившему там И.С.Аксакову. К.С. Аксаков. Воспоминания студентства 1832-1835 годов. Примечания 1. …поступил в студенты 15 лет… --В Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось личное дело №176 студента Московского университета К.С. Аксакова: его прошение о ринятии в студенты и свидетельство об окончании курса наук словесного отделения. За отличные успехи и поведение он был утвержден кандидатом отделения (РГАЛИ. Ф.10. Оп.1. Ед. хр. 76). 2. … экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался мнеи страшен. -- К.С. Аксаков получил пркрасное, но домашнее образование. И.С. Аксаков свидетельствовал: «Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, так сказать, с детства. Четырех лет выучился он читать у матери, и первая его книга для чтения была история Трои, издания 1747 года … переложение Илиады на русский… Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями». (Аксаков И.С. Очерк семейного быта Аксаковых// Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 16). Что касается русской литературы, то К.С. Аксаков был воспитан на классических образцах. Едва ли не один из всех своих верстников знал Константина Сергеевича Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т.д. Когда ему минуло 8 лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева» (Там же. С. 18). Ученые, профессора Московского университета были частыми гостями в доме Аксаковых: М.П. Погодин, М.Г. Павлов, Н.И.Надеждин, Ю.И.Венелин и др. 180 3. Оболенский был забавен. – М.О.Маркс вспоминал: «Оболенский не декламировал, а распевал каким-то петушиным мотивом анакреоновы оды …» (.Маркс М.О. Каетан Андреевич Коссович//Русская старина. 2896. Декабрь. С. 613). 4. … студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии…-- Поскольку среди них К.С. Аксаков назвал Коссовича, возможно, он ошибся, ибо Коссович учился не в Витебске, а в Полоцке. 5. …филологическое его призвание еще не опредилилось тогда ясно. – Впоследствии К.А. Коссович станет выдающимся санскритологом. Будучи студентом, он изучил языки: английский, итальянский, испанский, арабский, персидский, чешский и др. П.А. Плетнев в 1846 г. восторженно отзывался о нем: Коссовича я и люблю и уважаю. Если он не будет подавлен тяжелым игом службы, мы в нем впервые видим из русских истинно ученого человека в полном европейском смысле. Сколько у него проницательности ума, сколько начитанности и сведений. Он также ясно постигает тайны немецкой философии, как и восточной филологии.» (письмо Д.И. Коптеву от 2.!Х.1846г.//Русский архив. 1877. №12. C.372). 6. … в особенности больны мне были нападения на Россию, которую люблю с малых лет. – Справедливостьэтого утверждения подтверждени и И.С. Аксаковым, назвавшим брата «энтузиастом, исполненным самых честных и возвышенных стремлений и в то же время непосредственной любви к России, русскому народу и Москве.( Аксаков И.С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 23). 7. … раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка…-- Брату Григорию К.С. Аксаков писал в 1837 г.: «…Ты знал мои отношения со Станкевичем и его кругом, милый брат, ты знал, что я держал себя далеко от них, говорил всем: вы; я не любил искать дружбы или приязни. Но теперь дело переменилось: они сами сблизились со мною, проили меня говорить им ты, говорили, что ошибались прежде. Певый сблизился Бакунин; такой славный малой1 Я теперь говорю ты ему,Станкевичу, Белинскому. Мне, разумеется, было это приятно»(письмо, написанное около 15. 111. 1837г. // Литературные мемуары. М.. Т. 56. 11. С. 103). Однако следует заметить, что с М.А. Бакуниным Аксаков разошелся в 1838г. в 1839 с В.Г. Белинским. 8. …отношения друзей к Станкевичу, невольно признавших его превосходство… -И для К.С. Аксакова мнение Н.В. Станкевича было авторитетным. в этом отношении характерна дневниковая запись К.С. Аксакова, сделанная в ноябре 1834г., в бытность его членом кружка Станкевича. Он пишет, что любит спор по двум причинам: собственное мнение становится яснее, узнается истина, и, наконец, любит спор ради спора, ибо борьба для него – блаженство. Заметив, что выразил собственное мнение, он однако добавил: «…и я очень был рад, нашедши Станкевича с ним согласным. (Аксаков К.С. Дневник// РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 83. Л. 4-5). 9. …стихи Хомякова из его трагедии «Ермак». – Трагедия А.С. Хомякова вышла в 1832г. Далее К.С. Аксаков упоминает песню «За туманною горою», которую в трагедии поют казаки. 10. …при министре…-- С.С. Уварове. 11. К.С. Аксаков цитирует сатихи из оды Г.Р. Державина «Водолад» 181 12. …тут раздался в аудитории язык французский. -- И.С. Аксаков писал, что в доме по0французски не говорили, Константин Сергеевич не имел такой привычки, и употребление этого языка им в разговоре «резко осуждалось». Будучи ребенком, он вместе с братьями протыкал и сжигал написанные по-французски записки дам, адресованные его матери. Узнав об этом, С.Т. Аксаков назвал поведение сына детской глупостью и положил конец детской затее.( Аксаков И. С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 23). 13. …поступил в студенты 15 лет… --В Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось личное дело №176 студента Московского университета К.С. Аксакова: его прошение о ринятии в студенты и свидетельство об окончании курса наук словесного отделения. За отличные успехи и поведение он был утвержден кандидатом отделения (РГАЛИ. Ф.10. Оп.1. Ед. хр. 76). 14. … экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался мнеи страшен. -- К.С. Аксаков получил пркрасное, но домашнее образование. И.С. Аксаков свидетельствовал: «Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, так сказать, с детства. Четырех лет выучился он читать у матери, и первая его книга для чтения была история Трои, издания 1747 года … переложение Илиады на русский… Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями». (Аксаков И.С. Очерк семейного быта Аксаковых// Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 16). Что касается русской литературы, то К.С. Аксаков был воспитан на классических образцах. Едва ли не один из всех своих верстников знал Константина Сергеевича Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т.д. Когда ему минуло 8 лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева» (Там же. С. 18). Ученые, профессора Московского университета были частыми гостями в доме Аксаковых: М.П. Погодин, М.Г. Павлов, Н.И.Надеждин, Ю.И.Венелин и др. 15. Оболенский был забавен. – М.О.Маркс вспоминал: «Оболенский не декламировал, а распевал каким-то петушиным мотивом анакреоновы оды …» (.Маркс М.О. Каетан Андреевич Коссович//Русская старина. 2896. Декабрь. С. 613). 16. … студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии…-- Поскольку среди них К.С. Аксаков назвал Коссовича, возможно, он ошибся, ибо Коссович учился не в Витебске, а в Полоцке. 17. …филологическое его призвание еще не опредилилось тогда ясно. – Впоследствии К.А. Коссович станет выдающимся санскритологом. Будучи студентом, он изучил языки: английский, итальянский, испанский, арабский, персидский, чешский и др. П.А. Плетнев в 1846 г. восторженно отзывался о нем: Коссовича я и люблю и уважаю. Если он не будет подавлен тяжелым игом службы, мы в нем впервые видим из русских истинно ученого человека в полном европейском смысле. Сколько у него проницательности ума, сколько начитанности и сведений. Он также ясно постигает тайны немецкой философии, как и восточной филологии.» (письмо Д.И. Коптеву от 2.!Х.1846г.//Русский архив. 1877. №12. C.372). 18. … в особенности больны мне были нападения на Россию, которую люблю с малых лет. – Справедливостьэтого утверждения подтверждени и И.С. Аксаковым, назвавшим брата «энтузиастом, исполненным самых честных и возвышенных стремлений и в то же время непосредственной любви к России, русскому народу и Москве.( Аксаков 182 И.С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 23). 19. … раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка…-- Брату Григорию К.С. Аксаков писал в 1837 г.: «…Ты знал мои отношения со Станкевичем и его кругом, милый брат, ты знал, что я держал себя далеко от них, говорил всем: вы; я не любил искать дружбы или приязни. Но теперь дело переменилось: они сами сблизились со мною, проили меня говорить им ты, говорили, что ошибались прежде. Певый сблизился Бакунин; такой славный малой1 Я теперь говорю ты ему,Станкевичу, Белинскому. Мне, разумеется, было это приятно»(письмо, написанное около 15. 111. 1837г. // Литературные мемуары. М.. Т. 56. 11. С. 103). Однако следует заметить, что с М.А. Бакуниным Аксаков разошелся в 1838г. в 1839 с В.Г. Белинским. 20. …отношения друзей к Станкевичу, невольно признавших его превосходство… -И для К.С. Аксакова мнение Н.В. Станкевича было авторитетным. в этом отношении характерна дневниковая запись К.С. Аксакова, сделанная в ноябре 1834г., в бытность его членом кружка Станкевича. Он пишет, что любит спор по двум причинам: собственное мнение становится яснее, узнается истина, и, наконец, любит спор ради спора, ибо борьба для него – блаженство. Заметив, что выразил собственное мнение, он однако добавил: «…и я очень был рад, нашедши Станкевича с ним согласным. (Аксаков К.С. Дневник// РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 83. Л. 4-5). 21. …стихи Хомякова из его трагедии «Ермак». – Трагедия А.С. Хомякова вышла в 1832г. Далее К.С. Аксаков упоминает песню «За туманною горою», которую в трагедии поют казаки. 22. …при министре…-- С.С. Уварове. 23. К.С. Аксаков цитирует сатихи из оды Г.Р. Державина «Водолад» 24. …тут раздался в аудитории язык французский. -- И.С. Аксаков писал, что в доме по0французски не говорили, Константин Сергеевич не имел такой привычки, и употребление этого языка им в разговоре «резко осуждалось». Будучи ребенком, он вместе с братьями протыкал и сжигал написанные по-французски записки дам, адресованные его матери. Узнав об этом, С.Т. Аксаков назвал поведение сына детской глупостью и положил конец детской затее.( Аксаков И. С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 23). 25. …поступил в студенты 15 лет… --В Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось личное дело №176 студента Московского университета К.С. Аксакова: его прошение о ринятии в студенты и свидетельство об окончании курса наук словесного отделения. За отличные успехи и поведение он был утвержден кандидатом отделения (РГАЛИ. Ф.10. Оп.1. Ед. хр. 76). 26. … экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался мнеи страшен. -- К.С. Аксаков получил пркрасное, но домашнее образование. И.С. Аксаков свидетельствовал: «Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, так сказать, с детства. Четырех лет выучился он читать у матери, и первая его книга для чтения была история Трои, издания 1747 года … переложение Илиады на русский… Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями». (Аксаков И.С. Очерк семейного быта Аксаковых// Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 16). Что касается русской литературы, то К.С. Аксаков был воспитан на классических образцах. Едва ли не один из всех своих верстников 183 знал Константина Сергеевича Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т.д. Когда ему минуло 8 лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева» (Там же. С. 18). Ученые, профессора Московского университета были частыми гостями в доме Аксаковых: М.П. Погодин, М.Г. Павлов, Н.И.Надеждин, Ю.И.Венелин и др. 27. Оболенский был забавен. – М.О.Маркс вспоминал: «Оболенский не декламировал, а распевал каким-то петушиным мотивом анакреоновы оды …» (.Маркс М.О. Каетан Андреевич Коссович//Русская старина. 2896. Декабрь. С. 613). 28. … студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии…-- Поскольку среди них К.С. Аксаков назвал Коссовича, возможно, он ошибся, ибо Коссович учился не в Витебске, а в Полоцке. 29. …филологическое его призвание еще не опредилилось тогда ясно. – Впоследствии К.А. Коссович станет выдающимся санскритологом. Будучи студентом, он изучил языки: английский, итальянский, испанский, арабский, персидский, чешский и др. П.А. Плетнев в 1846 г. восторженно отзывался о нем: Коссовича я и люблю и уважаю. Если он не будет подавлен тяжелым игом службы, мы в нем впервые видим из русских истинно ученого человека в полном европейском смысле. Сколько у него проницательности ума, сколько начитанности и сведений. Он также ясно постигает тайны немецкой философии, как и восточной филологии.» (письмо Д.И. Коптеву от 2.!Х.1846г.//Русский архив. 1877. №12. C.372). 30. … в особенности больны мне были нападения на Россию, которую люблю с малых лет. – Справедливостьэтого утверждения подтверждени и И.С. Аксаковым, назвавшим брата «энтузиастом, исполненным самых честных и возвышенных стремлений и в то же время непосредственной любви к России, русскому народу и Москве.( Аксаков И.С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. !. С. 23). 31. … раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка…-- Брату Григорию К.С. Аксаков писал в 1837 г.: «…Ты знал мои отношения со Станкевичем и его кругом, милый брат, ты знал, что я держал себя далеко от них, говорил всем: вы; я не любил искать дружбы или приязни. Но теперь дело переменилось: они сами сблизились со мною, проили меня говорить им ты, говорили, что ошибались прежде. Певый сблизился Бакунин; такой славный малой1 Я теперь говорю ты ему,Станкевичу, Белинскому. Мне, разумеется, было это приятно»(письмо, написанное около 15. 111. 1837г. // Литературные мемуары. М.. Т. 56. 11. С. 103). Однако следует заметить, что с М.А. Бакуниным Аксаков разошелся в 1838г. в 1839 с В.Г. Белинским. 32. …отношения друзей к Станкевичу, невольно признавших его превосходство… -И для К.С. Аксакова мнение Н.В. Станкевича было авторитетным. в этом отношении характерна дневниковая запись К.С. Аксакова, сделанная в ноябре 1834г., в бытность его членом кружка Станкевича. Он пишет, что любит спор по двум причинам: собственное мнение становится яснее, узнается истина, и, наконец, любит спор ради спора, ибо борьба для него – блаженство. Заметив, что выразил собственное мнение, он однако добавил: «…и я очень был рад, нашедши Станкевича с ним согласным. (Аксаков К.С. Дневник// РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 83. Л. 4-5). 33. …стихи Хомякова из его трагедии «Ермак». – Трагедия А.С. Хомякова вышла в 184 1832г. Далее К.С. Аксаков упоминает песню «За туманною горою», которую в трагедии поют казаки. 34. …при министре…-- С.С. Уварове. 35. К.С. Аксаков цитирует стихи из оды Г.Р. Державина «Водолад» 36. …тут раздался в аудитории язык французский. -- И.С. Аксаков писал, что в доме по0французски не говорили, Константин Сергеевич не имел такой привычки, и употребление этого языка им в разговоре «резко осуждалось». Будучи ребенком, он вместе с братьями протыкал и сжигал написанные по-французски записки дам, адресованные его матери. Узнав об этом, С.Т. Аксаков назвал поведение сына детской глупостью и положил конец детской затее.( Аксаков И. С. Очерк семейного быта Аксаковых//Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 1. С. 23). 185 Федор Иванович Буслаев Мои воспоминания 186 … В июле месяце 1834 г. отправился я из Пензы в Москву держать экзамен в университет... Мне только что минуло 16 лет 13 апреля, и я был совсем еще маленьким мальчиком, и голос у меня был совсем ребяческий. Вырастал я уже потом, в течение всего четырехлетнего университетского курса... Сколько возможно, я успокоился, углубившись в приготовление к экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердце, а тревожиться было от чего: вопервых, как раз с 1834 г. были назначены приемные экзамены строгие, и их требованиям не могли удовлетворить мои познания, полученные в пензенской 4классной гимназии, а во-вторых,— и это самое главное,— для меня настоятельно необходимо было выдержать экзамен не для того, чтобы только поступить в университет, а чтобы обеспечить самое свое существование, т. е. быть принятым в число казеннокоштных студентов, и притом как можно скорее. Не выдержи я экзамена, мне пришлось бы в Москве помереть с голоду, а о возвращении в Пензу нечего было и думать без копейки в кармане. В наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнациями, по-теперешнему 8 рублей с копейками; этого едва хватало на два месяца за квартиру со столом. Экзамен был для меня только средством для достижения этой цели, и грозная мысль о существовании заслоняла в моих думах заботы об экзамене. Это было для меня какое-то смутное время, и я решительно ничего не помню, как я пришел в первый раз в стены университета и к кому явился подать просьбу о допущении меня к экзамену, и как потом справлялся, в какие дни и часы будет он назначен, и, таким образом, будто проснувшись от тяжелого сна, я вдруг очутился на первом экзамене в большой аудитории, наполненной толпой незнакомых мне юношей. Этой аудиториею была тогда в старом здании университета та большая библиотечная зала, в которой десятки лет происходили публичные заседания Общества Любителей Российской словесности. Экзаменующиеся разместились по лавкам, расставленным в несколько рядов против окон, а впереди на пустом пространстве стояло четыре или пять столиков в расстоянии один от другого, и за каждым по экзаменатору; они сидели задом к окнам. Решительно не помню, с какого предмета я начал свой экзамен и как я продолжал его и довел до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и как я отвечал. Все это осталось в моей памяти какими-то темными пятнами, из-за которых ярко выступает одно великое для меня событие, которое, как я глубоко убежден, решило судьбу моего экзамена. И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мне во всех подробностях, как я стою у столика, а передо мною сидит профессор богословия Петр Матвеевич Терновский, с окладистой бородою и строгими взорами — он казался мне тогда таким величественным и недоступным,— и слушает, как я ему рассказываю довольно подробно какое-то событие из Священной истории. В это самое время подходит к нему молодой человек лет 30 в форменном фраке, остановился, посмотрел на меня и стал слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взгляд точно приласкал меня, воодушевил, и я продолжал рассказывать с такой искренностью, с таким убеждением, которыми я будто хотел ответить на друже187 ское приветствие старого знакомого. Когда я кончил, молодой человек спросил меня, откуда я родом и где учился. Отвечая ему, я назвал своих учителей и между прочим упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве (1). Мне показалось, что его взгляд вдруг просветлел и легкая улыбка мелькнула по чертам лица. Он отвечал, что Кастора Никифоровича хорошо знает, и своим задушевным голосом сказал мне: «Если что вам понадобится, приходите ко мне». Когда я с радостью возвратился на скамейку к товарищам, мне сказали, что я говорил с Михаилом Петровичем Погодиным. Да, это был первый луч радости, осветивший меня по приезде моем в Москву. При содействии Михаила Петровича, я благополучно выдержал экзамен, а в сентябре, при его же содействии, был принят в число казеннокоштных студентов. <…> … На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок (2), стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, издававшего в то время журнал «Телескоп» (3). Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором. Однажды вечером приходим мы в «Железный», опрометью бежит к нам Арсентий и вместо трех пар чаю подносит нам нумер «Телескопа». «Вот,— говорит,— вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают (4), удивляются; много всякого разговора». Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать... Дней через десять после этого у нас в нумерах разнесся слух, что «Телескоп» запрещен и что ректору и Надеждину грозит великая беда (5)... ...Сначала надобно сказать несколько слов об аудиториях, где слушали мы лекции. Первые два года они были в старом здании университета (6), и для словесного отделения — те самые две залы, о которых я уже говорил вам в начале моих воспоминаний, т. е. одна, где производился вступительный экзамен, и другая, под нею, где читал нам лекцию Шевырев, когда несчастный студент бросился из окна карцера на землю. Последняя назначалась для первого курса, а первая — для двух старших (студентов четвертого курса тогда еще не было). В 1835 г. было окончено перестройкою новое здание университета (7), и последние два года мы слушали лекции уже в нем. Нам дана была большая словесная аудитория, именно та самая, в которой потом в течение многих лет и я, будучи профессором, читал лекции своим слушателям.<…> ...Наше студенчество от 1834 г. по 1838 г. было настоящею эрою, которая от188 деляет древний период истории Московского университета от нового, и, как нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичного курса. По ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров (8).. ...Поэт Жуковский. Я тогда видел его в первый и последний раз в большой словесной аудитории нового здания, на лекции Степана Петровича Шевырева о греческих лириках и в особенности о Пиндаре и Анакреоне. От этой лекции осталась в моей памяти одна курьезная подробность. Вошедши в аудиторию вместе с профессором, Жуковский не сел на кресло у кафедры, а направился к передней скамье и как раз к тому ее краю, на котором сидел я. Надобно вам сказать, что у наших скамеек для каждого студента было отдельное сиденье, которое, как у кресел, набито мочалом и покрыто кожею, и каждое помещалось в свою перегородку, вдвигаясь в нее и выдвигаясь. Когда я посторонился, чтобы дать Жуковскому свое место, он, садясь на подушку, которая несколько выдвинулась из перегородки, покачнулся и тихонько сказал мне: «Как бы тут не провалиться!».— «Не опасайтесь,— отвечал я,— надобно только покрепче двинуть сиденье», и помог ему это сделать, а Шевырев между тем не начинал своей лекции, пока мы усаживались. Теперь перехожу к профессорам. Мне легко было объяснить вам, как обновился наш университет перемещением аудиторий из старого здания в новое и заменою старой администрации новой. Тут самые предметы резко отделялись друг от друга, как полосы различного цвета. Иное дело с профессорами: в их среде обновление происходило в большей постепенности и не в одинаковой значительности по разным факультетам. Сверх того, старое поколение профессоров, в силу преемственного развития, само собою шло к усовершенствованию, так что в наше время оно давало представителей трех разрядов: отживающего, среднего и молодого. <…> Погодину <… я обязан великой благодарностью <…> за то, что он первый научил меня читать и разбирать наши старинные рукописи, во множестве собранные в его так называемом древлехранилище, которое помещалось тогда в собственном его доме, на Девичьем поле. … он познакомил меня на образцах по оригиналам с разными почерками старинного письма: с уставным, полууставным и с скорописью, мудреные завитки которой учил разбирать меня по складам. Таким образом мое университетское обучение разделялось по двум местностям: в аудитории и в погодинском древлехранилище. Сказанного почитаю достаточным, чтобы дать вам понятие о моей безграничной благодарности Михаилу Петровичу за все, чем я обязан его попечениям н заботам о моем образовании в продолжение всех четырех лет студенчества, начиная, как вы уже знаете, с самого поступления моего в университет и с водворения в казеннокоштном общежитии. Он же... был для меня руководителем в первых опытах моих на широком пути журнальной литературы (9). 189 Новый период в истории Московского университета, как сказано, начинается вместе с появлением к нам молодых профессоров, получивших свое образование за границею, преимущественно в Германии. Это были: на нашем факультете Печерин, Крюков и Чивилев; на юридическом Крылов, Баршев и Редкин; на медицинском — Анке, Армфельд, Иноземцев, Филомафитский и еще кто-то, не припомню, а на математическом, кажется, никого. Во избежание недоразумений спешу предупредить, что несколько других профессоров той же категории появились в Московском университете, когда мы уже кончили курс. А именно: на нашем факультете Меньшиков, Бодянский и Грановский, на юридическом—Лешков, на математическом — Спасский и Драшусов. Профессор греческого языка (ни имени его, ни отчества не припомню) (10) был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собою, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом. Но, к несчастию, мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень недолго, менее года (11). Он вдруг исчез из университета и из Москвы, а куда девался — никто не знал (12). Так и простыл его след. Спустя года два-три дошел до меня слух, будто он где-то за границею учительствует или гувернерствует в какой-то фамилии — русской или иностранной, неизвестно. Потом, спустя много лет, кто-то говорил мне, что Печерина видели в одеянии католического монаха, помнится, в Бельгии. Я избрал себе отделение славяно-русское. Давыдов дал мне для изучения так называемую «Общую грамматику» известного французского филолога Дю-Саси в немецкой переделке Фатера, с дополнениями из немецкого языка. Эту книгу я перевел всю сполна (13) и добавил грамматические подробности Дю-Саси и Фатера русскими и церковнославянскими. Мой перевод был одобрен факультетом для напечатания, но остался в рукописи.... А для Шевырева я составил систематический свод грамматик: Смотрицкого, Ломоносова, академической, больших, или полных, грамматик Греча и Востокова и церковнославянской Добровского (14). Над обеими этими работами я трудился весь год и по мере изготовления приносил на лекции, что успевал сделать в неделю, для доклада тому или другому из моих наставников. Таким образом, благодаря этим практическим занятиям я достаточно был вооружен сведениями, необходимыми по тому времени для всякого доброкачественного учителя русского языка (15). В конце мая 1838 года я окончил университетский курс. Примечания «Мои воспоминания» Ф.И. Буслаева впервые напечатаны в Москве в 1897 г. (издание В.Г. фон Бооля).Отрывки из первой части «Моих воспоминаний» печатаются с сокращениями по тексту этого издания (с. 1, 4 – 6, 19, 20, 98, 108, 111, 112, 128 – 129, 131). 190 … я назвал своих учителей и между прочими упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве…его взгляд вдруг просветлел… - До Московского университета Ф.И. Буслаев учился в пензенской гимназии (1833). Вероятно, другая реакция была у М.П. Погодина, когда в конце 1830-х годов К.Н. Лебедев написал сатиру, в которой в карикатурном виде изобразил своих университетских преподавателей, в том числе и М.П. Погодина. Распространяемая в списках, сатира имела шумный успех. … у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок… - Переулок находился между Тверской и Никитской (ныне улица Белинского). … издававшего в то время журнал «Телескоп». – Журнал выходил в 1831 – 1836 гг. в Москве. Издатель-редактор – Н.И. Надеждин. «Телескоп» имел приложение – газету «Молва» (1831-1836). … приходим мы в «Железный», опрометью бежит к нам Арсентий… «…прелюбопытная статейка, все ее читают…» – Трактир напротив Александровского сада студенты прозвали «Железный», так как он находился над лавками, торгующими железом. Ф.И. Буслаев имеет в виду первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, появившееся в 34 части журнала «Телескоп» (1836) и содержащее критику «мертвого застоя», в котором находится Россия, живущая «без прошедшего и будущего». Известно восемь «Философических писем» Чаадаева, написанных в 1828-1830 гг. … ректору и Надеждину грозит великая беда…- А.И. Болдырев, пропустивший в печать «Философическое письмо», был уволен от должности цензора, редактор «Телескопа» Н.И. Надеждин отправлен в ссылку , которую до 1838 года отбывал в Усть-Сысольске и Вологде П.Я. Чаадаев, автор «Философических писем» был объявлен сумасшедшим. … в старом здании университета… - То есть, в главном корпусе университета, построенном М.Ф. Казаковым в ХVIII веке и перестроенном после пожара 1812 года Д.И. Жилярди в 18151818 гг. В 1835 году было окончено перестройкой новое здание университета… - Так называемый аудиторный корпус, перестроенный в 1833-1835 гг. архитектором Е.Д. Тюриным (в настоящее время здесь находится факультет журналистики МГУ). … целая фаланга новых и молодых профессоров… - Она состояла из Д.Л. Крюкова, В.С. Печерина, С.И. Баршева, П.Г. Редкина, Н.И. Крылова, А.И. Чивилева и др. Он же …был для меня руководителем в первых опытах моих на широком пути журнальной литературы. - М.П. Погодин на первом курсе читал всеобщую историю по сочинению немецкого историка Герена, впоследствии издал свои лекции по записям студентов: «Лекции профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» (М., 18351836. 2 части). Книга посвящена студентам Московского университета, ее подготовившим, в числе которых был Ф.И. Буслаев. Таким образом, впервые с легкой руки Погодина он выступил в печати. Профессор греческого языка (ни имени его ни отчества не припомню)… - Речь идет о В.С. Печерине. … мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень недолго, менее года. - В.С. Печерин преподавал в Московском университете один семестр - с января до начала мая 1836 года. 191 …куда девался – никто не знал. – В половине мая 1836 года В.С. Печерин покинул Россию, за границею принял католическую веру и стал священником. В Московском университете Печерина заменил немецкий ученый К.К. Гофман. Эту книгу я перевел всю сполна…- За перевод «Основания общей грамматики» А.И. де Саси Ф.И. Буслаев получил звание кандидата. …составил систематический свод грамматик: Смотрицкого, Ломоносова, … грамматик Греча и Востокова и церковнославянской Добровского. – По «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1618 – издана в Вильне; 1619, 1648, 1721 – перепечатана в Москве) учился М.В. Ломоносов, являющийся также автором «Российской грамматики» (напечатана в Петербурге в 1755г., вышла в 1757). Н.И. Греч в 1827 г. издал «Практическую русскую грамматику» (второе издание – 1834 г.) в следующем году, – «Начальные правила русской грамматики». Вероятно, последнюю книгу имел в виду Буслаев, ибо она несколько раз переиздавалась в качестве учебника. («Краткая русская грамматика»). А.Х. Востоков является инициатором сравнительно-исторического метода в лингвистике. Его «Рассуждения о славянском языке, служащие введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам» (1820) построено на огромном материале различных славянских языков. Впоследствии, в 1863 г. выпустил «Грамматику церковнословенского языка, изложенную по древнейшим оного письменным памятникам». В 1833 г. в Петербурге вышла книга известного славяноведа конца ХYIII – начала ХIХ вв. И. Добровского: «Грамматика языка словенского по древнему наречению» (ч. I). 15. … был вооружен сведениями, необходимыми по тому времени для всякого доброкачественного учителя русского языка. – Свою деятельность Ф.И. Буслаев начал с преподавания во 2-ой и 3-й московских гимназиях (1838-1839, 1841-1847), только в 1847 г. он был привлечен к преподаванию в Московском университете. 192 Константин Дмитриевич Кавелин Воспоминания о Грановском Т.Н. Грановский Т.Н. Кавелин К.Д. 193 Кто не знал Грановского и случайно не слыхал о нем, тот едва поймет сердечный трепет, с которым эта книга1 снова будет встречена его друзьями и многочисленными слушателями, разбросанными по всей России; лишь очень немногие, умеющие вдумываться в писателя по его произведениям, открывать живую душу в неподвижных чертах портрета,—те догадаются, отчего не могут забыть Грановского все, кто знал его более или менее близко или кто слушал его лекции. Имя Грановского неразрывно связано с блестящей эпохой Московского университета во время попечительства графа С. Г. Строганова2 и с лучшим временем московских литературных кружков и салонов. Никогда, ни прежде, ни после, не было у нас сосредоточено в одном пункте столько образованности, ума, талантов, знания. Москва была в сороковых годах центром умственного движения в России, к которому, прямо или косвенно, примыкало почти все замечательное в ней в умственном и научном мире. Здесь запасались и вырабатывались те нравственные силы, которые пошли в дело при начавшемся после Крымской войны обновлении нашего внутреннего быта и строя3. В этот знаменательный рассвет нашей умственной и научной жизни, короткий, как наше северное лето, Грановский был одним из самых замечательных и видных деятелей. Он точно был создан для роли, которая выпала ему на долю. Трудно вообразить себе натуру более гармоническую, более сочувственную и обаятельную. Чуждый односторонности и исключительности, Грановский был не столько ученым и педагогом, сколько художником на кафедре. Действие его на слушателей и окружавших объясняется не строгой последовательностью ученой аргументации, а тайной непосредственной убедительности самого изящного, глубоко-прочувствованного изложения. Этого рода силе всегда и везде предназначен самый обширный круг влияния, по свойству человеческой природы, и особливо нас, русских, сохранивших, Бог весть каким образом, южные черты под полярными широтами. Огромная начитанность, изумительная память, тонкая образованность и вкус, наконец, самая наружность, верно передававшая его лучшие внутренние качества,— все это вместе делало Грановского одним из самых значительных и влиятельных лиц и в университете и в образованном московском обществе. В то время как большинство талантливых и мыслящих людей легко вдавались в крайности, Грановский, в цветущую пору своей деятельности, принадлежал к числу тех, очень немногих, которые умели понимать и ценить долю истины, заключающуюся в каждом направлении, в каждой мысли, и потому он оставался связующею нитью между противоположными взглядами, уже в то время начинавшими зарождаться в московских литературных и ученых кружках. И сильными и слабыми своими сторонами Грановский полнее, лучше всех других выражал характеристическую черту тогдашнего умственного движения в Москве. То было пробуждение умственной жизни. Существенный и важный смысл его заключался в неопределившихся еще 194 стремлениях и предчувствиях; напрасно старались бы мы увидать в нем развитие и борьбу уже установившихся мнений и взглядов; ни тех ни других еще не существовало4 Тогда совершался такой же перелом в русской мысли, какой, вслед за тем, начался и во внутренней жизни России. Между тем и другим явлением нельзя не заметить тесной органической связи. Взгляды, появившиеся во время этого литературного и научного движения, представляют первые попытки самостоятельного критического отношения к нашему прошедшему и настоящему; они многозначительны не как твердые результаты науки, а как признаки пробуждения у нас литературных и научных интересов. При этом характере тогдашнего нашего умственного движения, натура, подобная Грановскому, должна была играть одну из первенствующих ролей. Его чуткий, исполненный такта ум как будто сознавал, что время формулировать мнения и взгляды для нас еще не приспело, он как будто медлил решительно стать в ряды которой-либо из враждовавших между собою литературных партий. Все это необходимо взвесить и принять в самое внимательное соображение, чтоб понять и по заслугам оценить то весьма немногое, что уцелело от многообразной и чрезвычайно обширной деятельности Грановского. По самому свойству его личного характера и того времени, лучшие стороны этой деятельности не могли укладываться в книгу или статью, а выражались в лекциях, в беседах, в личных сношениях, переходили этими путями в повседневный оборот и оплодотворяли русскую мысль и жизнь новыми живительными мотивами. Только тупая близорукость способна сказать, глядя на два не слишком больших тома сочинений Грановского: что же такого замечательного сделал прославленный московский профессор? Где его труды, где его заслуги5 Труды его в тех поколениях, которые с университетской скамьи понесли в русскую жизнь честный образ мыслей, честный труд, сочувственно отозвались к делу преобразования; заслуги его в воззрениях, выработавшихся в московских кружках, в умственной работе которых он принимал такое живое и деятельное участие и в которых занимал такое видное место. Мы теперь мало ценим этого рода труды и заслуги. Когда литературные и ученые кружки пришли в упадок, над ними стали подсмеиваться, об них начали отзываться с пренебрежением. По мере того как они разлагались, значение их, разумеется, утратилось. Но по тому состоянию, в которое они тогда пришли, было бы крайне ошибочно судить о том, что они были в эпоху их процветания. Можно сказать без преувеличения, что в московских литературных кружках зародилось и созрело все наше последующее умственное движение, как некогда из средневековых цехов преподавателей и учащихся выработалась впоследствии немецкая наука. Оттого мы убеждены, что история образования, развития и преемства наших литературно-ученых кружков составит, со временем, любопытнейший и поучительнейший отдел в истории нашего просвещения. Для теперешнего, поверхностного на них взгляда, существование их было будто бы бледно, ничтожно и почти бесследно; но вспомним, например, литературный кружок «Арзамасского гуся»6. Мы знаем о нем кое-что, только благодаря рассказам бывших его членов; а между тем, из него вышла целая фаланга замечательнейших русских писателей, государственных людей и общественных деятелей . Кто изме195 рит то влияние, которое этот кружок имел на своих сочленов? Кто определит, в какой мере это благотворное влияние перешло потом в замечательные литературные произведения, в законодательные и административные меры, в практическую деятельность, в общественную и даже частную жизнь? П. В. Анненков обычным своим мастерским пером восстановил для нас, насколько было возможно, стертый образ другого кружка, который в тридцатых годах составился в Москве около Н. В. Станкевича. Для того, кто не имеет смысла к такого рода явлениям, глубокое уважение и сочувствие, с которым биограф Станкевича говорит о нем, покажется совершенно непонятным. «Что же такое в самом деле Станкевич? — подумает он;—что же он написал, что сделал замечательного? Неужели право на уважение потомства и на страницу в истории дают каких-нибудь два, три десятка писем к друзьям, в которых выражаются одни, никогда не осуществившиеся, намерения исполнить разные литературные и ученые труды?» Так. с видимым основанием, скажет всякий, кто сам не испытал на себе чарующего, живительного и благотворного влияния наших исчезнувших литературных и ученых кружков,—и, разумеется, жестоко обманется. Станкевич был другом и предшественником Грановского'. Их натуры, характер их действия и влияния на людей были чрезвычайно сходны и родственны между собою. Станкевич, подобно Грановскому, стоял во главе литературного кружка, из которого вышло несколько замечательнейших литературных и общественных деятелей; только кружок этот был гораздо теснее, а потому и сфера непосредственного влияния и действия Станкевича гораздо ограниченнее. Но если мы припомним, что из этого кружка вышли Грановский, Белинский, Кольцов, Боткин, не считая многих второстепенных деятелей10, то должны будем признать, что он далеко не бесплодно существовал для России и для русского образования; что Станкевич оставил по себе нечто большее тех немногих писем, в которых мы напрасно стараемся теперь уловить тайну влияния его на окружавших его друзей; указывая на них, он мог бы сказать: «вот — мои книги!» К исходу сороковых годов блистательное развитие московской литературной и научной жизни ослабело. Будущее раскроет и объяснит, произошло ли это от случайных причин или к тому привел целый ход русской жизни" и возраставшее с каждым годом разъединение мнений и взглядов: нам, современникам, нельзя судить с необходимым беспристрастием о том, чему мы были живыми свидетелями. Как бы то ни было, на Грановском эта перемена отразилась болезненно и скорбно. Резкая противоположность направлений шла вразрез с тем гармоническим складом умственных и нравственных стремлений, который составлял, можно сказать, его живую душу. Последние шесть-семь лет своей жизни Грановский был уже не тот, полный сил и веры, каким его знали все прежде. Печальный исход Крымской войны надрывал глубокой скорбью его русское сердце. Мы увидим, что он как будто снова встрепенулся, но умер внезапно, среди забот об основании в Москве учено-литературного журнала и с живым предчувствием нового времени, которого только начало суждено было ему увидеть. Редкий человек проходил у нас в жизни с таким поэтическим ореолом, как 196 Грановский; редкий внушал к себе столько сочувствия и умел так глубоко сочувствовать другим. После него из видимого, осязательного наследства осталось только два тома сочинений; невидимое наследство осталось громадное,— в воспоминаниях о нем, в том, что думалось и делалось хорошего и честного посреди нас под влиянием, по наитию, в память Грановского. Пройдет одно какое-нибудь поколение, и имя этого замечательного русского общественного деятеля будет жить разве еще в рассказах отцов детям, но никогда не исчезнут и не изгладятся в России плоды честной его мысли и честной его деятельности. Благоговейная память почитателей и друзей снабдила новое издание сочинений Грановского лучшим его портретом из всех, какие нам удавалось видеть'5. Тяжело и горестно думать, что мы должны уже бережно и заботливо сберегать для грядущих поколений память о том, кто мог бы еще жить теперь между нами и был бы так полезен своим словом, мыслью, авторитетом, значением. Грановский умер одиннадцать лет тому назад, на 42-м году от рождения. К.Д. Кавелин. Т.Н. Грановский Впервые очерк опубликован в журнале «Весник Европы», 1866. Т. 1У. С. 4044. Печатается по кн.: К.Д. Кавелин. Наш умственный строй. Статьи по флософии русской истории и культуры. М., 1989. С. 256 – 260. Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885 происходил из дворянской семьи, с 1829 г. поселившейся в Москве. К поступлению в Московский университет его готовили К.А. Коссович и В.Г. Белинский, который впоследствии станет другом Кавелина. В 1835 г. успешно сдав экзамены на филосоский факультет, Кавелин втом же году перешел на юридический. В университетские годы был близок со славянофилами Д.А. Валуевым, В.А. и Н.А. Елагиными, П.В Киреевским, однако в дальнейшем стал членом западнического кружка. В 1839 г. окончил Московский Университета с золотой медалью за сочинение «О римском владении», в 1841 г. выдержал магистерские экзамены, в 1844 г. защитил магистерскую диссертацию «Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях». В 1844-1848 гг. чиал в Московском университете курс по истории русского законодательства, восхищавший слушателей обширностью познаний лектора изяществом изложения. Ученик Кавелина, известный историк Б.Н. Чичерин всю жизнь хранил записки этих лекций (РГБ Ф. 334. Карт. ХХIII. Ед. хр. 1). Концепция курса была изложена Кавелиным в статье «Взгляд на юридический был древней России», напечатанной в 1 книге «Современника» за 1847 г. Защитник теории родового быта, Кавелин столкнулся со славянофилами, считавшими общину первоначальнымукладом жизни Древней Руси, поэтому кавелинский «Взгляд …» вызвал полемические ответы Ю.Ф. Самарина («О мнениях «Современника» исторических и литературных» в «Москвитянине» 1847 г.) и К.С. Аксакова («О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте)» в 1 томе «Московского сборника» 1852 г. В 1846 – 47 гг. Кавелин вел длительную дискуссию с А.С. Хомяковым по частному вопросу о переселинии бургундов, в которой его поддержал Т.Н. Грановский. Своему университетскому учителю благодарный ученик посвятил не только публикуемый в настоящем издании очерк, но и трактат «Задачи психологии» (1872); о Грановском Кавелин писал и в воспоминаниях о В.Г. Бе- 197 линском, и в библиографическом очерке об А.П. Елагиной. Воздействие Грановского на русское общество, утверждал Кавелин, не ограничивалось двумя томами его сочинений: он оказал мощное нравственное влияние на поколение слушавших его лекции, и они «с университетской скамьи понесли в русскую жизнь честный образ мыслей». Но нельзя не заметить и того, что Грановский в трактовке Кавелина стал похожим на него самого в пору написания очерка, то есть во вторую половину 1860-х годов, когда он не был склонен драматизировать отношения между западниками и славянофилами, когда курс на реформы, взятый правительством Александра II, воодушевил и объединил сторонников того и другого кружка. Кавелин прав, когда пишет о Грановском как очень гармоничной, необычайно тактичной личности. Недаром А.И. Герцен назвал Грановского «примиряющей натурой» – спор принимал менее острый характер, когда в него вступал деликатный Грановский. Однако при широкой терпимости к людям и мнениям Грановский было человеком твердых убеждений, и готовности к устпкам в отношении противоположной партии не обнаруживал: в 1845 г. он вынужден был признатьневозможность примирения со славянофилами, не принял приглашение И.В. Киреевского участвовать в обновленном «Москвитянине», именно он вызвал на дуэль поэта Н.М. Языкова из-за его клеветнических стихов, и друзьям пришлось приложить немало усилий, чтобы предотвратить его дуэль с П.В. Киреевским, принявшим выхов на себя из-за немощности Языкова; со своим другом А.И. Герценом Грановский разошелся еще до его отъезда за границу. Эти факты остались за пределами очерка Кавелина. Однако в 1850-е годы, во времена ожесточенных споров западников и славянофилов, позиция Кавелина была бескомпромиссной: в 1857 г. он опубликовал в «Русском вестнике» памфлет «Слуга. Физиологический очерк», направленный против В.В. Григорьева, автора непочтительной к памяти Грановского статьи, и против славянофильского журнала «Русская беседа», где она появилась. Оценки Кавелина отличались такой резкостью, что даже не жалующий славянофилов редактор «Русского вестника» М.Н. Катков просил их смягчить. Репутация Кавелина была безупречна, он всегда оставался на нравственной высоте. В 1848 году он счел для себя невозможным остаться в Московском Университете, где воспитанием студентов занмаются нравственно нечистоплотные личности (Н.И. Крылов, действующее лицо нашумевшей истории, о которой см. на с. настоящего сборника). В 1861 г. Кавелин покинул Петербургский университет, в котором читал лекции с 1857 г. из-за недопольства репрессивными мерами администрации во время студенческих волнений. В последние годы своей жизни ученый преподавал в Военно-юридической академии, писал труды, посвященные проблемам психологии и этики («Задачи психологии», 1872; «Задачи этики», 1884). Примечания 1…эта книга …– В 1866 г. вышло второе издание сочинений Т.Н. Грановского (в двух частях). 2. … во время попечительства графа С.Г. Строганова … – С.Г. Строганов был поечителем Московского учебного округа в 1835 – 1847 гг. 3. … при начавшемся после Крымской войны обновлении нашего внутреннего быта и строя. – Имеются в виду крестьянская, судебная и земская реформы. 4. На формирование взглядов Т.Н. Грановского оказали влияние его друзья Н.В. Герцен, В.Г. Белинский, Н.В. Станкевич – он стал активным деятелем западнического лагеря. 5. …над ним стали посмеиваться… – Эти насмешки не имели под собой никаких серьезных оснований – умственная жизнь людей тридцатых-сороковых годов была возможна только в кружках: из-за невозможности активного практического действий движение происходило в сфе- 198 ре мысли. «Писать было запрещено, путешествовать запрещено, можно думать, и люди стали думать», – писал А.И. Герцен (Герцен А.И. Россия и Польша // Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М., 19.. . Т. ХIY. С. 10). В воспоминаниях «Москва сороковых годов» Б.Н. Чичерин также взял кружки под защиту: «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков… Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль» (Б.Н. Чичерин. Москва сороковых годов». М., 1997. С. 19) 6. … вспомним …литературный кружок «Арзамасского гуся». – Речь идет о литературном обществе «Арзамас» (1815 – 1818), участниками которого были В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, Д.Н. Блудов, Д.В. Давыдов и др. Литературные портреты арзамасских «гусей» см. в книге М.И. Гиллельсона «Молодой Пушкин и арзамасское братство». Л., 1974. 7. … восстановил … образ другого кружка… около Н.В. Станкевича. – О кружке Н.В.Станкевича см.: Аксаков К.С. Воспоминание студентства 1832 – 1835 годов. С….настоящего издания; Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857. С. 9. Гершензон М.О. История молодой России. М.-Пг., 1923. с. 216. И П.В. Анненков, и М.О. Гершензон назвали Грановского продолжателем Станкевича 8. … не считая многих второстепенных деятелей… – Помимо названных К.Д. Кавелиным деятелей из кружка Н.В. Станкевича вышли К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, О.М. Бодянский, которых нельзя причислить к второстепенным деятелям. 9. К исходу сороковых годов блистательное развитие московской литературной и научной мысли ослабело. – Виной этому была наступившая после поражения французской революции 1848 г. реакция в России (1848 – 1855). 10. Последние шесть-семь лет своей жизни Грановский был уже не тот … каким его знали все прежде. – В «Былом и думах» А.И. Герцен писал о полученных в этот период письмах Т.Н. Грановского, в каждой строке которых была «разъедающая, мертвящая грусть». В статье «1831 – 1863» Герцен, вспоминая о «темной семилетней ночи» (1848 – 1855), писал: «Россия онемела, Грановский благословлял судьбу умершего Белинского и завидовал его смерти». 11. … умер внезапно, среди забот об основании в Москве учено-литературного журнала. – Речь идет об «Историческом сборнике». Б.Н. Чичерин писал в «Москве сороковых годов», что Т.Н. Грановский готовился к работе, был «бодрым, здоровым, исполненным веры в будущее» (Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., 1997. С. 151). В «Былом и думах» (гл. ХХ1Х, «На могиле друга») А.И. Герцен сожалел о том, что Грановский ушел «в самом начале какого-то другого времени для России», не подышав «новым воздухом». 12. … память почитателей и друзей снабдила новое издание сочинений Грановского лучшим его портретом … – Гравюра с дагерротипа К. Даутендея. 199 Юрий Фёдорович Самарин Из воспоминаний об университете (1834-1838) 200 Первоначальное образование я получил дома, под непосредственным руководством моего отца (1) и в совершенном уединении, вне всякого товарищества. Последние два года моего домашнего воспитания были посвящены приготовлению к университетскому экзамену. Несмотря на одобрительные отзывы обо мне некоторых из профессоров, экзаменовавших меня дома, за несколько времени до публичного испытания, невыразимый страх и трепет овладели и мною, когда меня в первый раз ввели в университетскую аудиторию, ту самую, в которой Терновский и Шевырев читали лекции для первого курса. Если б мне пришлось отвечать первому, нет сомнения, что я бы провалился, потому что я ног под собою не чуял; но к счастию, в списке имя мое стояло из последних, а вызывали по алфавитному порядку. Буквы А, Б, В конфузились, меняли билеты, потели, бормотали, одним словом, резались так, что я дрожал за них. «Пропадут несчастные,—думал я,—непременно пропадут!». Но ничуть не бывало. Все получили порядочные баллы. Это меня несколько ободрило, и мой экзамен сошел благополучно. Чтобы дать понятие о том, до какой степени все мы были худо приготовлены, достаточно рассказать одно. На первой лекции Шевырев заставил нас написать под диктовку несколько страниц, потом дал нам полчаса на внимательное прочтение написанного, и у всех, за весьма немногими исключениями, к числу которых я не принадлежал, на каждой странице оказалось у кого десять, у кого двадцать грубейших ошибок против правописания. (2) Это нас ужасно пристыдило, и не я один, многие из моих товарищей благодаря этому уроку серьезно взялись за грамоту. В то время лекции читались как-то без всякого плана. М. П. Погодин, который преподавал нам древнюю историю, целый год держал нас на торговле среднеазиатских народов и не дошел до греков; Коркунов, профессор географии, начал свой курс с Перилла Ганнонова и дошел до Марина Тирского (3); профессор Павлов (4), вместо полного курса физики прочел нам об одном гальванизме. Я знаю, что нельзя пройти целой науки в течение года или двух лет и что за границею профессора всегда избирают на каждый семестр один предмет и уже со всею подробностью излагают его; но для такого рода преподавания мы вовсе не были приготовлены. Из первого курса мы вынесли несколько отрывочных сведений, которых не могли разместить надлежащим образом, но вынесли также убеждение в совершенном нашем человечестве и сильно возбужденное участие к науке. Первым годом, проведенным мною в университете, заключился один из периодов в истории самого университета* С назначением графа Строганова попечителем (5), последовало преобразование как в наружном, так и во внутреннем устройстве университета **. Во-первых, аудитории переведены были в новое, великолепно отделанное здание; мундир ко * 1835г. июля 31 дня (прим. И.С. Аксакова) 1835г. июля 31 дня (прим. И.С. Аксакова) Новый устав имп<ераторского> росс<ийского> унив<ерситета> утвержден 26 июля 1835г. (прим. И.С. Аксакова) ** 201 торого прежде студенты нигде не носили, кроме аудиторий, сделан обязательною формою; назначен инспектор студентов, незабвенный Платон Ст<епанович> Нахимoв***; к трехгодичному курсу прибавлен один год; предметы по факультетам распределены в более систематическом порядке; открыто несколько новых кафедр (6); наконец, университет оживился прибытием из-за границы молодых профессоров, образовавшихся в Германии (7). Разумеется, студентов ближе всего касалось упразднение партикулярного платья (8) и введение формы; как всякое распоряжение стеснительное, оно не могло не возбудить ропота, тем более, что с понятием о мундире связывалось темное опасение коренного образования на военный лад. Но теперь я должен сознаться, что в этом распоряжении была и хорошая сторона, о которой, разумеется, начальство вовсе не ведало. Бедные студенты, которым скудное их состояние не позволяло иметь и форменное, и партикулярное платье, запасались мундиром по необходимости и в нем ходили постоянно, тогда как богатые встречались с ними в театре и на гуляньях, щегольски одетые по последней моде. Такое резкое проявление разницы состояний не могло не быть оскорбительным для иных; оно обрисовывало как бы две категории студентов и нарушало равенство даже на университетской лавке. Ясно, что из этого могло развиться много оскорбительных явлений. Кажет именно с этой стороны понял дело М. П. Погодин, который первый, с кафедры, перед началом лекции, сказал нам несколько слов, приготовивших нас ко введению мундира. В то время читал публичные лекции о французской литературе Дюром (?)(9), к которому съезжалась вся Москва, в том числе многие из нас, большею частью во фраках... «Приятно мне было видеть вас на чтениях,—сказал нам Погодин,—но, признаюсь вам, трудно мне было узнать моих слушателей в нарядных кавалерах, и я с особенным удовольствием останавливался на тех немногих университетских мундирах, которые изредка мелькали в толпе». На другой день нам объявили распоряжение начальства; разумеется, многие и очень долго не подчинялись ему, продолжая по-прежнему являться в партикулярном платье в театре и на гуляньях; мало-помалу, однако же, фраки стали исчезать и наконец исчезли совсем. Кто же был жертвою этого преобразования, кто пострадал за ослушание против воли начальства, кто подвергся неприятностям из числа студентов? К чести тогдашнего инспектора, к чести тогдашнего попечителя—ни один человек. Ни тот, ни другой не думали выслуживаться, выставляя свое усердие, и дело обошлось мирно. Тогдашние отношения университетского начальства к студентам принадлежат к давно npoшедшему времени, о котором не худо сохранить воспоминание. Вот, между прочим, один случай: мой товарищ Р…ъ, бывши на втором курсе, в партикулярном сюртуке тихим шагом пробирался по Тверской в театр. Платон Степанович шел туда же по противуположной стороне улицы; поровнявшись с Р...ом, он узнал его и подозвал к себе. Хитрый хохол прикинулся, что он не слышит, и продолжал идти; П<латон> С<тепанович> возвышает голос, а Р…ъ ускоряет шаг. Наконец, выведенный из терпения, П<латон> С<тепанович> кричит ему: «Да полно вам, не уйдете; ведь я вас узнал; ступайте в карцер». Р…ъ перебирается через улицу и, склонив голову набок, со свойствен*** 30 июля 1834г., еще при попечителе кн. С.М. Голицыне (прим. И.С. Аксакова) 202 ным ему юмором, начинает речь о том, что дают «Фрейшютца» (10), что он страстно любит музыку, что художество и науки развиваются рука об руку, что у него живет в Малороссии престарелый отец, тоже музыкант, и т.д. П<латон> С<тепанович> растрогался и приказал провинившемуся студенту идти домой переодеться и окончил свое наставление, скрестивши руки на груди под самым подбородком, грозными словами: «Ну смотрите, не попадайтесь в другой раз! Ведь я строг, ух как строг!» Они разошлись. П<латон> С<тепанович> побрел в театр, а Р…ъ, не зная об этом, поворотил на Кузнецкий мост и, сделавши небольшой крюк, пошел туда же; но как только он вошел в театр, инспектор предстал перед ним во всей грозе. П<латон> С<тепанович> остолбенел при виде неисправимого Р., оглянул его с головы до ног, потом махнул рукою и повернулся к нему спиною. В другой раз П<латон> С<тепанович> рассказал сам следующий случай: «Иду я по улице; вдруг, откуда ни возьмись, навстречу студент в партикулярном платье; что делать? тротуар тесен; нельзя не приметить; я, разумеется, от него в переулок. Да как же мне-то ковылять с больною ногою? Бессовестный, право, народ!». Я сказал, что с приездом молодых профессоров университет оживился. В самом деле, многие из прежних преподавателей, которых я застал, дожили до состояния окаменелости. Стоит только вспомнить, что статистику читал Щедритский; русскую историю и еще какую-то науку и потом славянские древности — Каченовский; греческий язык преподавал Ивашковский. Далека от меня мысль отрицать заслуги второго и познания третьего. Но Каченовский в то время уже не был в состоянии прочесть о чем бы то ни было лекции для слушателей своих; он читал про себя, над развернутою книгою, горячо спорил с автором ее, бранил его, одобрял, улыбался ему; но о чем трактовала книга, что нравилось или не нравилось профессору,—все это для нас оставалось тайною. Под конец дело дошло до того, что вместо 50 человек у него обыкновенно бывало на лекции от 10 до 15, и те занимались своим делом... С преобразованием университета преподавание пошло гораздо ровнее. Науки, отставшие от других, быстро двинулись вперед, и, как мне кажется, сравнительно с прежним временем студенты вообще стали прилежнее и постояннее заниматься лекциями. Если меня не обманывает предание, до вступления моего в университет студенты даровитые не отличались прилежанием; многие из них усердно занимались изучением любимых предметов, но как-то совершенно помимо университетского преподавания, домашним образом, про себя; напротив, те, которые посещали лекции аккуратно, записывали, готовились к экзаменам и получали лучшие баллы, за малыми разве изъянами, принадлежали к числу так называемых зубрил. Это слово, я думаю, всем понятно. Станкевич, Строев, Аксаков (11) были весьма посредственными студентами; на экзаменах бездарные студенты брали над ними решительный верх. На моих глазах это совершенно изменилось. Даровитые студенты стали в то же время прилежными слушателями; в числе ленивых напрасно стали бы искать даровитых. Ясное доказательство, что именно в это время преподавание вообще стало в уровень с потребностями учащихся. Личные отношения профессоров к студентам были самые тесные и простые, 203 безыскусственные. Ничто не препятствовало их сближению; студенты тянули к профессорам, профессора—к студентам; начальство не становилось поперек между ними. Существовало какое-то между ними живое общение и взаимодействие: профессора трудились для студентов, студенты, ничем не развлекаемые, следовали за профессорами. Одним словом, существовал университет как нечто самостоятельное, цельное, живое, прямо и непосредственно действовавшее на жизнь. Из профессоров того времени сильнее всех действовал не только на меня, но и на многих других Погодин. Он не заискивал популярности, как И<ван> И<ванович> Д<авыдов> (12); лекции его не отличались художественною оконченностью и совершенною новизною лекций Печерина (13); в даре изустного изложения он далеко уступал Крюкову; но он отличался тем, чего не имел никто из них: мы чувствовали в нем самостоятельное направление мысли, направление, согретое глубоким сочувствием к русской жизни. Чему нас выучил Погодин, я не могу сказать, передать содержание его лекций я был бы не в состоянии; но мы были наведены им на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам не применяются; в русской жизни есть какие-то особенные, чуждые другим народам начала; по иным, еще не определенным наукою законам, совершается ее развитие. Все это высказывал Погодин довольно нескладно, без доказательств, но высказывал так, что его убеждения переливались в нас. До Погодина господствовало стремление отыскивать в русской истории что-нибудь похожее на историю народов западных сколько мне известно, Погодин первый, по крайней мере, первый для меня и для моих товарищей, убедил в необходимости разъяснения явлений русской истории из нее самой. Я помню, между прочим, две его лекции…(14) Впервые воспоминания Ю.Ф. Самарина опубликованы И.С. Аксаковым в его газете «Русь» 15 ноября 1880 года. (С. 18-19). Публикацию сопровождало подстрочное разъяснение редактора: тот неоконченный отрывок был написан для «Университетского вечера», по предложению покойного Стаховича (талантливого автора нескольких театральных и музыкальных пиес) в 1855г., когда Московский университет праздновал свой столетний юбилей. На этот вечер собрались у Ю.Ф. С<амари>на, между прочим, князъ В.А. Черкасский, К.С. Аксаков, Стахович, и все чтенем личных воспоминаний о своих университетских годах почтили дорогой им праздник. Воспоминания К.С. Аксакова были уже напечатаны в газете «День» И.С. Аксакова ( Русь. 1880. 15 ноября. С. 18). Отрывок из воспоминаний Ю.Ф. Самарина в данном издании печатается по тексту газетной публикации. Юрий Фёдорович Самарин (1819-1876) происходил из богатой аристократической семьи (его отец был шталмейстером). В 1840 г. познакомился (как и К.С.Аксаков) с А.С.Хомяковым и стал славянофилом. После окончания словесного отделения философского факультета Московского университета в 1844 г. защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». В юности отличался озорством (о шалостях и забавных роделках Самарина на лекциях М.Т.Каченовского рассказал Ф.И.Буслаев в «Моих воспоминаниях»: тяжёлый стол, взятый с 204 двух концов, вдруг опущен, причём лектору было объяснено, что стучат кровельщики, работающие за окном, и т.п.- Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С.117-118). Это озорство в последствии совершенно исчезнет, и с обликом Самарина в воспоминаниях современников бдет связано слово «холодный»- холодный Самарин. Страстно желая стать профессором Московского университета, Самарин вынужден был уступить настояниям отца и в 1844 г. уехать на службу в Петербург. Чиновник Правительствующего сената, а затем министерства внутренних дел, Самарин занимался литературной и критической деятельностью урывками, в свободное от службы время, которого при его рвении к труду оставалось немного. Является автором либерального проекта «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе», в 1859-1860 гг.- член-эксперт Редакционных комиссий по крестьянскому делу. Бескорыстие – необъемлемая черта его нравственного облика: полностью преданный идее общественного блага, он отослал обратно крест, которым был награждён за участие в деле крестьянского освобождения. С конца 1863 г., не будучи на официальной должности, принимал участие в освобождении крестьян в Царстве Польском. Б.Н.Чичерин, придерживавшийся прямо противоположных западнических убеждений, дал тем не менее замечательную характеристику Самарину: «Это был,бесспорно, человек из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединённая с даром слова и с блестящим талантом писателя, наконец, самый чистый и возвышенный характер- всё в нём соединялось, чтобы сделать из него одного из самых крупных деятелей как на литературном, так и на общественном поприще» (Чичерин Б.Н., Москва сороковых годов. М., 1997. С.214). В.А.Черкасский считал, что Самарину надлежит находиться в Государственном совете, с чем Чичерин не согласился: «Ничтожества, составляющие его, отделались бы от человека умного и красноречивого, к тому же не падкого ни на какие искушения». Русское правительство, которому всегда внушали опасения люди блестящих дарований и независимого характера, умело пользовалось талантами Самарина в моменты острой необходимости (для проведения крестьянских реформ в России и Царстве Польском) и отторгало его от себя, когда такая необходимость проходила: в последние годы своей жизни человек государственного ума решал в Московской городской думе вопросы о пожарной безопасности столицы и о налоге с собак. Умер Самарин в Берлине после перенесённой операции. В своей речи о нём в Славянском комитете И.С.Аксков подчеркнул, что умерший «не высокопоставленное лицо в официальной иерархии, потому что он не занимал в ней никакого видного места, по лестнице чинов стоял на низшей ступени, не пользовался от государства ни почетью, ни почётом» (Аксаков И.С. Полное собрание сочинений: В 7 т. М., 1887. Т-7. С.795). Примечания 1. … под руководством моего отца… --- Ф.В. Самарина. 2. На первой лекции Шевырев заставил нас написать под диктовку несколько страниц…и у всех … на каждой странице оказалось у кого десять, у кого двенадцать грубейших ошибок против правописания. – С.П. Шевырев, кроме русской словесности и истории поэзии, читал также историю русского языка и слога. Подобное неблагополучие с грамотностью студентов наблюдалось и в 1849-е годы: М.П. Погодин в письме попечителю Московского университета графу С.Г. Строганову в 1845 году сетовал на грамотность студентов, на «ужасное» положение словесного отделения. (Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Спб., 1894. Кн.YIII. С. 97). 205 3. …начал свой курс с Перикла Ганнонова и дошел до Марина Тирского… -- М.А. Коркунов читал лекции по древней географии. 4. …профессор Павлов. – Имеется в виду М.Г. Павлов. 5. С назначением графа Строганова попечителем … - С.Г. Строганов стал попечителем Московского учебного округа в 1835 году. 6. … открыто несколько новых кафедр… -- Кафедра истории и литературы славянских наречий на словесном отделении, кафедра минералогии на физико-математическом отделении, кафедра богословия, церковной истории и церковного законодательства, не принадлежащая к определенному отделению. 7. …университет оживился прибытием из-за границы молодых профессоров, образовавшихся в Германии. – Имеются в виду доктор философии Д.Л. Крюков, доктора законоведения С.И. Баршев, П.Г. Редкин, Н.И. Крылов, магистр философии А.И. Чивилев и др. 8. Партикулярное платье – то есть штатское. 9. В то время читал публичные лекции о французской литературе Дюром (?)… – Ю.Ф. Самарин запамятовал фамилию лектора по французской словесности и языку, им в 1829-1837 гг. был Амедей Декамп. 10. …дают «Фрейшютца»… -- Оперу, написанную К.М. Вебером в 1820г. и поставленную в 1821г. в Берлине. На русской сцене шла под названием «Волшебный стрелок». 11. …Аксаков… -- Имеется в виду К.С. Аксаков. 12. Он не заискивал популярности, как И.И. Д. …-- Имеется в виду И.И. Давыдов. Впоследствии в своих «Записках» С.М. Соловьев напишет о непомерном честолюбии Давыдова и непривлекательных способах получения им почестей. 13. …не отличались художественною оконченностью и совершенною новизною лекций Печерина… -- В.С. Печерин преподавал греческую словесность в Московском университете всего один семестр – с января по июнь 1836г. 14. Я помню, между прочим, две его лекции… -- После этих слов публикатор воспоминаний Ю.Ф. Самарина И.С. Аксаков сделал следующее примечание: «На этом оканчивается отрывок, найденный в бумагах Ю.Ф. Самарина. Был ли дописан - неизвестно. По всей вероятности, он прочел на вечере лишь то, что успел написать, дополнив остальное изустным рассказом». 206 Александр Иванович Герцен «Былое и думы». Глава «Московский университет» А.И. Герцен <…> Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя. Сильно возбужденная деятельность ума в ПетербурГе, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.1 Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с Полежаевской истории.2 Он прислал А. Писарева,3 генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сюртуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских 4 за бюст, отправил нас в ссылку за сенсимонизм 5, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него. Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий по очереди, должен был его заменять, так что отцу Терновскому6 пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру7— толковать бессе207 менное зачатие. Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее. До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, не уволенным своей общиной. <…> Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами. Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. <…> Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. <…> Я избрал физико-математический факультет потому, что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.<…> Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год). Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет,— мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней. Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах. С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктрина208 ризм, наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся,— но и те молчали. Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспанные ночи для бесполезных мнемонических* пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес,— все это как всегда. Я писал астрономическую диссертацию* на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес серебра. Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен,—я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься, да и только,— и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорта, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. А в самом деле, профессора удивились бы, что я в столько лет так много пошел назад. <…> Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно-хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия — и отчего же не признаться — и название кандидата, полученное сразу. Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... и я благословляю его из дальней чужбины! Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула... Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи; все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же. *Мнемонический — от «мнемоника» (греч.— «память») — учение о приемах запоминания. ** В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я извещал кузину, бывшую 209 тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. «Экзамен кончился, и я кандидат! Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера» (26 июня 1833). Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для округления. Но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому (Александру Драшусову). Во втором письме, от 6 июля, сказано: «Сегодня акт, но я не был, я не хотел быть вторым при получении медали». (Примеч. А. И. Герцена.) Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от истинных падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край; я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто; открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки. Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Печатается по: Герцен А.И. Московский университет (глава из книги «Былое и думы» // Полн.собр. соч. в 30-ти томах. М., 1956. Т. YIII Герцен Александр Иванович (1812 – 1870) – русский мыслитель, писатель, публицист, мемуарист Примечания 1. …белым ремнем и голубым Бенкендорфом – белый ремень – солдатчина, голубой цвет имела жандармская форма. 2. …Полежаевской истории 3. …А. Писарева 4. …уничтожил Критских 5. …Сенсимонизм 6. …акушеру Рихтеру 7. …отцу Терновскому 210 Афанасий Афанасьевич Фет Ранние годы моей жизни 211 Вдруг в конце декабря совершенно для меня нежданно явился отец (1) и сказал, что решено не оставлять меня в таком отдалении от родных (2), а везти в Москву для приготовления в университет. <…> На другой день мы были уже в кибитке и …..доехали в Москву. Здесь я отдан был для приготовления к университету к профессору Московского университета, знаменитому историку М. П. Погодину. В назначенный час я явился к Погодину,. Вместо всякого экзамена Михаил Петрович вынес мне Тацита и, снабдив пером и бумагой, заставил в комнате, ведущей к нему в кабинет, перевести страницу без пособия лексикона. Не знаю, в какой степени удовлетворительно исполнил я свою задачу; полагаю даже, что почтенный Михаил Петрович и не проверял моего перевода по оригиналу, но на другой день я вполне устроился в отдельном левом флигеле его дома (3). Помещение мое состояло из передней и комнаты, выходящей задним окном на Девичье поле. Товарищем моим по комнате оказался некто Чистяков, выдержавший осенью экзамен в университет, но недопущенный в число студентов на том основании, что одноклассники его по гимназии, из которой он вышел, еще не окончили курса. Таким образом, жалуясь на судьбу, Чистяков снова принялся за Цицерона, «Энеиду» (4) и исторические тетрадки Ивана Дмитриевича Беляева, которого погодинские школьники прозывали «хром-бесом» (он был хром), в отличие от латинского учителя Беляева, который прозывался «черненьким». Когда последний в виде экзамена развернул передо мною наудачу «Энеиду», и я, не читая по-латыни, стал переводить ее по-русски, он закрыл книгу и поклонившись сказал: «Я не могу вам давать латинских уроков». И действительно, с той поры до поступления в университет я не брал латинской книги в руки. Равным образом для меня было совершенно бесполезно присутствовать на уроках математики, даваемых некоим магистром Хилковым школьникам, проживавшим в самом доме Погодина и состоявшим в ведении надзирателя немца Рудольфа Ивановича, обанкрутившегося золотых дел мастера. Рудольф Иванович к нам с Чистяковым вхож не был; но и у своих шаловливых и задорных учеников не пользовался особым вниманием и почетом. Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком учеников, составлявших Погодинскую школу, в которой продовольственною частью занималась старуха мать Погодина, Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней бережливостью (5)... <...> Не одним примером долбления служил для меня, провинциального затворника, бывалый в своем роде Чистяков. При его помощи я скоро познакомился в Зубовском трактире с цыганским хором, где я увлекся красивою цыганкой. Заметив, что у меня водятся карманные деньжонки, цыгане заставляли меня платить им за песни и угощать их то тем, то другим. Такое увлечение привело меня не только к растрате всех наличных денег, но и к распродаже всего излишнего платья, начиная с енотовой шубки до фрачной пары. ...перед самым вступительным экзаменом вошел прихрамывая человек высокого 212 роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: «Господа, честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский». Оказалось, что он чуть ли не исключенный за непохвальное поведение из Троицкой духовной академии, недавно вышел из больницы и, не зная, что начать, обратился с предложением услуг к Погодину. Михаил Петрович, обрадовавшись сходному по цене учителю, пригласил его остаться у него и помог перейти без экзаменов на словесный факультет. <…> Михаил Петрович,— сказал я, входя, за несколько дней до вступительных экзаменов в университет, к Погодину,— не зная ничего о формальных порядках, прошу вашего совета касательно последовательных мер для поступления в университет. И прекрасно делаете, почтеннейший. Идешь, надо узнать, к кому обратиться в университете: к сторожу или к его жене. А какой факультет? На юридический. Ну хорошо, я там секретарю скажу, а вы обратитесь к нему, и он вам все сделает. Начались экзамены. Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости новосельских семинаристов (6) был весьма силен в катехизисе (7) и получил пять. Каково было мое изумление, когда на латинском экзамене, в присутствии главного латиниста Крюкова и декана Давыдова, профессор Клин подал мне для перевода Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом.Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход (8). Из математики я, к счастию, услыхал от добрых людей, что Дмитрий Матвеевич Перевощиков, спрашивая у экзаменующегося: «Что вы знаете?» — терпеть не мог утвердительных ответов и тотчас же доказывал объявившемуся знающим хотя бы четыре первых правила, что он ничего не знает. Предупрежденный, я сказал, что проходил до таких-то пределов и, удачно разрешив в голове задачу, получил четверку. Таким образом, поступление мое в университет оказалось блестящим, и я до того возгордился, что написал Крюммеру самохвальное письмо. В последний день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук, объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал. Независимо от того, что все семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время давал потомственное дворянство (10), и я не раз слыхал от отца, по поводу какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: «Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин». 213 В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки все более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу, на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем. И вот не прошло двух недель, как я появился у Погодина в кабинете со следующей речью: Михаил Петрович, не откажите еще раз в вашей помощи. Я ненавижу законы и не желаю оставаться на юридическом факультете, а потому помогите мне перейти на словесный. Вот, вот, подумаешь, у теперешней молодежи какие разговоры! Ненавижу законы! Что ж вы, почтеннейший, беззаконник, что ли? Ведь на словесный факультет надо додерживать экзамен из греческого. Буду держать, Михаил Петрович. Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени. Я, почтеннейший, студентов у себя в доме не держу, но для вас делаю исключение до Нового года. Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую страницу «Одиссеи» (11), хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил на словесный факультет. Когда минула горячая пора экзаменов, и Введенский надел тоже студенческий мундир, мы трое стали чаще сходиться по вечерам. <…> Никогда с тех пор не приводилось мне видеть такого холодного и прямолинейного софиста, каким был наш Иринарх Иванович Введенский. <…> Но и при такой прямолинейности возможны, не скажу, страсти, а минутные увлечения. Так, нескольких лишних рюмок водки или хересу было достаточно, чтобы Введенский признался нам в любви, которую питает к дочери троицкого полицмейстера Засицкого, за которою ухаживает какой-то более поощряемый офицер. <…> Под влиянием неудачи он вдруг неведомо отчего приступил тихо ко мне с просьбой написать сатирические стихи на совершенно неизвестную мне личность офицера, ухаживающего за предметом его страсти. Несколько дней мучился я неподсильною задачей и наконец разразился сатирой, которая, если бы сохранилась, прежде всего способна бы была пристыдить автора; но не так взглянул на дело Введенский и сказал: «Вы несомненный поэт, и вам надо писать стихи». И вот жребий был брошен. С этого дня, вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи, все более и более заслуживающие одобрения Введенского. <…> Но судьбе угодно было с дороги мертвящей софистики перевести меня на противоположную стезю беззаветного энтузиазма. Познакомившись в университете, по совету Ивана Дмитриевича Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым, я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям. Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей 214 от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева (12) просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку (13) в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение. Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина, я упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном (14), причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение. Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились. .О своих университетских занятиях в то время совестно вспомнить. Ни один из профессоров, за исключением декана Ивана Ивановича Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению. — Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю,— сказал Погодин,— он в этом случае лучший судья. Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами «Гоголь сказал, это несомненное дарование». <…> У меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона. Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение. - Помилуй, братец,— восклицал Аполлон,— чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечею, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо! И вот появилось мое стихотворение «Не ворчи, мой кот мурлыка...» долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова арфа (15). 215 Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря», над которым он только восклицал: — Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик! Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в «Notre Dame de Paris» и драмы Виктора Гюго (16). Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Иван Иванович Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?! Что стоит Бенедиктов?— спросил я приказчика. Пять рублей,— да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет. Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь байроновскофранцузскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэтамыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть Аполлон Григорьев. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывающий лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Владимир Александрович Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию? <…> Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до 216 прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз: Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету... Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка. <…> Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев был записан слушателем, и в числе других был причиной неоднократно повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, им ли было написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? Оно так хорошо, прибавил граф, что я усомнился, чтобы оно было писано студентом, и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: «vous faites trop parler de vous; il faut vous effacer» . Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан Никита Иванович Крылов,— недавно женившийся на красавице Люб. Фед. Корш, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми (20). Аполлон рассказывал мне, что вдова генеральша Корш целый вечер толковала с ним о Жорж Занд, и, к великому его изумлению, говорила наизусть мои стихи, а в довершение просила привести меня и представить ей. Мы оба не раскаялись, что воспользовались любезным приглашением. <…> С наступлением великого поста (21) все бросилось готовиться к переходным экзаменам. Принялся и я усердно за богословие Петра Матвеевича Терновского. Достал я себе также и усыпительные лекции его брата, Ивана Матвеевича, читавшего логику. При моем исконном знакомстве с катехизисом мне нетрудно было подготовиться из догматического богословия, и я отвечал на четыре; но если бы меня спросили из истории церкви, то я бы не ответил даже на единицу. После счастливого экзамена по богословию, я в присутствии профессора латинской словесности Крюкова, читавшего начиная со второго курса, экзаменовался из логики и к Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться (фр.) 217 несчастию вынул все три билета из второй половины лекций, которой не успел прочитать. Услыхав на третьем билете мое: «И на этот не могу ответить», он сказал: «А меня ваша четверка сильно интересует, и я желал бы, чтобы вы перешли на второй курс. Не можете ли чего-либо ответить по собственному соображению?» И когда я понес невообразимый вздор, экзаменаторы переглянулись и тем не менее поставили мне тройку. Любезные лекторы французского и немецкого языков поставили мне по пятерке, а Погодин, по старой памяти, тоже поставил четверку из русской истории. Таким образом я, к великой радости, перешел на второй курс. На другой день по выдержании экзамена я, надев свежие лайковые перчатки, обещал ямщику, везшему меня на перекладной, полтинник на водку, если он меня промчит во весь дух мимо окон девиц Корш, которые, конечно, только случайным и самым невероятным образом, могли видеть меня в таком победоносном виде. <…> С переходом на второй курс университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо «коляску Григорьева! — коляску Гегеля!». С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды, до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом». Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в «Отечественные записки» как критик (22) и не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей. Не думая умалять его почина в этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда с сердечной привязанностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация (23). Вероятно, желая более познакомиться с нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать критический разбор какого-либо классического произведения отечественной литературы. Не помню, досталось ли мне или выбрал я сам оду Ломоносова «На рождение порфирородного отрока», начинающуюся стихом: «Уже врата отверзло лето» (24). Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические неточности, какофонии (25) и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде «И Тавр и Кавказ в Понт бегут». 218 Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев державинской силы — то же, что требовать от Бетховена листовской игры на рояле, а от Листа — бетховенских произведений. Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии своими иллюстрациями к произведениям Гоголя. В то время мне приходилось не только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего бархатным тенором. Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева Николай Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки. <…> В НАШЕЙ С ГРИГОРЬЕВЫМ ДУХОВНОЙ АТМОСФЕРЕ ПРОИЗОШЛА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА. МАЛО-ПОМАЛУ ИДЕАЛЫ ЛАМАРТИНА СОШЛИ СО СЦЕНЫ, И МЕСТО ИХ, ДЛЯ МЕНЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЗАНЯЛИ ШИЛЛЕР И ГЛАВНОЕ БАЙРОН, КОТОРОГО «КАИН» СОВЕРШЕННО СВОДИЛ МЕНЯ С УМА (26). ОДНАЖДЫ НАШ ПРОФЕССОР РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ С.П. ШЕВЫРЕВ ПОЗНАКОМИЛ НАС СО СТИХОТВОРЕНИЯМИ ЛЕРМОНТОВА, А ЗАТЕМ И С ПОЯВИВШИМСЯ ТОГДА «ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (27). НАПРАСНО СТАРАЛСЯ БЫ Я ВОСПРОИЗВЕСТИ МОГУЧЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ НА НАС ЭТИМ ЧИСТО ЛЕРМОНТОВСКИМ РОМАНОМ. КОГДА МЫ ВПОЛНЕ НАСЫТИЛИСЬ ИМ, ЕГО ВЫПРОСИЛ У НАС ЗАШЕДШИЙ К ВЕЧЕРНЕМУ ЧАЮ ЧИСТЯКОВ, УВЕРЯВШИЙ, ЧТО ОН СДЕЛАЕТ НА РОМАНЕ ОБЕРТКУ И ВОЗВРАТИТ ЕГО В ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ. - НУ ЧТО, ЧИСТЯКОВ, КАК ТЕБЕ ПОНРАВИЛСЯ РОМАН? – СПРОСИЛ ГРИГОРЬЕВ ВОЗВРАЩАВШЕГО КНИЖКУ. - НАДО ЕХАТЬ В ПЯТИГОРСК, – ОТВЕЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ, – ТАМ БЫВАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. К УПОЕНИЮ БАЙРОНОМ И ЛЕРМОНТОВЫМ ПРИСОЕДИНИЛОСЬ СТРАШНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ СТИХАМИ ГЕЙНЕ. <…> При трудности тогдашних путей сообщения, прошло некоторое время до распространения между нами роковой вести о трагической смерти Лермонтова (28). Впечатлительный Шевырев написал по этому случаю стихотворение, из которого память моя удержала только два разрозненных куплета: «О грустный век! мы видно заслужили 219 И по грехам нам видно суждено, Чтоб мы в слезах так рано хоронили Все, что для дум высоких рождено». Мысль, что толпе все равно, кончается куплетом: «Иль что орла стрелой пронзили люди, Когда младой к светилу дня летел, Иль что поэт, зажавши рану груди, Безмолвно пал и песни не допел». Добрый Аполлон, несмотря на свои занятия, продолжал восхищаться моими чуть не ежедневными стихотворениями и тщательно переписывал их. Внимание к ним возникало не со стороны одного Аполлона. Некоторые стихотворения ходили по рукам, и в настоящую минуту я за малыми исключениями не в состоянии указать на пути, непосредственно приведшие меня в так называемые интеллигентные дома. Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что критик «Отечественных Записок» Василий Петрович Боткин желает со мной познакомиться и просит его, Ратынского, привести меня. Ратынский в то время был в доме Боткиных своим человеком, так как .приходил младшим девочкам давать уроки (29). Боткин жил в отдельном флигеле, и в 30 лет от роду пользовался семейным столом, и получал от отца 1000 рублей в год. У Боткина я познакомился с Александром Ивановичем Герценом, которого потом встречал и в других московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение. С Василием Петровичем знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы (30) <…> Не могу в настоящую минуту припомнить, каким образом я в первый раз вошел в гостиную профессора истории словесности Шевырева. Он отнесся с великим участием к моим стихотворным трудам и снисходительно проводил за чаем по часу и по два в литературных со мною беседах. Эти беседы меня занимали, оживляли и вдохновляли. Я чувствовал, что добрый Степан Петрович относился к моей сыновней привязанности с истинно отеческим расположением. Он старался дать ход моим стихотворениям и с этою целью, как соиздатель «Москвитянина», рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений под названием: «Снега» (31). Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева. Счастлив юноша, имеющий свободный доступ к сердцу взрослого человека, к которому он вынужден относиться с величайшим уважением. Такой нравственной пристани в минуты молодых бурь не может заменить никакая дружба между равными. Мне не раз приходилось хвататься за спасительную руку Степана Петровича в минуты, казавшиеся для меня окончательным крушением. Но не один Шевырев замечал мое стихотворство. Увлеченный до крайности выпуклыми и изящными объяснениями Дмитрием Львовичем Крюковым Горация, я представил последнему свой стихотворный перевод оды Горация, кн. I, XIV, «К республике» <…>. Однажды, когда только что начавший лекцию Крюков, прерывая 220 обычную латинскую речь, сказал по-русски: «М. г.,— в качестве наглядной иллюстрации к нашим филологическим объяснениям од Горация, позвольте прочесть перевод одного из ваших товарищей, Фета, книги первой, оды четырнадцатой, «К республике»; при этих словах дверь отворилась, и граф С. Г. Строганов вошел в своем генерал-адъютантском мундире. Раскланявшись с профессором, он сел в кресло со словами: «Прошу вас продолжать» — и безмолвно выслушал чтение моего перевода. Такое в тогдашнее время исключительное отношение к моим трудам было тем более изумительно, что проявлялось уже не в первый раз. Так, когда И. И. Давыдов в сороковом году сказал мне на лекции, в присутствии графа Строганова: «Вашу печатную работу я получил, но желал бы получить и письменную», граф спросил: «Какую печатную работу?» и на ответ профессора: «Небольшой сборник лирических стихотворений» (32) — ничего не ответил. <…> Однажды, сходя к лекции, Шевырев сказал мне на лестнице: «Михаил Петрович готовит вам подарок». А так как Степан Петрович не сказал, в чем заключается подарок, то я находился в большом недоумении, пока через несколько дней не получил желтого билета на журнал «Москвитянин». На обороте рукою Погодина было написано: «Талантливому сотруднику от журналиста; а студент берегись! Пощады не будет, разве взыскание сугубое по мере талантов полученных. Погодин». В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма любезный правовед Калайдович, сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова (33). Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. <…> Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями Константином и Иваном Аксаковыми (34). <…> Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны, Святой недели (35) и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или вчетвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева. Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Апполон Григорьев радостный принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом (36), я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год. Дома более или менее успешно я свалил вину на несправедливость Гофмана; но внутренне должен был сознаться, что Гофман совершенно прав в своей отметке, и это сознание, подобно тайной ране, не переставало ныть в моей груди. 221 <…> Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого университета (37), мне и в голову не пришло торжествовать какой-нибудь выходкой радостную минуту. Странное дело! Я остановился спиною к дверям коридора и почувствовал, что связь моя с обычным прошлым расторгнута и что, сходя по ступеням крыльца, я от известного иду к неизвестному. Отправился я благодарить добрейшего Степана Петровича Шевырева (38) за его постоянное и дорогое во мне участие. Он оставил меня обедать и даже, потребовав у жены полбутылки шампанского, пил мое здоровье и поздравлял со вступлением в новую жизнь. <…> Публикуемые в настоящем издании отрывки из мемуаров А.А.Фета впервые были напечатаны после его смерти в 1893 году в журнале «Русское обозрение» (январь, с. 2-25, февраль, с.461482, март, с.5-24, апрелб, с. 533-552), однако не с самого начала, а с описания дома Григорьевых. Печатаются с сокращениями по кн.: Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983. С. 122-179. Примечания 1. … явился отец… – В действительности А.А. Шеншин был не отцом, а отчимом Фета. Мать Фета, жена асессора Фета, соединив свою судьбу с А.А. Шеншиным, покинула Германию. Родившийся осенью 1820 года в России ребенок до 1834 года по документам числился сыном А.Н. Шеншина. Однако излишнее любопытство, проявленное орловским губернским начальством к происхождению мальчика, заставило Шеншиных изменить его фамилию, что сразу лишило А. Фета дворянских привилегий, из русского превратив в иностранца (В списке студентов императорского Московского университета на 1846 //47 академический год» указано, что студент Афанасий Фет «из иностранцев»). 2. … решено не оставлять меня в таком отдалении от родных… - А. Фет находился в пансионе Крюммера в Верро (ныне Выру в Эстонии), а Шеншины жили в Новоселках, в 7 верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии. 3. … устроился в отдельном левом флигеле его дома. – М.П.Погодин имел пансион, где ученики приготовлялись к поступлению в Московский университет. 4. … принялся за… «Энеиду»..- Gоэма Вергилия, написанная между 29 и 19 гг. до н.э. и состоящая из 12 книг. 5. … мать Погодина, Аграфена Михайловна отличалавшаяся крайней бережливостью. Аграфена Михайловна отличалась также большой строгостью и сильной вспыльчивостью, что вызывало «со стороны учащихся да и учащих жалобы на нее (Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. По- 222 година: В 22-х книгах. Спб., 1891. Кн. 4. С. 179). 6. … по милости новосельских семинаристов…- В Новоселках, где жили Шеншины, А.Н. Шеншин нанимал для обучения сына семинаристов (Петра Степановича, Василия Васильевича, Андрея Карповича); в доме часто бывал приходской священник отец Яков ( см.: Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983. С.. 44, 55, 61, 72). 7. … был весьма силен в катехизисе…- Катехизис – книга, излагающая в популярной форме религиозные догматы. 8. … помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом…, я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход. – Имеются в виду потомки Олега Святославича (ум. в 1115 г.), названного в «Слове о полку Игореве» Гориславичем за горе, причиненное русской земле участием в княжеских междоусобицах. В результате Азовских походов Петра I 1695-1696 гг. Россия получила выход к Азовскому морю. Северная война 1700 – 1721 гг. завершилась победой России. Полтавская битва со шведами была 27 июня 1709 года. И только Прутский поход Петра I (1711) окончился неудачей: русские в результате невыгодного для России мира с Портой вынуждены были покинуть Молдавию. 9. … я до того возгордился, что написал Крюммеру самохвальное письмо. – Письмо немецкому педагогу, содержателю пансиона в Верро (Лифляндия), в котором А. Фет обучался в 1835-1837 гг. Горестные впечатления, связанные с пребыванием в пансионе Крюммера, Фет описал во II части своих мемуаров «Ранние годы моей жизни». (см.: Афанасий Фет. Воспоминания. М., 1983. Стр. 103-122). 10. …офицерский чин в то время давал потомственное дворянство… - Такое положение сохранялось до 1845 г., с 1845 г. потомственное дворянство давал чин майора, с 1856 г. его получал только полковник. Вступление А. Фета после окончания Московского университета в военную службу объяснялось страстным желанием вернуть утраченное из-за смены фамилии, но чем ближе он приближался к цели, тем дальше она отодвигалась от него. Наконец, в 1858 году он вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. 11. … развернул мне первую страницу «Одиссеи»… - Эпическая поэма о странствиях Одиссея, автором которой считается Гомер. 12. … отец и мать Григорьева…- А.И. и Т.А. Григорьевы. 13. … их Полонушку… - То есть Аполлона Александровича Григорьева. 14. … упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном… - В доме Григорьевых А. Фет жил с 1839 по 1844 гг. 15. Чуток он был… как Эолова арфа. - Эолова арфа (от Эола, в древнегреческой мифологии повелитель ветров) откликается на малейшее дуновение ветра. 16. … застал его погруженным в «Notre Dame de Paris» и драмы Виктора Гюго. – «Собор Парижской Богоматери» (1831) – первый значительный роман писателя. До 1839 г., когда А. Фет поселился в доме Григорьевых, Виктор Гюго написал драмы «Кромвель(1827), «Марион Делорм» (1829), «Мария Тюдор» (1833), «Рюи Блаз» (1838), которые мог читать А. Григорьев. 17. … о появлении книжки стихов Бенедиктова…- В 1834, а затем в 1835 годах В.Г. Бенедиктов выпустил книгу стихотворений, имевшую большой успех. С.П. Шевырев в «Московском 223 наблюдателе» (1835 Август. Кн. 1) восторженно характеризовал Бенедиктова как первого «поэта мысли». Однако В.Г. Белинский в статье, напечатанной в «Телескопе» (1835, т. ХХYII, № 11), отказывался признать поэтическое дарование Бенедиктова, справедливо считая, что этому поэту доступна только техника стиха. Сходного мнения придерживался И.В. Киреевский, который в письме матери А.П. Елагиной назвал стихи Бенедиктова и ему подобных поэтов «рифмоплетениями, где поэты без мыслей притворяются мыслящими потому только, что прочли несколько немцев, не понимая, может быть, половины…» (письмо 1836г. //Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 361). О том,что стихи «под Бенедиктова» писать легко, И. Киреевский подтвердил тем, что втроем (он, его жена и брат Петр) за ужином сочинили стихи, которые Елагина признала за бенедиктовские. И. Киреевский предложил мистифицировать Шевырева, послав эти стихи в журнал и подписав В. (Варвара Боровкова, бывшая прачка Елагиной, инициалы которой одинаковы с инициалами поэта)(Там же). Ф.И. Буслаев писал, что «сгоряча» И.И. Давыдов лекциях делился своими восторгами по поводу стихотворений Бенедиктова,однако позднее раскаивался в этом увлечении. ( Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 121). Слава Бенедиктова оказалась кратковременной, но на раннего Фета его поэзия оказала несомненное влияние.(см.: Шимкевич К.А. Бенедиктов, Некрасов, Фет// Поэтика. Л., 1929. Y). 18. Фальцет – звук высокого регистра мужского голоса. 19. … малообщительный декан Никита Иванович Крылов, - недавно женившийся на красавице Люб<ови> Фед<оровне> Корш… - Студент А. Григорьев был польщен приглашением профессора, но впоследствии изменил свое мнение о нем: признавая «глубокий и оригинальный ум» Крылова, Григорьев будет выражать недовольство его «трусостью» и «раздражительностью паче меры» (письмо М.П. Погодину около апреля 1857 г. //Аполлон Григорьев. Письма. М., 1999. С. 128-129 (Сер. Лит. памятники). В 1847 г. Крылов оказался «героем» скандальной истории, получившей широкую огласку в городе: от него сбежала страдавшая от побоев жена. Профессора К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский., П.Г. Редкин и брат пострадавшей, редактор «Московских ведомостей» Е.Ф. Корш, считая недопустимым присутствие в университете нравственно нечистоплотного человека (оказавшегося к тому же пьяницей и взяточником), потребовали его удаления. Но поддержка М. П. Погодина, который ходатайствовал за Крылова перед министром С.С. Уваровым, спасла Крылова. Тогда протестовавшие покинули Московский университет(за исключением Грановского, который не был отпущен как не отслуживший 2-х годичный срок за свое обучение за границей).(Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Спб., 1894. Кн. 8. С. 374, 375) Вот почему Б.Н. Чичерин считал, что крыловская история «принесла столько зла Московскому университету» (Б.Н. Чичерин. Москва сороковых годов. М., 1997. С. 63) А. Григорьев охарактеризовал дело Крылова как «дело безнравственной даровитости» (письмо Е.Н. Эдельсону от 5(17) декабря 1857г. // Аполлон Григорьев. Письма. М., 1999. С. 168 (Сер. Лит. памятники). 20. … обвороженный любезностью…ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми. – Имеются в виду С.Г. Корш и ее дочери Антонина и Лидия. 21. С наступлением великого поста…- Великий пост длится 7 недель перед Пасхой. 22. … в то время Белинский не поступал еще в «Отечественные записки» как критик… - В.Г. Белинский осенью 1839 г. переехал из Москвы в Петербург, где возглавил отдел критики и библиографии «Отечественных записок». 23. … не прочь был послушать … разъяснение Крюковым красот Горация. – Лекции Д.Л. Крюкова о Горации произвели такое впечатление на А. Фета, что через 10 лет после смерти профессоров стихотворении «Памяти Д.Л. Крюкова» он вспоминал о них: И чудилося нам невольно, что над нами 224 Горация витает тень… (1855). 24. … выбрал я сам оду Ломоносова «На рождение порфирородного отрока», начинающуюся стихом: «Уже врата отверзло лето». - А. Фет цитирует «Оду на день тезоименитства его императорского высочества государя великого князя Петра Феодоровича 1743 года» М.В. Ломоносова, а не оду «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779), которая принадлежит перу Г.Р. Державина, а не Ломоносова. 25. Какофония – неблагозвучие. 26. … Байрон, которого «Каин» совершенно сводил меня с ума. - «Каин» (1821) – философская драма Байрона. 27. … С.П. Шевырев познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени». – И роман писателя, и сборник «Стихотворения М. Лермонтова» вышли в 1840 г. С.П. Шевырев откликнулся на их появление не только своими лекциями, но и статьями в «Москвитянине» 1841 г., однако трактовка лермонтовского творчества была крайне пристрастна: критик рассматривал Печорина не как порождение николаевской действительности, а как плод недугов Запада, противопоставляя ему Максима Максимовича, носителя положительных русских свойств; в стихотворениях Лермонтова Шевырев не обнаружил самобытности, утверждая, что в них «слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова…» 28. … роковой вести о трагической смерти Лермонтова, - 15 июля 1841 года М.Ю. Лермонтов был убит на дуэли. 29. … младшим девочкам…- Сестрам В.П. Боткина. 30. С Вас<илием> Петр<овичем> знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы…- В 1858 году А. Фет вышел в отставку и женился на сестре В.П. Боткина Марии Петровне. 31. … рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений под названием «Снега». – Цикл «Снега» был напечатан в первом номере журнала «Москвитянин» 1842 г. 32. … «Небольшой сборник лирических стихотворений»… - Первый сборник стихотворений А. Фета «Лирический Пантеон вышел в 1840 году. 33. … появился весьма любезный правовед Калайдович, сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова. – Речь идет о Н.К. Калайдовиче, сыне К.Ф. Калайдовича, издателя «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым» (М., 1818). В сборнике, вышедшем под редакцией К.Ф. Калайдовича, собраны русские былины и исторические песни (61 текст). В списке профессоров и преподавателей Московского университета (М., 1855) фамилия К.Ф. Калайдовича отсутствует. Его сын Н.К. Калайдович отличался не только любезностью, но и любовью к пересудам. В 1845 году А. Григорьев писал М.П. Погодину о слухах, распространяемых этим человеком: «Ежели слухи сообщены Вам Калайдовичем, то от души прощаю ему. Я любил и люблю его, но уважать не могу: он сделался чиновником в душе, т.е. рабом от головы до пяток» (письмо от 29 октября 1845 г.// Аполлон Григорьев. Письма. М., 1999. С. 15 (Сер. Лит. памятники). В следующем 1846 г. А. Григорьев писал отцу А.И. Григорьеву о сплетнях о себе, распространяемых Калайдовичем (письмо от 23 июля 1846 г. //Там же. С. 17). 225 34. Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями Константином и Иваном Аксаковыми. – Истинными друзьями они не были из-за отмеченной выше любви Н.К. Калайдовича к распространению сплетен. В письмах И.С. Аксакова 1840-х годов в полной мере проявилось неприязненное отношение к своему бывшему товарищу по Училищу правоведения («подлец и мерзавец»). В конце концов Калайдовичу было отказано от дома (См.: И.С. Аксаков. Письма к родным. 1844-1849. М., 1988. С. 199, 237, 330, 366, 610, 657 (Сер. Лит. Памятники). 35. Святая неделя – первая неделя после Пасхального Воскресения. 36. … кончил курс первым кандидатом… - То есть первым студентом на курсе. Лучшие студенты курса или лучшие выпускники университета получали звание «кандидат». 37. Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого университета… А. Фет окончил Московский университет в 1844 году, на 2 года позже А. Григорьева, так к.ак дважды оставался на второй год. 38. Отправился я благодарить добрейшего Ст<епана> П<етровича> Шевырева… - Отношение А. Григорьева к С.П. Шевыреву было иным, чем у его друга. «В былые времена мы уже достаточно срамились общением с разною гнилью, вроде Шевырева…» (письмо Е.Н.Эдельсону от 5/17 декабря 1857 г. // Аполлон Григорьев. Письма. М., 1999. С. 169 (Сер. Лит. памятники). Григорьев назвал причину такого общения: «отчасти из пьяной распущенности, отчасти из молодости» (Там же). Подготовка текста и комментарии Т.Ф. Пирожковой. 226 Владимир Александрович Черкасский. Студенческие воспоминания. 227 Вступив в Московский университет в 1840 году, вышел из которого в 1844 году, слушателем, находился в нем в минуту полного по возможности его созренья, когда семь лет, протекших после его преобразования, уже начали опытом своим оправдывать и укоренять многие из вверенных в жизнь его начал. Студентов было много; но что гораздо важнее, мы искали перед глазами своими нередкие уже примеры окончивших курс товаришей, с выходом своим из университета не разорвавших мгновенно всех связей своих ни с ним самим, ни с наукою, не увлекшихся выгодами или привычкою службы и в тиши уединенной жизни продолжавших собственное образование, обретши в ней уже древнему миру сладкое «Otium cum dignitate». К слишком быстро протекшим сорок первым годам принадлежит наибольшее количество защищенных дельных магистерских рассуждений в университете и более или менее оправдавшихся впоследствии призваний к ученой деятельности и профессуре питомцев обновившегося университета. Под влиянием свободного развития, предоставленного ему графом Строгановым, росло и крепло в нем историческое направление, давно выражаясь во всей умственной жизни тогдашней Москвы; это было время произведения публичных лекций и многих изданий – «Чтений Общества Истории и Древностей» «Юридических записок», многих отличных «Сборников», «Москвитянина» и прочее. То была также пора более или менее вежливых турниров и борьбы славян и западников. Счастливое время, когда турнир не был смешон и между людьми мыслящими могло существовать искреннее разногласие! Все это прошло, - дай Бог, чтобы не прошло безвозвратно, - но во всяком случае прошло для нашего поколения, оставив по себе единственным следом несбывшиеся надежды и неутешительную действительность. Как бы то ни было, но все эти внешние, близкие университету влияния имели в то время благодетельнейшее действие на образ мыслей и занятий моих товарищей. Первый курс постоянно и ежегодно наполнялся множеством незрелых питомцев семейной жизни, строгий переходный экзамен с 1-го на 2-ой курс немедленно отделял надежных студентов от семйных баловней и возвращал последних естественному их назначению – военной службе или светской жизни; пререшедшие же на 2-ой курс, живя и равиваясь в благоприятной свободной атмосфере часто делались людьми дельными и постоянно выносили с собою из университета по крайней мере уважение к науке, чувство личного достоинства и теплое сочувствие ко всякому благородному стремлению. Таковым я неизменно встречал всех, даже самых дюжинных товарищей своих, впоследствии, в жизни, среди многосторонних ее искушений и трудностей. С 1842 года введены были в университете окончательно две меры внутренней организации, значительно облегчавшие правильные занятия в нем: отменены на двух последних курсах полугодичные репетиции и распределены предметы по курсам в логической их последовательности; особенно первая мера значительно возвысила уровень умственной деятельности студентов. Господствующее направление в университете, сказал я, было историческое. Русская история в особенности была в то время любимым предметом большин228 ства дельных студентов. До сих пор вспоминаю я с наслаждением лекции М.П. Погодина, слушанные мною год ex officceo и два года добровольно на иностранных курсах. Мне и товарищам моим он читал историю Московского княжества; на 4-м курсе юридического факультета, кажется, в 1840-1841 гг. слушал я его историю Петра Великого; в другом, не помню наверное котром году, слушал я вместе с словесниками историю царя Алексея Михайловича. Не одаренный могучим или живым словом, но вполне проникнутый горячею любовию к Отечеству и к его истории, каждый год разнообразя эпохи, входившее в программу его преподавания и в основу последнего кладя всегда подлинное чтение на лекциях замечательнейших памятников древности, он невольно вселял в слушателей своих сочувствие к историческому труду, возбуждал самодеятельность умов их и радушно приветствовал их и поощрял каждого, кого успевал он посвятить в тайные наслаждения науки. Другие преподаватели, не менее имевшие на меня влияние и, конечно, не оставшиеся чуждым образованию склада ума многих товарищей, было призвание тогдашнего декана нашего, Никиты Ивановича Крылова. То был резкий, трезвый ум, воспитанный и скусившийся на оновательном изучении римских юристов и в блистательное живое слово облекавший их строгую логику. Мастерскую частью его преподавания слыли в университете его лекции по римскому праву. Но меня более всего поражало его, не на много лекций растянутое, но исполненное жизни и одушевления учение о римском колонате и об емфитевзисе; в глазах моих то было венцом его догматического преподавания, вообще для юридического факультета с успехом по своему логическому характеру восполнявшего ощутительный недостаток кафедр логики и философии. Еще более поразило меня его преподавание истории римского права на 2-м курсе: последователь Нибура, он в основании всякой разумной и обещающей модное развитие в будущем истории народов клал необходимость физиологического смешения племен. Все преподавание его было, ничто иное, как ряд блистательных вариаций на ту же любимую тему, к которой так легко и непринужденно приспособлялись драматические эпизоды из борьбы патрициев с плебеями. Разумное значение римских аристократических родов и тем не менее естественное необратимое их вымирание под наводняющим влиянием плебейской жизни, трагический fatum, тяготевший над сомкнутыми древними родами, и исполненное будущности движение всякой живой демократии – таков был неисчерпаемый предмет и столько же неисчерпаемый для мыслящего ума интерес лекций Крылова. – За ними по художественной своей отделке и теплоте постоянно согревавшего их чувства отличались чтения Тимофея Николаевича Грановского. Наконец, и Редкин не взирая на многие слабые стороны был далеко не бесполезен, и на 1-м курсе своим изложением энциклопедии поселял в умы неопытных слушателей довольно ясное сознание их невежества, а следовательно – и необходимость серьезного занятия; на 4-м курсе иногда случалось ему мастерски прочитать несколько лекций об иностранных государственных учреждениях. Так рос и мужал университет наш. В числе товарищей моих не могу не 229 назвать Соловьева и Леонтьева, ныне профессоров, Новосильцова, скромного епифанского помещика, Фета и Полонского, Елагина, Ушинского, бывшего в последствии профессором Депмидовского лицея, наконец, из студентов, бывших при мне на младших курсах, - Горчакова и Морнгейма. Впрочем, несмотря на спорное и, конечно, блистательное свое развитие, университет уже таил в себе два начала разложения: во-первых, постоянно усиливавшееся и распространившееся между дельными воспитанниками его отвращение к практической деятельности и службе – симптом, конечно, понятный и легко объяснимый, но тем не менее начинавший вселять во многих недоверие к университетскому образованию или , по крайней мере, к применимости его в России; перевороты 1848-го года нашли в умах и в публике почву уже приготовленную и возникшие уже сомнения, готовые перейти в слепое одобрение всех стеснительных против университетов мер. Другое разрушительное начало, внесенное в университет извне, из общества, снабжавшего его питомцами, несравненно важнейшие и еще более для него зловещие, это было образование в самой среде студентов, и притом уже с самого следовавшего за мною курса, шайки или партии аристократической, резко старавшейся отделиться от общего товарищества. С тех пор уже, должен я сознаться, начала падать общественная товарищеская жизнь старого университета, а с этим вместе нанесен ему был и решительный удар. Постараемся в нынешний день забыть это последнее грустное явление. Возблагодарим по крайней мере наш старый университет за то, что он сумел заставить нас себя полюбить, и среди общественного к нему равнодушия или злорадости скажем ему от себя душевное спасибо и пожелаем ему более продолжительных лучших дней для блага России, в оправдание света и на рассеяние тьмы. Впервые опубликовано в книге «Князь В.А.Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем». М., 1879. С. YII-Х. В сокращенном виде напечатано в книге: Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 кн. Спб., 1894. Кн. 8. С.100-102. В настоящем издании печатается по книге «Князь В.А.Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем». М., 1879. Публикации предшествовало предуведомление:«Читано в кружке однокурсников и товарищей 12 января 1855 года, в день столетнего юбилея Московского университета, т. е. почти в последний месяц николаевского царствования». Князь Владимир Александрович Черкасский (1824 – 1878) – блестящий воспитанник юридического факультета Московского Императорского университета (1840-1844), награжденный серебряной медалью за «Очерк истории крестьянского сословия до отмены Юрьева дня». Происходил из рода кабардинских князей, ведущих начало от султана Инала Египетского, жившего в ХУ в. Об «ироническом князе» упоминал А.А. Фет в своих «Воспоминаниях» – Черкасский был частым гостем у Ап. Григорьева. Появление князя на лекциях вызывало, по словам П.А. Бессонова. Всеобщее внимание и шепот: «первый студент, известный Черкасский» (Русский архив. 1878. № 2. С. 203, 204). Выдержал магистерский экзамен, но диссертацию не написал, так как в условиях николаевской действительности не приветствовалась смелость мысли, отличавшая Черкасского. По этой же причине не смог осуществить свою мечта и занять кафедру истории русского права, которая соответствовала его блистательным дарованиям. 230 В 1850-е годы вошел в кружок славянофилов, из которых особенно ценил А.С. Хомякова, хотя не разделял его увлечения общиной, народом, религией. Навлек на себя недовольство властей своей статьей «Юрьев день», предназначавшейся для П тома «Московского сборника» И.С. Аксакова и вместе с другими заподозренными в неблагонадежности участниками этого сборника (братьями Аксаковыми, Хомяковым, И.В. Киреевским) лишен возможности печататься, ибо все написанное должен был проводить через Главное управление цензуры в Петербурге. Как только в начале 1856 г. запрещение было снято, внес денежный вклад в издание славянофильского журнала «Русская беседа» (наряду с А.С. Хомяковым, А.И. Кошелевым, Ю. Ф. Самариным) и принял деятельное участие в его издании, готовя политические обозрения. Они были предметом восторженных толков в Английском клубе и вообще в русском обществе и не шли, по словам Хомякова, ни в какое сравнение с другими материалами журнала. Прекрасное применение своему «замечательно сильному, гибкому и разностороннему уму» (Б.Н. Чичерин) Черкасский нашел в 1859-1860 гг., став членом-экспертом Редакционных комиссий по крестьянскому делу. «Он сделался главным работником комиссии, – писал о нем Б.Н. Чичерин – Основной план Положения 19 февраля принадлежит собственно ему. Он же был и главным редактором. Первоначальный проект Положения, как мне говорили участвовавшие в нем лица, весь писан его рукой. Этого одного было бы достаточно, чтобы вписать его имя в историю» (Чичерин Б.Н. «Москва сороковых годов». М.,С. 222). В 1860-е годы после подавления польского восстания осуществлял крестьянскую реформу в Царстве Польском, возглавив Правительственную комиссию внутренних и духовных дел. В 1868-1870 гг. был избран московским городским головою. Но адрес Московской думы, поданный в 1870 г. правительству и содержащий (по желанию Черкасского) мысль о необходимости свободного высказывания общественного мнения, так не понравился министру внутренних дел, что он вернул его обратно, не показав царю. Черкасский в ответ отказался от участия в новых выборах. В последние годы жизни во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. возглавлял Красный Крест, готовил проект внутреннего управления Болгарии (Тырновская конституция). Умер 19 февраля (3 марта) 1878 г. в день подписания мирного договора с Турцией в пригороде Константинополя Сан-Стефано.15 марта в университетской церкви святой мученицы Татьяны преосвещенный Амвросий произнес надгробное слово. Черкасский был похоронен в Даниловском монастыре рядом с А.С. Хомяковы,. Ю.Ф. Самариным, Н.В. Гоголем. Примечания 1.…семь лет, протекших после его преобразования…- Имеется в виду новый устав от 26 июля 1835 г. 2….начали опытом своим оправдывать и укоренять многие из введенных в жизнь его новых начал. - Во второй половине 1830-х годов вернулись из-за границы филолог Д.Л. Крюков, историк Т.Н. Грановский, юрист П.Г. Редкин, политэконом А.И. Чивилев, медик Ф.И. Иноземцев и др. Кафедры были заняты европейски образованными людьми. Возникли новые кафедры: истории и литературы славянских наречий, минералогии и др. Научная мысль была связана с живыми течениями времени и выражала его нужды: в 1843-1844 гг., в бытность В.А.Черкасского в Московском университете, Т.Н. Грановский прочел курс публичных лекций по истории средних веков. 3. К слишком быстро протекшим сорок первым годам принадлежит наибольшее количество защищенных дельных магистерских рассуждений…- В 1844 г. защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» Ю.Ф. Самарин, будущий единомышленник 231 В.А.Черкасского по славянофильскому кружку. 4. …то было время… многих изданий…- «Чтений Общества Истории и Древностей», «Юридических записок», многих отличных «Сборников», «Москвитянина»…- «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» - сборник, издававшийся в 1845-1848 гг. в Москве под редакцией О.М. Бодянского. «Юридические записки» - сборник, первые два тома которого были изданы в 1841 и 1842 гг. в Москве П.Г. Редкиным. В начале 1840-х годов вышли в Петербурге два сборника:»Наши, списанные с натуры русскими» (1841), «Русская беседа»(1841-1842), с 1843г. (по 1848) начал выходить сборник «Сельское чтение», выпускаемый А.П.Заболоцким-Десятовским и В.Ф.Одоевским. В 1841 г. в Москве появился журнал «Москвитянин» М.П. Погодина. 5. …пора более или менее вежливых турниров и борьбы славян и западников. – В 1844 году представители двух партий уже не хотели встречаться друг с друго. Этот год считается временем окончательного разрыва западников и славянофилов. 6. …учение о римском колонате и емфитевзисе…- Колонат – римская форма крепостной зависимости, неотделимость колона от земли. Эмфитевзис – в римском праве особый вид наследственного долгосрочного пользования чужой землей (аренда). Арендатор платит собственнику арендную плату и налоги государству. 7. … Редкин, не взирая на многие слабые стороны, был далеко не бесполезен…- А.Н. Афанасьев, поступивший на юридический факультет Московского университета, когда В.А.Черкасский уже закончил его, вспоминая лекции П.Г. Редкина, отмечал, что лектор говорил быстро, любил пышные фразы и иностранные слова, но, как и Черкасский, видел в них пользу: «заставляли нас видеть в явлениях сего мира внутреннее развитие» (Московский университет в воспоминаниях А.Н. Афанасьева 1844 - 848 гг. // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956. С. 154, 155). 8. …не могу не назвать…Елагина…-- Речь, несомненно, идет об Н.А. Елагине, т.к. его старший брат Василий Алексеевич окончил Московский университет в 1839 г. 9. …перевороты 1848-го года нашли в умах и публике почву уже подготовленную и возникшие уже сомнения, готовые перейти в слепое одобрение всех стеснительных против университетов мер.— Европейская смута (революции во Франции, Италии, Венгрии, Валахии) привела к реакции в России, в частности, к ужесточению мер строгости в отношении университетов. Специальным распоряжением от 30 апреля 1849 г. правительство ограничило прием в университеты (не более 300 человек, преимущественно из дворян). Ректоры университетов стали назначаться и отстраняться от должности министерством народного просвещения. 24 октября 1849 г. министр князь Ширинский-Шихматов направил особые наставления ректорам и деканам, в обязанности которых отныне входил деятельный надзор за преподаванием всех предметов, дабы в лекциях профессоров не допускать мыслей о превосходстве республики или конституционного правления над монархией, о равенстве сословий, о положении крестьян, страдающих от помещичьего произвола. (Русская старина. 1872. Октябрь. С. 448-450). Кафедры государственного права и философии были закрыты. В обществе даже распространились слухи об упразднении университетов. 232 Сергей Михайлович Соловьев Мои записки для детей моих, а если можно, и для других C.М. Соловьев «В трудах от юности моея…» <…> Попечителем учебного округа был знаменитый в Москве вельможа, князь Сергей Михайлович Голицын, называвшийся «последним московским барином». Это был человек ограниченный, самолюбивый, привыкший с ранней молодости играть первенствующую роль по своим связям и богатству, но вместе с тем очень добрый, набожный нелицемерно, имевший в себе истинно аристократические свойства. Давно уже он занимал должность председателя Опекунского Совета, но эта должность против его воли придала ему должность попечителя учебного округа, и как председатель Опекунского Совета он мало занимался делами и мало был способен к занятиям; понятно, что еще меньше занимался он делами округа и еще меньше был способен заниматься ими. Кажется, во все время управления своего он был только раз в университете, и вот по какому случаю: жена генерал-губернатора, княгиня Тат[ьяна] Вас[илиевна] Голицына, выдав свою воспитанницу, небогатую племянницу своего мужа, за профессора Шевырева, хотела непременно, чтобы попечитель оказал внимание последнему, был у него на лекции. Кн. С.М. Голицын хотел угодить даме и поехал в университет, но вместо Шевырева попал на лекцию к сопернику его, Надеждину, и остался в полном убеждении, что слушал Шевырева. В гимназии мы видели его раза два или три и этим обязаны были тому, что он жил рядом с гимназиею <…> Гимназия и вообще Московский округ ждали человека для своего преобразо233 вания, очищения — и дождались: по просьбе Голицына он был избавлен от попечительства и на его место назначен был граф Сергей Григорьевич Строганов. Приехал новый попечитель - и, как по свистку в театре, декорации переменились: в классах - порядок, благочиние, тишина; бывало прежде у некоторых учителей послабее на передней лавке ученики еще слушали кое-что, на средних разговаривали, а на задних — спали или в карты играли; теперь кто и не хотел заниматься, сидел тихо и не мешал другим. Главное — ученики и учителя пообчистились, отряхнулись, стали с большим уважением смотреть на «себя, на свои занятия. Отчего же это произошло? Оттого, что явился начальник, какого никогда еще не бывало, человек деятельный, хотевший сделать в своем ведомстве все как нельзя лучше и имевший к тому все средства. Дух добросовестного начальника сделался присущ каждому заведению; Строганов поселил всюду свой дух, и этот дух блюл за улучшением нравственным и учебным. Всех осенила благодетельная мысль: чтоб заслужить внимание начальника, надобно как можно усерднее исполнять свою обязанность — и только, не заботясь более ни о чем; от начальника не скроется нерадение, он не пощадит; и к нему нельзя подольститься ничем другим, кроме усердного исполнения должности, кроме личных достоинств. <…> Прийти к Строганову с рекомндательным письмом от знатной дамы, знатного господина, значило навсегда погубить себя в его мнении, никогда не получить от него места. Огромна была заслуга Строганова в том отношении, что он уничтожил занятие учебных воспитательных мест по рекомендациям людей, неспособных ценить рекомендуемых. <…> Я был выпущен первым учеником с обязанностью писать рассуждение для акта и с правом получить за это серебряную медаль и быть записанным на золотую доску на вечные времена. Темою заданного мне рассуждения было «О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного». <…> В университете я занялся всеобщею историею вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским; но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление. <…> <…> Ректором был М. Т. Каченовский. Об ученом значении этого человека я не буду распространяться, потому что исчерпал этот предмет в биографии Каченовского, напечатанной мною в Биографическом словаре профессоров университета, изданном по случаю столетнего юбилея (1. В то время, как я был в университете и слушал Каченовского, это уже был старик ветхий; читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему; скептицизм проглядывал и тут при каждом удобном случае; любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь 234 известие –старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старика. Сохранилось у меня в памяти одно из свидетельств, приведенных Каченовским против подписи на тмутараканском камне2: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: «Это, должно быть, подложная надпись!» Каченовский мог служить лучшим опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет необходимо к религиозному и политическому; не было человека более консервативного в том и другом отношении. Скептицизм научный отражался, впрочем, в жизни Каченовского мнительностью, крайнею осторожностью, чрезмерным страхом пред ответственностью; так, например, он никогда не брал на дом книг из университетской библиотеки, боясь, чтоб они каким-нибудь непредвиденным образом не пропали у него; каждое дело, каждая бумага по управлению встречали с его стороны возражения: «Да как же это так, да зачем же так?» и т. п. Во всех отношениях общественной служебной жизни своей Каченовский был честный человек; полемика его против Карамзина и Пушкина доставила ему много врагов. Говорили, что император Николай, при выборе инспектора классов к наследнику, обратил внимание на Каченовского, говоря, что уважает этого ученого, по журналу которого он выучился читать по-русски3; но карамзинисты помешали Каченовскому, выставивши на вид то вредное направление, скептицизм, чем, разумеется, легко могли напугать охранительнейшего императора. По поводу Пушкина профессор Крюков рассказывал любопытный разговор свой с Каченовским: зашла речь о языке, которым должна писаться история; Каченовский, как следует ожидать, вооружился против украшенного слога, против риторики, поднимающей на ходули события и лица, причем сказал: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком — то Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей «Истории Пугачевского бунта». Конечно, этот отзыв был произнесен по смерти Пушкина4; конечно, по смерти уже Карамзина Каченовский написал разбор XII тома5,— но всякий ли способен и по смерти врага сделаться беспристрастным в отношении к нему, у всякого ли достанет духа похвалить и умершего врага? Под старость Каченовский уже не мог продолжать полемики с Погодиным6, который, однако, не переставал нападать на него и, по обычаю своему, позволял себе грубые выражения на его счет; старика сильно это оскорбляло; со слезами на глазах он жаловался на оскорбления и на невозможность отвечать оскорбителю, который трубит победу. Сильно оскорбляла также старика Венелинская школа7,— стремление все ославянить, сделать славян древнейшим и славнейшим народом мира: не имея сам средств ратовать против этого, по его мнению, вредного и нелепого направления, Каченовский приглашал молодого Грановского образумить ослепленных; но Грановский отказался подвизаться на этом неблагодарном поприще. <…> Вторым профессором словесности был, как я уже сказал, Шевырев; Давыдов читал теорию словесности, Шевырев — историю литературы вообще и русской. Шевырев наконец приехал из-за границы, мы перешли к нему от Давыдова и 235 попали из огня да в полымя: Давыдов из «ничто» умел делать содержание лекции; Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным произведением известных воззрений. Тут-то услыхали мы бесконечные рассуждения, т. е. бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, студент-поляк Шмурло подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. Способность к казенности и риторству уже достаточно рекомендует человека; взгляните на его портрет—весь человек тут. В сущности, это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливоестью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного намеренно или ненамеренно затронуть его самолюбие, и этот добрый мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем. <…> От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно Крюкову. Крюков, когда я вступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля; но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность шевыревскому таланту. <…> Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое полное лицо, белый цвет кожи, светлорусые волосы, светлокарие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящною обработкою речи, к нему как нельзя более шло прилагательное elegantissimus, как мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольстве, в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что 236 красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, пред внутреннею силою и теплотою, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящною картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами. И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. <…> После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов. <…> Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М.П. Погодина. Сколь прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столь же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе, кроме дурного, еще отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своею грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием8. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает,— Погодин скажет; что другой подумает или только скажет, – Погодин сделает. <…> Все эти университетские отношения (1838—1842 гг.) имели большое влияние на меня, на мою будущность. Я говорил уже, с какою страстью в отрочестве предавался чтению Карамзина. Это было еще до вступления в гимназию; в гимназии и в университете я почти не дотрагивался уже до Карамзина, ибо он не представ237 лял более для меня ничего нового; в университете я занялся всеобщею историею вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским; но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думаний над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил все головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло; религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философиею, чтоб воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства; но отвлеченности были не по мне; я родился историком. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисмонди; не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов»; эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни9, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею. С большим запасом фактов от Карамзина и с роем мыслей в голове, возбужденных Гегелем, Вико, Эверсом, я вступил на четвертый курс и стал слушать Погодина. Понятно, что его лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных. Бывало, он начнет чтонибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю: «Вот тут-то, Михаил Петрович, в примечаниях есть еще важное указание». Товарищи прозвали меня суфлером Погодина, и он сам обратил на меня внимание; внимание это усилилось, когда я подал ему сочинение о первых веках русской истории, или экзегезис известной начальной летописи, где опровергнул несколько его положений. И вот однажды Погодин с кафедры обратился ко мне и сказал: «Г. Соловьев! Зайдите когданибудь ко мне». Я явился к нему, принят был благосклонно. Первый вопрос: «Чем вы особенно занимаетесь?» Ответ: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы». В последний университетский год действительно таково было направление моих занятий. Крюков, которого заинтересовало мое сочинение о египетской истории, хотел было переманить меня на древнюю почву. «Г. Соловьев! – объявил он мне громко при всех, – я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Потом он говорил моему отцу: не хочу ли я преимущественно заняться древностями? Я поступил, быть может, неучтиво, ничего не отвечая ему на эти заманивания, ибо я знал, что дело пойдет не об одной древней истории, но также и о патрикуле, и о метрике10; я знал, что должен буду заниматься всеми этими противными вещами, должен буду стараться писать хорошо по-латыни, к чему я также чувствовал полное отвращение. Погодин не сказал мне о моем сочинении — нравится оно ему или нет, сказал только: «Я хотел было с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так, что отыскать не могу» Он пригласил меня посещать его, пользоваться его 238 библиотекой, и я бывал у него довольно часто, хотя не удалось быть у него много раз, ибо это уже было во второе полугодие последнего, четвертого курса; всякий раз я встретил ласковый прием. Прошел Великий пост; в вербную субботу получаю от инспектора 1-й гимназии Попова <…> приглашение прийти к нему по нужному делу: по поручению гр. Строганова, Попов обратился ко мне с вопросом, не соглашусь ли я ехать за границу, чтоб быть домашним учителем при детях брата его, графа Александра Григорьевича? <...> На третий же день я объявил Попову о своем согласии, но Строганов не велел мне являться к нему для окончательных переговоров до окончания экзаменов, чтоб не развлекать меня в приготовлении к ним,— строгановская черта! Экзамены, как всегда, шли очень успешно. На экзамене из русской истории Погодин, выслушавши мой ответ, обратился к сидевшему тут начальству и сказал: «Рекомендую г. Соловьева — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу: лучший из всех,— были прежде и другие такие же». В это время Погодин уже разглашал о своем скором выходе из университета и подал в совет имена тех лиц, которые могут занять его место; то были: Григорьев, ориенталист, написавший магистерскую диссертацию о ярлыках; К[алачов], который с самого начала приобрел у профессоров своего факультета репутацию человека необыкновенно трудолюбивого, но с образцово темною головою, каким он и был всегда на самом деле; третьим был назначен Бычков11, кандидат нашего факультета, до сих пор (сентябрь 1855 года) идущий быстро относительно крестов и чинов, библиотекарь в Императорской Публичной библиотеке…. Четвертым наконец был назначен я. <…> Соловьев С.М. Записки Сергея Михайловича Соловьева. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других». Печатается по: С.М. Соловьев. Избранные труды. Записки. М. 1983. Впервые: журнал «Русский вестник», 1896, кн. 2, 3 и 4 под названием «Из неизданных бумаг С.М. Соловьева. Московский университет, славянофилы и западники в сороковых годах». Соловьёв Сергей Михайлович (1820 — 1879) – воспитанник (1838 по 1842 г.), преподаватель (с 1845 г.), профессор (с 1847 г.), академик (с 1872 г.), декан историко-филологического факультета (с 1855 по 1869), ректор Московского университета (с 1871 – 1877 гг.) – выдающийся ученый Х1Х в., знаменитый историк, чьи лекции слушали несколько поколений студентов. Окончил историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета и «был выпущен первым учеником с обязанностью писать рассуждение для акта и с правом получить за это серебряную медаль и быть записанным на золотую доску на вечные времена». Научным подвигом С. Соловьева стал фундаментальный труд «История России с древнейших времен»; последний, 29-й том, доведённый до 1775 г., вышел в 1879г. посмертно. В Московском университете читал общий и специальные курсы по истории России; многократно издавалась его «Учебная книга русской истории». Он печатался в русских научных и общественнополитических журналах – «Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник», 239 «Вестник Евпропы». С. Соловьев выступал в защиту университетской автономии, утверждал, что «наука под защитой штыка быть не может!», отстаивал академические свободы, предоставленные университету уставом 1863 г.. В университтских событях 1877 г. С. Сололвьев отстаивал лучшие традиции русской науки и университетского преподавания. Он был председателем Общества истории и древностей российских при Московском университете, а также директором Оружейной палаты в Кремле. В 1868 – 1870 гг. был одним из инспекторов Московского Николаевского сиротского институт, возглавлял педагогический совет Высших женских курсов В.И. Герье, в создании которых он принимал активное участие в 1872 – 1879 гг. С.М. Соловьев – учитель В.О. Ключевского, оставившего о своем учителе яркие воспоминания, прочитанные 4 октября 1895 г. на заседании Исторического общества при Московском университете в годовщину смерти С.М. Соловьева (см. Ключевский В.О. С.М. Соловьев как преподаватель». // Соч. М., 1959. Т. 8. С. 253 – 262). В данном сборнике приведено множество благодарных строк в адрес С.М. Соловьева от его слушателей. Отпевали великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева в 1879 г. в домовом Университетском храме святой Татьяны; похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. Примечания 1. В статье «Каченовский Михаил Трофимович»: (Библиографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета. 1755 – 1855. М., 1855. Ч. 1. С. 383) С. Соловьев не дал полной и четкой оценки взглядов «скептической школы», основателем которой был Каченовский. 2. Стела (Тмутараканский камень) была обнаружена в конце XVIII в; подлинность находки оспаривалась «скептической школой». 3. Каченовский редактировал «Вестник Европы» в 1811 – 1830 гг. 4. Отрицательное отношение к Каченовскому А.С. Пушкин выразил в ряде эпиграмм 5 Каченовский дал высокую оценку ХII т. «Истории…» Н. М. Карамзина. 6. Начало печатной полемики М.П. Погодина было положено рецензией Каченовского на книгу Ю. Венелина «Древние и ыненшние болгары…» 7. Венелин (Гуц) Юрий Иванович (1802 – 1839) – видный исследователь славянских языков. Учился на философском факультете Львовского университета (1822), затем (1825) поступил на медицинский факультет Московского университета. Специальной подготовки по истории и филологии не имел. Его идеалистические взгляды близки к «романтическому» направлению в историографии. Собирал исторические, этнографические, фолькллороные материалы, опубликовал более 50 работ по славяноведению. Некритическое отношение к историческим источникам, многие его заблуждения возмущали Каченовского. 8. Резкая характеристика Соловьева во многом вызвана его неприязненным личным отношением к Погодину. О причинах этого Соловьев говорит в дальнейшем в связи с защитой им диссертации и возможном занятии кафедры русской истории, чему активно противился Погодин, сам желавший вновь занять ее после не. большого перерыва. Многие современники отзывались о Погодине как о человеке очень» сложном, с тяжелым характером. 9. В работе Г. Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (1826 г,— на нем, яз.; 1835 г.— на русск. яз.) впервые сформулирована теория родового быта, оказавшая непосредственное воздействие на Соловьева. 10. Патрикул – в грамматике неизменяемые части речи (союзы, частицы, наречия). Метрика – учение о строении мерной, поэтической речи. 11. В.В. Григорьева связывали с Погодиным дружбы и общность политических позиций; Н.В. Калачов и А.Ф. Бычков были любимыми учениками Погодина. 240 Борис Николаевич Чичерин Москва сороковых годов. Студенческие годы. 241 В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии. Министерством народного просвещения управлял тогда граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года, незадолго до отставки приехал в свое великолепное имение Поречье (1), где у него была и редкая библиотека и драгоценный музей, он пригласил туда несколько профессоров Московского университета, между прочим, Грановского, и самое приятное для него препровождение времени состояло в том, что он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед тем он был в Московском университете и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его присутствии. К сожалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни (2). Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответствовал характер, который был далеко нестойкий, часто мелочной, податливый на личные отношения. Государя он боялся как огня (3). Один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески старался отстоять русское просвещение от суровых требований монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, наступившей в 49 году (4), бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку. Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний попечитель Московского университета граф Сергей Григорьевич Строганов, незабвенное имя которого связано с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. Время его попечительства было как бы лучом света среди долгой ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его характера; но сам он занимал такое высокое положение, и в обществе и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невысоком природном уме, при далеко недостаточном образовании в нем ярко выступала отличительная черта людей александровского времени — горячая любовь к просвещению. Самые разнообразные умственные интересы составляли его насущную пищу. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной власти, он ни242 когда не стремился к почестям и презирал все жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и в разговорах с просвещенными людьми.<…> Управляя Московским учебным округом, он постоянно посещал гимназии и университет, внимательно слушал самые разнородные уроки и лекции, и притом всегда без малейшего церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и мы часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопровождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории он садился рядом со студентами на боковую скамейку и после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. Вообще он церемоний терпеть не мог и в частной жизни был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие обстоятельства никогда не входил и вообще мало что делал для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. В особенности не жаловали его славянофилы, которых он с своей стороны весьма недолюбливал, видя в них только праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда на притеснения. Но вообще среди всех людей, причастных к университету, и профессоров и студентов, он пользовался благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему поднесен был альбом по общей подписке между студентами; мы все вписали в него свои имена. И во все последующие годы, когда при новом царствовании (5) началось ежегодное празднование 12 января, для основания Московского университета, все собранные на обед старые студенты всегда считали своей первой обязанностью послать телеграмму графу Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их сердцах признательности за вечно памятное его управление Московским университетом. При нем университет весь обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за границу (6), а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву . При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев, а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаев, Катков . Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность прийти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были 243 открыты для студентов, которых профессора сами побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса студентов в то время, как и теперь, приходила в университет с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутинным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена. Но всегда были студенты, которые под руководством профессоров занимались серьезно и основательно. В это время Московский университет выпустил из своей среды целый ряд людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на других поприщах. Один за другим в течение немногих лет вышли из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский,. Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была alma mater (7), о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим воротником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздники с треугольной шляпой и шпагой, для выездов фрачный мундир с галунами на воротнике. Но мы этою формою не только не тяготились, а, напротив, гордились ею как знаком принадлежности к университету. Мелочных придирок относительно формы не было. В стенах университета мы ходили расстегнутыми; на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы и только в случае большого неряшества делались замечания, да и то снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благого-вейная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат знаменитого адмирала. Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовым прийти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в случае столкновений. Хлопот ему в этом отношении было немало, ибо в то время студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исюпочительно университетским начальством; казенные же студенты жили в самих стенах университета, под непосредственным надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; приходилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким добродушием, что никогда виновные не думали на это сетовать. Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова быта жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготовляя молодые поколения к служению России! Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, наконец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде, ни после и не могущее даже воюбновиться отношение университета к окружающему обществу. В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность 5ыла подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхож244 дение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, ютому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оставаться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интгриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях все, что в России имело более возвышенные стремления, все, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, все это обращалось к теоретическим интересам, которые за этсутствием всякой практической деятельности открывали широкое поле для побознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось все, что могло бы показаться хотя отдаленным намеком на либеральный образ мыслей. Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыклa читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становитесь невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было подлого и трусливого цензора, опасающегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в универси тете не допускалась проповедь либеральных, начал, однако под защитою просвещенного попечителя слово раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей, веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета. К нему принадлежали: Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием; Боткин, который, сидя в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разносторонне образованным умом, тонкий знаток литературы и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склонный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; Кетчер, который под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям; Корш сам принадлежал к университету, в это время он издавал «Московские ведомости». Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин.. Из этого же кружка вышел и Белинский, который, переехав в Петербург, в «Отечественных записках» громил славянофилов и своим ярким талантом распространял по всей России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то время петербургские и московские ли245 тераторы составляли одно целое, и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевеский, Тургенев, Анненков, Панаев считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его как своего собрата. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе был возбужден, студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров; из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. Друзья собирались постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали, кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, более живости прениям. Временно обострившиеся отношения смягчились; споры возобновились по-прежнему; собирались в литературных салонах у Свербеевых, у Елагиной. Это была, можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в университете и в окружающем его обществе. Немудрено, что однажды Грановский, возвращаясь домой с Павловым (10) после ужина в нашем доме и идя с ним пешком по бульвару, вдруг остановился и воскликнул: «Николай Филиппович! А ведь хороша жизни»! Счастливо время, когда подобные слова могут вырываться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! Увы! Прошло несколько лет, и все это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении азартной игры. В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое будущее, довелось мне вступить в Москов ский университет. Разумеется, он представлялся мне какоюто святынею, и я вступал в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища знания, которых жаждала моя душа Первый курс был составлен отлично. Редки^дитал юридическую энциклопедию, Кавелин — историю русского права, Грановский — всеобщую историю, Шевырев — словесность. Университетский священник Терновекий читал богословие, которое в то время требовалось строго. На первых шагах однако меня постигло некоторое разочарование. Одним из важнейших предметов на курсе была юридическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репутацией; в ожидании первой лекции аудитория была битком набита студентами. Наконец, явился профессор, уселся на кафедре и громовым голосом воскликнул: «Зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Это был приступ к лекции, в которой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли в университет искать правды, которая есть начало права. Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал живого содержания, а мне давали формальное и пространное изложение общих требований науки. Но когда я, составив лекции, показал их отцу (11), он остался ими очень доволен и сказал, что для молодых умов подобная умственная 246 дисциплина весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам чем более слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, несмотря на довольно существенные недостатки его преподавания. Мы приучались к логической последовательности мысли, к внутренней связи философских понятий. Перед нами возникал целый очерк юридической науки не как мертвый перечень, а как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы затверживали определение римских юристов, что право происходит от правды; нам говорили, что начало гражданского права есть свобода, начало уголовного права — основанное на правде воздаяние; мы учились видеть в государстве не внешнюю только форму, не охранителя безопасности, а высшую цель юридического развития, осуществление начал свободы и правды в верховном союзе, который, не поглощая собою личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. И так как профессор весь был проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни, то он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению мысли; мы стремились познать верховные начала бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом <…> Если преподавание Редкина, при весьма существенных достоинствах, имело и свои слабые стороны, то курс Кавелина не оставлял ничего желать. Он был превосходен во всех отношениях, и по форме и по содержанию. Кавелин имел весьма скудное теоретическое образование, и по свойствам своего ума он всего менее был способен к пониманию вопросов с философской стороны. Когда он впоследствии стал заниматься философиею, то Редкин удивлялся, как он берется за предмет, столь противный его натуре, и если он в этом отношении достиг, по крайней мере, умения связать в одно целое чисто отвлеченные понятия, то это доказывает только необыкновенную даровитость этого замечательного человека. Но в изложении истории русского права никаких теоретических понятий не требовалось. В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, с свойственною ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни<…> Если Редкин мог дать толчок философскому мышлению, если у Кавелина можно было научиться основательному изучению истории русского права по памятникам старины, то широкое историческое понимание можно было получить только от Грановского. Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо они были его слушателями. Можно без пре увеличения сказать, что Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тща247 тельное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории. Конечно, для этого необходимо было вполне овладеть материалом; иначе строилось здание на воздухе. Но исторический материал Грановский усвоил себе с самою тщательною добросовестностью. Когда представляют его человеком, хватающим верхушки и своим талантом восполняющим недостаток знания и еще более когда изображают его каким-то лентяем, читающим лекции спустя рукава, то можно только удивляться пошлости людей, высказывающих подобные суждения. Грановский был чтец первоклассный и неутомимый. Не только литература громадного предмета была коротко ему знакома, но всякий памятник, имеющий существенное значение для изучаемого периода, был им внимательно просмотрен, всякая даже мелкая брошюра была им основательно прочитана, и онтотяас мог указать, что в ней есть дельного <…> К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл, качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в ней духом. «В «Логику» Гегеля я до сих пор верю», — говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он как историк был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, причем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было для него общею стихией, проникающею вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история», — говорил он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительною ясностью и шириною излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели: к осуществлению свободы и правды на земле. В политике он, разумеется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор (13). Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского 248 свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей<…> При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановский одарен был высоким художественным чувством, он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. <...> Всё преподавание Грановского было пропитано гуманностью, оценкой в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался^ слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, в сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой. Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии (14) полным художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым словом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего (15) и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и, в особенности, зависть к успехам Грановского, 249 которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете: Преподаватель христианский, Он в вере тверд, он духом чист; Не злой философ он германский, Не беззаконный коммунист, И скромно он, по убежденью, Себя считает выше всех, И тягостен его смиренью Один лишь ближнего успех. Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более вдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзиею народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные.<…> В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильскои партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность (16). Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком» вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был скорее следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского <…> Но совершенною новостью дня всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читая первый свой университетский курс (17). Здесь он впервые вполне изложил 250 свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей (18). Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение эпохи междуцарствия (19); читая лекции, преподаватель очевидно, сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение и вдавался в совершенно лишние для университетского курса подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал отлично и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне попался из эпохи междуцарствия: битва, в которой был ранен князь Пожарский (20). Подошедши к столу, я начал так: «В пятницу на страстной неделе…» (21) Тут Соловьев меня прервал, сказав: «Довольно!» и поставил пять. Я тогдa еще вовсе не был с ним знаком, но впоследствии рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. «Я знал вас за xopoшего студента, — отвечал он, — вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?» Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слыхал. Мне доводилось слушать курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слыхал. И это было не случайное, а обычное явление. Катков читал уже второй год (22).. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами. Я усердно ходил на каждую лекцию, записывал самым старательным образом, но решительно ничего не понимал, и все мои товарищи находились совершенно в том же положении. К нашему счастью Катков в половине года занемог, и экзамена вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он вышел и сделался редактором, издававшихся от университета «Московских ведомостей» (23). Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем сделается живым и талантливым журналистом? Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже слухи, он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время случилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный и дарови-jbiH^Ho полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла …Между прочимна 2-м курсе юридического факультета был студент Устинов, хороший наш приятель. Он учился плохо, но был человек богатый. На экзамене Крылов поставил ему единицу и соглашался перевести его за деньги. Когда это дошло до профессоров, Устинова призвали в факультет и спрашивали, правда ли это. Он подтвердил обвинение. Его переэкзаменовали в факультете, поставили двойку и перевели на высший курс. При таких обстоятельствах между профес251 сорами, дорожившими честью своей корпорации, естественно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком, до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женою дело совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистою и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что если Крылов не выйдет из университета, то Грановский. Редкие, Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно неизвестно, каков был последующий ход дела. Кажется, попечитель склнялся на сторону протестующих профессоров: по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но министр поддержал Крылова, и те подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать университетское знамя и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете <…> Потребность умственного общения удовлетворялась пoceщeниями Гpaнoвcкoгo, которого мы продолжали довольно часто обедать, а также постоянными сношениями с Павловыми (25) и их литературным кругом. Но кроме этой потребности были и другие, свойственные молодости, потребности доброго товарищества и беззаботного веселья, а этому вполне удовлетворяла собиравшаяся у нас компания. Все они были люди благовоспитанные не только относительно внешних форм, но и относительно нравственных приличий. Они принадлежали к хорошим семьям, и от них нельзя было ожидать никакого низкого чувства или грубого поступка. При юношеском разгуле благовоспитанность составляет весьма существенную сдержку, а при этом требовалось еще, чтобы сердечные свойства и правила жизни подходили к общей среде. У нас не допускались не только низость или грубость, но и малейшая неделикатность <…> Конёчно, умст-вeнные тpeбoвaния в нaшeй компaнии были невысоки, невысокие требования от людей предъявляются уже в позднейшие лета. В молодости полезны и такие отношения, в которых устраняется всякий педантизм, всякая гордость ума, всякое сознание умственного превосходства. Мы приучались обходиться дружелюбно с людьми самых разнообразных свойств и ценить в них не столько качества ума, сколько качества сердца. И только в молодости возможны подобные отношения, совершенно непринужденные, в которых нет ничего скрытого и эгоистического, никаких зад252 них мыслей или мелких чувств. Беззаботное юношеское веселье проникнуто было юношеским чистосердечием и душевною теплотою, вследствие чего эта пора моей жизни оставила во мне самые лучшие воспоминания. Здесь я научился высоко ценить дружбу, составляющую одно из лучших украшений человеческой жизни. Доселе я с некоторым сердечным услаждением вспоминаю, что и меня товарищи любили так же, как я любил своих товарищей. Наша веселая компания не мешала мне заниматься. При полной господствовавшей у нас бесцеремонности я всегда мог засесть за книгу. В это время я весь порузился в изучение гегельянской философии, вследствие чего я между товарищами носил прозвище Гегеля. Сначала я принялся за философию истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что без прилежного изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно ее изучая, но составляя из нее подробный конспект с целью выяснить себе весь последовательный ход мысли и внутреннюю связь отдельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменологию (26) и энциклопедию. С философией Гегеля я познакомился основательно, после чего уже приступил к последовательному изучению других философов. Может быть, правильнее было бы поступить наоборот, начавши с древних мыслителей, с Платона и Аристотеля, которые гораздо доступнее неприготовленному уму. Но прямо начавши с последнего и труднейшего, я сразу понял, к чему клонится все историческое развитие человече ского мышления, и мог усвоить себе вопросы во всей их современной ширине. Я убежден, что этот труд был мне в высшей степени полезен; убежден также, что кто не прошел через этот искус, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы. Разумеется, я совершенно увлекся новым миросозерцанием, раскрывавшим мне в удивительной гармонии верховные начала бытия. Только в более зрелые лета, при самостоятельной работе мысли, я увидел, в чем состоит его односторонность и каких оно требует поправок и дополнений. В это же время развилась у меня и другая умственная страсть — увлечение политикой. Однажды ночью, когда мы спали глубоким сном, вдруг раздался у нашей двери сильный звонок; затем началась стукотня в низких окнах нашей квартиры, выходившей 'прямо на улицу. Мы к этой стукотне уже привыкли,, нередко Голицын совершал такие ночные нападения, которые были нам вовсе не по вкусу. Поэтому мы сначала и не обратили на нее внимания. Но стук упорно продолжался, и мы, наконец, отворили дверь. Голицын вошел я объявил, что во Франции произошла революция, король бежал (27), провозглашена республика. Я пришел в неистовый восторг, влез на стол, драпировался в простыню и начал кричать: “\Vive Republique!” На следующий день весь университет знал уже об этой новости студенты с волнением и любопытством сорбщали друг другу Увлечение было общее; все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех назидательным уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к 253 уровню действительности. И тут обнаружилось глубокое различие между теми, которые, внимательно следя за ходом истории, умели извлечь из него для себя новые поучения, и теми, которые были неспособны научиться чему бы то ни было. Между тем как Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский как истинный историк воспользовался развертывающейся перед его глазами картиною, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд, равно далекий и от радикальной нетерпимости, и от реакционных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах. Я с жадностью предался чтению журналов. В «Debats», который мы получали и затем отсылали в деревню, печатались целиком все речи французских собраний. Я не пропускал из них ни единой строки, знал каждого депутата, следил за всеми подробностями собыЬттй и обо всяком новом явлении тотчас ездил толковать с Грановским. От него я брал и немецкие газеты, в которых печатались npeрекания Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания. Даже во время экзаменов я разрывался между повторением курса и чтением газет (29). Как двадцатилетний юноша, я, разумеется сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворился Кавеньяк (30), я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при\ этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества: на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что будущее, представляемое демократиею, может быть только переходною ступенью в развитии человечества <…> События 1848 года вызвали сильнейшую реакций в ничем не повинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты. Если и прежде образованному меньшинству трудно было дышать под правительственным гнетом то теперь дышать стало уже совершенно невозможно. Строгости усилились; цензура сделалась неприступной; частные лица, подозреваемые в либерализме, под254 вергались бдительному надзору <…> Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который как центр просвещения сделался главным предметом. И здесь произошли коренные перемены. Граф Строганов вышел; недолго после него оставался и Уваров. Вышел и любимый наш инспектор Платон Степанович. На место Строганова поступил бывший при нем помощник попечителя Дмитрий Павлович Голохвастов, а на место Нахимова толстый, пошлый и ограниченный Шпеер (31). Голохвастов был человек неглупый и честный, с основательным хотя односторонним образованием, но формалист и педант. При других условиях он мог быть недурным попечителем и со временем, при ближайшем знакомстве, приобрести любовь и уважение подчиненных. На его беду он явился в университет представителем новых заведенных в нем порядков. Самая наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный, важный и нарядный и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд в университет в карете цугом (32) с лакеем в ливрее на запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце: затем учинялось такое же торжественное шествие из профессорской в аудиторию: впереди шел солдат с предназначенным для попечителя креслом, сзади толпилась опять вся инспекция, студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, с лентою и орденами, важно раскланиваясь во все стороны. Мы невольно сравнивали эту внушительную обстановку с скромным появлением графа Строганова, который однако пользовался неменьшим уважением. Иногда Голохвастов и на лекции, важно восседая в креслах, начинал заводить разные речи, желая блеснуть своими знаниями, но и это выходило у него невпопад, и мы только над ним смеялись. В университете установился совершенно новый строй. Прежняя свобода исчезла. Студентам запрещено было ходить в кондитерские читать газеты. В стенах университета не позволено уже было ходить расстегнутым: нa улице нельзя было показаться в фуражке: требовалось, чтобы студенты непременно были в треугольной шляпе и шпаге. И все это соблюдалось с величайшей точностью; на всякую пуговицу обращалось внимание; придиркам не было конца <…> Дмитрий Павлович недолго пробыл в университете: он вышел, кажется, уже в 1849 году. Но от этого не только не сделалось лучше, а, напротив, сделалось гораздо хуже. Вместо него был назначен Назимов, которого единственная задача состояла в том, чтобы ввести в универитете военную дисциплину. Комплект студентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремястами человек; философия как опасная наука была совершенно изгнана из преподавания, и попу Терновскому поручено было читать логику и психологию. Наконец, в Крымскую войну (33) введено было военное обучение; студентов ставили во фронт на университетском дворе и заставляли маршировать. Московскому университету; да и всему просвещению в России нанесен был удар, от которого они никогда не оправились. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда. 255 К счастью, я всего этого не видал. Все это совершилось уже после моего выхода из университета. Университет дал мне все, что он мог дать; он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоле неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уже работать самостоятельно, занимаясь на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание. Я не воображал себе, что мое образование кончено, а, напротив, только и думал о том, чтобы его пополнить. Но весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием. Воспоминания Б.Н. Чичерина «Москва сороковых годов» впервые опубликованы в 1929 г. в Москве в выпуске «Записи прошлого» и переизданы в 1991 и 1997 гг. в издательстве Московского университета. Глава «Студенческие годы» из этих воспоминаний печатается с сокращениями по книге: Б.Н. Чичерин. Москва сороковых годов. М., 1997. Стр. 36-85. Чичерин Борис Николаевич – (1828—1904), известный историк, профессор Московского университета, публицист, мемуарист, принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от выходца из Италии Афанасия Чичера, прибывшего в 1472г. в Россию в свите Софии Палеолог, будущей жены великого князя Иоанна III. На всю жизнь. Чичерин сохранил восторженное отношение к своему отцу Н.В. Чичерину, приятелю известного писателя Н.Ф. Павлова, посвятившего ему свои знаменитые «Три повести» («Именины, «Аукцион», «Ятаган»). Частные уроки Б.Н. Чичерину для его приготовления к университету давали Т.Н. Грановский и К.А. Коссович. Именно по совету Грановского Чичерин поступил на юридический факультет Московского университета, являвшийся оплотом западников, тогда как на словесном большинство составляли приверженцы славянофилов. Общени с Грановским способствовало становлению Чичерина-историка, унаследовавшего от учителя нравственную чистоту, научную добросовестность, живую связь с настроением времени; Чичерин, как и его наставник, никогда не замыкался в чисто академических интересах. Для Чичерина Грановский навсегда остался идеалом высшей нравственной красоты и лучшим воспоминанием прожитой жизни. Он – главный герой в публикуемых отрывках из воспоминаний Чичерина о «Москве сороковых годов». Магистерская диссертация Чичерина «Областные учреждения России в ХYII веке», напечаианная в 1856г. уже после смерти любимого учителя (скончался в год празднования столетнего юбилея Московского университета), посвящена его памяти, как и первая лекция, прочитанная Чичериным 28 октября 1861 года в родном учебном заведении. В 1865 г. Чичерин стал доктором государственного права. Самый эрудированный из коллег, он воспитал превосходных учеников: историка В.О. Ключевского, юриста А.Ф. Кони, философа 256 Е.Н. Трубецкого. Но лучшее время университета было уже позади. Наступившая в России после поражения французской революции 1848г. «темная семилетняя ночь» (А.И. Герцен) не прошла для него бесследно. В мемуарах Чичерин рассказал о смене попечителя, наставников, инспекторов, военной муштре, заменившей прежнюю вольность. Предовых профессоров выживали из универитета: после семилетней работы Чичерин демонстративно покинул университет из-за нарушений законности и свободы мнений в уиверситетском совете. Вместе с ним университет оставили и другие либерально настроенные ученые во главе с С.М. Соловьевым, которым верный дружбе Чичерин впоследствии посвятил свой пятилетний труд «История политических учений» (18691902). Чичерин оставил Московский университет в сорокалетнем возрасте, в расцвете сил и таланта. К преподавательской деятельности после 1862г. он не вернулся. Другая половина его жизни была посвящена земской деятельности, о которой он рассказал в воспоминаниях «Земство и Московская дума», и научным занятиям, результатом которых стали 20 с лишним томов его сочинений. Пройти мимо трудов Чичерина невозможно ни одному историку, ибо он – «некая узловая станция в жизненном движении русской историко-юридической и историкофилософской науки», по утверждению профессора В.Н. Сперанского (Сперанский В.Н. Б.Н. Чичерин//РГАЛИ. Ф.1345. Оп.1. Ед. хр. 510. Л.5). Ровный ритм жизни Чичерина в тамбовской усадьбе, куда он уединился, был прерван только однажды, когда в конце 1881 года его избрали московским городским головой. Знаменательно, что на этом посту он не задержался: в мае 1883 года во время коронационных торжест Александра III на обеде городских голов Чичерин произнес речь с призывом к объединению всех земских сил России, которая не понравилась ни царю, ни министру внутренних дел России графу Д.А. Толстому, усмотревшим в ней пропаганду конституции. Московский городской голова незамедлительно подал в отставку. Московская городская дума, желая выразить Чичерину сои симпатии, решила избрать его почетным гражданином Москвы, чему воспротивилось губернское присутствие по городским делам. Дума стояла на своем. Виновнику противостояния самому пришлось умерять страсти: поблагодарив всех, кто его поддержал, Чичерин посчитал неудобным поднимать вопрос о его почетном избрании в тех условиях, в которых состоялась его отставка, - в другое время носить звание почетного гражданина Москвы было для него «высшей честью». Переживший своих сверстников и смену нескольких царствований (Чичерин не дожил один год до начала первой русской революции), он к концу своего жизненного пути все чаще и чаще испытывал чувство разочарования, ностальгию по сороковым годам, когда все было иным: и люди, и атмосфера. В 1900 году Чичерина единогласно избрали почетным членомМосковского университета. Прошло четыре года, и в феврале 1904г. ученого отпевали в университетской церкви, той самой, где в 1871г. он венчался с Александрой Александровной Капнист. Примечания Воспоминания Б.Н. Чичерина «Москва сороковых годов» впервые опубликованы в 1929 г. в Москве в выпуске «Записи прошлого» и переизданы в 1991 и 1997 гг. в издательстве Московского университета. Глава «Студенческие годы» из этих воспоминаний печатается с сокращениями по книге: Б.Н. Чичерин. Москва сороковых годов. М., 1997. Стр. 36-85. 1….имение Поречье…- В Можайском уезде Московской губернии. 2….не возвратились еще из деревни…- Из села Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии, 257 где находилось имение Чичериных. 3. Государя он боялся как огня… – Николая I. 4. При реакции, наступившей в 49 году…- Поражение французской революции 1848 г. привело к реакции в России. Этот период, продолжавшийся семь лет (1848-1855), получил название «мрачного семилетия». 5….при новом царствовании…- То есть с 1855 г., когда на престол вступил Александр II. 6. Он послал Грановского за границу…- В 1836-1839 гг. Т.Н. Грановский находился в Пруссии и Австрии для усовершенствования во всеобщей истории. 7. Alma mater (лат.) –старинное студенческое название университета. 8. …сидя в амбаре у отца…- У П.К. Боткина, известного чаеторговца. 9. …переехав в Петербург…- В.Г. Белинский переехал в Петербург осенью 1839 г. 10. …с Павловым…- С Н.Ф. Павловым. 11. …показал их отцу…- Н.В. Чичерину. 12. Он был превосходен… и по форме и по содержанию. – Всю жизнь Б.Н. Чичерин бережно хранил записи курса лекций К.Д. Кавелина (РГБ.Ф.334. Карт. ХХIII. Ед.хр.1). 13….сектатор. – Последователь секты. Здесь в значении: политик. 14. Вернувшись из Италии…- Речь идет о первой поездке С.П. Шевырева в Италию в 1829-1832 гг. ( до его преподавания в Московском университете) в качестве воспитателя сына княгини З.А. Волконской Александра. 15. …после устаревшего…Мерзлякова. - «Устаревшим» А.Ф. Мерзляков назван потому, что и в лекциях, и в критических статьях защищал классицизм. 16. …держался…казенной программы: православие, самодержавие и народность. – Формула принадлежала С.С. Уварову. 17. …вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. – Магистерская диссертация С.М. Соловьева «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845). На историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета Соловьев был приглашен летом 1845 г. Лекционный курс начал читать в октябре. 18. …содержание… диссертации о родовых отношениях русских князей. – Докторская диссертация С.М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (1847). 19. …изложение эпохи междуцарствия… - Междуцарствие, или Смутное время, приходится на конец ХYI –начало ХYII века. Период очень болезненный для страны, когда произошла смена династий – прекратилась идущая от Ивана Калиты и воцарилась другая, Романовых, с избранием на русский престол Михаила Федоровича (1613). Это время шведско-польской интервенции и крестьянского восстания под предводительством И.И. Болотникова (1606-1607). 20….битва, в которой был ранен князь Пожарский. – В 1611г. в Москве на Лубянке в битве с поляками. 21. …на страстной неделе…- На последней, седьмой неделе Великого поста перед Пасхой. 22. …Катков читал уже второй год. – Речь идет о 1846 г.. 23. …сделался редактором… «Московских ведомостей». – С 1851 г. М.Н. Катков арендовал издание газеты у Московского университета. В 1856 г. в связи с выпуском журнала «Русский вестник» оставил 258 газету и вторично вернулся к ее изданию в 1863 г. 24. …случилась известная его история… - Будучи пьяным, Н.И. Крылов избил свою жену Л.Ф. Корш. За жертву семейного произвола вступились не только братья Л.Ф. Корш, но и их друзья Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, П.Г. Редкин, требовавшие удаления Крылова из университета. М.П. Погодин, увидевший в этом требовании «козни западной партии» (Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Спб., 1894. Кн.8. С. 375), воспользовался своим влиянием на министра, который оставил Крылова в университете. Тогда возмущенные профессора подали просьбу об отставке. Петербургский университет в результате «крыловской истории» приобрел двух прекрасных профессоров Кавелина и Редкина. Просьба Грановского не была удовлетворена , т.к. он не отслужил положенный срок после заграничной командировки. 25….с Павловыми…- С Н.Ф. Павловым и его женой Каролиной Карловной. 26. …засел за феноменологию…-Учение Гегеля о путях развития человеческого сознания. 27. …король бежал…- Французский король Луи Филипп был свергнут с престола в феврале 1848 г. во время революции и бежал в Великобританию, где и умер. 28. В «Debats» …- «Journal des Debats”, французская литературно-политическая газета, основанная в 1789 г. 29. …прения Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания. – Речь идет об общегерманском национальном собрании в 1848 – 1849 гг. во Франкфурте-на-Майне, пытавшегося выработать конституцию и подготовить объединение немецких земель, и о национальном собрании Пруссии, заседавшем в мае 1848г. в Берлине. Деятельность этих собраний не принесла ощутимых результатов. 30. … Когда мятеж был укрощен и водворился Кавеньяк… - Военный министр Кавеньяк в июне 1849 г. жестоко подавил восстание парижских рабочих. 31. … пошлый и ограниченный Шпеер. – Мнение Б.Н. Чичерина о И.А. Шпеере расходится с мнением Т.Н. Грановского: «Шпеер был добрый, готовый на услуги и истинно любивший вверенных ему юношей человек. К тому же он положительно честный человек». (Письмо К.Д. Кавелину 1852 г.// Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 452). 32. …цугом…- Запряжка лошадей гуськом, в две или три пары. 33. …в Крымскую войну… - То есть в 1853-1856 гг. 259 Петр Андреевич Вяземский Письмо ректору Московского университета А. А. Альфонскому (1855 г.) П.А. Вяземский 260 Милостивый государь Аркадий Алексеевич Приношу Вашему Превосходительству мою искреннюю благодарность за присланные мне Вами сочинения, изданные Московским университетом по поводу празднования его столетнего юбилея и медаль, выбитую в память этого события. За границею и больной я с живейшим сочувствием принимал заочное участие в этом достопамятном празднестве. Всегда высоко ценил я звание Почетного члена Московского университета2. Но отношения мои к сему месту восходят еще далее того времени, в которое был я удостоен сею честью. Хотя не могу похвалиться, что с самых молодых лет моих принадлежал к нему официально в звании студента, но могу, однако ж, сказать, что частью образования своего я ему обязан. Родителем моим был я отдан на попечение профессору Рейсу и жил у него в университетском доме3.У него и слушал я частным образом лекции профессоров: Булле4 и Рейнгардта5 и гг. Богданова6 и Загорского7 Следовательно, и я могу праздновать без малого пятидесятилетие моих университетских преданий. Ныне, когда по Всемилостивейшей воле Государя Императора и по доверенности общего нашего с Вами начальника8 удостоился я лестного звания товарища министра народного просвещения, отношения мои к Московскому университету укрепляются и, можно сказать, освящаются новой силой и новыми для меня обязанностями. Вполне и с искренним смирением понимаю всю их важность и ответственность, которую они на меня налагают. В кругу определенной мне деятельности, по мере сил и способностей моих и с неограниченным усердием постараюсь оправдать мое новое назначение, лестное моему самолюбию и драгоценное моим чувствам. Поручаю себя, Милостивый Государь, Вашему благорасположению и покорнейше прошу передать Вашим и моим сослуживцам чувство преданности и любви моей к делу нам общему и к тем, которые письменными трудами своими и преподаванием служат государству и отечеству на поприще просвещения: не прибавляю благого, ибо нет иного просвещения, как то, которое основано на незыблемых и возвышенных началах чувства религиозного и чувства нравственного9. Вне этих условий могут быть сведения, познания, ученость, но просвещения не будет. Наш разумный и логический язык прекрасно выразил и обозначил словом просвещение истинные свойства науки и учения, которые должны умственно и духовно просвещать человека. С отличным почтением и совершенною преданностью имею честь быть М<илостивый> Г<осударь> В<аше> П<ревосходительство>. Вяземский Петр Андреевич. Письмо ректору Московского университета А. А. Альфонскому (1855) Печатается по писарской рукописи с авторскими добавлениями Вяземского, хранящейся в РГАЛИ Фонд Вяземских (195). Оп. 1. Ед. хр. 819. Л. 1 – 1 об. 261 Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) – один из образованнейших людей своего времени, поэт и публицист, литературный критик и мемуарист, переводчик и издатель. Последователь либерально-просветительской идеологии, «предубеждений враг, друг истинам свободным», он немало сделал для просвещения русского общества. Воспитанник Н.М. Карамзина, друг В.А. Жуковского и А.С. Пушкина, он играл весьма значительную роль в литературно-общественной жизни России 1810 - 30-х гг. В год столетнего юбилея (1855) Московского университета, почетным членом которого был Вяземский, произошла почти совпавшая с этими торжествами смена власти в Зимнем дворце – на престол вступил реформаторски настроенный Александр II, наступило, по меткому выражению Вяземского, время «оттепели». В это время Вяземский находился в швейцарском Веве на лечении, но поторопился вернуться в Россию. После аудиенции у царя 30 августа (11 сентября) 1855 г. он был назначен товарищем министра народного просвещения. Так в юбилейный год Московского университета Вяземский наконец оказался на поприще, где хотел и мог быть полезен России. В первые же месяцы на новом месте службы Вяземский активизировал связи с Московским университетом. В ответ на преподнесеннуе ему памятную медаль и изданные к юбилею труды Вяземский обратился к ректору университета А.А. Альфонскому с письмом, значимое как проявление уважения к старейшему в России университету: в Шувалоее Вяземский всегда видел образец просвещенного вельможи, мецената, покровителя наук (см., например, Остафьевский архив), среди самых близких его друзей – выпускники Московского университета и Благородного пансиона при нем – В. Жуковский, А. Тургенев. Сам автор назвал пиьмо ректору университета «соборным посланием» Вяземскому важны была возможность объединения усилий («соборности») в общем деле «науки и учения», в устранении «черных пятен, которые затемняли лучи нашего просвещения». Письмо Вяземского было высоко оценено московской профессурой, воспринято как программа действий. Старинный знакомый С.П. Шевырев отвечал адресанту 22 декабря 1855 г.: "Соборному посланию Вашему мы единодушно посочувствовали. Благодарим Вас за то, что Вы, следуя русскому обычаю, прежде всего сочлись духовным родством с Московским университетом. Мысль о просвещении, которым Вы заключили послание, должна быть основою и, точнее, руководительною нашею мыслию во всем обширном круге воспитания и учения» (Старина и новизна, кн. 4, СПб., 1901. С. 151 – 154) Вяземский интересовался и системой и характером образовательлной деятельности университета, посещал лекции, встречался с профессурой, занимался вопросом восстановления университетского Благородного пансиона, который дал «ряд замечательных людей по всем отраслям русской администрации и просвещения». Высказался он и за передачу Пашкова дома университету для размещения его богатой библиотеки и «превосходных кабинетов естественной истории», тем более что «обширные залы» дворца позволят «сделалть их доступными публике». Представляет интерес позиция Вяземского по поводу взаимоотношений Московского университета и его газеты «Московские ведомости». Имевший в прошлом большой опыт журнально-издательской работы, в компетенцию которого входило и руковдство цензурой, сожалел, что «Ведомости» не сохранились как университетское издание. В то же время он полагал, что и после передачи агзеты в аренду В.Ф. Коршу в конце 1855 г. университет может влиять на ее направление через Совет профессоров – «род верховной домашней цензуры» и «наблюдать за ходом газеты». После назначения на государственную службу Вяземский достаточно последовательно аытался реализовать свои представления об оптимальных условиях для литературнообщественного развития, о снятии излишних препятствий с дороги русской печати и шире – просвещения. Его полувековые отношения с Московским университетом весьма показательны 262 для истории духовной жизни России. Примечания 1. А.А. Альфонский (1796-1869) – хирург, с 1823 г. профессор, в 1842-1848 и 1850-1863 гг. ректор Московского университета. Можно предположить, что Вяземский уже давно был знаком с Альфонским, известным в Москве врачом, почти его ровесником, тем более что тот являлся зятем П.А. Муханова, с которым Вяземский сотрудничал еще в «Московском телеграфе». Кстати, и Вяземский, и семья Альфонского поддерживали связь с Мухановым и после его ссылки в Сибирь. 2..Вяземский был удостоен этого звания 16 января 1818 г. за участие в деятельности Общества любителей российской словесности при Московском университете. 3. После возвращения из петербургских пансионов в Москву в 1807 г. он был определен отцом «в дом профессора Рейса (зятя известного и домового врача нашего Керестури)» (Полн.собр.соч. Т.I. СПб., 1878. С. III). Ф.Ф.Рейс читал в университете лекции по химии, занимался фармакологией и аптечным делом, а также составил каталоги университетской библиотеки, которые используются поныне. Ф.Ф. Керестури, профессор анатомии и хирургии, был в начале ХIХ в. постоянным лечащим врачом и в семействах университетского начальства, в частности М.М. Хераскова и И.П. Тургенева. Сюда для преподавания наук приходили к Вяземскому «лучшие профессора блестящего периода Московского университета»; он слушал лекции профессоров «частным образом». 4. И.Ф. Буле был приглашен М.Н. Муравьевым из Геттингенского университета и занимал тогда кафедру теории и истории изящных искусств и кафедру естественного права. Он создал капитальный по тому времени труд по истории философии, активно участвовал в издании научных и научно-популярных журналов. Занятия с ним оказали влияние на А.С. Грибоедова. 5. Ф.Х. Рейнгардт, как и Буле, поклонник Канта, еще в Кельне написал учебник, переведенный и изданный в Москве - «Система практической философии». К нему с уважением относились слушавшие его лекции Н.И. Тургенев и Н.М. Муравьев. Стоит отметить, что высокая оценка Вяземским И.Ф. Буле и Ф.Х. Рейнгардта подтверждается и современным исследователем истории Московского университета: Андреев А.Ю. Лекции по истории Московского университета. 1755 – 1855. М., 2001 6. о П.И. Богданове известно немного: в 1805-1806 гг. он был магистром Московского университета, преподавателем словесности, занимался с С.П. Жихаревым. См. об этом: Московский университет в воспоминаниях современников (1755 -1917). М., 1989. С. 53-58. Профессор математики В.А. Загорский, видимо, запомнился Вяземскому потому, что преподаваемая им точная наука была «камнем преткновения» в его отношениях с отцом: тот хотел видеть его математиком, а молодой князь всегда чуждался этой науки, считал себя «плохим счетоводцем» (Полн. собр. Соч. Т. I. С. ХIУ). 7. Имеется в виду А.С. Норов, деятельность которого на посту министра народного просвещения Вяземский в это время оценивал довольно высоко, особенно после снятия министерством ограничений на численность студентов во всех университетах. См. об этом: Русский архив. 1885. Кн. 2. С. 313. 263 8. Высказывания о принципах «благого» просвещения как раз свидетельствуют о сочувствии религиозно-монархическим идеям, хотя и в 50-е гг. Вяземский не стал в полной мере сторонником доктрины «официальной народности», как и славянофильства. 264 Дмитрий Дмитриевич Оболенский Университетские воспоминания студента выпуска 1865 года 265 Наступает 175-летний юбилей бывшего Императорского Московского университета, и бывшие студенты оного приглашаются сообщить свои воспоминания и вообще что знают про старейший из русских университетов за время пребывания в нем. Призыв этот невольно заставил встрепенуться и нас, стариков, которые еще кое-что помнят об высшем Училище, где получили или дополнили свое образование, и с благодарностью вспоминают не только о полученных научных познаниях, но и о моральном фундаменте, заложенном при вступлении на жизненный путь, за время пребывания студентом в нашей Alma Mater. В каждом из нас явилось желание, конечно, насколько сумеем, добрым словом вспомнить прошлое. Но, говоря о Московском университете, мне приходится много говорить о себе, пишущем эти строки, в чем вперед извиняюсь перед читателем, так как легко могу этим надоесть ему. Рос большей частью в деревне в дворянской семье, каких тогда было много; я был единственный сын у матери-вдовы. Отец мой скончался в год моего рождения, в 1844 г. Моя мать, рожденная Бибикова, на пятом году моей жизни вышла вторым браком замуж за барона Менгдена, и мы продолжали жить в Тульской губернии, в родовом имении князей Оболенских. Рос я одиноко, не имея сверстников, и единственной радостью моего детства и отрочества было общество моих двоюродных сестер и брата, Раевских, когда мы их посещали. Родная сестра моей матери была замужем за И.А. Раевским, и мое пребывание в их многочисленной семье имело огромное влияние на всю мою жизнь. Скучая один дома и попадая в прекрасно образованную семью Раевских, я там многому научился, так как у Раевских были, ввиду многочисленности учащихся, разные учителя, прекрасные преподаватели, а во время летних вакаций и студенты Московского университета. Старший двоюродный брат Раевский уже был студент, и в 1855 г. я хорошо помню, с каким восторгом праздновался 100летний юбилей Московского университета. Зимы проводились в Москве. Близость Московского университета сделала то, что у меня с молодых лет сложилось понятие о необходимости поступить в Московский университет, чему много способствовало, как я уже сказал, мое пребывание в семье Раевских, и также и студенты, кои на вакации приезжали к нам и обучали меня с малых лет моих русской грамоте, ибо мое воспитание было, в сущности, в немецких руках. Нянька и также гувернантка были немки, а когда я стал подрастать, то барон Менгден выписывал гувернеров из Дерптского университета, хорошо образованных, но обучавших меня всем наукам, кои требовались для поступления в университет, по-немецки. Так что я немецкий язык знал чуть ли не лучше своего родного русского. Уже в 14 лет я переехал в 1859 г. в Москву и там стал уже готовиться серьезно ко вступлению в Московский университет, и попал сразу в общество студентов, в семьях того общества, которое посещал. Почти во всех были студенты, а это меня знакомило и с университетскою жизнью. Все имена знаменитых тогда профес266 соров были мне известны и были на устах у всех: Грановский, Рулье и др. В университете в аудиториях читались публичные обшедоступные лекции, которые посещались московским обществом, вне университета стоящим. Таковыми были по физике профессора Любимова, с ассистентом Рачинским; по общей всемирной истории Ешевского2 и др. Все это было накануне освобождения крестьян, которое все ждали с особенным возбуждением и нетерпением. В ожидании этого события в Москве уже в 1860 г. возникли воскресные школы, и на фабриках, близ Москвы лежащих, учили грамоте все те же студенты разных факультетов и курсов. И мне, 15-летнему юноше, предложили по воскресеньям помогать обучать народ, и я со знакомыми студентами отправлялся на Прохоровскую фабрику (на Пресне), где стал учить, начиная с азбуки, некоторых фабричных парней. Но как ни был я молод, мне не понравилось учение, как оно преподавалось. Один из студентов как-то по окончании урока мне сказал: «Я читал уже грамотным Марка Вовчка, рассказ о злоупотреблениях помещиков, и так настроил, наэлектризовал слушающих, что только чикни и разнесли бы всю фабрику». Студент был нигилист, и я тогда же понял, к чему это учение клонится, и перестал ходить на эти воскресные занятия. Как единственного сына и владельца довольно значительных имений, кои наследовал, меня опекуны мои рано поставили довольно самостоятельно, так что с 14 лет я уже принимал участие в управлении имений, а когда я, 16 лет, поступил в университет по юридическому факультету, я уже совсем самостоятельно стал Управлять имениями и жил в Москве один, на нанятой мною квартире. Настроение всюду было либеральное, и я под влиянием Л.Н. Толстого завел в своем Веневском имении школу для крестьян, где, по примеру яснополянской, учили студенты. «В ожидании вольной народ ходить уже стал иначе», — сказал мне в 1860 г. Толстой, идя со мною по одной из московских улиц и указав на каких-то рабочих. Во всех учреждениях ждали перемен. И в университете прежде всего. Ограничения числа слушателей (тремястами) были уничтожены (лишь на медицинском факультете число студентов было неограниченно) при воцарении императора Александра II. Масса всяких родов молодежи в 1861 г. устремилась в университет. Особенно из провинции, семинаристов и поляков. Форма была отменена, так что я носил лишь фуражку с синим околышком. В 1861 г. мундир уже не стал обязательным. Вступительные экзамены в мае 1861 г. шли новым порядком — большею частью экзаменовали учителя гимназий, а председательствовал кто-либо из профессоров. И, ввиду большого наплыва желающих поступить в университет, — много проваливалось. И я не мог не заметить, что к нам, дворянам, коих обзывали аристократами, а то и по мундиру, который студенты старших курсов донашивали, то беложилетниками, то белоподкладчиками, тех кто щеголял, — отношение явно было со стороны экзаменаторов неблагожелательное. Это я испытал на себе . <…> Лекции должны были начаться в сентябре, почему я вернулся после переэкзаменовки в деревню, заручившись уже отпуском от университетской канцелярии, 267 как окончательно принятый студент. Случай, со мною бывший, оказывался, был явлением не единственным. Терпигорев4, впоследствии писавший и известный в литературе под псевдонимом «Атава», рассказывает нечто подобное, с ним бывшее. Он держал экзамен при Тамбовской гимназии, что тогда было тоже впервые, и, заметив явно недоброжелательное отношение к дворянам со стороны экзаменаторов, он взял сразу методу так или иначе высмеивать, ругать дворян-помещиков, придираясь ко всякому удобному для сего случаю. И это ему удалось настолько, что экзаменаторы друг другу передавали о нем как о крайне развитом юноше и всячески поощряли его. И он легко выдержал экзамены, что иначе, то есть при других условиях, вряд ли ему удалось бы. И эти экзамены оставили по себе, пишет Терпигорев, отвратительное воспоминание на всю жизнь. Готовясь к университетскому экзамену в Москве, я уже за год до вступления в университет познакомился со многими студентами и узнал, как они относятся к профессорам, как складывается университетская жизнь. Относились хорошо к профессорам, особенно заслуженным, имеющим ученую репутацию, — к начальству же относились не только критически, но высмеивали попечителей, инспекторов и др. всячески. Анекдотам не было конца, главным образом, когда это были генералы, поставленные для установления строгой дисциплины, чего требовал император Николай I. Исключением был граф С. Г. Строганов, очень ученый и образованный человек, либерального направления. Его-то и заменили строгие генералы. Граф Строганов был после Закревского генерал-губернатором Москвы и затем попечителем цесаревича великого князя Николая Александровича. Кроме нас, приходящих, были студенты на казенном содержании, которые жили в здании старого университета, где для них было устроено общежитие. Одним из попечителей с начала 40-х годов был всей России известный богач князь Сергей Михайлович Голицын. Добряк он был, но человек недальновидный, славился гостеприимством и много помогал нуждающимся. О нем много писал Герцен в своей «Полярной Звезде». В университете он мало имел значения, но за время его попечительства университет все же имел много светил в научном мире. Про него ходил следующий анекдот. Император Николай Павлович очень любил и жаловал его. Против нового здания университета (в 1835 году построенного) находится большой манеж, где происходили учения военных, маневры, смотры и парады, а потому государь всегда посещал его во время пребывания в Москве. И вот, проезжая из манежа в коляске вместе с князем С. М. Голицыным, государь, почему-то недовольный университетскими порядками, указал рукою на университет: «Ну, сюда я не поеду», — сказал он князю Голицыну, на что тот наивно ответил: «Да и я как можно реже там бываю»... Император Николай Павлович только раз, и то невзначай, заехал в Московский университет, — когда никто не ожидал царского посещения. Шла уборка — мыли полы в прихожей. Государь вошел с парадного подъезда нового здания, и поломойка, увидав могучую фигуру государя, так испугалась, что опрокинула таз с грязной водой к ногам государя. Прием, который, конечно, не оставил по себе приятного впечатления. 268 Во время путешествия по России в 1862 г. наследник цесаревич Николай Александрович, под влиянием графа С. Г. Строганова и Победоносцева, посещал университеты. Так, в Харькове в университете цесаревич был на лекции профессора Каченовского, который читал международное право, — и прослушал всю лекцию. В Москве, также в 1862 году, во время пребывания царской семьи, цесаревич посещал Московский университет, — но, к сожалению, не помню, лекции каких профессоров. Особенные строгости были введены в 1848 г., ввиду того, что в Европе разыгрались революционные движения. В Москву генерал-губернатором назначен граф А. А. Закревский, а попечителем университета генерал Назимов, на которого, по его необразованности, плели массу анекдотов, кои повторялись и в московском обществе. Уверяли, что на вопрос Назимова, отчего начался пожар (скоро потушенный), ему рапортовали: от зажигательного стекла; Назимов сказал: «Слава Богу, что не ночью»... При Назимове процветали шагистика, так называли маршировку, коей обучались студенты казеннокоштные и старшие курсы. Прощаясь с выходным курсом студентов, Назимов не нашел ничего умнее им сказать: «Мундир, господа, берегите, берегите мундир». Он, как военный, понимал так офицерский мундир, честь мундира... «Будем беречь, ваше превосходительство», — отвечали довольно саркастически студенты. Приходил Назимов на лекции, в коих мало понимал, но считал нужным сказать несколько слов о величии и славе России. Пришедши на лекцию профессора римского права Н. И. Крылова1, Назимов собрался сказать, что Римская империя по значению и величию своему была почти равна Российской, и на вопрос попечителя, что он читает, Крылов ответил: «О преторском интердикте». Ответ, который поставил Назимова в невозможность что-либо сказать, так как он и не понял даже ответа Крылова. Но после Севастопольской кампании и Парижского мира повеяло новым духом. Норов, министр народного просвещения, был заменен Головиным, либерального направления, а Назимов — очень образованным, гуманным генераладъютантом Н.В. Исаковым, который неоднократно посещал университет и не задавал глупых вопросов профессорам. При наплыве массы разнородных элементов в университет было много незнающих, неподготовленных, а потому было много проваливающихся на экзаменах. На одном экзамене студенту профессор поставил единицу. От этого студент упал в обморок. В эту критическую минуту вошел попечитель Н.В. Исаков. «Смилуйтесь, — обратился он к профессору, — всюду кричат по Москве о необыкновенной строгости на экзаменах, а тут еще смертоубийство, пожалуй, произойдет, поставьте ему (то есть студенту) переходной балл, прошу Вас». Профессор исполнил просьбу Исакова, и студент ожил. С уходом Назимова отменена была шагистика, то есть маршировка, а с уничтожением мундиров всякая формалистика. <…> Несмотря на все, настроение университетской молодежи было в большинстве хорошее, отношение профессоров к студентам прекрасное, влияние благотворное. Помню, сколько раз после лекции студенты обращались с разными во269 просами к читавшему лекцию профессору за объяснениями, и всегда профессор охотно давал ответы на просимые разъяснения, и образовывалась вокруг него группа слушающих, происходила как бы дружеская беседа. Были профессора весьма популярные, вызывавшие не раз рукоплескания студентов. Если в том или другом профессоре и проявлялась некоторая тенденциозность, то ничего подобного не проявляли никогда более старые, всегда гуманные профессора. И дух Московского университета, царивший в нем, был всегда благородный, наставлявший молодежь на все хорошее, и подготовлял людей образованных, честных на служение своей родине. Память о Грановском сильно влияла еще после его смерти на студентов разных курсов и факультетов. Его считали самым либеральным из профессоров того времени, его славе особенно способствовал Герцен, восхвалявший Грановского во всех своих заграничных изданиях, в «Полярной Звезде» и других. Да и научные заслуги по всеобщей истории и его благородный характер были признаны всей Россией. В 1861 г. лекции начались позже обыкновенного, то есть вместо установленного 15 августа их перенесли на 1-е сентября, да и к этому времени мало собралось еще студентов. Мне же по случаю освобождения крестьян 19-го февраля 1861 г. пришлось ехать в свои тульские имения, так как надо было строить хозяйство совсем на новых началах, так что я и в сентябре не мог приехать в Москву в университет. А там разыгрались совсем неожиданные события. Вследствие большого наплыва студентов и всевозможных беспокойных элементов, особенно поляков, началось брожение между студентами, образовались разные землячества, собирались митинги на университетском дворе, и особенно сильно было влияние поляков, которые, как оказалось после, готовились к восстанию. (Масса их поступила на медицинский факультет.) Чтобы поднять сильно упавшую дисциплину, университетское начальство установило матрикулы, особые карточки, что не понравилось, и масса студентов, целая толпа отправилась на могилу Грановского и сожгла матрикулы свои. Имея свое начальство и свой суд университетский, студенты исключительно подчинялись ему. Без матрикул не стали пускать в университет не имеющих оных. Так что у входа разыгрывались весьма нежелательные сцены. И вот, подбитая поляками огромная толпа студентов двинулась к Тверской площади к дому генерал-губернатора, якобы в виде протеста подать ему коллективную жалобу на чинимые университетским начальством притеснения. Но уже дорогою поляки отстали, ушли, и к площади прибыли одни русские студенты, но все же в значительном количестве. Пока делегаты от гг. студентов добивались быть принятыми генерал-губернатором, в народе распространился слух, что это барчуки-дворяне пришли, мол, требовать, чтобы отобрали у народа вольную, только что дарованную, и собралась огромная толпа простого народа, которая кинулась на студентов, и началось повальное их избиение, окончившееся весьма печально для них, так как жестоко избитых оказалось весьма много, и пришлось спасаться, кто куда мог. Так окончился бунт малолетних, как тогда прозвали этот неуместный протест, похождение на Тверскую площадь студентов. 270 Началось следствие и суд, и многие студенты были арестованы. Я приехал уже после этой истории в Москву и узнал, что многие мои однокурсники арестованы как главные агитаторы. Я стал ездить по тюрьмам, чтобы снабжать студентов кой-каким снадобьем, улучшить пищу тюремную, но скоро разочаровался, так как между ними оказались трусишки, кои просили передать неарестованным, чтобы на допросе не показывали того, что слышали на митингах в их вызывающих речах. Все это было очень противно. В эту же осень и в Петербургском университете возникли беспорядки, и С.-Петербургский университет был временно закрыт. И в Московский университет в 1862 г. поступили студенты из Петербургского университета, в числе их был впоследствии столь известный Анатолий Федорович Кони, с коим я три года сряду до окончания курса слушал лекции и одновременно с ним окончил курс. Рассказывали курьезную сцену во время беспорядков в Петербурге. Приехал увещевать студентов обер-полицеймейстер и, как полагается, на паре с пристяжной; толпа студентов окружила экипаж и так стеснила, что пара еле двигалась, а прижатый близко к лошадям один из студентов вынужден был вскочить на пристяжную, чтобы не быть придавленным. И вот, экипаж обер-полицеймейстера двигался, имея верхом на пристяжной маленького худенького студентика... Вряд ли можно было бы узнать в нем будущего обер-прокурора кассационного департамента и сенатора, Анатолия Федоровича Кони... Времена меняются... Ввиду всех этих волнений лекции наладились лишь к концу декабря, и на первом курсе нам читали: энциклопедию права М. Н. Капустин, политическую экономию и статистику И. К. Бабст, последний читал более по Рошеру. Русскую историю С. М. Соловьев (известный наш историк), латинский язык (необязательный) профессор Фелькель, немец, и богословие профессор Сергиевский, священник нашей университетской церкви, очень либеральный, особенно после Терновского (1), отличавшегося своей грубостью и косностью. Вероятно, благодаря наплыву семинаристов в университете лекции профессора Сергиевского были очень популярны, и ему часто аплодировали, что было запрещено. При этом рассказывали анекдот, что, по случаю этих аплодисментов, знаменитый тогда митрополит Филарет вызывал профессора Сергиевского как священника, ему подчиненного, и спросил его, почему ему хлопают студенты. «Вероятно, потому, что хорошо читаю им лекции», – отвечал профессор Сергиевский; на что митрополит Филарет ему возразил: «Так читай хуже...» Либеральность протопресвитера Сергиевского выражалась в таких случаях, как, например, на переходном курсовом экзамене он задает вопрос студенту: «Докажите бытие Божие». А студент, должно быть, атеист, приводит доказательства противного. «Я просил Вас доказать мне бытие Божие, а Вы мне доказываете совсем противное, — возражает ему протопресвитер Сергиевский, — но так как Вы, я вижу, знакомы с предметом и много читали, ставлю Вам удовлетворительный переходной балл». В феврале 1862 г. состоялся суд над зачинщиками университетских беспорядков, бывших осенью в 1861 г. Некоторых студентов исключили. Начались вновь 271 сходки весьма бурного характера на большом дворе старого университета, в коем главным образом читались лекции медикам. Нам, юристам и математикам, читали в новом здании на Моховой (в 1835 г. основанном), где помещается, на углу Большой Никитской, и наша университетская церковь с большим изображением Св. Татьяны, в угольном полукруге, выходящем по Моховой на Манежную площадь. Площадь нового университета с памятником Ломоносову меньше, чем в старом, почему и сходки происходили большею частью во дворе последнего. К тому же самый многочисленный факультет был медицинский, и слушателями его много поляков, почему и сходки происходили там, где и горючего материала было больше. Так было и в данном случае. «Все мы виноваты, всем и выходить из университета», — кричала толпа, наэлектризованная решением университетского суда, которым были недовольны или, скорее, в коем нашли предлог для нового протеста и беспорядков. Сходка была бурная, к нам, первокурсникам, приставали, чтобы и мы подписали лист, в коем агитаторы требовали выхода всех из университета. Меня буквально приперли к стене и требовали, чтобы я во имя товарищества тоже подписался, что протестую и выхожу. «Куда же вы денетесь? — возражал я. — Ведь университетское начальство очень радо будет вашему уходу». И отказался подписывать. Уходящие очень презрительно отнеслись ко мне. Между прочим, упрекали меня, что я боюсь замарать свой герб и т. д. Ушло, думается, не свыше 20-30 человек, и те претерпели горькую участь в Петербурге, куда многие перебрались, попали в политические кружки, замешаны в политическую пропаганду и, будучи нигилистами, кончили тем, что попали в Петропавловскую крепость. Уезжая на вакации в Западный край и Польшу весною 1862 г., поляки обязательно заезжали в Тулу, славившуюся своими оружейниками и производством оружия, и покупали в большом количестве оружие для лесных и полевых якобы сторожей. Никогда в Туле так хорошо не торговали охотничьими ружьями, и вообще оружием, как в то время. Все это подготовляло восстание. А каникулы начались рано. Ввиду бывших беспорядков, волнений переходные экзамены с первого курса на второй были отложены и желающих переводили без экзамена прямо на второй курс, так что в следующем году надо было сдавать экзамены сразу за два года, то есть за два курса, чтобы попасть на третий курс. И это было нелегко, и многие провалились. Большинство поляков уехавших впоследствии оказались в рядах повстанцев, и в 1863 г. мы уже видели многих, и между ними раненых, которых везли в ссылку через Москву... Время было тяжелое, но сильно отрезвило русских студентов и заставило более осторожно относиться к студентам-полякам. Мне в год окончания курса, в 1865 г. в январе, пришлось быть в Варшаве, где мой попечитель князь В. А. Черкасский вводил с Милютиным новое положение (как министр внутренних дел в Польше) о польских крестьянах, коих наделяли землею, а до того обездоленных и живших, конечно, гораздо хуже русских крепостных. И вот, кучка русских бывших воспитанников Московского Императорского университета, по инициативе князя В.А. Черкасского, собралась в Ангель272 ской гостинице в Варшаве 12-го января 1865 г. праздновать Татьянин день, чего до этого никогда не было в Варшаве. Из студентов еще учащихся был я один. И из поляков явился один только друг Каткова и Леонтьева, старик-лингвист. Сожалею, что забыл его фамилию. Старейшим на этом обеде был славянофил А.И. Кошелев, издатель «Русской Беседы», воспитанник еще университетского пансиона при Московском университете, существовавшего в 1820-х годах. Поэт Берг сказал прекрасные стихи по поводу нашего дружеского сборища, хотя и немноголюдного, может быть, 25 человек, не более... В своей речи профессор Драшусов указал именно на недобрые отношения поляков к Московскому университету, столь много давшего ученых поляков, и вот впервые съехавшиеся здесь русские в первый же раз поспешили вспомнить нашу alma mater. А.И. Кошелев был в Польше министром финансов, приглашенный Милютиным, статс-секретарем Царства Польского. Обед прошел оживленно, но длился недолго, так как все были люди занятые и спешили к своему делу, к службе... Зато уж мы, русские студенты, дома со славою, можно сказать, всегда праздновали Татьянин день. После торжественной обедни в университетской церкви и акта в старом университете все студенты рассыпались по всей Москве, и по всем ресторанам и трактирам, малым и великим, шел кутеж. Пели «Gaudeamus igitur», веселились всячески, и им не мешали ни в чем. В таких ресторанах, как знаменитый «Эрмитаж», в залы его 12-го января уже никого, кроме студентов, не пускали, и сотни студентов запружали, бывало, все помещения, и так как много было небогатых, то больше всего лилось пиво, обеды были тоже дешевые. Салфеток, скатертей не полагалось, так как речи часто произносились на столах студентами. Как теперь вижу Плевако, нашего знаменитого адвоката, стоящего на столе и говорящего речь, сопровождаемую громкими рукоплесканиями. Во всяком городе русской земли, где только могли собраться бывшие студенты, хотя бы в самом незначительном числе, они праздновали Татьянин день, и поздравительные телеграммы посылались в университет, пелся «Gaudeamus igitur», провозглашался «Vivat Academia, Vivat professores» и т. д. Не говоря уже про Тулу, например, где всегда могло набраться десяток-другой бывших студентов, то же было и в уездных городах. Я был еще студентом, когда по дороге в Москву после Рождественских вакаций, метель меня задержала (а там и простуда) 12-го января в Епифани, мелком городишке, так и там нас собралось со мною 4-5 человек помянуть Татьянин день: городской врач, мировой посредник и еще кто-то. Я отклонился от университетских воспоминаний и возвращаюсь к ним. В прежнее время все слушающие лекции студенты тщательно записывали их, а в мое время уже целая группа студентов занималась литографированием лекций, так что за дешевую плату можно было получить тщательно проверенный текст всякой лекции, что избавляло многих от записывания самому лекции. Одновременно с лекциями можно было приобрести литографированные брошюры Фейербаха, Бюхнера, Молешота и всякие запрещенные издания, как сочинения Герцена и другие, строго запрещенные. Это было дело нигилистов, как звали этих господ с легкой руки И.С. Тургенева, в его «Отцах и детях», сочинении, наделавшем много 273 шума в свое время. Благодаря наплыву всякого рода студентов, вскоре обнаружилась и нужда, то есть много бедных студентов, вследствие чего образовались и студенческие кассы на всех курсах и факультетах, и самопомощь, так как студенты взаимно обложились небольшою платою в кассу. Но этих взносов было мало, и надо было со стороны искать денежную помощь. В этом помогали студенческие концерты в пользу бедных студентов. В этом же еще весьма много помогало московское общество, но расходы по концертам были очень велики, так что остатки были тоже невелики, а нужда росла. Чтобы составить хороший концерт, надо было приглашать известных артистов, как итальянскую оперу из Петербурга, да и русскую, а гг. артисты стоили дорого. Один Николай Рубинштейн, как сам бывший студент Московского университета, всегда был готов даром своею игрою содействовать успеху. Меня на первом же курсе выбрали кассиром нашего курса, должность, в сущности, очень неприятная. Собирание взносов, организация концертов, раздача билетов входных, и для этого разъезды по начальству и тузам московским, было задачею весьма неприятною, а также выдача нуждающимся, которым редко хватало выдаваемой ссуды. Все это вместе взятое отвлекало от прямых занятий, очередных и необходимых, и создавало обстановку и отношения к товарищам не особенно желательные. Отказаться же от должности кассира нельзя было, так что приходилось тянуть эту лямку. В ожидании судебной реформы, которая и совершилась в 1864 году, юридический факультет наш был переполнен поступающими на оный студентами, и будущие светила уже стали намечаться. А. Ф. Кони, о котором я уже говорил, Плевако, князь А. И. Урусов, Шайкевич и многие другие были моими однокашниками, хотя по экзаменам часто происходили перемены на курсах, то есть кой-кто и отставал, оставаясь по два года на том же курсе. Со второго на третий курс нам стали читать лекции другие уже профессора и предметы — гражданское право Никольский25, уголовное право — С.И. Баршев, русское право — И.Д. Беляев, финансовое право – Мюльгаузен, историю римского права, а затем и римское право — Н.И. Крылов, коему А.Ф. Кони посвятил свою книгу «На жизненном пути» (Крылову часто аплодировали), Легонин — судебную медицину и В. Лешков — законы благоустройства. Он очень дорожил преподаваемым им предметом. В конце 1862 и начале 1863 г. царская фамилия проводила часть зимы в Москве, и гг. профессора представлялись государыне Марии Александровне, и на ее вопрос Лешкову, что он читает, тот ответил: «Законы благоустройства, кои г. Чичерин называет полицейским правом...» Чичерин читал государственное право и был известен при Дворе, читал лекции и цесаревичу наследнику Николаю Александровичу, который тоже в это время был в Москве. Все тогдашние наши профессора были из ряду вон выходящие ученые, а впоследствии занимали видные места в служебной иерархии, также и министерские. Б. Н. Чичерин был впоследствии московским городским головой, и его ученые труды общеизвестны. Ф.М. Дмитриев читал нам иностранные законоведения, был впоследствии попечителем учебного округа. К.П. Победоносцев — гражданское 274 судопроизводство, был лицом близким, советчиком трех государей и оберпрокурором Синода. На последнем курсе М.Н. Капустин читал международное право и был впоследствии тоже попечителем учебного округа. С.И. Баршев на последнем курсе читал уголовное судопроизводство, уже по новым уставам 1864 г., хотя до этого был горячим сторонником старого суда и осуждал суд присяжных. Но тут, при новом законодательстве, сразу изменил свои воззрения, вещая о благих результатах суда присяжных. И на вопрос, почему он так быстро изменил свои убеждения, пренаивно ответил: «Сперва смотрел с одной точки зрения, а теперь смотрю с другой»... Профессор И. Д. Беляев был очень известен по своим ученым трудам по русскому праву. Профессор Бабст и Победоносцев сопровождали цесаревича Николая Александровича в его поездках по России и тем много помогали образованию цесаревича, постоянно занимаясь им и преподавая науки и указывая на все интересное, что встречалось во время путешествия, которое длилось несколько месяцев. По случаю пребывания царской семьи в Москве были даны в большом дворце несколько балов, более для наследника цесаревича Николая Александровича, и, чего прежде не бывало, получили приглашение на бал во дворец трое студентов, в том числе и пишущий эти строки; так как мундиры были отменены, мы были во фраках. По случаю наступившей реформы 1864 г. всякие места в судебном новом ведомстве были намечены студентам, и наш юридический факультет был очень заполнен, и мы как-то шли совсем отдельно от других факультетов, замкнутые очень, занятые своими предметами, так что даже мало знали, что делается на других факультетах. Ближе других к нам был словесный, и мы имели несколько общих профессоров, да и читались словесникам лекции в новом же университете, как и нам. Меньше всего нас касался медицинский, помещавшийся в старом здании университета, и мы даже редко видали гг. медиков. Хотя знали многих, и слышали особенно много о медицинских светилах того времени, как Пирогов, Овер, Попов, Варвинский, Млодзеевский, Басов и др. Только судебную медицину мы иногда слушали в старом университете. Приходил к концу наш 4-й курс юридического факультета, 1865 г. Весною сдавали последние экзамены, и всякий из нас спешил вступить в новую жизнь и применить в действительности все то, что нам преподал, чему научил Московский университет. И, несмотря на всевозможные, разнообразные течения и направления партий, землячеств, даже антиправительственных, политических стремлений, увлечение науками, благодаря прекрасным профессорам, преобладало и то благородное влияние, которое имела университетская атмосфера на всех студентов, оставила на всех нас неизгладимую печать благородства, порядочности, человечности на всю жизнь и вселила уважение к студенчеству. Да, что-то неизъяснимое, гуманное. Страсти улеглись, и я многих товарищей юристов, молодыми студентами даже сидевших в крепости за свои убеждения, я их встречал на жизненном пути уже на всяких полезных высоких государственных должностях, где они в жизни применяли достопримечательные слова гуман275 нейшего из государей, Александра II, создателя либеральных реформ в России: «Правда и Милость да царствуют в судах». И к приложению в жизнь этих царских пожеланий много способствовал старейший из русских университетов, Московский. Да помянем его добрым словом по случаю исполнения его 175-й годовщины со дня его основания и пожелаем ему возвращения к прежним великим традициям, давшим столько полезных, благородных деятелей на всех поприщах родины. Sic!* -------------------* Так ! Князь Д.Д. Оболенский. Университетские воспоминания студента выпуска 1865 года Печатается по: Московский Университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. Издание Парижского и Пражского Комитетов по ознаменованию 175-летия Московского университета под ред. проф. В.Б. Ельяшевича, А.А. Кизеветтера и М.М. Новикова. Париж, «Современные Записки», 1930. С. 245-261. (в сокращении) Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844 – ?) – предводитель дворянства Тульской губернии, коннозаводчик, знатного происхождения: мать – племянница адъютанта Кутузова. «Мои деды «делали кампанию 1812 г. и последующих годов», «многое у нас в доме было известно из первых рук», – писал Д. Оболенский. «Уже студентом многое передавал Льву Николаевичу.., был за это и богато вознагражден…», став одним из первых слушателей романа «Война и мир». Под влиянием писателя открыл школы для народа, где преподавали студенты. Оболенский признавался, что ездит часто к Л.Н. Толстому «не только отвести душу – но для нравственной дезинфекции». Закончил юридический факультет Московского университета, куда поступил «в памятном 1861 г., когда все ждали перемен, и в университете прежде всего». Ему покровительствовал князь В.А.Черкасский, один из авторов текста Манифеста об отмене крепостного права. Яркий эпизод в Воспоминаниях Д. Оболенского об университете – рассказ о праздновании в Варшаве Татьянина дня, где князь Черкасский был посланником (см. в нашем сб. Воспоминания Черкасского). В 1880 – 1900 гг. печатался на страницах русской прессы: в журнале «Русский архив» в 1894-95 гг. были опубликованы интересные «Наброски из воспоминаний» о студенческом движении в Московском университете (о В. Соллогубе, С. Соболевском), но в основном – о Л. Тол- 276 стом – «разные случаи из жизни Льва Николаевича» («Русский архив, 1895, № 2). На страницах газеты «Русское слово» появлялись его корреспонденции из Ясной Поляны, сообщения о жизни Толстого. Секретарь писателя, Н.Н. Гусев писал Толстому: «Только что прочитал «разговор» Ваш с Оболенским в «Русском слове» по поводу моей высылки… («Новые материалы о Л.Н. Толстом. Из архива Гусева Н.Н. 2002). Здесь были опубликованы и первые воспоминания о Толстом. И в других изданиях появлялись его статьи, посвященные творчеству Л. Н. Толстого. В 1890 г. в "Новом времени" (№ 4766 от 5 января) была опубликована его статья о "Плодах просвещения" - "Новая комедия графа Л. Н. Толстого", а в 1908 г. в "Русском слове" (№212 от 13 сентября) - статья "О власти тьмы" гр. Л. Н. Толстого", в которой излагалась история запрещения духовной цензурой печатания пьесы. В 1917 г. в "Нашей старине" (Вып. 2) была опубликована заметка Д. Д. Оболенского "По поводу казней декабристов". Об одном из источников незаконченного романа Толстого "Декабристы" Когда 29 октября 1910 г. весть об уходе Л.Толстого из Ясной Поляны разлетелась по всей России, он дал первые подробные сообщения в газеты "Новое время" и «Русское слово». После революции Д. Оболенский – эмигрант. Жил в Париже, много печатался в журналах и газетах. Принял участие в юбилейном университетском сборнике, из которого и перепечатывается данная статья. Примечания Рулье Карл Францевич (1814-1858)— профессор зоологии Московского университета. Любимов Николай Алексеевич (1830—1897)— физик, профессор Московского университета. Рачинский Сергей Александрович (1836-1902) — ботаник, впоследствии профессор Московского университета, видный общественный деятель и теоретик педагогики. Ешевский Степан Васильевич (1829—1865) — историк, профессор Казанского (1855—1857), а с 1857 г. Московского университетов. Николай Саввич Тихонравов (1832-1893), историк литературы и археограф, в 1859-1889 гг. профессор истории русской литературы Московского университета, в 1877—1883гг. ректор, с 1890г. председатель Общества любителей российской словесности. Терпигорев Сергей Николаевич (1841—1895) — прозаик, публицист, фельетонист, мемуарист. Закревский Алексей Аркадьевич, граф (1783—1865) — московский генерал-губернатор в 1848—1859 гг. Назимов Владимир Иванович (1802-1874) — генерал-адъютант, член Государственного Совета, в 1849—1855гг. попечитель Московского учебного округа, позднее виленский военный губернатор и гродненский, минский и ковенский генерал-губернатор. Александр Васильевич Головнин (1821-1886), камергер Двора великого князя Константина Николаевича, министр народного просвещения в 1861—1866гг., член Государственного Совета. Исаков Николай Васильевич (1821—1891)— генерал-адъютант, в 1859—1863гг. попечитель Московского учебного округа, позднее начальник военных учебных заведений, член Государственного Совета. Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894)— немецкий экономист. 1. Профессор Сергиевский…очень либеральный, особенно после Терновского… – Сергиевский Николай Александрович, молодой магистр Санкт-Петербургской Духовной Академии, бакалавр математики и физики Санкт-Петербургской академии в марте 1858 г. стал вторым – после протоиерея П.М. Терновского – настоятелем университетской церкви Св. мученицы Татьяны.. Он был полной противоположностью своего предшественника: студенты его любили, часто апплодировали ему на лекциях что удивляло митрополита Филарета, считавшего 277 недопустимым столь вольное поведение слушателей на зантиях по богословию. В 1861 г. свящ. Н. Сергиевский принимал вступительные экзамены по Закону Божию у бывшего семинариста В. О. Ключевского, оставившего интересные воспоминания о его лекциях: «Он всегда умеет оживить их современным интересом, какой имеют для нас те или иные богословские истины. Лекции его знакомят нас не только с современной богословской, но и с философской наукой, потому что он всегда ставит ту или другую истину богословскую глаз на глаз с философскими мнениями, не боясь, что окажется несостоятельным перед этими мнениями философских голов. Он смело вышел против Фейербаха, закоренелого современного материалиста, отвергающего Бога, душу и все духовное, не побоялся изложить его учение и твердо отвечал на все его антирелигиозные положения. И ведь это делает священник-богослов! Оттого-то так и живы лекции Сергиевского, что в них чувствуется нынешняя мысль, нынешний интерес». Теплые воспоминания о нем оставили многие воспитанники Московского университета: (см. НАШ сборник). Протоиерей Терновский Петр Матвеевич — профессор богословия Московского университета, первый настоятель домовой церкви Московского Университета (с 1827 г. по 1858 г.). Его суровая личность вызывала у студентов неоднозначные оценки: он был очень требовательным преподавателем и строгим духовником. О нем ходили легенды. А. Фет, учившийся у отца Петра и сдававший ему вступительные экзамены, вспоминал: «Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости Новосельских семинаристов был весьма силен в Катехизисе и получить пять». На экзамены к отцу Петру несколько раз приходил сам святитель Филарет и вместе с ним опрашивал студентов. Б.Н. Чичерин писал, как он однажды отвечал на трудный вопрос столь хорошо, что митрополит Филарет похвалил его, а протоиерей Петр поставил «пять с крестом — дело в Университете неслыханное». К отцу Петру очень хорошо относился император Николай Павлович. 22 ноября 1837 года в три часа дня Государь приехал в новоосвященную Татианинскую церковь, принял благословение от настоятеля и в присутствии попечителя Университета графа С.С. Строганова выразил свое благоволение лично священнику Петру Терновскому за его «усердие и полезные труды». Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — директор хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, член Редакционных комиссий с 1859 г., статс-секретарь по делам Царства Польского (1863-1867). Берг Николай Васильевич (1823-1884) — поэт, переводчик, публицист, историк; в 1844г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, однако курса так и не окончил. Драшусов Александр Николаевич (1816—1890) — профессор астрономии Московского университета. Плевако Федор Никифорович (1842—1908)— знаменитый юрист и адвокат, участник многих крупных процессов. Урусов Александр Иванович (1843—1900) — выпускник Московского университета, видный адвокат. Шайкевич Самуил Соломонович — выпускник Московского университета, адвокат. Никольский Владимир Николаевич (1821—1874)— юрист, профессор Демидовского лицея, с 1854 г. профессор гражданского права Московского университета. 278 Павел Николаевич Милюков Воспоминания. Студенческие годы (1877 – 1882) П.Н. Милюков 279 Первые два года Мы вернулись с Кавказа, когда занятия в университете уже начались, и прежде всего повидали гимназических товарищей, которые уже перешагнули порог священных врат познания. Увы, их первые впечатления уже успели их несколько расхолодить. Шамонин с сокрушением говорил о казенной постановке классического преподавания, которое на первых порах нас особенно интересовало. Профессор Иванов читал Марциала и смаковал описания римских вин, уподобляя их современным. Этого рода гастрономия нам совсем не понравилась, и самый профессор, казалось нам, смахивал на какого-то приказного старых времен. Это было, конечно, несправедливо; но оно характеризовало смену наших настроений. Для меня это был холодный душ, который сразу отбил у меня интерес продолжать свою гимназическую линию увлечения классиками. Зато внимание мое обратилось к тому новому, с чем мы встретились на первом же курсе филологического факультета. Вместо «филологии» — старый термин Вольфа — здесь мы услышали о новой науке — лингвистике и сравнительном языкознании. Ей предшествовала репутация «самой точной из наук после математики». В это, при тогдашнем увлечении точными науками, хотелось верить; этим как бы оправдывалось само наше вступление на филологический, а не на естественный факультет. Преподавал тогда сравнительное языковедение Филипп Федорович Фортунатов — знаменитость, привлекавшая учеников из-за границы. Я очень добросовестно записал за ним его курс литовской фонетики: литовский язык тогда был признан древнейшим из сохранившихся и перенял эту славу у санскрита. Вместе с этим последним он открывал древнейшую страницу культурной истории индоевропейской семьи народов. Сопоставление звуков речи и их перемен вводило в историю языка, то есть орудия, которым человек пользовался с тех пор, как стал человеком. История звуков, которую своим глухим голосом нам раскрывал Фортунатов, была, конечно, очень поучительна; но она утомляла, и слушатель спешил перейти к живым выводам: от Боппа к Гейгеру, а немного позднее — к Шрадеру. А тут, рядом, нас вводил в тайны примитивного человечества молодой и живой преподаватель Всеволод Миллер. Мы слушали у него санскритский язык, переводили «Наля и Дамаянти» и дошли даже до гимнов Ригведы. Но комментарий к последним расширял и углублял исторические горизонты при помощи фольклора, преданий, легенд, мифов народной словесности. Миллер был жестоким противником «солнечной» теории происхождения мифов, которую широко применял русский собиратель и толкователь фольклора Афанасьев. Это было новым этапом в истории науки, и мы с увлечением пошли по указанной тропе. Помню, я написал у Миллера большой доклад о роли огня в развитии понятий о загробной жизни у примитивных народов — и уже считал себя оригинальным исследователем. Все это страшно увлекало и, несомненно, положило основу для моих позднейших занятий преисторией. Профессор Троицкий читал на первом курсе историю греческой философии. После моего Швеглера и аристотелевской «Метафизики» это было для меня уже 280 не ново. Но лекции Троицкого дали мне возможность понять и усвоить многое, остававшееся в тумане. У него был талант ясного изложения сложных вещей; он разжевывал предмет для самых неподготовленных. Правда, эта простота достигалась подчас за счет глубины мысли. У Троицкого была привычка трактовать греческих философов как-то свысока, точно он говорил: смотрите, какие глупости они проповедовали. При этом он с сожалением разводил руками и подчеркивал интонациями голоса превосходство собственной мысли. Студенты мне поручили издание лекций Троицкого, и так как в моей записи за профессором упрощенное выходило часто чересчур уже элементарным, я решил обратиться к пособиям. Я достал двухтомного Целлера и к каждой лекции прочитывал соответствующую часть книги. При помощи Целлера я возвращал лекциям их серьезность, а иногда и подбавлял, по Целлеру, немножко деталей. Я показывал затем текст профессору. Думаю, что он его не читал; но никаких поправок он не делал и оставался доволен. Мне самому эта работа над лекциями принесла большую пользу. Между прочим, у меня укрепился в мысли — не новый, конечно, — параллелизм между ролью Сократа на повороте от метафизики к критическому методу «самопознания» и эволюцией новой философии. Его gnoti seauton — «познай самого себя» — так наглядно соответствовало роли Канта на таком же повороте к философии нашего времени. В теоретико-познавательной школе я усмотрел выход из своих колебаний между научным познанием и ощущением сверхчувственного мира. Критицизм проводил между тем и другим твердую и непроходимую границу — и я за нее ухватился. Я достал немецкий текст «Критики чистого разума» и — с большим трудом — принялся одолевать кантовские «паралогизмы» и «антиномии». Кант сам ссылался на своих предшественников— Юма, Локка. Я достал Локка; читать его было много легче. Критическая философия сделалась одной из границ моей мысли против потусторонних вторжений «сверхопытного» познания. История меня заинтересовала в университете не сразу. Профессором всеобщей истории был В.И. Герье, уже тогда не молодой. Сама его внешность не располагала в его пользу. Сухой и длинный, с вытянутым строением нижней части лица, производившей впечатление лошадиной челюсти, с пергаментной, морщинистой кожей, всегда застегнутый на все пуговицы, с неподвижным, каким-то стеклянным выражением глаз, с тонкими губами, иногда растягивавшимися в пренебрежительно-насмешливую улыбку, он как будто боялся уронить свое достоинство и отделял себя от слушателей неприступной чертой. Первая же встреча с ним в аудитории сразу оставила резко отрицательное впечатление. Он точно задался целью прежде всего унизить нас, доказав нам самим, что мы дураки и невежды. Совсем по-гимназически он задал всей аудитории вопрос: сколько было членов в римском сенате? Водворилось молчание. Он пожевал губами и задал еще такого же рода вопрос. Доказав нам, что мы не знаем азбуки, он задал урок: к следующему разу прочесть такую-то главу Тита Ливия и из нее выписать: сколько раз упоминается слово plebs и сколько раз слово populus. Таков был приступ к семинарию по римской истории. <…> По русской истории заканчивал свою профессорскую карьеру С.М. Соловьев, 281 читавший для старших курсов. Я раз пошел на его лекцию. Профессор импровизировал, очень обобщая факты. Он говорил утомленным голосом о «жидком элементе» в русской истории. В который раз приходилось ему выжимать смысл из 28 томов его «Истории»! Но «жидкие элементы» проходили отвлеченными призраками и внимания слушателей не задерживали. В следующем году Соловьев умер. Заместителем его кафедры явился, по старинной привычке, его зять, Нил Ал. Попов. Преподавание в университете было его синекурой, чего он, в сущности, и не скрывал. Помню, читал он нам о крестьянском освобождении. Посещали его лекции студенты по очереди, по наряду. <…> Перед экзаменом товарищи меня посылали к профессору, которого я просил дать свои записки для исправления наших лекций. Получив тетрадь, мы ее делили на части по числу слушателей, и каждый избирал себе «специальность», готовясь по тому же оригиналу профессорских записок. На экзамене профессор, отлично видевший наш трюк, спрашивал каждого: «У вас о чем?» <…> По счастью, этим не ограничилось то, что дал нам университет по всеобщей и русской истории. На той и другой кафедре появились настоящие светила учености и таланта: молодой доцент П.Г. Виноградов, только что приехавший из-за границы с репутацией представителя нового взгляда на историю и нового исторического метода, и В.О. Ключевский, затмивший всех остальных блеском своих лекций и глубиной перестройки всего схематизма русской истории. С обоими я был одно время очень близок и обоим многим обязан. Я не хочу останавливаться на их характеристике здесь, так как и преподавательская деятельность их и мое сближение с ними относятся уже ко второй половине моего пребывания в университете. Мои учителя истории <…> Мой интерес начал сосредоточиваться на истории. Но какой истории? Слова «философия» я сам никогда не прилагал к истории, опасаясь, что под этим словом кроются пережитки «метафизической» эпохи. В этом смысле понятие истории скорее противополагалось понятию философии. Но и к понятию истории я не присоединял обычного представления о ее содержании. Наше поколение отбрасывало a Hmine представление об истории как повествовании о фактах. Гимназическое преподавание нас достаточно отучило считать генеалогии государей, даты их царствований, побед и поражений в войнах и так далее за настоящую историю. Отвергая всякое научное значение истории повествовательной, как бы красиво она ни была изложена, мы ждали от истории чего-то другого, что приближало бы ее к экспериментальной науке. Это требование, как мы уже знали относительно заграницы, удовлетворялось до известной степени переходом от истории событий к истории быта. Какого именно? Прежде всего наиболее доступного наблюдению и учету. Таким был быт экономический. «Экономический материализм» был в моде на Западе раньше и независимо от Маркса. Теоретические со До конца (лат.)- ред. 282 чинения об этом и образцы научных работ до нас уже доходили (Лориа, Торольд Роджерс). Несколько позднее мы познакомились и с первым томом «Капитала» Маркса в переводе Бакунина и во французском сокращенном изложении Малона. Но понятие «экономический материализм» у нас не смешивалось с марксизмом. Во второй очереди после экономической истории стояла история учреждений. От молодого приват-доцента, только что вернувшегося из-за границы, мы ждали последних слов европейской исторической науки именно в этих, намеченных нами направлениях. П.Г. Виноградов, может быть, не удовлетворял нас как теоретик. Но он импонировал нам своей серьезной работой над интересовавшими нас сторонами истории на основании архивного материала. А кроме того, он сразу привлек нас к себе тем, что, в противоположность Герье, не отгораживался от нас и не снисходил к нам, не приходил в затруднение от наших вопросов, а, наоборот, вызывал их и трактовал нас как таких же работников над историческим материалом, как и он сам. <…> Он мог задавать нам работы по первоисточникам, не боясь остаться позади нас, а, напротив, с удовольствием приветствуя всякие новые выводы. Помню свою работу, основанную на римской эпиграфике. Я тщательно проштудировал сборники надписей и пришел, по этому богатейшему первоисточнику, к определенным выводам на поставленные профессором вопросы. Выводы были для него так же новы, как и для меня: это его не смутило, а, напротив, заинтересовало. Это был кусок настоящей научной работы. Так он ставил нас сразу на собственные ноги в избранной им области. И мы сами чувствовали, что растем, и не могли не испытывать величайшего удовлетворения, а к виновнику его — глубочайшей благодарности. Чем дальше, тем семинарий Виноградова становился все более серьезным, а участники семинария сближались на общей работе и составили в конце концов дружную семью, с которой встретимся дальше. … Но влияние Ключевского на нас носило иной характер, чем влияние Виноградова. Он нас подавлял своим талантом и научной проницательностью. Проницательность его была изумительна, но источник ее был не всем доступен. Ключевский вычитывал смысл русской истории, так сказать, внутренним глазом, сам переживая психологию прошлого, как член духовного сословия, наиболее сохранившего связь со старой исторической традицией. Его отношение к мертвому материалу было иное, чем у Виноградова: он его оживлял своим прожектором и сам говорил, что материал надо спрашивать, чтобы он давал ответы, и эти ответы надо уметь предрешить, чтобы иметь возможность их проверить исследованием. Этого рода «интуиция» нам была недоступна, и идти по следам профессора мы не могли. К этой черте присоединялась другая: то обаяние, которое производила художественная сторона лекций Ключевского, его искрящееся остроумие, отточенность формы, неожиданные сопоставления и антитезы, наконец, готовые схемы, укладывавшие в одну отточенную фразу смысл целых периодов истории. Все это было слишком далеко стояло слишком высоко над тем, к чему нас приучило предыдущее преподавание русской истории. Свое стройное здание профессор выводил в 283 готовом стиле на нашей tabula rasa. Мы видели на его примере, что и русская история может быть предметом научного изучения; но дверь в это здание оставалась для нас запертой. Студенты моего курса были первыми слушателями Ключевского, после того как он из Духовной академии и Александровского военного училища стал наконец университетским преподавателем. Это заметно отразилось на характере наших отношений. Мы имели возможность подойти к профессору ближе, чем студенты следующих курсов. И все же эта большая близость не приняла характера совместной работы, как это было у Виноградова. В.О. Ключевскнй вел семинарии с нами у себя на дому. Разбиралась «Русская Правда», текст которой еще более темен и труден, чем текст и терминология германских «Правд». Среди этих почтенных развалин древности Ключевский производил свои изумительные раскопки и возвращался с разными находками. Но, повторяю, мы за ним следовать его путем не могли. Мы оставались ждать у входа. Собственной научной работе на семинарии научиться было нельзя: оставалось записывать за профессором его личный комментарий. Но вот час семинария кончался, а мы не уходили. Наш выпуск присвоил себе (после семинария) привилегию непринужденной личной беседы. Анисья Михайловна, жена Ключевского, приносила чай, мы поднимали политические вопросы (а их было так много в эти годы) и осаждали Василия Осиповича, желая знать его мнение. Он отделывался шутками, сыпал парадоксами, с которыми согласиться было трудно, а не согласиться неделикатно, и так проходил вечер — вероятно, к большому неудовольствию профессора. <…> Известное равновесие между моими отношениями к преподавателям иностранной и русской истории устанавливалось уже тем фактом, что я долго не хотел окончательно останавливаться на выборе какой-нибудь одной из этих двух специальностей. Работал я, как видно из предыдущего, больше с П.Г.Виноградовым; с В.О.Ключевским работать было невозможно. Но про себя я решил, что моей специальностью будет русская история, тогда как занятия по иностранной дадут мне хорошую школу. <…> Политика общая и университетская. (1879-1881) В годы моего пребывания в университете Россия, несомненно, вступала в свой революционный период. И если в последних классах гимназии мы могли только догадываться, что за доступными нам пределами что-то происходит для нас непонятное, а в первые два года университета могли лишь урывками и без достаточного внимания следить за фактами, доходившими до нас больше в форме судебных процессов, то вторые два года, 1879/80 и 1880/81, составили в этом отношении решительный перелом. Несколько фактических справок покажут, в чем было дело. Мы, конечно, не знали внутренней истории революционной борьбы, не знали и того, что в июне 1879 г. съезд революционеров в Липецке привел к раз Белый лист, чистая страница. 284 делению революционной партии «Земля и воля» на две части: «Черный передел» Плеханова и будущих социал-демократов — и «Народная воля» (октябрь, 1879). Сторонники Плеханова эмигрировали, уйдя на время с поля зрения русской общественности. Напротив, народовольцы (будущие народники), по настоянию Желябова, восстановили открытую борьбу с правительством посредством террора. Они начали свою деятельность с обращения к Александру II с требованием дать России политическую свободу и парламентарный режим. Это — по форме — совпадало с умеренной программой либеральных земцев; но мы не знали о неудавшейся попытке И.И.Петрункевича убедить революционеров приостановить террор, чтобы дать время правительству откликнуться на требования земств. Само имя Петрункевича едва ли в нашей среде было тогда известно. Во всяком случае, правительство не только не пошло на уступки, но усилило репрессии — и Петрункевич был сослан. Со своей стороны народовольцы начали форменную охоту на царя. С сентября 1879 г. до 1 марта 1881 г. она длилась непрерывно два с половиной года — и не могла не привлечь к себе общего внимания. Какой-то фантастический и всемогущий «центральный комитет» (в котором потом оказалось не больше 30 членов) успешно боролся с могущественным государственным аппаратом; значительная часть общества и все либеральное общественное мнение втайне сочувствовали революционерам. Не могло такое настроение не задеть и университета, этого «барометра общества», как выразился Пирогов. После взрыва в Зимнем дворце (февраль, 1880) поднимается наконец в среде самого правительства вопрос о каком-то шаге навстречу умеренной части общества. Создается Верховный комитет, и во главе его ставится харьковский генерал-губернатор граф ЛорисМеликов с чрезвычайными полномочиями. Одной из первых мер этой «диктатуры сердца» является удаление графа Д.А.Толстого с поста министра народного просвещения и назначение на его место Сабурова. Толстой перед самой отставкой готовил реформу Устава 1863 г., дававшего университетам некоторую автономию. Но он не успел провести ее, а Сабуров проектировал расширение автономии на студентов путем легализации студенческих организаций. Около этого вопроса и разгорелось в 1880 г. очень сложное студенческое движение, в которое и наш курс был непосредственно втянут. Легализовать приходилось прежде всего студенческие учреждения, уже существовавшие фактически. Мы издавна имели свою общестуденческую организацию для помощи бедным товарищам. Наша касса пополнялась не только взносами, но и доходами с устройства студенческих балов, на которые очень охотно отзывались артистические силы Москвы. <…> Первые шаги в этом направлении, на которые начальство смотрело сквозь пальцы, прошли благополучно. Сам Сабуров хотел услышать организованное мнение студенчества о предполагаемой автономии. По курсам начались выборы, как бы предрешавшие создание центрального выборного органа студенчества. В день выборов меня не было в университете, и представителем курса был выбран мой гимназический приятель Н.Н. Шамонин. Он оказался очень хорошим председателем курсовых собраний, но мало интересовался политической стороной дела, 285 и вся «политика» перешла в мое заведование. А «политики» было сколько угодно. На общих собраниях мы натолкнулись на самые разнообразные мнения. Левые течения, представленные преимущественно студентами-медиками, преобладали и по численности, и по настойчивости своей тактики. <…> Но были люди много сильнее и влиятельнее их. Юристы приняли мало участия в общем деле; их у нас считали будущими карьеристами и дельцами. Мы, филологи, представляли среднее мнение. Проводить его в студенческой массе было очень трудно. Наша цель состояла в том, чтобы, пользуясь благоприятной минутой правительственного либерализма, вести подготовительные собрания студентов к созданию признанной правительством системы студенческих учреждений. Левые, при их настроении, напротив, вносили политику в университет и добивались фактического признания за студенчеством политической роли. Это, конечно, не говорилось прямо; но к этому вело прежде всего непризнание того организованного общего представительства, которым мы уже владели. Нам, «конституционалистам», как нас тогда уже называли, противопоставлялась идея «суверенитета народа» в виде верховной власти студенческой сходки. «Общая сходка» или «парламент»— так формулировалось наше основное «политическое» разногласие. А на общих сходках, как только они собирались, уже говорили открыто не о студенческих учреждениях, а о вопросах общей политики, и студенческая сходка превращалась в политический митинг. Наша борьба с этим направлением вначале шла довольно успешно под защитой легальности. Мы пошли на уступки: согласились, например, на создание студенческого суда, в котором меня выбрали председателем. <…> Охота террористов на царя продолжалась. После новых неудачных покушений наступило 1 марта 1881 г. Университет, избалованный невмешательством властей, забушевал. Помню маленький эпизод, в котором мне тоже пришлось играть роль. Правые элементы открыли подписку на венок на могилу государя. Их было мало, сбор шел вяло, и один студент вместо денег бросил в шапку пуговицу. Нашелся другой студент, некто Зайончковский, который донес об этом начальству. Над Зайончковским потребовали студенческого суда, который и состоялся — опять-таки под моим председательством. Мне подсказывали со стороны, что ректор согласен даже на увольнение Зайончковского из университета, если суд вынесет такое решение. Но оно мне казалось юридически спорным и политически опасным. И я убедил собрание ограничиться порицанием и запрещением Зайончковскому впредь принимать участие в студенческих делах. Но это были уже последние дни лорис-меликовского либерализма. Как известно, правительство Александра III под влиянием Победоносцева повернуло очень быстро в сторону реакции. Сабуров, оскорбленный одним студентом из левых, принужден был уйти; его место занял Николаи. Студенчество все еще не понимало, что его дело было проиграно. Студенческие сходки были запрещены. Но левые настаивали, чтобы была назначена еще одна, последняя общая сходка, на которой само студенчество постановит свои решения. Было ясно, что сходка будет разогнана властями. Тем не менее я пошел на нее, чтобы убедить сходку разой286 тись по собственному почину. Произошло все как по писаному. В самый разгар горячих речей вошла полиция, а ораторы все говорили и говорили, пока всех нас не окружили жандармы и не отвели в манеж, против университета. А оттуда в поздний час нас отвели под конвоем конных жандармов в Бутырскую тюрьму и оставили всех вместе в общей обширной камере. Ночь прошла очень весело: даже появился самодельный сатирический листок. Политические речи продолжались, но уже никого не интересовали. Кое-кто расположился спать на нарах; успевшие закупить по дороге продукты принялись ужинать. Все наконец замолкло. Уже на рассвете стали вызывать .студентов с протекцией; их родственники убедили начальство, что они присутствовали на сходке «по ошибке» или «по неведению». Конечно, имена освобождаемых сопровождались шумными выражениями негодования. Утром, переписав всех, нас отпустили. По списку полиции мы были преданы профессорскому суду. До меня дошло, что ректор призывает к себе отдельных студентов и требует от них заявления, что они не знали о запрещении сходок и не знали цели данной сходки. Это заявление освобождало от наказания. <…> Ректором был Николай Саввич Тихонравов, профессор русской литературы. Я забыл упомянуть его в числе профессоров, оказавших на меня влияние. Он читал по старым запискам, довольно монотонно, и шепелявил. Но его лекции были истинным вкладом в науку (впоследствии они были напечатаны). Меня он знал по большой работе (обязательной), которую я сделал на данную им тему о литературных течениях в Москве XV—XVI вв. Я много читал для этой работы; общие черты ее и выводы вошли впоследствии в мои «Очерки». Я знал, что Тихонравов благоволит ко мне, и тем более неловко было идти к нему с заранее принятым решением. Он встретил меня вопросом: вы, конечно, не знали, для чего собирается сходка? Я ответил: к сожалению, должен признать, что знал это и шел сознательно. Он посмотрел на меня с удивлением, помолчал, потом предложил тот же вопрос в другой форме. Волнуясь, я отвечал то же. Он повернулся и ушел. В результате я был исключен из университета с разрешением подать прошение на тот же курс — то есть до осени. <…> Последний год в университете (1881 – 1882) Лекции в университете уже начались, когда я вернулся из Италии. Но я мало заботился о лекциях. Мне казалось, как будто я уже окончил университет и отсрочка на год есть простая формальность. К тому же и состав моих новых однокурсников был мне совершенно неизвестен. Среди них у меня не было ни товарищей, ни близких друзей. Те, с которыми мы четыре года назад вместе вошли в стены университета, ушли в жизнь. Я остался один, и охоты сближаться вновь у меня не было. К этому присоединилась традиционная привычка старших смотреть на студентов младших курсов как-то свысока и снисходительно. Так на наш курс смотрели студенты старшего курса, например Карелин или Якушкин, о которых речь будет дальше. Так и я склонен был смотреть на догнавших меня студен287 тов. Это было, конечно, неправильно, и среди них было немало интересных людей. Я сразу могу назвать двоих: Матвея Кузьмича Любавского, которому суждено было впоследствии занять кафедру Ключевского, Василия Вас. Розанова, прославившегося потом в роли писателя-философа определенного направления. Оба в университете были малозаметны. С некоторыми другими я ближе сошелся по работе в семинарии П.Г. Виноградова, единственно меня интересовавшем на этом курсе. Я не могу точно вспомнить, какая именно тема трактовалась участниками семинария в этом году: кажется, это был разбор, очень строгий, первого тома Фюстель-де-Куланжа, посвященного концу Римской империи. Может быть, тогда же — а может быть, и несколью позже — я встретился там с некоторыми участниками общей работы которые стали моими друзьями. Украинец Петрушевский, талантливый исследователь средневековья — в том духе, как мы понимали историю, то есть главным образом как историю социальную и истории учреждений; Моравский, след которого я потом потерял; А.И. Гучков, явившийся к нам из Берлина с репутацией бретера и выбравший себе тему о происхождении гомеровского цикла; так и не докончив этой работы, он отправился помогать бурам. <…> Остается упомянуть еще об одном, довольно пассивном участнике семинария П.Г. Виноградова— о М.Н. Покровском. Покровский прогремел при большевиках своим квазимарксистским nocтpoeниeм русской истории. Ими же он был и развенчан. У нас он держало скромно, большей частью молчал и имел вид вечно обиженного и не оцененного по достоинству. <…> Общественные ожидания, возбужденные первыми неделями царствования Александра III, быстро рассеялись, когда Лорис-Меликова сменил Игнатьев, а Игнатьева вытеснил Победоносцев. Революционная борьба была подавлена крутыми репрессиями, и в политической жизни наступило затишье, продолжавшееся в течение почти 13 лет царствования Александра III. Для научной деятельности, в частности для моей, это затишье оказалось чрезвычайно полезным. Я мог отныне, после неудачного политического опыта, всецело погрузиться в научную работу. Начало этой работы я и должен вести с последнего университетского года. Не ожидая ничего для себя нового, я очень манкировал университетскими лекциями (за исключением лекций профессора Виноградова). Но освободившийся, таким образом, досуг я употреблял на серьезное чтение социологического, политикоэкономического и исторического содержания. Русская история, в частности, продолжала стоять у меня на первом плане. Центром внимания в этом отношении стала, конечно, диссертация В.О. Ключевского на тему о «Боярской думе», начавшая печататься отдельными статьями в «Русской мысли». Построение киевского периода сразу показалось мне в ней, при всем остроумии автора, искусственным и спорным. Напротив, объяснение частно-хозяйственного происхождения государственных учреждений Московской Руси увлекло меня своей глубиной и основательностью. Мысль начала сосредоточиваться в этом направлении. Приближалось время выпускных экзаменов, и я — слишком поздно — заметил многочисленные пробелы, образовавшиеся у меня в результате непосещения 288 лекций. Старый гимназический способ покрыть эти пробелы состоял из нескольких бессонных ночей, проведенных над лекциями при помощи крепкого чая. В университете этот способ облегчался снисходительностью профессоров. Я уже говорил о том, как упрощенно мы сдавали экзамены у Нила Попова. На экзамене у профессора Дювернуа по курсу о древнеславянском языке, которого никто не слушал, дело обходилось несколько сложнее. Брали билеты три студента подряд, и пока отвечал первый, два других отходили от экзаменационного стола к скамьям, где уже был заготовлен конспект лекций, и прочитывали конспект, соответствовавший вынутому билету. Не помню, как сходило у меня с рук такое незнание по другим предметам, но на экзамене у Виноградова у меня случился неприятный казус, тем более неожиданный и для меня, и для профессора, что я сам и издавал его лекции. Положившись на свое знание, я только накануне экзамена, перебирая лекции, заметил, что некольких листов в моем экземпляре недостает вовсе. Просидев ночь, чтобы освежить в памяти курс, я пошел на экзамен, положившись на случай. Можно себе представить мое крайнее смущение, когда я вынул билет, как раз соответствовавший недостававшим листам — о германской исторической школе. Делать было нечего, я стал вспоминать читанное на эту тему в толстом Handbuch'e о немецкой историографии — и начал ответ. Виноградов сперва пришел в недоумение: того, что я говорил, не было в курсе. Потом догадался, усмехнулся и, не прерывая меня, поставил удовлетворительную отметку. Потом уже я объяснил ему, в чем было дело. По счастью, наша дружба от этого нисколько не пострадала. Виноградов выступил главным моим защитником в вопросе о моем оставлении при университете. Он знал от меня, что я хочу специализироваться на русской истории. Тем не менее и он, и профессор Герье — последний в особенности — стали настойчиво убеждать меня остаться при университете по кафедре всеобщей истории. Я отказался, не понимая, в чем дело и откуда идет сопротивление моему оставлению по русской истории. Только позднее я начал, к своему глубокому огорчению, догадываться об этом. Сопротивление, конечно, могло идти только от В.О. Ключевского. Возможно, что он был недоволен моим политическим направлением или моим малым вниманием к его предмету. Возможно, что он уже тогда считал более подходящим для занятия кафедры более послушного М.К.Любавского и смотрел косо на мое увлечение всеобщей историей. Возможно и то, что общее происхождение из духовного звания более сближало его с духовным обликом Любавского. В дальнейшем, как будет сказано, открылись и наши различия во взглядах, как частных, так и общих, на русскую историю и на способы ее изучения. Возможно, что они почувствовались уже тогда, и В.О. не доверял моим стремлениям к самостоятельности, предпочитая более надежного в этом отношении М.К.Любавского. Как бы то ни было, все эти догадки возникли у меня позднее. В них не было и надобности тогда, так как в конце концов факультет, очевидно с согласия или даже по предложению В.О., все же оставил меня при университете по кафедре русской истории. <…> 289 Магистерский экзамен Главной моей задачей оставалась все же подготовка к магистерскому экзамену. Обычным сроком для подготовки считались три года. Я поставил себе этот срок (1883—1885)— и его выдержал. <…> После сдачи этого экзамена давалось право на прочтение пробных лекций, после чего факультет допускал к чтению лекций на положении приват-доцента. Приват-доцентура давала право на чтение необязательных для студентов курсов, но от факультета зависело ввести некоторые из них в обязательную университетскую программу. <…> И я счастливо перешагнул границу от ученика к ученому. Этим было закреплено и мое социальное положение в московском обществе, где, в противоположность военному и чиновному Петербургу, университетский круг по традиции стоял на первом плане. Не могу определить точно, когда начались мои знакомства и связи с московскими литературными кругами: некоторые из них могли относиться к годам моей магистерской подготовки. Обе мои пробные лекции были напечатаны тогда же: «Юридическая школа в русской историографии» в «Русской мысли» (1886), а лекция о древнейшей «Разрядной книге» (позднее — и сам текст документа) — в «Трудах Общества истории и древностей российских», членом которого меня выбрали в 1887 г. Я также сделался членом других московских ученых обществ: «Московского археологического», председательницей которого была вдова известного археолога, графа Уварова, и «Общества естествознания, географии и археологии», которым руководил профессор Анучин, знавший меня еще через Всеволода Миллера. Университетские лекции <…> Мои аудитории были немногочисленны; но они состояли из слушателей, действительно заинтересованных и желавших работать; таким образом, я даже мог раздавать отдельным слушателям специальные темы и выслушивать результаты их работы в некоторого рода семинарии. И тут я хотел, чтобы работа была общей: единственное условие, чтобы она была живой. Сближаясь таким образом со слушателями и младшими товарищами, приходившими меня слушать, я устроил для нашего общения журфиксы у нас на дому. В эти годы мы 2 переехали из сырой подвальной квартиры в более поместительную, поблизости, на Плющихе, где я мог расставить по полкам свою разросшуюся библиотеку. О результатах заведенного общения я позволю себе сообщить свидетельство со стороны, страничку из воспоминаний А.А.Кизеветтера, чересчур для меня лестную и по-кизеветтеровски красочную, но, сколько знаю, единственную, сохранившую живую память о начале моей профессорской карьеры: «Лекции Милюкова производили на тех студентов, которые уже готовились посвятить себя изучению русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед нами был лектор, вводивший нас в текущую работу своей лаборатории, и кипучесть этой исследовательской работы заражала и 290 одушевляла внимательных слушателей. Лектор был молод и еще далеко не был искушен в публичных выступлениях всякого рода. Даже небольшая аудитория специального состава волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхивало густым румянцем. А нам это было симпатично. Молодой лектор сумел сблизиться с нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. <…> Семейные дела. «Русская мысль» и «Русские ведомости» <…> По мере роста моей известности расширялись мои знакомства и связи в литературном мире Москвы. Центром этих знакомств, помимо университетского круга, сделалась теперь редакция «Русской мысли», где я постепенно стал «своим человеком». В более скромных размерах, чем это было в Петербурге, журнал хлебосольной Москвы представлял собой левый лагерь общественной мысли. Начались мои связи с «Р. м.» писанием рецензий по русской истории в библиографическом отделе; потом вся библиография перешла в мое распоряжение. До 30 лет я вообще не выступал в печати — и этим гордился. Первая моя рецензия в «Р. м.» была, таким образом, первым моим печатным произведением. Я помню, как, получив книжку журнала летом на вокзале в Пушкине и не успев дойти до дачи, я поспешил разрезать лист журнала, чтобы посмотреть, как выглядит печатный текст моей статейки. И — о ужас! — я нашел в тексте целых две опечатки! Я был ужасно огорчен. Потом в «Русской мысли» печатались, как упомянуто выше, целые мои книги. Издателем журнала был Вукол Михайлович Лавров: само имя обличало купеческое происхождение. К литературе он был прикосновенен как переводчик произведений видных польских романистов. Я не помню, чтобы он при мне вдавался в какие-нибудь теоретические рассуждения. Обыкновенно он молчал при «умных» разговорах. Но его с избытком замещал редактор, Виктор Александрович Гольцев. Гольцеву не повезло в университетской карьере. Его диссертация о помещичьем быте и нравах XVIII столетия, основанная на мемуарах современников, была признана недостаточно ученой. Но у него были другие положительные качества, сделавшие его своего рода центром, к которому сходились нити московского либерализма в левой окраске. Гольцев был недурным публицистом, но главную свою славу приобрел в роли застольного оратора. Тут он был действительно незаменим. Другого такого я не встречал на своем веку. речь текла плавно, без «помарок», мысль излагалась гибко и четко, со всеми необходимыми публицистическими оттенками и намеками, дышала чувством, и все построение речи вело к неизбежному логическому концу, который преподносился, даже если был довольно банален, в изящной форме, в виде неожиданного сюрприза. И это свойство Гольцева составляло основную сущность его общественной функции: смело выражать общественную мысль в те годы безвременья, когда другие пути выражения были для нее преграждены. От Гольцева исходил и сам выбор, или, точнее, под291 черкивание, моментов для очередной общественной демонстрации. Ему принадлежал подбор участников, устройство банкета, выбор других ораторов, даже иногда распределение тем. Центром торжества была всегда не столько отвлеченная идея, сколько чествование какого-нибудь живого ее представителя. Недостатка в таковых не было; кроме своих, москвичей, к нам постоянно наезжали петербургские и другие иногородние знаменитости. Приезжие из столицы смотрели на нас немножко покровительственно, с сознанием собственного первенства; провинциалы, напротив, считали за честь общение с центром русской мысли без кавычек. Так или иначе, всероссийское общение в Москве и через Москву поддерживало старую общественную традицию. <...> Ежедневная московская газета «Русские ведомости» имела преимущество перед «Русской мыслью» прежде всего своим старшинством. За нею была уже давняя традиция, сравнительно с которой «Русская мысль» была совсем новичком. Затем, в противоположность частному собственнику «Русской мысли», «Русские ведомости» были' построены на общественном начале. Главнейшие сотрудники были соучастниками издательства. «Русские ведомости» отличались строго выдержанным направлением, вводили в состав сотрудников лиц испытанного образа мыслей, близких друг другу по взглядам и по своей готовности вести общественную борьбу за определенные взгляды. Либерализм газеты имел социальную подкладку. и ее конституционно-демократическое направление носило явственный народнический оттенок. Все эти особенности заслужили «Русским ведомостям» прозвище «профессорской газеты», что для некоторых было синонимом «скучной». В противоположность шуму общественных банкетов Гольцева, газета жила довольно замкнутой жизнью. Во главе ее в те годы стоял заслуженный публицист В.М. Соболевский, объединявший сотрудников своим непререкаемым авторитетом. Помогал ему экономист А.С. Посников. Я не был постоянным сотрудником газеты, но она открыла мне свои границы и относилась ко мне очень дружественно. Не могу умолчать еще о периодическом издании «Вопросы философии и психологии», издававшемся профессором Н.Я. Гротом. Несмотря на различие направлений, а может быть, именно поэтому, меня привлекли и туда к сотрудничеству. Я выступил с публичной лекцией на боевую тему о «разложении славянофильства», открыв в ней свое идейное знамя (1893). Славянофильство еще не умерло в Москве; я доказывал, что оно «умерло и не воскреснет». Я основал свой вывод на том, что обе основные идеи старого славянофильства, Хомякова, Аксакова, Киреевских, Кошелева, — идея национальная и идея всемирной миссии — разложились в среде эпигонов славянофильства, и это разложение завело славянофильство в тупик. Национальная идея привела у Данилевского и Константина Леонтьева к неподвижности и изуверству; мировая миссия в руках Владимира Соловьева привела к европеизации и к католицизму. В.С. Соловьев вместе с братьями Трубецкими, его ближайшими друзьями, были гораздо ближе к журналу, нежели я, со своим отрицанием. В.С. Соловьев ответил мне в том же журнале, и я там же возражал на его ответ. Позиции, таким образом, определились; но друже292 ственные отношения с разрушителями славянофильства слева у нас остались взаимно. Н.Я. Грот даже пошел дальше и пригласил меня к Льву Толстому — выслушать чтение рукописной статьи Толстого о Кронштадте. Это была моя первая личная встреча с Толстым. Понятен интерес, с которым я шел на интимную беседу. Но меня расхолодило уже присутствие кроме нас двоих еще третьего собеседника, очевидно тоже специально приглашенного, Н.Н.Страхова, полемика которого с левыми направлениями была мне известна. Я со страхом ожидал обменa мнений по поводу прочтенного. Все же, по мере чтения, я заготовлял и собственные возражения на отдельные пункты статьи: недостатка в них не было. По счастью, дело обошлось гораздо проще: только что Толстой закончил, Страхов вскочил с кресла и патетически воскликнул: «Прекрасно, великолепно!» На этом и закончилась беседа, в которой мне пришлось быть молчащим партнером. Кстати, расскажу и о другой моей беседе с Толстым, в которой мне пришлось говорить много и долго. Толстой, в известный момент постройки своей теории, которая в числе других отрицаний проявления культуры отрицала и науку, заинтересовался послушать, что думают на эти темы «ученые» люди. Он обратился к некоторым проборам университета, например к Чупрову по политической экономии, затем к Степану Фед. Фортунатову, моему коллеге по 4-й Гимназии, для проверки исторических фактов о Христе и о Будде, и еше — для обсуждения общего смысла истории. Я шел к нему, уверенный, что это будет монолог. К удивлению, на этот раз я ошибся. Толстой захотел слушать и показал, что умеет это делать. Он поставил мне несколько вопросов и терпеливо выслушал мои ответы, а затем и мои разъяснения. Я уже был почти побежден этим вниманием и как будто отсутствием возражений. Но в это время пришла графиня Софья Андреевна и прервала наш затянувшийся tete-a-tete приглашением сойти из аскетической каморки Толстого вниз, к чаю. Самовар стоял на столе, разлит был чай; Толстой взял тарелку с тортом и ножик и, прежде чем разрезать, обескуражил меня коротким замечанием: «Ну, что ваша наука! Захочу, разрежу так, а захочу, вот этак!» Так пошла насмарку вся наша беседа, и было бы уже невежливо доказывать, что, в противоположность строению торта, у науки есть свое собственное внутреннее строение. Я только понял тут, что и мне никогда не понять Толстого. <…> Отмечу, наконец, в той же области и в том же десятилетии (1885—1894) начало моего участия в иностранной литературе. Участие это было, так сказать, символическим; но для меня они имело большое значение. Н.И. Стороженко передал мне свое сотрудничество в английском журнале «Atheneum», заключавшееся в ежегодных обзорах русской литературы в номере журнала, где раз в год помещались такие же обзоры литературы всех культурных стран . Меня это поручение заставило следить внимательнее не столько за новинками литературы, сколько за общественными настроениями, которые них выражались. Напомню, что то бы свидание с глазу на глаз С ерия этих статей охватила промежуток 1889 – 1890 до 1894 – 1895 гг. – Примеч. П.Н. Милюкова. ** конец века. 293 ли годы безвременья и перехода от наших классиков, кончавших свою жизненную карьеру, к веяниям fin de siecle** подросшего нового поколения. Недавно в большой зале одной из европейских библиотек я снял с полки эти тома «Атенеума» и нашел там целую летопись литературно-политического десятилетия, как она мне тогда представлялась. Я говорю «политического», потому что политика просачивалась сквозь литературные формы — тем более что только в них она тогда и могла выражаться. Но надо было искать другие формы, более широкие, для открытой общественной деятельности. Наша, уже сложившаяся, московская группа нашла их в просветительной работе. К ней теперь и перехожу. Просветительная деятельность. Лекции. Идея «Очерков» Не может быть сомнения, что политическая деятельность таких руководителей двух последних царей, как К.П.Победоносцев и Д.А.Толстой, была сознательно направлена к тому, чтобы задержать просвещение русского народа. Они в точности выполняли лозунг Конст. Леонтьева: «Надо Россию подморозить, чтобы она не жила», — или прозябала в византийских рамках самодержавия и ри-туализма. Против этой антиисторической и опасной, как можно было предвидеть, позиции выступила со всей энергией передовая часть русского культурного класса. Ее работа на поднятие знаний и самосознания в среде русского народа пошла в 80-х годах в двух направлениях. Лица, более близкие к народной массе, организовали общественный поход в эту среду. Их деятельность сосредоточилась около прогрессивных элементов земства— главным образом в среде так называемого третьего элемента: учителей, агрономов, статистиков, врачей, — словом, всех профессиональных кругов, прикосновенных к культуре. Но чтобы нести просвещение в массы, надо было прежде всего самим просветиться. Эта часть задачи выпадала на долю университетской интеллигенции. <…> Политика и изгнание из Москвы В 1894 г. на одной студенческой вечеринке меня окружила группа студентов, добивавшаяся от меня объяснения современного положения. Я дал им объяснение, извлеченное из моего собственного жизненного опыта. Кончался тринадцатилетний период реакции, и наступала новая волна общественного движения. Тринадцать лет я мог безмятежно заниматься наукой; теперь больше не могу: все больше захлестывает политика. Политика и реакция, реакция и политика: размах политики все шире и сильнее, отступления реакции, остановки культуры — внутренне все слабее. Это была, в сущности, историческая тема моих нижегородских лекций, только откровеннее выека-занная. Перспектива получалась для студентов самая оптимистическая. Куда она приведет, никто не подозревал, конечно. Но, помню, в переписке того времени я так представлял себе смысл последней перемены царствований. Снята с России чугунная плита, новое царствование будет 294 пестрое. Нужно будет пройти годам этого царствования, чтобы В.О.Ключевский мог высказаться в конце царствования более точно: «Николай II будет последним царем; Алексей царствовать не будет». До этого было, конечно, еще далеко. Но признаки гряду0щих перемен - несмотря на то что реакция, в сущности, еще не прекратилась – выползали из всех щелей. В университетской атмосфере, благодаря настроениям студенчества («барометр общества»), эти признаки были еще более ощутительны. Не только мне одному приходилось беседовать о политике со студентами. Популярных профессоров студенты вызывали volens nolens* на откровенные беседы. Помню одно такое секретное собрание, на котором, кроме меня, присутствовал по приглашению студентов и «сам» П.Г. Виноградов. Разливался соловьем прославившийся впоследствии студент Виктор Чернов, — и уже по одному этому можно предположить, о чем велась беседа. Меня впоследствии власти обвиняли в «дурном» влиянии на студенчество. Уж не знаю, кто на кого оказывал «дурное влияние». 1891 год был переломным в смысле общественного настроения. Голод в Поволжье, разыгравшийся в этом году, заставил встрепенуться все русское общество. Несмотря на препятствия правительства, опасавшегося контакта интеллигенции с народом, удалось довольно широко развернуть общественную помощь голодающим Известна инициатива Льва Толстого и В.Г. Короленко. Помню совещание, устроенное В.А. Гольцевым, на которое пришел и Толстой. Речь шла о воззвании к загранице о помощи голодающим. Толстой решительно отказался подписать такое воззвание, заявляя, что он обратится к загранице лично. Другим взволновавшим общество событием в том же и следующем году было изгнание из Москвы 20 000 евреев, за которым следовал кишиневский погром евреев в 1893 г. (3) И по этому поводу мне вспоминается профессорский обед, периодически устраивавшийся и состоявший обычно из лиц, очень умеренно настроенных. На этот обед пришел Владимир Соловьев с определенной целью — заставить участников подписать протест против преcледования евреев. Это было необычным для этого круга вмешательством в политику, и я с любопытством наблюдал, как поступят некоторые профессора. Все они подписали протест, даже Герье. Таково было настроение момента, отразившееся, как сказано выше, и в настроении нижегородской публики, собравшейся на мои лекции. Приподнятое еще переменой царствования, это настроение было непродолжительно. В конце 1894 г. я читал свои лекции, а 17 января 1905 г. делегаты земских, дворянских собраний и городских дум, пришедшие поздравить Николая II с восшествием на престол, услышали от него памятные слова, выкрикнутые фальцетом, по бумажке: «Я узнал, что в последнее время в некоторых земствах поднялись голоса, увлекшиеся бессмысленными мечтаниями об участии представителей от земств во внутреннем управлении... Пусть каждый знает, что я... буду защищать начало самодержавия так же неизменно, как мой отец». <…> Не косвенно, а прямо царский окрик ударил и по мне. В конце того же января или в начале февраля 1895 г. последовали мероприятия против меня со стороны двух министерств. Министерство народного просвещения послало приказ уволить ме295 ня из университета с запрещением преподавать где бы то ни было. А министерство внутренних дел начало следствие о моем преступлении в Нижнем Новгороде, распорядившись выслать меня из Москвы в административном порядке впредь до решения моей участи. В Москве обе меры, конечно, произвели сенсацию. Со всех сторон я получал выражения сочувствия и — больше того — предложения поддержки в критическую минуту. «Русские ведомости» предложили постоянное сотрудничество и фиксировали ежемесячный оклад. Из Петербурга пришло предложение напечатать мои лекции по истории культуры в «Мире Божьем». Гольцев устроил банкет и закончил свою речь пророческим пожеланием, чтобы я сделался историком падения русской монархии. <…> Печатается (в сокращении) по: Павел Милюков. Воспоминания. Москва. 2001. Павел Николаевич Милюков (1859-1943) - историк, политический деятель, один из главных организаторов конституционно-демократической партии (кадетов) либеральномонархической России и член ее ЦК (с 1907 по 1918), создатель и редактор кадетской газеты "Речь", член Государственной Думы 3-го и 4-го созывов, министр иностранных дел в составе буржуазного Временного правительства, белоэмигрант. П.Н. Милюков - воспитанник Московского университета, в 1882 г. окончил историкофилологический факультет. Он слушал первый университетский курс профессора истории В.О. Ключевского. Ученик "гениальнейшего человека нашего века", П.Милюков нашел в нем "западнический ум", но почувствовал, что учитель "склоняется сердцем" к славянофильству. "Мы не рискнем пойти за ним до конца", - решил он. С 1886 по 1894 год Милюков был приват-доцентом по кафедре русской истории в Университете.В 1892 г. защитил магистерскую диссертацию" Государственное хозяйство России в первую четверть XVIII века и реформа Петра Великого". Книга была оценена читающим обществом. Факультетский совет счел ее достойной докторской степени, но воспротивился оппонент Ключевский, выбравший, по словам Милюкова, "систему высмеивания". Отношения учителя и предводителя "школы Ключевского" осложнились на долгие годы. К этому прибавилась статья Милюкова о Ключевском в "Энциклопедическом словаре" Ф.А.Брокгауза и И.А. Ефрона. Милюков был неординарной личностью, сложной и противоречивой, обладал феноменальной работоспособностью, знал более десяти языков, владел обширными знаниями, его имя стоит рядом с именами А.А. Кизеветтера, М.М.Богословского и др. Увлеченный "политикой и реакцией", "реакцией и политикой", в 1895(4?) году Милюков был уволен из Университета и выслан из Москвы в Рязань на три года, но пробыл вне Москвы долгие 10 лет. В.О.Ключевский по-прежнему считал его "своим учеником по Университету и товарищем по Обществу Истории и древностей Российских", иногда с "лукавым юмором" заносил его имя в знаменитые афоризмы. "Книгу Мил<юкова> больше цитировали, чем читали. Он был умен, если бы не силился быть им", – записал Ключевский в Дневнике 4.II.1897 г. И с болью добавил, что "еще много веков пройдет, прежде чем чутье правды выйдет из спальни на улицу". "Ученый-историк поневоле превращается в политика", - писал Милюков. Вернувшийся из турне по Балканским странам, Милюков первый раз был арестован зимой 1900г. и просидел полгода в тюрьме за выступление на студенческом собрании, посвященном памяти П.Л.Лаврова. В 1902 г. ему был вновь вынесен приговор - полгода тюрьмы. Ключевский ходатайствовал об "академическом либерале" и перед князем С.Д.Шереметьевым, и перед царем. Министр внутренних дел и шеф жандармов В.К.Плеве сообщил ему о разговоре учителя с царем (Милюков "нужен для России") и о поручении ему освободить Милюкова "в зависимости от впечатления". Впечатление было не лучшим, но в начале 1903 г. Милюков был освобожден из 296 "Крестов" с условием не вступать в открытую борьбу ("иначе - мы вас сметем") и с запретом бывать в Петербурге. Весной 1905 г., вернувшись из Чикагского университета с репутацией "отпетого революционера," Милюков занялся организацией кадетской партии и газеты "Речь", но был арестован. И вновь Ключевский заступился за ученика, о чем сам Милюков умалчивает в своих "Воспоминаниях". Ключевский пишет письмо Московскому обер-полицмейстеру Д.Ф.Трепову с просьбой не делать из него "жертву" (видимо, революции). Наивысшей активности политическая и государственная деятельность Милюкова достигает в 1907-1917 годах, когда он был членом 3-ей и 4-ой Государственной Думы. В годы острых внутрипартийных и общественных полемик Милюков писал "тома статей" в "Речь". Воспоминания о Ключевском, умершем в 1910 г., были его "прощанием с периодом научного творчества". Л.Н. Толстой резко оценил деятельность своего знакомого в Государственной Думе, как и кадетскую программу о принудительном отчуждении земель, которую назвал "лицемерием", ёрничаньем; воображают, говорил он, что "действуют от имени русского народа». Та же мысль прозвучала и в его оценке книги Милюкова "Из истории русской интеллигенции": "Напрасно думают критики, что движение интеллигенции может руководить народом". Однако Г.В. Плеханов считал, что "нравственно-религиозная проповедь гр. Толстого" в тех условиях была "лишь переводом на мистический язык "реальной" политики г. Милюкова". После февральской революции 1917г. Милюков вошел во Временное правительство министром иностранных дел. Ему принадлежит ставшая канонической фраза, брошенная оппонентам: "Нас выбрала русская революция". В период апрельского кризиса Милюков, требовавший ареста Ленина, подал в отставку; не нашел поддержки и его лозунг "Советы без коммунистов". Главным и самым сильным политическим оппонентом Милюкова был В.И.Ленин, называвший Милюкова "краснобаем","разъяренным контрреволюционером": "Сейчас крестьянин с Милюковым вместе займом бьет социализм. Крестьянин идет за Милюковым и Гучковым. Это факт... Привлекать мужика сейчас - значит сдаться на милость Милюкова". («Заключительное слово по докладу о текущем моменте» 24 апреля /7 мая/ 1917г.).Во время корниловского мятежа Ленин требовал от Керенского: "Арестуй Милюкова!" Скрываясь на Дону, Милюков сформулировал цели и принципы белого движения в "Декларации добровольческой армии". В 1920 г., не дожидаясь выполнения угроз Ленина ("шлепками прогоним" или будем "держать бережно в тюрьме"), Милюков эмигрировал в Лондон, обосновался в Париже; в 1940 г. перебрался в Соединенные Штаты, затем в Швейцарию. В 1921 г. в Париже он сменил И. Бунина на посту председателя Союза литераторов и журналистов и возглавлял его 20 лет, до смерти. В Париже Милюков редактировал газету "Последние новости», не прекращал антисоветскую деятельность. Во время Великой Отечественной войны Милюков сочувствовал организации движения Сопротивления и радовался победе над Германией в Сталинградской битве (ст."Правда о большевиках"). П.Н. Милюков, ученый-историк, был автором ряда крупных работ, таких как "Очерки истории культуры" (по словам Милюкова, "на грани истории и политики"), в которых Ключевский увидел "попытку обобщающего труда»; "Очерки русской истории", которые Толстой назвал удачной попыткой "писать историю народа, а не царей" (на что М.С. Сухотин заметил: «Есть нереволюционная закваска. Я посоветовал бы ему выкинуть»); "История второй русской революции", плохо принятая "справа" и "слева"; "История на переломе" и др. В тридцатилетнем возрасте Милюков начал печататься в периодической прессе: статьи, рецензии в "Русской мысли" (был там "своим человеком"), в либеральной "профессорской" газете "Русские ведомости", в "Вопросах философии" Н.Я.Грота, редактировал "Мир Божий", особенно близко ему было "Русское богатство". Милюков составил программу заграничного земского оппозиционного журнала "Освобождение», печатался в "Современных записках", писал статьи под общим 297 заголовком "Роковые годы" в журнал "Русские записки" в течение 1902-1906гг., его работы помещали издания европейских стран, такие как швейцарский журнал "Samtiden" и др. Примечания Шамонин Н.Н. – гимназический приятель П. Милюкова, его однокурсник, позже журналист, преподаватель истории в 6 московской гимназии . Локк Джон (1632 – 1704) – английский флософ-просветитель и политический деятель– Кант Иммануил (1724 – 1804) – немецкий философ Бакунин Михаил Александрович (1814 – 1876), один из идеологов революционного народничества, основоположник анархизма Виноградов Павел Гаврилович (1854 – 1925) – профессор всеобщей истории Московского университета Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911) – крупнейший русский историк, почетный член Петербургской А.Н., автор фундаментальных трудов, таких как «Курс истории», «Боярская дума Древней Руси» и др., охватывающих века развития русского государства. Его перу принадлежат статьи по русской культуре, историографические этюды, мысли о русских писателях, стихи, проза, афоризмы… Петрункевич И.И. (1844 – 1928) – помещик, председатель «Союза освобождения», земский деятель, один из основателей партии кадетов и председатель ее ЦК, издатель газеты «Речь», депутат I Государтвенной Думы. Пирогов Николай Иванович (1810 – 1881) – воспитанник медицинского факультета Императорского Московского университета, выдающийся хирург, педагог, общественный деятель, автор воспоминаний о жизни московского студенчества 20-х годов ХIХ века (см. Пирогов Н.И. Вопросы жизни: Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без зайдней мысли, что может быть когда-нибудь прочтет и кто другой. // Соч. М., 1962. Т. 8. 1. … наступило 1 марта 1881 г. – 1 марта 1881 г. бомбой, брошенной народовольцем И.И. Гриневицким, был убит Александр II 2. кишиневский погром евреев в 1893 г… – неточность П. Милюкова: весной 1903 г. 3. …мы переехали… - Милюков женился на А.С. Смирновой, дочери ректора ТроицкоСергиевой духовной академии С.К. Смирнова, ученице В.О. Ключевского по женским курсам В.И. Герье. Тихонравов Николай Саввич (1832 – 1893) – профессор истории русской литературы Московского Университета (1859 – 1889), ректор (1877 – 1883), председатель «Общества любителей Российской словесности (с 1890 г.) Любавский Матвей Кузьмич (1860 – 1936) – историк, профессор Московского Университета по кафедре русской истории, ректор в 1911 – 1917 гг. Читал курсы: «История Литоско-Русского государства до Люблинской унии всключительно», «История западных славян (Польша и Чехия), «Историческая география России в связи с колонизацией» (в 1908–9 академическом году) . Розанов Василий Васильевич (1856 – 1919) – писатель, публицист, религиозный мыслитель. Покровский Михаил Николаевич (1868 – 1932) – советский историк, академик АН СССР (с 1929 г.) «Русская мысль» – влиятельный литературно-политический журнал, выходил в Москве с 1880 по 1918 гг. В 1905 г. ред.-издатель В.А. Гольцев, 1906 г. – В.М. Лавров, в 1909 г. А.А. Кизеветтер. В 1911 – 1918 г. П.Б. Струве Гольцев Виктор Александрович (1850 – 1906) – воспитанник юридического факультета Императорского Московского Университета – русский публицист, журналист, литературный критик. В 1872 г. окончил юридический факультет Московского университета. В студенческие годы был связан с народниками. Активный участник земского движения с момента его зарождения; 298 доцент Московского университета 1881-82, ред. "Юридического Вестника", "Русского Курьера", сотрудник "Русских Ведомостей", редактор "Русской Мысли". После октября 1905 был членом партии кадетов. «Русские ведомости» – одна из крупнейших русских либеральных газет (1863 – 1918), издавалась в Москве. После 1905 г. перешла к кадетам. .Посников А.С. (1846 – 1921) – экономист, редактор газеты «Русские ведомости» (1886 – 1896), депутат IV Государственной Думы. «Вопросы философии и психологии» – первый философскй журнал в России (1889 – 1918), издавался в Москве (с 1894 г. – орган Московского психологического общества). ред. Н.Я. Грот, М.М. Преображенский, С.Н. Трубецкой и Л.М. Лопатин Данилевский Николай Яковлевич (1822 – 1885) – публицист, идеолог панславизма Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) – воспитанник Московского университета, философ Страхов Николай Николаевич (1828 – 1896) – литературный критик, философ, переводчик, библиотекарь Имп. Публичной библиотеки в Петербурге Стороженко Николай Ильич (1836 – 190), историк западноевропейской литература, профессор Московского университета, председатель «Общества любителей российской словесности», главный библиотекарь Румянцевского музея 299 Д.В. Викторов. Памяти Н.Я. Грота как профессора Вл. Соловьев, кн. С. Трубецкой, Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин 300 Деятельность Николая Яковлевича, как преподавателя, руководителя и воспитателя университетской молодежи, охватывает с незначительными промежутками целую четверть века. На нее он потратил в своей скоро протекшей жизни немало сил; она образует тот центр, около которого сосредоточиваются наиболее ценные факты его биографии, хотя не для всех и не всегда видимые. Но восстановить его деятельность на всем протяжении мы лично не можем, потому что нам пришлось пользоваться его незаменимым руководством только в течение последних пяти лет его профессуры. Чувствуя нравственную обязанность воспользоваться этими данными, которые относятся к этому короткому сроку, мы надеемся, что другие ученики не откажутся поделиться своими воспоминаниями, чтобы воспроизвести с возможно большей полнотой высоко назидательный, во многих отношениях, облик покойного учителя. Затруднением будет служить в данном случае скорее обилие, чем недостаток материала, который давался тем легче, что отличительной чертой покойного была его поразительная и безграничная доступность для всякого слушателя. Николай Яковлевич никогда не замыкался в ученой неприступности, охотно посвящал своих учеников во все детали своих философских работ, беспрепятственно вводил в свои житейские и научные интересы. Он не таился от нас, и мы хорошо знали его. Лекции с кафедры, практические занятия, беседы на дому—вот те средства, которые были в распоряжении Николая Яковлевича, для того чтобы проводить свои взгляды в среду учащейся молодежи и воздействовать на нее. Свои лекции он посвящал преимущественно психологии и этике. Его чтение одушевлялось обыкновенно животрепещущей и увлекательной непосредственностью. Происходило это вероятно потому, что предметом своих лекций он выбирал предпочтительно вопросы, которыми сам интересовался и разработкой которых сам занимался в данное время. Перерабатывая, например, свои этические воззрения, переходя от эвдемонистической этики удовольствия и страдания к более возвышенным формам морального учения, он исправлял свои прежниe взгляды и развивал новые с кафедры. Критикуя принцип параллелизма в психологии, утвердившись в мысли, что душевная жизнь протекает вне времени, задумав подчинить психические процессы закону сохранения энергии и обосновать на этой энергетической теории свое понятие прогресса, он подробно говорил обо всем этом с кафедры. Поэтому, ему не нужно было повторять постоянно одного и того же курса. За те годы, по крайней мере, когда нам пришлось его слушать, он ни разу не читал старого курса. Помнится, он сам неоднократно указывал на то, что считает для себя совершенно невозможным предлагать слушателям уже раз прочитанные записки и что ему всегда, очень трудно готовиться к курсам, так как он составляет их заново из года в год. При неудержимой текучести и чрезвычайной эластичности его философских взглядов, им не доставало известной дозы инертности, необходимой для того, чтоб окончательно остановиться на определенном курсе; но со временем ему удалось бы, вероятно, привести в исполнение свое постоянное желание издать курс психологии. Если, благодаря этому, его лекции теряли в систематичности и пол301 ноте, то, с другой стороны, они выигрывали в своей непосредственности. Мы присутствовали всегда при живом росте философской мысли, видели, что сам профессор живо заинтересован в том, как складываются его воззрения, к каким возможным выводам они приведут! Он уделял сплошь и рядом немало места в своих курсах полемическому элементу, знакомя нас с теми возражениями, которые встречали его новые взгляды. Случалось иногда так, что, прочитав какой-нибудь реферат в Психологическом Обществе, он повторял затем его с кафедры, причем комментировал его теми возражениями, которые вызывало его сообщение со стороны членов Общества. Строя таким образом свои лекции на занимавших в данное время его самого вопросах, Николай Яковлевич не предлагал, правда, окончательных решений, не давал нам заранее отточенных и готовых выводов, но зато вносил в свое чтение много жизненного возбуждения». Он действительно волновался на кафедре за свои теории. Вместе с тем, Николай Яковлевич не любил обременять свои курсы детальными и узко-фактическими исследованиями. Его любимой средой, в которой он двигался с замечательной легкостью и неизменной охотой, была сфера общих вопросов философии духа и психологической методики. В этом сказывался эпикуреец мысли, которого увлекал логический процесс мышления сам по себе, в его наиболее отвлеченных формах, независимо от его конкретного содержания. В способности поставить новые точки зрения, изобрести новое сочетание данных, наличных аргументов Николай Яковлевич усматривал главную особенность философского склада ума. Он предпочитал, чтобы у его слушателей рождались новые проблемы в голове, а не глотались чужие ответы. Он жаловался на то, что в настоящее время вкусы меняются, что теперь интересы сосредоточиваются на собирание и усвоение фактов, а теории забываются и забрасываются. Он энергично восставал против этой оргии фактицизма, хотя, конечно, был далек от мысли, что опытные работы не имеют значения в психологии. Напротив, он писал, что „психология может достигнуть идеала точности и строгой закономерности в своих исследованиях и выводах только как наука экспериментальная". И сознавая недостаток опытных данных в своем курсе психологии, он с обычной терпимостью и широтой кругозора рекомендовал нам восполнять его лекции занятиями анатомией, физиологией, психиатрией, физиологической и экспериментальной психологией. Выдвигая в своих лекциях вопросы, подобные вышеуказанным, Николай Яковлевич предполагал у слушателей некоторую философскую зрелость. В систематическом курсе студент постепенно осваивается с новым для него предметом, у него постепенно образуется навык мыслить в области известной специальности. Но Николай Яковлевич после небольшого общедоступного введения очень быстро переходил к изложению довольно тонких философских и психологических проблем. Чтобы вполне понять его, нужно было обладать иногда подготовительным запасом философских знаний, от аудитории требовалось иногда напряженное внимание. Живо припоминаю теперь, как долго бились мы, чтобы понять его теорию о вневременности психической жизни. Николай Яковлевич тщетно старался несколько лекций под ряд объяснить нам, что речь идет о не феноме302 нальной сущности психического бытия; что психические факты, протекая видимо во времени, не задеваются этим последним в своей сущности, так же как не задеваются они и пространственными категориями. Это тонкое различие все ускользало от нас, тем более, что – по словам Николая Яковлевича оно ускользало и от более компетентных критиков. Прибегая к такому npиeмy чтения лекций, Николай Яковлевич надеялся, вероятно, поднять аудиторию на степень более высокого философского уровня; ему хотелось свести к минимуму число пассивных слушателей. Он ждал от студентов совместной работы, желал иметь в лице их сотрудников, вместе с ними вырабатывать свои взгляды. Во многих статьях рассеяны указания на эту роль его учеников. Нельзя, однако, не заметить, что в этих чаяниях, как они ни привлекательны сами по себе, было много преувеличенного и неисполнимого. Не лишен справедливости упрек, который нам доводилось слышать, что в его лекциях не все было достаточно ясно и доступно, отчасти вследствие некоторой отрывочности, которой отличалось его чтение, отчасти благодаря малой философской подготовке слушателей. Впрочем, что оставалось непонятным на лекции, несмотря на жаркие объяснения Николая Яковлевича, переходило на обсуждение в семинарии и здесь разъяснялось. С семинариями Николая Яковлевича связываются невольно особенно теплые воспоминания. Здесь для него являлась возможность стать гораздо ближе к студентам, чем на лекциях; здесь нашли себе наиболее удачное применение его педагогические приемы; здесь обаятельные черты его личности создавали такую атмосферу, благодаря которой эти практические занятия привлекали к себе много охотников. Многолюдством могли соперничать с ними только семинарии по политической экономии. Своеобразная постановка практических занятий, принятая Николаем Яковлевичем, заслуживает поэтому более подробного изложения. При всем разнообразии практических занятий, которыми руководил Николай Яковлевич из года в год, их можно разбить на три категории. Во-первых, он предлагал студентам на семинарии критиковать прочитанную им с кафедры лекцию. Это была одна из наиболее излюбленных форм практических занятий; она соответствовала потребности всякого мало-мальски самостоятельного слушателя, так как в связи с курсом накопляется всегда ряд недоумений и возражений, быть может неосновательных. Читал, например, Николай Яковлевич о положение психологии среди других наук и о различных направлениях в современной психологии. При этом, сообразно с общим характером своего мышления, он старался обыкновенно примирить совершенно расходящиеся, по-видимому, течения. И вот на семинарии кто-нибудь поднимал вопрос об отношении метафизической и экспериментальной психологии, настаивая на том, что они в корни различны и несовместимы. Это зависит, разумеется, от того, что понимать под метафизической психологией. Завязывалась оживленная беседа, в которой выяснялась точка зрения профессора. Он охотно выслушивал всякие замечания, вступал в спор с аудиторией. Bcе участники были видимо горячо заинтересованы в исходе спора, причем сплошь да рядом стояли не на стороне профессора. Отстаивая свои мнения, Николай Яковлевич умел всегда сохранить товарищеский тон, умел искусно щадить 303 молодое самолюбие. Семинарии этого рода примыкали непосредственно к курсу и дополняли его. Но, кроме того, Николай Яковлевич давал обыкновенно слушателям особые темы для рефератов или же предоставлял им самим делать выбор. Когда тема окончательно определялась, Николай Яковлевич снабжал студента литературными указаниями, давал свои книги, брал книги из университетской библиотеки, недоступной для студента, советовался о деталях сочинения. Он неотступно следил за работой студента и постоянно поднимал его энергию. При этом он обладал удивительной способностью внушать студенту полное доверие к собственным силам. Он последовательно проводил в своей педагогической деятельности то правило, что слишком трудных тем для студентов не существует. Всякая работа, будь она даже плохо выполнена, не пропадала для студента даром, бесплодно; она должна была приносить новые знания, давать известный навык. При таком взгляде на дело Николай Яковлевич не стеснялся давать иногда очень трудные работы. Он настойчиво предлагал, например, на втором курсе, т.е. в первый год чтения психологии, написать историю психологических и философских учений о сознании. Сочинение не было, конечно, написано, не только благодаря трудности самой проблемы, но и благодаря обширности сюжета. Однако таким путем Николай Яковлевич наталкивал на самостоятельную работу. Когда сочинение бывало готово, Николай Яковлевич просил референта составить предварительно для товарищей тезисы к реферату. Референт садился на кафедру, а Николай Яковлевич вместе со студентами. Главным оппонентом выступал он сам, он тщательно записывал обыкновенно за референтом, но в своем разборе касался только общих мыслей реферата, не входя в рассмотрение деталей, не „придираясь". Беспристрастность и ровность в прениях были вообще первым требованием на семинариях Николая Яковлевича. Раз только, помню я, сам он сильно рассердился по следующему поводу: один студент менее чем в полчаса разбил всю синтетическую философию Спенсера вообще и его этику в частности. Хотя в эту пору Николай Яковлевич давно уже пережил свой период спенсеризма, но тем не менее пришел в решительное негодование, насколько это было возможно для его мягкой и деликатной натуры, прослушав чрезвычайно легкомысленное и вместе c тем дерзкое обращение с Grand Old Мапом философии. Требуя прежде всего самостоятельной и критической мысли, Николай Яковлевич рекомендовал также не быть особенно скорым на критику. Но возражения Николая Яковлевича редко и даже никогда не оставались одинокими. Вместе с ним референту оппонировали и товарищи, вступали в полемику с самим Николаем Яковлевичем. Всегда завязывались горячие споры; всегда жалели мы, что прошли уже те два часа, которые назначались по расписанию для практических занятий. Из аудитории диспут переносился даже на улицу. Мы провожали Николая Яковлевича до дому и продолжали спорить дорогой. Наконец, следует упомянуть еще о семинариях третьего рода. Сплошь да рядом мы собирались без определенного реферата на определенную тему. Ктонибудь приносил составленные им тезисы. Тезисы прочитывались и предлагались 304 на обсуждение аудитории. Во время прений автору предоставлялось развивать и обосновывать свои положения. Темы, обсуждавшиеся на этих семинариях, были самые разнообразные. Преимущественно они касались психологии и этики, но не возбранялось также выбирать предметом сообщения какие-нибудь общефилософские или социологические вопросы.<…> Иногда мы занимались психологическим разбором какого-нибудь литературного произведения. Практические занятия у Николая Яковлевича имели важное воспитательное значение для нас. Он требовал от нас прежде всего критического чутья и старался развивать самостоятельность мысли. Сам он был более чем чужд какой-либо пифагорейской авторитарности. „Сам сказал" – для нас не существовало. Не существовали для нас также и некоторые приемы доказательства. Ссылки на авторитеты, например, если и допускались, то не производили никакого впечатления. Молодые слушатели приходили обыкновенно к нему с готовым кодексом философских истин и pешений. Особенно много было среди них поклонников английского эмпиризма; в их глазах ссылка на Милля и Бэна была высшей инстанцией, не допускавшей никакой дальнейшей апелляции. Всякое безотчетное и слепое преклонение перед кумирами быстро исчезало при занятиях у Николая Яковлевича. Он был положительно против подобного догматизма; таких доказательств он не хотел признавать. У самого Николая Яковлевича не было заметно, в описываемое время, никаких односторонних симпатий. Из философов он любил, повидимому, более других Платона. Лейбница и Шопенгауэра. С Лейбницем он имел, без сомнения, много сходного по общему складу своего ума. Это был такой же блестящий эссеист, занятый главным образом проложением новых дорог, не успевший и не желавший доходить по ним до конца, вносивший в свои изыскания столь же много гипотетического элемента, столь же склонный к примирительному синтезу самых разнородных направлений. Его любовь к Шопенгауэру не имела никакой связи с пессимизмом. Как руководитель молодежи, он был, наоборот, будителем жизнерадостного, доброго и деятельного настроения. Он ценил в нем частию мастера слова, частию представителя волюнтаристической философии, выдвигавшего на первый план национальные и волевые стороны душевной жизни. Из русских писателей он отдавал преимущественно предпочтение Достоевскому, как романиступсихологу, и Толстому, как художнику и моралисту. Он начинал с того, что расширял философский кругозор у слушателей; он старался убедить нас, что в каждом мнении есть доля истины и что, с другой стороны, во всяком мнении есть доля временного, того, что он называл „временной передышкой", „станцией". Поэтому, наряду с критическим отношением к чужим мнениям, он требовал уважения к ним. Его семинарии служили для нас лучшей школой терпимости. Он ни сам не позволял себе иронизировать над студентом, высмеивая его, – что нередко случается на других семинариях, как нам знакомо по собственному опыту,—и останавливал слишком горячих и резких критиков. Он постоянно возмущался приемами нашей журнальной полемики; он, помнится, неоднократно говорил, что ученого спора у нас почти не может быть. Своим совершенно товарищеским обращением 305 со студентами Николай Яковлевич служил для нас образцом снисходительности. Он как бы совершенно стирал границы, разделяющая профессора и ученика. После тридцатилетнего изучения психологии он писал, например, студенту, только что перешедшему на третий курс, посылая ему свою статью: «Посылаю Вам корректурный экземпляр моей статьи, которую я завтра подпишу к печати. Если успеете, прочтите. Не церемоньтесь отметить все, что признаете неясным или несправедливым. Я буду Вам за это благодарен, так как ценю всякую критику, а Вашему здравому смыслу и логике доверяю". В своей снисходительности Николай Яковлевич не всегда даже умел сохранить меру. Он иногда терпеливо выслушивал и серьёзно обсуждал взгляды очевидно вздорные. Особенно наглядно это сказывалось на экзаменах. Бывали случаи, что Николай Яковлевич пропускал студента исключительно только потому, что проваливать по психологии считал совестным—слишком-де неустановившаяся и несовершенная наука. Семинарии Николая Яковлевича служили для нас школой еще в другом, не менее важном отношении. Мы приучились здесь владеть словом, говорить публично, спорить методично; здесь представлялся нам единственный случай поговорить в университете! свободно при сравнительно большой аудитории, и Николай Яковлевич, нужно сознаться, предпочитал терпеливо сносить злоупотребления этим правилом, чем ограничивать его. Далее, в своих семинариях Николай Яковлевич дал образец того, как нужно вести практические занятая со студентами без всякой тени ученого педантизма. Он был антиподом его. Он с большим юмором трунил над одним специалистом по древней истории, написавшим будто бы исследование о Сицилии. Исследование это начиналось фразой: „Сицилия есть остров", а к этой фразе была длинная сноска с цитатами из древних и новых писателей в подтверждение этого неоспоримого географического факта. Сознавая важность практических занятий, Николай Яковлевич хотел дать им более устойчивую организацию. Одно время он лелеял мысль образовать студенческий кружок с целью coвместных занятий психологией и философией, который должен был служить как бы продолжением семинарий. Предполагалось устроить его при психологическом Обществе. Совместно с Николаем Яковлевичем слушатели выработали устав такого кружка. Доклады могли делать только студенты, но присутствовать имел право всякий член Психологического Общества. Постоянного председателя не было, обязанности его должен был исполнять тот или другой член Психологического Общества, смотря по характеру реферата, так как предполагалось допускать обсуждение самых разнообразных тем. Значение подобного кружка Николай Яковлевич хорошо понимал, и если этой мысли не суждено было осуществиться, то, конечно, не по недостатку энергии у Николая Яковлевича. У себя на дому Николай Яковлевич оставался таким же, каким бывал в аудитории. Хотя он имел определенные приемные дни и часы, однако доступ к нему был в сущности почти всегда открыта. Молодежь обращалась к нему часто и охотно, чувствуя, что он близок к ней, понимает ее, стоит на ее стороне. Николай Яковлевич редко в чем отказывал. Он не жалел ни времени, ни сил, исполняя самая разнообразная просьбы. Он снабжал книгами, иногда последними литератур306 ными новинками; он подыскивал переводную, редакционную, корректурную, литературную работу, давал всякие рекомендации, иногда даже изобретал какойнибудь заработок. С какими только нуждами ни обращались к нему! Обремененный хлопотами о собственной семье, он подыскивал, например, комнату для студента. И нужно видеть его письмо, написанное по этому поводу, чтобы понять ту чисто материнскую заботливость, с которой относился Николай Яковлевич к своим ученикам. Мысль о них не покидала его буквально вплоть до могилы. За три дня до смерти, больной и вновь простуженный, мучимый ревматическими болями во всех суставах, полулежа на кушетки, он писал своему ученику длинную инструкцию для занятий, не попадая уже на строчки. Вместе с тем он обещал всякое содействие, приглашал с собой за границу, рисовал перспективу совместных занятий, звал к себе на дачу... Летом Николай Яковлевич бывал особенно обаятелен. Более свободный, чем зимой, он —можно сказать—заботился о том, чтобы сделать летние каникулы более веселыми для своих учеников, которым случалось жить с ним в одной местности. „Душевно рад, писал он мне, тогда студенту второкурснику, что вы довольны этим летом. Вследствие всяких бед и болезней я, к сожалению, не мог сделать его Вам таким приятным и интересным, как мечтал. Но для меня Ваше товарищеское общество и совместные занятия были большим ресурсом". Он свободно вводил нас в свою семью; охотно делился с нами неистощимым запасом заразительной веселости. Николай Яковлевич быль мастер устраивать разного рода пикники, поездки верхом, катанья на лодки, уженье рыбы, охоту. Всегда будут памятны мне прогулки с ним. Гулял Николай Яковлевич обыкновенно около полудня, в самый припек, и ходил при этом очень быстро. Вообще, его походка была характерна. Он объяснял ее какой-то психофизической теорией, особым свойством мышц - антагонистов но, по- моему мнению, в ней просто отражалась его деятельная, энергичная натура. Бывало, мы почти бежим в оживленной occult и, незаметно для себя, зайдем так далеко, что для возвращения домой приходилось нанимать лошадь... Как же определить, в немногих словах, значение Николая Яковлевича, как профессора? Своим жизненным пониманием и живым толкованием философии он увлекал нас в круг современных философских вопросов: он будил самостоятельность мысли, изощрял критическую остроту, учил терпимости; он был всегда скор на всякую помощь, оказал немало непосредственной поддержки, не раз выступал самоотверженным ходатаем и горячим защитником студентов. Он быль близок к осуществлению идеала всестороннего, искреннего, тесного общения и взаимодействия профессоров и студентов. Он был профессор - товарищ. Лейпциг, 13 ноября 1899. Д.В. Викторов. Памяти Н.Я. Грота как профессора Речь, прочитанная в заседании Московского Психологического Общества 27-го ноября 1899 г.. Впервые: журн. «Вопросы философии и психологии», 1900. кн. 51. Печатается по: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и 307 учеников, друзей и почитателей. Очерки и воспоминания: гр. Л.Н. Толстого, Вл. Соловьева, О.А. Шебора, В.И. Шенрока, В.Н. Ивановского, Л.М. Лопатина, П.П. Соколова, Алексея И. Введенского, Ю.И. Айхенвальда, Э.Л. Радлова, Г.И. Челпанова, Д.В. Викторова, В.В. Розанова, Е.В. Спекторского. С.-Петербург, 1911, С. 175 – 185. Николай Яковлевич Грот (1852 – 1899) – философ, ученый, профессор философии Московского университета (с 1886 г.), председатель Московского психологического общества, создатель первого философского журнала в России «Вопросы философии и психологии. В Московском университете Грот читал курс психологии и курс философии Платона. На кафедре философии Московского университета Н.Я. Грот создал творческую атмосферу. Под его руководством работали приват-доценты, известные русские философы Л.М. Лопатин (с 1892 г. – экстраординарный профессор, с 1897 – ординарный), А.Н. Гиляров (в 1885– 1887 гг.), С.Н. Трубецкой (с 1887 г.), Г.И. Челпанов (в 1890–1892 гг.), П.Е. Астахов (в 1890–1893 гг.), А.И. Белкин (с 1895 г.), вне штата – заслуженный ординарный профессор М.М. Троицкий, бывший в 1880–1890-х гг. деканом историко-филологического факультета, а в 1891-2 гг. – ректором. На взгляды Н.Я. Грота оказали влияние Вл. Соловьев, Н.Н. Страхов, Л.Н. Толстой, с которым он близко общался с 1895 г. Он вел обширную переписку с А.Ф. Кони; на почве общего интереса к философии Шопенгауэра сблизился с А.А. Фетом. В 1886 г. сменил профессора М.М. Троицкого, инициатора создания в 1885 г. Психологического общества, на его посту Председателя; в 1888 г. был официально избран на эту должность. В сознании многих (даже в современной справочной литературе) Грот стал рассматриваться как создатель Психологического общества. Например, Вл. Соловьев считал, что Гроту принадлежит «призвание к жизни первого философского общества в России» («Вестник Европы». 1900. январь) За три года из незаметного и малолюдного кружка (московское психологическое общество возникло в 1885 г.) преобразилось в один из самых интересных живых умственных центров Москвы, где сходились люди самых различных убеждений и профессий Грот оживил деятельность общества, регулярно стал проводить заседания, а в 1888 г. были выпущены первые «Труды Московского психологического общества» с докладами членов общества. Стали выходить «Издания Московского психологического общества» с переводами на русский язык многих сочинений. Ему принадлежит честь основания в 1889 г. единственного русского философского журнала «Вопросы философии и психологии». Грот мечтал о возможности национальной русской философии: наша философия должна была быть «философией спасения мира от зла»,– утверждал он во вступительной статье к первой книжке «Вопросов философии и психологии». Грот был инициатором и душой этого издания, хотя с 1894 г. соредактором журнала стал Л. Лопатин, а с 1896 г. подключился В.П. Преображенский. В журнале активно сотрудничал Лев Толстой, общением с которым Грот очень дорожил. Здесь был опубликован трактат писателя «Что такое искусство?» (1898 г.), предполагалось напечатать статью «О голоде» (1891 г.), ряд других произведений, но этому препятствовала цензура. Журнал стал центром философской жизни в России; благодаря ему философская мысль стала концентрироваться не в столице, а в Москве. В историю Московского университета Николай Яковлевич Грот вошел как энергичный ученый, возбуждавший интерес к философским проблемам своими лекциями и семинарами, активной деятельностью в качестве председателя Психологического общества Грот принимал живое участие в общественной жизни: по приглашению профессора Н.С. Тихомирова стал членом Общества любителей российской словесности, в 1894 г. включился в работу Московской комиссии по организации домашнего чтения, составил для нее программы по психологии, логике, истории философии, этике, эстетике и педагогике; был председателем 308 Общества взаимопомощи лиц интеллигентных профессий. Яркий портрет Н. Я. Грота – профессора Московского унверситета создали в своих воспоминаниях его коллеги и бывшие студенты. Д.В. Викторов – ученик Н.Я. Грота, впоследствии приват-доцент Московского университета 1. Весной 1887 г. Грот прочес курс философии Аристотеля, в 1890 г.– курс истории новой философии, в 1892/93 – курс «Задачи этики», ежегодно вел семинарий по этике. 309 Михаил Васильевич Сабашников Записки. Университетские годы (1892/3-1896) Брат Сережа в 1893 году зачислился первоначально на юридический факультет, где пробыл только один год, перейдя со второго курса на физико-математический. Здесь он сосредоточился на химии, работая у Н. Д. Зелинского. Извпечатлений его от кратковременного пребывания на юридическом факультете мнехочется отметить, что весьма требовательный и не склонный к снисходительности в своих оценках, Сережа с большой похвалой отзывался о курсе профессора Боголепова и его отношении к слушателям. Приходится думать, что жизнь Боголеповапрошла бы счастливее для него лично и с большей пользой для русского просвещения, не говоря уже о том, что он оставил бы по себе лучшую память, если бы не покинул профессорской деятельности ради административной. Что касается меня, то я в 1892 году сразу зачислился на физикоматематический факультет по естественному отделению, выбрав специальность —биологию. Назову профессоров, которых я слушал: Зернов — анатомия человека, Анучин — антропология, Мороховец — физиология (Сеченов читал медикам старшего курса), Тимирязев — анатомия и физиология растений, Горожанкин — морфология и систематика растений, Мензбир — сравнительная анатомия позвоночных, Богданов и сменивший его ввиду болезни Зограф — зоология беспозвоночных, Павлов — геология и палеонтология, Лейст — метеорология, Сабанеев и Зелинский — химия неорганическая и органическая, Соколов — физика (Столетов прекращал чтение лекций), Вернадский — минералогия и кристаллография. Из названных профессоров только один Зернов выпустил в свет свой курс. Записки Вернадского впервые выпускались студентом нашего курса, многообещавшим Клушенцевым, к сожалению, скончавшимся до окончания университета. Да Столетов выпустил конспект по свету, которым мы пользовались при сдаче экзаменов, в остальном приходилось довольствоваться собственными записями в тетрадках да книгами, иногда по объему и содержанию далеко не отвечающими нашим потребностям. Говорили, что некоторые профессора невыпуск ими курсов мотивируют желанием заставить студентов посещать их лекции. По зоологии мы пользовались книгой Бобрецкого. Биологи в Московском университете, по старой памяти борьбы с Кат310 ковым за университетский устав 1863 года, в ту пору распадались на два враждующих лагеря, как тогда обозначали,— на либералов и консерваторов. В лагере прогрессивном наиболее яркими силами были профессор К. А. Тимирязев и профессор М. А. Мензбир, убежденные и последовательные дарвинисты. Мензбир возглавлял кабинет сравнительной анатомии, который был пристанищем школы покойного профессора Борзенкова. С ним связаны были (для примера назову) получившие впоследствии большую известность В. Н. Львов, П. П. Сушкин (впоследствии академик), А. Н. Северцов (тоже), Н. К. Кольцов. Консерваторы, «макаки», как их еще задолго до нас прозвали в университете, ютились при Зоологическом музее, директором которого состоял престарелый А. Богданов. Он постоянно в то время хворал, манкировал лекциями и редко заглядывал в музей, в котором работали преимущественно его ученики — профессора Зограф и Тихомиров. Впоследствии они покинули университет ради административной карьеры. Зограф избрался в уездные предводители дворянства, а Тихомиров пошел в попечители Московского учебного округа. С ними отлетел с музея и реакционный дух. Кабинет сравнительной анатомии Для выпускной зачетной работы я выбрал, по совету В. Н. Львова, микроскопическое исследование процесса сокращения числа хроматиновых элементов при созревании яиц у аскариды. Отбыв работы в анатомическом театре у профессора Зернова, химические и прочие зачеты и выписав себе через университетского комиссионера микроскоп Цейса с иммерсионной системой и микротом, я засел в кабинете сравнительной анатомии за своей работой с большим увлечением, уйдя в нее, как говорится, по уши. Хромосомы снились мне даже во сне. Аскарид я брал на татарских конских бойнях, выбирая этих паразитов пинцетом из кишок свежеубитых лошадей. Для этого приходилось присутствовать при убое, что при моей брезгливости и при моем отвращении к крови требовало от меня значительного напряжения воли. Как это ни странно, но конские бойни татары держали тогда в Замоскворечье, в довольно густо населенном месте. Они были устроены весьма примитивно и в санитарном отношении едва ли были допустимы. Самый y6oй тоже производился примитивно — ударом колуном по голове. Целые дни из месяца в месяц просиживал я в кабинете срав нительной анатомии, обрабатывая препараты, приготовляя бесчис ленное количество срезов, обследуя и зарисовывая их под микроско пом, сопоставляя между собой отдельные картины разрезов и ком бинируя по ним последовательные стадии ядерного деления Попутно приходилось, конечно, читать в научных журналах (пре имущественно немецких) чужие аналогичные работы над той ж аскаридой и над другими объектами. Кабинет сравнительной анатомии помещался в то время в ста ром — 311 по преданию, самом старом — из университетских зданий Здание это было снесено при постройке ныне существующих по Никитской улице корпусов Зоологического музея и Ботаническоп кабинета. Вход был со двора. Помещение было в нижнем этаже тесное, с небольшими, как строили в старину, окнами, с невысокими потолками и голландскими печами, по ветхости своей имевшими склонность дымить. Верхний этаж (бельэтаж) был занят кабинете» искусств. Директор его, профессор Цветаев, уже тогда постоянш выписывал из-за границы и расставлял в своем кабинете гипсовые снимки статуй и архитектурных деталей, давая этим начало Музек изящных искусств еще задолго до его учреждения 2. Перегрузка верхнего этажа гипсами часто служила поводом к шуткам занимавшихся в кабинете сравнительной анатомии о том, что нам сужден быть раздавленными Венерами и Аполлонами. Когда прибывали подводы с новыми ящиками этих ценностей, то Мензбир как хранитель тоже ценных, зоологических коллекций обращался к ректору профессору Зернову, с предупреждением, снимая с себя ответствен- ность за судьбу «вверенного ему научного имущества». Вспоминая о кабинете сравнительной анатомии того времени нельзя не упомянуть о кабинетском служителе, солдате, одноглазом Прохоре. Инвалид войны и георгиевский кавалер, Прохор уже давно утратил всякий намек на молодцеватость, и трудно было себе даже представить, что некогда этот человек мог отличиться храбростью и заслужить Георгия. Он обрюзг и опустился, страдая притом запоем. При всем том работу свою, нельзя сказать, чтоб легкую, он выполнял исправно, конечно, когда был трезв. При запое же он выбывал из строя. Непреодолимое стремление к спирту овладевало им, и, окруженный в кабинете спиртовыми препаратами, он не мог тогда удержаться, чтобы не хлебнуть из них соблазнительной влаги. Никакие запреты, угрозы или увещевания не действовали. Раз кто-то из студентов положил в свой препарат рвотный камень. Прохор, упорно отрицавший пользование спиртом из препаратов, был уличен отчаянными припадками рвоты. Но он выдержал характер и продолжал запираться. Жена Прохора брала белье на стирку, как, впрочем, большинство жен университетских служителей. Сушить белье Прохор вздумал как-то в кабинете, развешивая белье на ночь на расставленных в кабинете скелетах. Мензбир, придя в кабинет ночью произвести какое-то наблюдение, застал и тотчас пресек это безобразие. Одновременно со мной в кабинете работали П. II. Сушкин над скелетом какой-то птицы, мой однокурсник Гр. Шелапутин над развитием скелета рыб и С. Усов, сын профессора, бывший курсом моложе меня. В соседней комнате занимались Н. К. Кольцов и В. Н. Львов. Случалось, что ктонибудь из работающих, желая выпрямить спину или просто отдохнуть и отвлечься от своего объекта, чаще всего словоохотливый П. П. Сушкин, прерывая господствующую тишину, выскажет, обращаясь к В. Н. Львову, какое-нибудь соображение по поводу прочитанной книги или журнальной 312 статьи или поделится своим наблюдением каким-нибудь. Незаметно завяжется общий разговор, на который выйдет из своей комнатушки и сам М. А. Мензбир. Он в общем был необщителен и в обращении сумрачен. Тем более ценилось его вступление в общую беседу. Все мы знали объективные условия, делавшие его замкнутым, и каждый из нас, если не на самом себе, то на его возне с Прохором, имел случай убедиться в его сердечности. Немного, в самом деле, нашлось бы в университете профессоров, которые согласились бы терпеть такого инвалида у себя на службе. Эти самопроизвольные беседы представляли иногда захватывающий интерес. В те годы в биологии происходила как бы ревизия дарвинизма. Профессор Коржинский и Де Фриз независимо друг от друга пересмотрели явления изменчивости. Устанавливалась скачкообразная изменчивость (мутации). Вейсман отрицал наследование благоприобретенных признаков, допускавшееся Дарвиным и признаваемое современными нам неоламаркистами. В ряде статей и книг он подводил итоги своим наблюдениям и теоретическим построениям в области наследственности. Спенсер провозглашал, полемизируя с ним, «недостаточность естественного подбора» для объяснения явлений эволюции. Ему возражал Вейсман «Всемогуществом естественного подбора». На что Спенсер не остался в долгу статьей «О вейсманизме еще раз!». Гертвиг стал выпускать книжки по «Спорным вопросам биологии». Казалось, заколебались основные понятия биологии. Пересматривалось незыблемое со времен Линнея представление о виде. Самая смерть, этот непременный, казалось, спутник жизни, рассматривалась Вейсманом как некоторое «достижение», как «приспособление» многоклеточных организмов, вовсе не присущее всякой жизни неизбежно, ибо одноклеточные существа бессмертны. Тогда же найдены были на Яве останки питекантропа 3. Все это движение не могло получить отражения в нормальных курсах, которые нам читались. Мы узнавали о нем и следили за ним в кабинете сравнительной анатомии по получавшимся там иностранным журналам и книгам, на которые нам указывали М. Л. Мензбир и В. Н. Львов. Кирпичного цвета обложки издательства Фишер в Иене, печатавшего большинство этих работ, и теперь возбуждают во мне по старой памяти приятное волнение. О питекантропе и Мензбир, и Анучин прочли по нашей просьбе особое сообщение. Много мне помог также специальный курс сравнительной эмбриологии, читавшийся В. Н. Львовым, как немцы говорят, privatissime53. При ограниченном числе слушателей, которых можно было перечесть по пальцам (Н. К. Кольцов, П. П. Сушкин, В. Ф. Капелькин, С. Г. Григорьев, А. Смецкой, Г. Шелапутин, А. С. Усов и С. С. Усов), занятия эти получили характер не столько лекций, сколько бесед, ведшихся очень живо и непри53 Здесь: факультативно. 313 нужденно. Справедливость требует отметить, что Зоологический музей тоже отозвался на оживление в теоретических вопросах биологии, и профессор Тихомиров, прозванный студентами «Маркизом», прочел нам целый маленький курс «философии биологии». К воспоминаниям о кабинете прибавлю два слова о субботах у В. Н. Львова. Он жил в здании университета и по вечерам в субботу принимал у себя на чашку чая. Собирались у него преимущественно все те же лица из кабинета сравнительной анатомии. Но здесь разговор уже не ограничивался биологическими темами. Вечно больной и едва находящий в себе силы преодолевать пожирающий его туберкулез, Василий Николаевич так же, как и жена его, Надежда Николаевна, при всем том никогда не теряли бодрости духа. За всем следили, всем интересовались, проявляя всегда величайшее участие ко всем волнениям и переживаниям своих друзей. Оба любили музыку, которая в те годы общественного застоя играла в развлечениях московского общества, пожалуй, первенствующую роль. Хотя Василий Николаевич по болезни не посещал концертов, но он еще во время пребывания своего за границей имел возможность переслушать заезжавших к нам исполнителей и хорошо знал классическую музыку. Посещавшие концерты гости его всегда имели о чем перекинуться с ним впечатлениями. То же можно сказать и о художественных выставках, и о литературных явлениях. Кончая о кабинете, с благодарностью укажу, что по настоянию и инициативе М. А. Мензбира моя работа об аскариде была переведена на немецкий язык и издана в № 1 «Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou» (M. Sabaschnikoff. Beitrage zur Kenntniss der Chromatinreduction in der Ovogenese von Ascaris megalocephala bivalens). Без заботливого участия Михаила Александровича я бы никогда сам не подвинулся на то, чтобы выступить в печати. По окончании мной университета благодаря издательству нашему мне приходилось постоянно общаться с Михаилом Александровичем и Василием Николаевичем, равно как и с К.А. Тимирязевым, и если мне суждено закончить эти записки, то эти лица еще долго будут в них сопровождать меня на жизненном пути, обогащая и разнообразя его. Университетские товарищи При вступлении моем в университет мне, как и всем прочим студентам, пришлось подписать заготовленное канцелярией университета заявление, что я не состою в нелегальных обществах или землячествах и обязуюсь впредь в таковые не вступать. Не думаю, чтобы такая вынужденная подписка могла когонибудь удержать. Я, во всяком случае, не считал себя ею связанным. Тем не менее в те годы мои интересы были направлены не на политическую борьбу. В землячествах я не состоял, но на устраивающиеся ими время от времени вечеринки хаживал. Вспоминается мне особенно одна вечеринка, прошедшая оживленно бла314 годаря выступлению профессоров. Не припомню, кто ее устраивал. Состоялась она в чьей-то частной квартире, из которой две комнаты были выделены под вечеринку. Был дешевый буфет — чай да плюшки. Здесь я впервые встретил П. Н. Милюкова, тогда только еще выдвигавшегося молодого ученого. Он не вошел дальше передней. Снял котиковую шапку, расстегнул шубу и держал высыпавшей ему навстречу молодежи короткую речь. Правительство устранило его от чтения лекций 4, он уезжал в Софию и заклинал московских студентов твердо держаться в жизни демократических традиций русской интеллигенции. Другой профессор — Н. Д. Зелинский, провел с нами весь вечер в непринужденной беседе за стаканом чая. Говоря о границах познания, он передал содержание знаменитой речи Дюбуа-Реймона 5. Мне показалось, что для некоторых слушателей затронутый вопрос был совершенно нов, и неожиданная беседа на вечеринке с чужим профессором должна была произвести глубокое впечатление. Про себя лично скажу, что хотя я в то время уже вполне усвоил представление об ограниченности нашего познания, блестящие формулировки ДюбуаРеймона: «Цезарь, проходящий через Рубикон» и внушительное заключение: «ignorabilis» — привели меня в восторг. На следующий же день я был у Ланга, чтобы заказать Дюбуа-Реймона. С Н. Д. Зелинским мы потом часто встречались за вечерним чаем у А. И. Чупрова. Брат Сережа у него провел свою отчетную работу по химии. За годы моего студенчества я оказался прикосновенен, насколько помню, лишь к одному замешательству. Не могу восстановись в памяти, в чем было дело, но состоялась сходка в химической аудитории. Полиция оцепила здание университета. Она студентов выпустила, но переписала тex, кто выходили последними, очевидно, считая их наиболее упорными. Некоторые были затем исключены. Другие отделались выговором правления (в том числе и я). С нашего курса исключены были три студента Тульского землячества: Руднев, Смидович и Малиновский. Они уехали за границу кончать образование, получая стипендии от и нашего курса. Впоследствии они получили громкую известность по своей революционной деятельности. Однако большинство моих однокурсников ни в общественную, ни в политическую борьбу не пошло. Талантливый Арсеньев после физико-математического окончил медицинский факультет и пошел, по принципу, работать врачом в деревне. Уже во время революции, как я слышал, он был врачом яснополянской больницы. Другие пошли по научной или педагогической дороге: Григорьев, Зернов, Капелькин, Крубер, Н. И. Горский, Лосипкий, Федченко, Усов А. С., Усов С. С., Флеров, Чефранов, Некрасов, Каннабих. Смецкой погрузился в заботы о своих и дяди своего предприятиях, имевших большое культурное значение. Шелапутин умер еще студентом, и в память о нем отец его основал гимназию и педаго неведомый, неизвестный (лат.). 315 гический институт его имени 6. И то, и другое прекратили теперь свое существование, а роскошные здания, сооруженные учредителем, получили иное назначение (тоже учебное). С университетскими товарищами меня связывала общность научных интересов, принадлежность к общей школе — дарвинистов. Среди дарвинистов наблюдается иногда тенденция применять учение Дарвина упрощенно к толкованию явлений эволюции чело-веческого общества. Известно, что некоторые авторы при этом доходили до проповедования заядлого эгоизма, культа силы, войны, оправдывания смертной казни, наконец, как фактора отбора. Среди московских дарвинистов, моих товарищей и моих учителей, мне не приходилось встречать ничего подобного. Для нас казалось бесспорным, что гуманные начала и чувство солидарности, возникавшие в обществе, требуя от его членов самопожертвования в пользу коллектива, увеличивают жизнеспособность общества, обеспечивая рему победу над обществом, не развившим в себе этих доблестей. Съезд естествоиспытателей 3 января 1894 года в Москве состоялся съезд естествоиспытателей и врачей. «Праздник русской науки» — как назвал его в своей речи К. А. Тимирязев. Как сейчас, слышу его несколько гнусливый, лающий голос, выкрикивающий эти слова, делая два ударения на слове «науки». Заседания секций были разбросаны по разным помещениям по всему городу. Общие же собрания происходили в Большом зале Благородного собрания, как тогда назывался нынешний Дом Союзов. И действительно, истинным праздником было видеть цвет наших ученых в этом изумительном по простоте и изяществу зале, на хорах и между колоннами которого, казалось, еще витали звуки вдохновенной игры Антона Рубинштейна или симфонического оркестра под управлением Эрмансдорфера. Климент Аркадьевич был в громадном подъеме. Во фраке и белом галстуке он встречал почетных гостей. Великой княгине Елизавете Федоровне, явившейся на съезд с супругом своим, великим князем Сергеем Александровичем, состоявшим московским генерал-губернатором, Климент Аркадьевич преподнес букет белых цветов. Пришедшего на съезд в своей толстовке Льва Николаевича Толстого он встретил на лестнице и проводил на места у эстрады. Публика при этом так стеснилась вокруг Льва Николаевича, что Климент Аркадьевич, завидев меня, просил устроить вокруг Льва Николаевича цепь из студентов, чтобы предохранить его от давки. Каково было бы замешательство почтенного собрания ученых, если бы им, хотя бы на мгновенье, дано было проникновениев будущее: предстоявшее отлучение Толстого, убийство великого князя, посещение великой княгиней Каляева в тюрьме, памятник на бульваре Тимирязеву! 7 Из сообщений, бывших на съезде, меня больше всего заинтересовали 316 доклад ныне знаменитого Виноградского о нитрофицирующих микробах почвы, речь Умова по физике и речь А. И. Чупрова по статистике. Первые наши издания В университетские годы начали мы с братом Сережей свою издательскую деятельность. Собственно, начало ее надо отнести к весне 1889 года, когда мы перед отъездом за границу сговорились с Петром Феликсовичем Маевским о создании первого оригинального русского определителя растений. Я уже говорил, что мы с П. Ф. Маевским много ботанизировали в Суткове. Мы пользовались при этом для определения растений «Определителем среднегерманской флоры» Пестеля. Русский перевод этой книги был едва ли не единственным в то время на русском языке пособием для определения растений. Само собой, при разнице в видовом составе среднегерманской и русской флоры Пестель не мог удовлетворить элементарным требованиям, предъявляемым к определителю. Многих встречающихся у нас форм у Пестеля совершенно не было, и, наоборот, книга эта изобиловала ненуж-ными для русского натуралиста описаниями форм, в России не встречающихся. Маевский казался человеком, как будто предназначенным для составления русского определителя. Глубокий знаток русской флоры, он только что закончил редактирование посмертного издания «Флоры Московской губернии» Кауфмана. Обычный и, пожалуй что, единственный в то время путь, открытый для русского ученого, — путь профессорской карьеры, перед Маевским был закрыт. Петр Феликсович был горбат. При постоянных перебоях сердца, страдая одышкой, быстро утомляясь при движении или волнении, он не был бы в состоянии не только прочесть перед аудиторией обычную двухчасовую лекцию, но вообще длительно держаться на народе. Кабинетная работа ученого писателя, которую можно выполнять в домашней обстановке, в полном спокойствии, соблюдая все предписывавшиеся ему врачами предосторожности, — вот что ему было по плечу. Мы и предложили ему составить большой определитель растений. Такая работа при авансировании гонорара и при крайней скромности Петра Феликсовича вполне обеспечивала его на время писания, обещая притом кое-что в будущем в случае удачи предприятия. Но Петр Феликсович был щепетилен, горд и самолюбив. В его глазах мы с Сережей все еще были юнцами, не знающими ни жизни, ни цены деньгам. Здоровье же его было настолько ненадежно, что авансирование ему гонорара представлялось ему делом большого риска. Убедить его пойти на такое соглашение смог только Н. В. Сперанский. При этом для успокоения совестливого Петра Феликсовича сестра Катя приняла на себя материальную ответственность за сделку, так как Петр Феликсович 317 упорно стеснялся вступать в денежные соглашения со своими учениками, каковыми он нас продолжал считать. После долгих переговоров все было улажено, и, когда мы в 1889 году поехали за границу, Петр Феликсович поехал к нам в Костино, где мы ему предоставили восточный флигель на нашей усадьбе. В главном доме поселился на лето Н. А. Мартынов в семьей. Так, с весны 1889 года двухэтажный флигель с пятью комнатами наверху и четырьмя внизу, кроме кухни, пошел под ученую братию, до самой революции непрерывно служа как бы «домом отдыха» ученых и учащих, употребляя теперешнюю терминологию. В нем П. Ф. Маевский написал свой определитель, Н. А. Мартынов составил свой учебник рисования, В. Н. Львов подготовил к печати учебник зоологии и проредактировал не одну книгу из издававшейся нами «Серии учебников по биологии», Н. В. Сперанский закончил свои «Очерки по истории средней школы в Германии», подготовленные им за границей, Е. Е. Якушкин перевел книгу Гильдебрандта «О преподавании родного языка в школе». Во время постройки больницы здесь жила Е. П. Косминкова, во время постройки третьего по счету здания школы — А. Чуйкова. Здесь же на протяжении ряда лет проводил лето со своей семьей Е. Якушкин, почему флигелю этому и пристало обозначение «якушкинского». Надо сказать, обстоятельства благоприятствовали нашему первомy издательскому начинанию. Профессор математики Московского университета Цингер, ботаник любитель, предпринял в то время ростойный любителя труд проверки описания растений, ранее найденных в России. Он проверил эти описания по многочисленным гербариям, хранившимся в разных учреждениях и у частных лиц, отликнувшихся на призыв профессора Цингера и предоставивших ему свои коллекции для обозрения. Для своей книги Петр Феликсович мог воспользоваться, кроме собственных своих наблюдений, результатами обследования профессора Цингера. Новый определитель, таким образом, совершенно был свободен от традиционных, перепечатывающихся от автора к автору, не всегда точных описаний. «Флора Средней России» вышла с обозначением на обложке: «Издание Е. В. Барановской» и была встречена очень сочувственно. Успех этой книги, потребовавшей ряд переизданий, отзывы последующих редакторов — Н. В. Цингера (сына), С. Коржинского, Д. Литвинова, наконец, опыт многочисленных друзей среди любителей, преподавателей, студентов и вообще учащихся, пользовавшихся книгой Маевского на протяжении многих лет, показал, что труд свой он выполнил безукоризненно. Последующие неудачные Определители Петунникова, а затем Федченко могли только поднять репутацию определителя Маевского, который и до сих пор остается непревзойденным. В 1929 году наше издательство наладило было работу по редактиро318 ванию нового, шестого, издания «Флоры» Маевского, за что по нашему приглашению взялись Д. П. Сырейщиков и В. В. Алехин, обработке некоторых родов привлекались еще некоторые специалисты. Однако издательство «Новая деревня» тоже задумало переиздать Маевского, для редактирования которого пригласило Б. А. Федченко. Нам пришлось отказаться от задуманного нами издания, а что выпустил «Сельхозгиз» (бывшая «Новая деревня») с Федченко, об этом можно составить себе представление по рецензиям в специальной прессе 8. Кроме «Флоры Средней России», мы еще выпустили следующие книги П. Ф. Маевского: «Злаки Средней России», «Весенняя флора», «Осенняя флора», «Ключ к определению деревьев по их листьям». Затем стали выходить «Птицы России» профессора М. А. Мензбира и под редакцией В. Н. Львова — целая библиотека по биологии под названием «Серия учебников по биологии». После смерти Н. С. Тихонравова мы выпустили собрание его сочинений в четырех томах. Само собой разумеется, у нас стали выходить труды Н. Е Сперанского по истории школы в Западной Европе, над которыми oн работал в течение ряда лет частью в Германии, преимущественно в Париже. «Очерки по истории народной школы в Западной Европе (1896 г.) сразу поставили Николая Васильевича в число наиболе видных специалистов-исследователей по истории просвещения, и была тогда речь о предоставлении ему за них докторского звания. К сожалению, мы в то время были еще слишком неопытными издателями (кстати, и эту книгу мы выпустили без своей фирмы) и не озаботились тем, чтобы книга была переведена и издана за границей. У нас слишком мало лиц работало в избранной Николаем Васильевичем области, и его книга не возымела того значения, какое она бы получила за границей, будь она доступна по языку тамошним исследователям. 319 320 321 Наталья Алексеевна Гольцева Забытое прошлое Виктор Александрович Гольцев <…> В.А. Гольцев был оставлен при университете, при профессоре Мильгайзене по финансовому праву. Для подготовки магистерской диссертации он был отправлен в заграничную командировку с назначением стипендии в размере 1,5 тыс. рублей в год. Отношение к В.А. в университетских кругах было очень хорошее. Все высоко ценили его и считали его талантливым и много обещающим молодым человеком. <…> Насколько высоко ставили В.А. в интеллигентном мире, видно из одного весьма характерного факта. Директор 5-ой гимназии, Виноградов, отец известного Московского профессора по всеобщей истории П.Г.Виноградова, встретив меня в одном знакомом доме и узнав, что я невеста В.А.Гольцева, подошел ко мне, совсем юной девушке, и поздравил меня со следующими словами: «Поздравляю Вас, Наталья Алексеевна. Вы соединяете свою судьбу с удивительно способным молодым человеком. Это очень талантливый человек, хорошая голова – он далеко пойдет!» И в самом деле В.А. уже в 24 года поражал своею эрудициею и прекрасным даром слова. Голос его был мягкий и проникающий в душу человека. Он не любил больших и продолжительных речей – его речь была короткая, но смелая и сильная – также образная и часто полная сарказма. В последующие годы его об322 щественной деятельности он считался лучшим оратором в Москве и нередко его сравнивали с А.Ф.Кони, который выделялся своим красноречием. Когда подымался какой-либо животрепещущий вопрос, сильно волновавший В.А., то он совершенно преобразовывался: глаза его делались большими, глубоко темными, голос становился сильнее и громче, и он со всею мощью обрушивался на противника и оставался всегда почти победителем.<…> В 1875 году 22-го сентября состоялась наша свадьба и в тот же день мы уехали за границу во Францию – в Париж… Пребывание в Вене и знакомство В.А. с русским Галицийским Акад. Обществом Пробыв несколько месяцев в Вене, мы должны были вернуться в Москву. В Вене Вик. Ал. познакомился с русским (Галицийским) Академическим обществом «Русская Основа», которое имело своею задачею сближение с Россией и изучение русского языка и литературы. Он участвовал в собраниях этого общества и читал рефераты по литературным вопросам, а затем присутствовал на одном многолюдном собрании, которое было устроено перед Рождественскими праздниками галичанами. Это присутствие В.А. на галицийском собрании послужило к обвинению его в социалистических взглядах и положило начало гонениям со стороны царского правительства. В одном из ресторанов, где мы ежедневно обедали, В.А. встретил галичан и чехов, которые просили его почтить их вечер своим присутствием. В.А. обещал, и мы отправились. Громадный зал был полон народа; вся публика размещалась по отдельным небольшим столикам. Речи произносились то и дело присутствующими. Незадолго перед тем окончилась война сербов с турками, поэтому много добровольцев присутствовало здесь. Один из присутствующих галичан обратился с просьбою к В.А. сказать несколько слов на их вечере. В.А. подымает бокал, делает приветствие Обществу, а затем произносит тост, где выражает пожелание «полной независимости славянским народам и правильного и свободного развития внутри каждого из них». Восторг был громадный. Все подходили и чокались с ним, пожимали ему руку и благодарили. Однако этот вечер не обошелся даром В.А. В Петербург был послан донос, что В.А. ведет социально-революционную пропаганду и для этой цели стремится на кафедру. До нашего приезда в Москву донос имел сильное влияние на министерские круги и был первым толчком для недопущения В.А. в Московский университет и университеты других городов. Возвращение в Москву Возвратившись в Москву, В.А. должен был сдать дополнительный экзамен на магистра полицейского или административного права, ввиду того, что те кафедры, которые предназначались для него, были заняты и оставалась вакантной 323 только кафедра по административному праву. Государственное право читал <…> М.М. Ковалевский, финансовое право читал И.И. Янжул. Экзамен был сдан очень скоро, и В.А. приступил к работе над диссертациею, однако отдавать все свое время на разработку материала для диссертации, добытого за границей, В.А. не мог. Наши средства к существованию иссякли, и стипендия В.А. прекратилась. Нужно было искать заработка. Я получила уроки немецкого языка в Арсеньевской гимназии, В.А. начал работать в газетах, журналах; давал уроки по русской литературе В.А.Морозовой и по истории в Арсеньевской гимназии. Одним словом жизнь закипела в другом направлении. Масса лиц начинает окружать В.А., все желают познакомиться с ним, как с интересным молодым ученым и нас приглашают на все существующие тогда «jour-fixe». То мы были приглашены к Легонину,(2) декану Москов.университета, то проф. Дювернуа, то проф.Дроздовскому, то к Муромцевым (к матери С.А. Муромцева), то к Лепешкину (устроителю студенческого общежития), то к Хрущевой (другу Е.С. Некрасовой и В.О. Ключевско…), то В.О.Ключевскому, то к издателю газеты «Курьер» Ланину и т.д. Нас принимали приветливо и радушно. Мы были молоды и увлечены общественными идеалами, а В.А. очаровывал всех своим умом и речью, поэтому мы были желанными гостями на журфиксах… Московский университет. В 1881 году 28-го февраля попечитель Московского Округа граф Капнист прислал уведомление В.А., что он утверждает его доцентом Московского Университета и Министр Сабуров, сменивший Толстого, ничего не имеет против его утверждения. Осенью Вик.Ал. открыл курс «Учение об управлении» в Московском университете. Привожу слова В.А. по поводу его назначения. «Начались известные веяния, Толстого сменил Сабуров. Тихонравов и другие лица говорили ему обо мне. Сабуров пожелал со мною познакомиться. Он объявил мне, что решительно ничего не имеет против занятия мною кафедры, но для этого необходимо предварительное согласие министра внутренних дел (графа М.Ю.Лорис-Меликова). Разговор велся в очень любезной форме. В последний день царствования Александра II, 28 февраля 1881 года новый попечитель Московского округа, граф Капнист, прислал мне письмо, извещавшее, что все препятствия устранены и что он с радостью утверждает меня доцентом. В этот год я мог, конечно, участвовать только в заседаниях факультета и быть ассистентом при экзаменах. Настала осень. Я должен был открыть курс. Новый министр Народного Просвещения, барон Николаи, пожелал быть на моей вступительной лекции. Студентам было запрещено рукоплескать мне. В профессорской барон Николаи осведомился о содержании моих лекций и т.д. По окончании лекции студенты – спасибо им – не выдержали и сильно таки мне похлопали. Когда я сошел с кафедры министр жал мне руки и желал полного успеха.» Вик.Ал. читал лекции в Московском университете только один год с 1881324 1882. Когда Лорис-Меликова сменил в министерстве внутренних дел Д.Толстой (бывший министр Народного Просвещения), который не забыл нападок В.А. на классическую систему и на него самого, он немедленно потребовал удаления В.А. из Московского университета. В.А. был вызван из Тверской губернии, Новоторжского уезда, деревни Коростково, где он проводил лето со своею семьею и семьею моей сестры, с требованием о приезде в Москву по служебным делам. По приезде в Москву, Садоков, помощник попечителя Округа предъявил В.А. требование о немедленной подаче прошения об отставке. 2-го августа я получила письмо от В.А., где он пишет: «Сейчас принужден подать в отставку. В деревню стало быть не вернусь, так как надо найти себе заработок. Начальство поставило мне на вид, что отказываясь подать прошение об отставке, я навлекаю неприятности на университет и могу быть причиною студенческих волнений. Тогда я написал немедленно желанный начальством документ. Мотивом со стороны министра служит единственно то, что он считает неудобным мое доцентство». Таким образом В.А. должен был отказаться от своего любимого дела, к которому он стремился все время и на которое положил так много труда и сил – и покинуть университет навсегда.(3) В то же время или позднее покинули университет еще другие видные профессора: Муромцев, Ковалевский, Гамбаров, они также считались неблагонадежными и опасными элементами для университета. Воспоминания Н.А.Гольцевой о журфиксах в их доме. Я хочу в кратких словах коснуться тех журфиксов, которые происходили у нас в доме в 80-х и 90-х годах и носили общественный характер, а также о тех слоях общества, которые сгруппировались вокруг Виктора Александровича. Наши журфиксы происходили еженедельно по вторникам, но затем за недостатком времени Виктор Александрович решил принимать у себя два раза в месяц: по вторникам после 1-го и 15-го числа. Общество собиравшееся у нас было весьма разнообразное. Здесь присутствовала почти вся интеллигентная Москва: литературный, профессорский и артистический мир, а также земские деятели, педагоги и университетская молодежь и др. Порою публики собиралось так много, что не хватало стульев, поэтому многим приходилось стоя беседовать между собою. Все стремились сюда, чтобы перекинуться словом с Виктором Александровичем и с теми интересными и выдающимися людьми, которые сгруппировались вокруг Виктора Александровича. Многие общественные деятели специально приезжали к этому дню из провинции и назначали здесь местом свидания друг другу. Все чувствовали себя свободно и могли касаться злободневных вопросов общественной жизни. Иногда возникали сильные споры по случаю какого-либо животрепещущего вопроса, даже происходили крупные размолвки среди присутствующих, однако все сводилось к миролюбивому концу. Я хочу коснуться в данном случае только одного журфикса, чтобы иллю325 стрировать, какие интересные люди присутствовали на этих вторниках. В один из этих вторников приехали старики Бакунины (Павел и Александр, братья Михаила Бакунина), философы и идеалисты, представлявшие большой интерес своими научными теориями и общественными идеалами. Мы посадили их на диван в самой большой комнате (в гостиной), где могло поместиться много народу. Вскоре громадная толпа окружила стариков огромной стеною. Всем хотелось послушать, что говорят эти удивительно интересные люди. В толпе находились молодые ученые, литераторы, студенты, курсистки и дамы из нашего общества. В самом деле, скоро началась беседа на разные философские и научные, а затем на политические темы. Темы были жгучие и страсти разгорались все сильнее и сильнее. Молодежь забрасывала стариков Бакуниных и Виктора Александровича бесконечными вопросами и требовала ответа. В маленькой красной гостиной, лежавшей рядом с большой гостиной, находился камин, где около небольшого огонька обогревались обыкновенно озябшие знакомые (дело было зимой), сидела Гликерия Николаевна Федотова и вела оживленную беседу с Иваном Ильичем Петрункевичем и Ф.И.Родичевым по поводу театра. Услыхав спор столь горячий Бакуниных и Виктора Александровича с окружающими лицами, …она быстро вскочила со своего места и просила своих собеседников перейти вместе с нею в большую гостиную. Я, как хозяйка, предложила ей поставить стул поближе к спорящим, но она решительно отказалась и сказала: «Я тихохонько пройду туда, чтобы не побеспокоить спорящих лиц; я незаметно пройду, дорогая Наталья Алексеевна, и послушаю, что говорят ученые люди». И, в самом деле, Гликерия Николаевна незаметно вошла в гостиную, села в угол позади большого фикуса и просидела там до позднего вечера, так как споры затянулись на несколько часов. С каким восторгом говорила она Виктору Александровичу о том наслаждении, которое она испытывала, присутствуя на их беседе. Вот что пишет Алек. Ап.Мануилов (профессор Московского Университета) по поводу журфиксов Виктора Александровича. «Для молодежи, всегда окружавшей В.А., были чрезвычайно интересны и ценны происходившие у него много лет «журфиксы». На них встречалась почти вся интеллигентная и прогрессивная Москва, и не одно общественное начинание 80-х и 90-х годов зародилось на этих собраниях. Был период в Московской жизни, когда вообще ни одно общественное дело в Москве не делалось без В.А. и поэтому естественно, что его журфиксы были тогда своего рода общественно-политическим клубом, где дебатировались вопросы дня и откуда получала до некоторой степени директивы общественная жизнь Москвы. Воспитательное значение еженедельных собраний в маленьком домике у церкви Успенья на Могильцах, а затем на Пречистенке было особенно важно для молодежи. Там она вводилась в круг московской интеллигенции, определяла свои склонности и вкусы и вступала в ряды работников общественного дела. Гольцевские журфиксы сыграли свою роль в истории Московской общественности, а для молодежи они были школой общественного воспитания». Печатается по: Гольцева Н.А. Забытое прошлое (О писателях, ученых и общественных деятелях 80-90 годов по личным воспоминаниям и впечатлениям и по письмам В.А.Гольцева). 326 1929. / Отдел Рукописей РГБ. Ф.77, к. 23, е/х 1. Лл.1-3, 18-21, 25-29, 97-99. Наталья Алексеевна Гольцева – жена В.А. Гольцева (ок. 1854 – 1930), урожд. Оппель. В 1897 г. вместе с С.А.Левицким стала инициатором открытия Пречистенских рабочих классов (курсов), где заведовала одним из отделов так называемой «Высшей школой». В 1910 г.– и.о. Инспектора Пречистенских воскресных классов в Москве. Позже (возможно, по состоянию здоровья) переехала в Ялту, где с 20 сентября 1921 г. по 20 сентября 1922 г. находилась на службе в Наробразе, занимала должности преподавателя и руководителя в детских домах №1 и №3, а также в детском клубе, затем была уволена в связи с сокращением штатов. В 1930 г. жила в Москве. После этой даты сведения о Н.А. Гольцевой прерываются. Виктор Александрович Гольцев (1850 - 1906) – воспитанник (окончил в 1872 г.) юридического факультета Московского университета. Магистр полицейского (административного) права, доцент и профессор Московского университета, по требованию администрации был вынужден отказаться от профессорской деятельности. Активная общественная позиция Гольцева вызывает пристальное внимание властей: под давлением администрации он оставляет пост земского гласного по Тверской губернии. В качестве гласного Московской городской Думы В.А.Гольцев также оказывается «неудобен»; московский губернатор поставил перед Гольцевым ультимативное условие: либо отказ от работы в Думе, либо высылка из Москвы. Гольцев остался в Москве, и литературная работа становится для него практически единственно возможной формой выражения устремлений, которые не могли реализоваться в рамках государственной деятельности. В.А.Гольцев еще в ранней молодости поставил перед собой политические задачи, связанные с идеями конституционализма, и, как он позже писал в своих воспоминаниях, «неуклонно шел к намеченным целям». Профессор и общественный деятель, Гольцев стал журналистом. С 1885 по 1906 г. В.А.Гольцев возглавляет один из наиболее интересных и влиятельных «толстых» журналов – «Русскую мысль». Одновременно он активно сотрудничает в газетах «Голос» и «Нижегородский Листок», становится одним из ведущих публицистов в «профессорской» московской газете «Русские Ведомости», сыгравшей, по свидетельству современников, выдающуюся роль в становлении конституционно-демократических взглядов, а затем и самой партии. Однако еще раньше, в 1881-1883 гг., читающая Москва – да и не только – стала свидетельницей неугодных властям выступлений опального профессора в газете «Московский Телеграф», закрытой «за суждения, клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основных начал» существующего государственного строя. Редакторство Гольцева приносит успех газете «Русский Курьер» (с 1881 г., когда он был лишен университетской кафедры). В конце 1897 г. Гольцев был приглашен в обновленную газету «Курьер», ставшую впоследствии ярким демократическим изданием, в которой возглавил политический отдел. В.А. Гольцев до конца своей жизни был в центре общественно-политической жизни Москвы. В 1905 году юридический факультет Московского университета предложил ему принять приват-доцентуру и открыть курс по административному праву, однако он уже не мог воспользоваться этим предложением. Смерть В.А.Гольцева в 1906 году вызвала широчайший резонанс в прогрессивных общественных кругах России. 2. …мы были приглашены к Легонину, декану Московского университета.- Возможная неточность: известен В.А.Легонин, медик и юрист, занимавший одно время кафедру судебной медицины в Московском университете. 3. …и покинуть университет навсегда. – Московский университет, невзирая на преследования Гольцева со стороны властей, не забывал об опальном профессоре. Сохранилось письмо декана юридического факультета к В.А.Гольцеву от 31 октября 1900 г., где он писал: 327 «Милостивый Государь, Виктор Александрович! Совет Императорского Московского Университета постановил издать материалы по истории Московского Университета за истекающее третье пятидесятилетие его существования. Один из отделов этого издания составит биографический словарь профессоров и преподавателей, занимавших и занимающих кафедры. Юридический факультет во исполнение сего постановления имеет честь обратиться к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшей просьбой препроводить ему к 1-му Мая 1901 года Вашу автобиографию, которая в сжатом очерке содержала бы историю Вашей жизни и Вашей учено-литературной деятельности.» (ОР РГБ, Ф.77, К.17, е/х 46). Эта автобиография была написана и прислана В.А.Гольцевым. Федотова Гликерия Николаевна .Н.(1846-1925) – одна из крупнейших актрис Малого театра. Родичев Федор Измайлович (1853, по другим данным, 1856-1932) – земский деятель, юрист, член ЦК конституционно-демократической партии, депутат всех четырех Государственных Дум. В марте-мае 1917 – министр Временного правительства по делам Финляндии. Эмигрировал, умер в Лозанне. 328 Евгений Николаевич Поселянин Из детских воспоминаний мирянина Е.Н. Поселянин Интерьер университетского храма св. мученицы Татьяны 329 <...> Нас возили к службам в Университетскую церковь, и доселе я не могу войти туда без волнения, без того, чтоб предо мною не встала с чрезвычайною жизненностью та далекая и невозвратная пора. Расходящаяся в две стороны лестница, очень покойная, широкая, с невысокими ступенями, устланная прекрасным ковром; легкий шелест платьев дам, сосредоточенно восходящих по ней, размеренные шаги мужчин. Из громадных дверей открывается торжественная, с печатью некоторой строгости, церковь.(1) Большая высота и ширина, блестящий, как зеркало, паркетный пол, с двух сторон большие окна, большие по сторонам, в рост, красивого, но сухого письма – иконы Николая Чудотворца (2) и мученицы Татианы, которой посвящена церковь Московского университета. Там, вдали, точно отодвинутый еще дальше, чем он стоит на самом деле, возвышается за невысокой, в две ступени, но широкой солеёй,(3) – иконостас из белых мраморных колонн, а над ним, в вышине, точно в небе, вознесено белое большое скульптурное распятие. Потолок алтаря, уходящий назад полукруглым сводом, придает пространству за распятием вид действительного неба. По бокам два большие белые скульптурные ангела коленопреклоненно созерцают муки Христа. По карнизу иконостаса большими золотыми буквами написаны краткие слова: "Приступите – и просветитеся!" Впечатление храма дополняется высоким сводчатым потолком, который расписан облаками. В середине золотой треугольник с надписью в нем ХВ, а в нежных облаках тонкие очертания херувимов. Скульптура Ангела Радости Интерьер Татианинского храма Служба идет замечательно стройно. На высоких хорах, висящих на ряде колонн у западной стены церкви, поет умилительно стройно лучшее отделение чу330 довских митрополичьих певчих. Служит с высоким чувством меры, с чрезвычайно умно выработанным в каждом слове, в каждом жесте, во всей интонации изяществом известнейший в Москве, профессор Университета протоиерей Н.А. Сергиевский, впоследствии протопресвитер Успенского собора. Мы с отцом становились всегда под хорами – единственное место церкви, где разостлан ковер и стоят стулья для становившихся здесь преимущественно почтенных стариков. Мое место было в узком проходе между колонной и стеной. В этом тесном уголке, откуда за обедней, когда в церкви было свободнее, я мог видеть и распятие над иконостасом, а за всенощными, когда набиралось много народу, оставался видным лишь потолок с херувимами в облаках и золотым треугольником, – в этом уголку сколько вошло в душу глубоких впечатлений веры под плачущие напевы Страстной недели!.. : Евгений Поселянин. Из детских воспоминаний мирянина. Печатается по: «Прибавление к газете «Церковные ведомости», 1901, № 34 Университетская церковь св. мученицы Татианы Фотография начала 1900-х. гг. Поселянин (Погожев) Евгений Николаевич (1870 – 1931) – известный духовный писатель, публицист, сотрудник церковных изданий. В 1888 г. поступил на юридический факультет Московского университета. До Университета был неверующим, но в первый год студенчества студент-юристобратился к вере – в Оптиной пустыни, в келье старца Амвросия; стал усердным прихожанином университетского храма Св. мученицы Татьяны, занялся чтением душеполезных книг. Подумывал даже уйти в монастырь, но ставший его духовным отцом Амвросий Оптинский благословил сначала окончить университет. Под псевдонимом Евгений Поселянин он стал широко известным духовным писателем. В 19 лет написал свой первый очерк «На богомолье к Преподобному Сергию», где уже проявилась его своеобразная творческая манера письма; в 1898 г. – много раз переиздававшуюся книгу «Детская вера и Оптинский старец Амвросий». Позже будущий оптинский старец Варсонофий предложил молодому писателю готовиться к постригу, однако тот решил, что и в миру можно приносить пользу. «Но в миру много соблазнов», – заметил послушник. 331 В 1904 г. Погожев входит в семью известного филолога Я. Грота, женится на сестре философа Н.Я. Грота, Наталье Яковлевне (их свадьбу устраивает во дворце сам великий князь Константин Константинович), но спустя полгода семья распалась, хотя развод затянулся на десятилетие. В начале ХХ в. не было церковного периодического издания, где не печатался Погожев: "Русский паломник", "Миссионерское обозрение", "Церковные ведомости" (в начале 900-х гг. регулярно печатает очерки в Прибавлениях к «Церковным ведомостям»), "Светильник", «Душеполезное чтение», публиковался и в светских – "Сельском вестнике", "Московских ведомостях", "Новом времяени" и многих других. Однако в церковной прессе он иногда подвергался и нападкам, в частности, за статьи о Льве Толстом, за излишнюю мягкость тона, за «потакание либеральной печати». Е. Поселянин много писал о святых земли Русской, о подвижниках благочестия, создавая особый жанр житийной литературы. Им создана замечательная книга о преподобном Серафиме Саровском, ряд статей в связи с прославлением святого, открытием его мощей в Сарове в 1903 г. Его перу принадлежит также книга «Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в ХУIII веке». СПб., 1902. Особенно плодотворно он работал на пользу юношества: «Повесть о том, каким чудом Божиим строилась Русская земля», «Патриарх Филарет Никитич», «Божья рать»; им переложен на русский язык «Киево-Печерский Патерик». Владея церковной риторикой и трогательной детской выразительностью, он создал неповторимую поэтическую манеру изложения. В повествованиях о духовной жизни России,о ее святых и подвижниках, священнослужителях и прихожанах, он подробно, тщательно выписывая детали, рассказывал о церковных службах и благочестивых обычаях мирян. Посвящая яркие страницы московским храмам, с особенной теплотой он вспоминает об Университетском храме святой мученицы Татьяны. После Октября писатель перебивался случайными заработками. Занялся пушкинистикой, пытался печатать статьи вместе с известными литературоведами. Но в 1924 г. был арестован и выслан на Ангару; в 1931 г. расстрелян. Приговор отменили лишь шестьдесят лет спустя... Примечания 1. Интерьер университетской церкви отличался великолепием. Первоначально ее расписывал в итальянском стиле архитектор храма Антон Иванович Клауди. Невысокий трехъярусный иконостас завершался Распятием над Царскими вратами. По краям находились скульптурные изображения двух коленопреклоненных ангелов работы И.П. Витали: справа от Распятия — Ангел Радости, слева — Ангел Скорби. Над Царскими вратами помещалась надпись «Приступите к Нему и просветитеся»; эти же слова начертаны на «челе храма» — фронтоне церкви. Скульптура Ангела Радости сохранилась, хотя весной 1919 г. в «ненастную ночь, под проливным дождем и раскатах грома и блеске молнии» разрушили православную символику на здании университетской церкви (по воспоминаниям последнего ректора Московского университета М. Новикова (См. Сборник к 175-летию Московского университета. Париж– Прага, 1930), была признана художественной ценностью и передана в Донской монастырь, а в 1995 г. – в музей русской архитектуры им. Щусева. В 1855 г. к 100-летнему юбилею университета итальянский художник Ланжелотти расписал стены и потолок храма, а преподаватели и студенты по подписке собрали деньги на приобретение для него двух икон кисти итальянского живописца Рубио — святителя Николая Чудотворца и святой Елисаветы Праведной, выполненных в византийском стиле. Кроме того, бывший попечитель Московского университета граф С.С. Строганов подарил храму две иконы — Спасителя и Богоматери, написанные тем же Рубио и в том же стиле. На пожертвования попечителя, профессоров и студентов Московского Университета для домового храма было приобретено напрестольное Евангелие в серебряной позолоченной оправе. 332 3.Солея (греч. «возвышение») – возвышение, продолжающее алтарь 2. Николай чудотворец, архиепископ Мир Ликийских (ок. 345). «При упоминании его имени рука как бы сама собой творит крестное знамение», – признавался профессор исторического факультета Московского университета А.Ч. Козаржевский и приводил слова византийского агиографа Симеона Метафраста, составившего в Хв.Житие святителя Николая: «…Дошедшее до нас древнее предание представляет Николая старцем с ангельским ликом, исполненным святости и благости Божией: если кто его встречал, едва взглянув на святого, усовершенствовался и становился лучше, и всякий, чья душа была отягощена каким-нибудь страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. От него исходило некое пресветлое сияние, и лик его сверкал более Моисеева». 4.…поет умилительно стройно лучшее отделение чудовских митрополичьих певчих… Чудов – Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь в Московском Кремле, основанный митрополитом Московским Алексием в 1365 г. на месте бывшего здесь двора для послов из Золотой Орды. «Чудовым» назывался по собору Чуда Архангела Михаила (снесен в 1929); славился своими певчими. 333 Александр Валентинович Амфитеатров «Татьяны» I Двенадцатое января в Москве - день пьяный по принципу. Кто в обычные дни напивается из любви к этому искусству, на Татьяну напивается по чувству долга. Кто в обычные дни не пьет вовсе, на Татьяну напивается, чтобы доказать свою солидарность с пьющей интеллигенцией: пусть, мол, житейские пути растащили нас далеко друг от друга, раскидали врозь, точно стоги в унылых стихах Алексея Толстого, но живы еще, целы в сердце нити, прикрепляющие нас неразрывною связью к общему корню, объединяющие нас во имя общей нашей кормилицы — alma mater... Да здравствует alma mater, господа! Gaudeamus igitur! vivat academia! Уррррра!!! Виноват: я впал в тон татьянинской речи. Это неудивительно: я столько их наслушался. Слушал в Эрмитаже, слушал в Стрельне, слушал у Яра, слушал, едучи на тройке за городом, слушал на улице, от встречных студиозов... вчера в Москве только камни не глаголали и не приглашали выпить «за наррод и ин... интел... как бишь ее, черта?... интеллигенцию!» Да еще в Долгохамовническом переулке старый седой мудрец—великий писатель земли русской — неодобрительно хмурил свои косматые брови и твердил выразительный текст: не упивайтеся вином, в нем бо есть блуд... Льва Толстого с его проповедью против Татьянина дня вчера поминали неоднократно. И на столах, и за столами, и под столами. Профессор Маклаков, лучший московский окулист, попался студентам у Яра; его, разумеется, сейчас же подняли на стол: 334 – Речь!.. Рречь! . Pе-е-е-ечь!!!... браво!... Речь! Седоватый профессор, с лицом умным и немножко ироническим, с веселым взглядом спрятанных под бледно-серыми очками глаз, тихим голосом начинает складную, точно бойкий фельетон построенную, отповедь Толстому. Слушать трудно. Орут, поют, умиляются... Подвыпивший студент, как только видит на столе знакомую профессорскую физиономию, сейчас приходит в экстаз, не может не реветь bravo после каждого слова... – Господа! я... – Браво! – Намерен... – Браво! – Да дайте же мне, черт возьми, говорить, если заставили... – Браво! ха—ха—ха! Браво! Тише! дайте говорить! качать! браво! браво!.. Тише вы там, задние!.. Чего тише, когда вы-то и кричите?! Тсс... Масса усмиряется. Речь, хоть отрывками, слышна. — Во-первых, Руси есть веселие пити, во-вторых— ну, вот великая беда, что выпьет лишнее мужчина? А в-третьих—отчего, действительно, молодому человеку не выпить в торжественный день, во славу своей науки и за процветание своих идеалов? И мы пьем и выпьем. И если кто допьется до необходимости пасть на четвереньки и поползти, да не смущается сердце его! Лучше с чистым сердцем и возвышенными идеями в уме ползти на четвереньках по тропе прогресса к светлым далям, чем на двух ногах идти в участок с доносом на товарища. Взрыв хохота. Профессора качают. Я осматриваюсь и, действительно, становится смешно: карикатурный образ интеллигенции, допившейся до необходимости ползти по тропе прогресса на четвереньках, щедрински близок к правде. Сажусь к столу, занятому нашей большой компанией— по преимуществу газетчицкой. — А у нас, пока ты Маклакова слушал, находка объявилась... Пришел Z, перецеловал нас всех, а затем лег под стол—и спит, бестия... Наклоняюсь: нет, не спит, смотрит; лишь в изнеможении, и на лице блаженная улыбка младенца, только что накормленного материнской грудью. —Что, милый, преклонил Господь? — Протест, братец... в пику Тол... сто... м-м-м-му-у-у... В «Эрмитаже» меня остановил незнакомый студент, необыкновенно сосредоточенного и мрачного вида. – Ты кто? Я назвал себя. – Поди же и скажи от меня своему Толстому... –Да он не мой, он—общий... –Не мешай! Поди и скажи от меня своему Толстому, что Гаврилов пьян. И когда фельетон будешь писать, так и напиши, что Гаврилов пьян. Назло. И всегда на Татьяну пьян будет. В «Эрмитаже» была несноснейшая духота – какая-то парная, точно в бане по335 сле того как плеснут шайку воды на каменку. И почти такая же белая мгла стояла в воздухе, как стоит в горячих банях. Только аромата березового веника не хватало. В «Эрмитаже» подвыпившая публика разошлась немножко уж и слишком — совсем не по-интеллигентному, а где-то посредине между bete humaine и Китом Китычем Брусковым. Все летело вдребезги. У половых и распорядителей лица были горестные. На одной люстре все висюльки поотшибали, швыряя в них, как в цель, чем попало: своеобразный тир придумали! Один интеллигент допился до битья зеркал, и хорошо еще, что более трезвые товарищи успели схватить обезумевшего человека за руки в тот момент, как он размахнулся, чтобы пустить бутылкой в тысячное стекло. Его утащили из зала и стали уговаривать: уезжай домой! Несчастный освирепел и стал бросаться на людей. Долго его буйство терпели, уговаривали убраться честь-честью, подобру-поздорову, наконец безобразия его как–то всем сразу надоели, толпа рявкнула, рыкнула, бросилась, как один человек, и я глазом не успел мигнуть, как горемыку спустили с лестницы... Лицо и руки у него были в крови. Поздно ли я попал в «Эрмитаж», вообще ли так случилось, но профессоров в этот раз как-то не было заметно в толпе… За отсутствием настоящих своих фаворитов, молодежь делала овации каждому приват-доценту, заброшенному в зал, — быть может, не без тайной надежды: авось, и меня заставят говорить, и мне дадут вкусить сладкого плода аплодисментов, и, кто знает, может быть, мне удастся так угодить, что с этого-то и начнется моя популярность... В прежние годы любимыми и настоящими ораторами Татьянина дня были М.М. Ковалевский, А.И. Чупров, Ф.Н. Плевако, а специально медики всегда вытаскивали на трибуну А.А. Остроумова. Чупров для Москвы был — что Орест Миллер для Петербурга, так же богат популярностью и симпатиями. Убежденный прогрессист-западник, он необыкновенно типичный представитель той интеллигенции, о которой пел Некрасов: Воплощенной укоризною, Мыслью кроток, духом чист, Ты стоял перед отчизною, Либерал-идеалист! Говорил он всегда тепло, чистосердечно, искренне любя свою публику и от души ей доброжелательствуя. Говорил хорошие гуманные слова и как-то сразу чувствовалось, что за хорошими гуманными словами стоят и хорошие гуманные идеи, что это—речь от сердца, не ораторские «и треск, и блеск, и ничего». Говорил, сверкая из-под очков увлаженными глазами, восторженным, прерывающимся от волнения голосом, и, когда кончал речь, толпа с ревом бросалась к профессору и принималась швырять его к потолку «Эрмитажа»... Ах, много лет прошло с тех пор, как при этом гимнастическом упражнении меня, первокурсника, угораздило подвернуться под каблук Чупрова, низвергавшегося с высоты двух аршин над уровнем Татьянина разгульного моря! Чупрова, обремененного лаврами и пресыщенного овациями, но в разорванном фраке и не без некоторого телесного увечья, уносили, а на смену ему приносили из «профессорской» Максима Ковалевского. 336 Громадный, толстый, он страшно боялся щекотки и, пока его дотаскивали до стола, все время визжал, хохотал и брыкался. А взгромоздившись на стол, принимался острить. Быстро, неудержимо, фонтаном шутливых словечек, летучих характеристик-карикатур, афоризмов — не в бровь, а прямо в глаз. Хохот стоял гомерический и вместе с публикою хохотал сам оратор. –Только не качать, господа, предупреждал он: я боюсь. Уроните—не беда, но как вы меня поднимете? А, во-вторых, «Эрмитаж» оказывает нам такое радушное гостеприимство, что разрушать его моим падением, по меньшей мере, неблагодарно. Прежде чем вознести на трибуну Остроумова, с ним добрую четверть часа возились — честью и насилием убеждая почтенного эскулапа открыть уста. Он ругался, упирался, чуть не дрался, цеплялся за мебель, но его все-таки волокли к публике, как говорит летописец, «аки злодея пыхающе»— и ставили на стол. Один раз так и вынесли со стулом, за который профессор ухватился было, как утопающий хватается за соломинку. На столе он появлялся красный, возбужденный, с яростью во взоре и минуты две отводил душу, добросовестнейше ругаясь со своими чересчур рьяными поклонниками за чинимое ему насилие. Говорил он в общем грубо, не особенно красиво и складно, без претензий на красноречие, но очень сильно, веско, внушительно, точно топором рубя фразы и по части выражений не стесняясь. Плевако слушали не как «своего», а как присяжного оратора, как виртуоза, знаменитость. Когда он говорил, все стихало, пользуясь случаем послушать золотые звуки этого Мазини присяжных поверенных. Ужасно Плевако изобидел меня в 1882 году. Я еще не кончил обедать, а его принесли и поставили, как раз на наш стол. Стоить он вдохновенный, сильный, эффектный; лицо горит, глаза в крови; сам плачет, а мы все рыдаем; то голос гремит, точно Феодор Никифорович, подобно Демосфену, перекричать море хочет: правая рука повелительно, этаким заклинательским жестом, простерта над головами слушателей... — И смело,— говорит, — ступаем на путь божественной правды, вечно, присущей человеческому духу... И, действительно, ступил. Только, к сожалению, путь правды, вечно присущей человеческому духу, оказался проложенным через мою тарелку с котлетой. Традиционная ступень в праздновании Татьянина дня после «Эрмитажа» — «Стрельна». Здесь уже больше веселятся, поют и пляшут, чем ораторствуют. Толпа в давке все опрокидывает, ломает столы и стулья. Шумно, оркестр играет «Марсельезу», и невольно ищешь глазами, где же скачущий штандарт?.. Его только не хватает! «Марсельеза» сменяется «Gaudeamus», «Gaudeamus» — «Марсельезой». Какой-то медик бросается мне на шею: – Ты Хохлов? – Нет. – Врешь: Хохлов! – Да нет же... 337 – Душечка! Будь Хохловым! Ну, для меня! Ну, что тебе стоит?! —Да уж, если тебе так хочется, изволь, только отвяжись, сделай милость... Медик удаляется, вполне довольный, вопя, что есть мочи: – И будешь ты царицей ми-и-и-ppa... Внизу — пляска. После лихой камаринской—лихая лезгинка. Красавец грузин в папахе, соколом носится по песку. Кругом—носы армянские, носы грузинские, носы черкесские и глаза черносливами. У всех носов раздуваются ноздри, во всех глазах бешеные искорки... В «Эрмитаже» говорили, будто по случаю Татьянина дня полковник Власовский дал приказ полиции: хмельных студентов и прочую чистую публику не задерживать, а уж если необходимо задержать, то брать не иначе, как предварительно поздравив с праздником... Надо сознаться, —приказ не без юмора! «Тихо туманное утро в столице»... Татьяна, прощаясь с Москвою до будущего года, ласково укладывает своих обожателей, нагулявшихся в городе и за городом. И — оставим моралистам читать выговоры: ей за попустительство, а им за невоздержность и шалости! «Счастлив, кто смолоду быль молод!», - сказал Пушкин. Да, наконец, «не согрешишь—не покаешься», а, право, те, кто умеет грешить и каяться, куда занятнее и живее высокой, как Монблан, и такой же, как он, холодной и бесстрастной непогрешимости! 1894 II Университет... это огромное и мощное слово наполняет сегодня Москву. Огромное и мощное слово, которое становится все более веским и властным, чем дальше уходишь в жизнь, чем выше поднимаешься по лестнице годов. Огромные горы возбуждают больше восторга в тех, кто к ним приближается или удаляется от них, чем в тех, кто проникает в самую их массу. Чтобы глаз мог оценить их красоту, чтобы дух мог воспринять их поэзию, нужна декорация пространства. А огромным идеям и симпатиям чтобы высказалась вся сила их связи с нами, нужна декорация времени, отделяющего нас от них. Их власть познаешь всецело только пока к ним стремишься или когда о них, невозвратных, тоскуешь. Двенадцатое января - сигнал к такой благородной тоске. Окидываешь умственным взором 6 годов от блестящей точки «университетского периода»... и грустно по ней делается: что надежд-то разрушено! Что намерений-то уплыло! Что взглядов-то изменилось! А она - эта блестящая точка — неизменно сияет твердою, неподвижною звездою и так манит к себе своим, научающим добру и правде светом, что, кажется, рад отдать все выгоды, все довольство удобно сложившейся жизни, только бы помолодеть и снова пережить золотой период... И, разумеется, думаешь, что во второй раз пережил бы его куда умнее, чем переживал в первый. Тогда, мол, был молокосос, не ценил... а теперь—ценил бы. «Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом... Сколько раз мне случалось встречать таких людей, прежних товарищей! Кажется, 338 совсем зверем стал человек, а стоить только напомнить ему университет, и все остатки благородства в нем зашевелятся, точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую склянку с духами». Это Лежнев в «Рудине» вспоминает... Минувшим летом в Софии встретил я болгарина, воспитанника московского университета. О нем доходили ужасные слухи: это был и шантажист, и перевертень политический, кондотьер пера, продававший свое слово по сходной цене любой партии... Я застал его в периоде стамбулизма и русофобства. И вот такой вот человек пришел ко мне, рискуя нарваться на самый нелюбезный прием, только потому, что кто-то сказал ему, что я тоже студент Московского университета, и его потянуло поговорить, так ли все стоит на Моховой, как в его время стояло. И я видел, как павший, оскотевший человек, все силы души своей уложивший в деньги и политическую интригу, просветлел. Мы вспоминали с одинаково кротким и радостным чувством тройки, которыя ставил беспощадный Боголепов за путаницу в сервитутах, и пятерки, которые ставил всеизвиняющй МрочекДроздовский, едва прислушиваясь к ответу студента, а этот-то между тем отчетливо докладывает, что Уложение царя Алексея Михайловича появилось на свет при Димитрии Донском. Мы припоминали, как умный и красноречивый богослов Сергиевский советовал нам «ставить локомотив веры на рельсы разума» и уверял, будто «руководиться одним знанием - значит пытаться осветить мир стеариновою свечою». Хохотали, припоминая свирепость Янжула на экзаменах в предобеденные часы и сравнительную благосклонность этого истребителя юридических младенцев в часы послеобеденные: В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп... Припоминали кротчайшего и умиленно-восторженного Чупрова—любимца всего факультета. Он первый из профессоров приветствовал нас, юношей, со званием студента и первый разъяснил нам живым, блестящим словом высокое значение студенческого периода в жизни человека. Припоминали эффектное и глубоко меткое остроумие В.О. Ключевского, его редкостные характеристики исторических лиц давно, давно прошедших эпох… – ...И был он,—распевчатым и на «о» говором рассказывает с кафедры любимый профессор,—и был он, первый император Петр, характером холоден, но бешен и вспыльчив: точь-в-точь чугунная пушка с его любимых олонецких заводов. — Елизавета Петровна была государыня добрая, но... женщина. Она никого не казнила смертною казнью, но наполнила Сибирь ссыльными, коим резали языки и «били батогами нещадно». Восставала против развратных и роскошных нравов, но оставила по себе гардероб в 20,000 платьев. Строгого, корректного, всегда красивого и изящного Муромцева уважали, но не слишком любили: уж очень он был какой-то застегнутый, так что даже его либеральная репутация как-то не вязалась с его чиновнически-отчетливой внешностью. Он читал римское право и казался живым воплощением строгой стройности своего предмета. Мне Муромцев напоминал почему-то князя Андрея Волконского в «Войне и мире». Когда, после своей громкой истории, он должен был оставить 339 университет, что и выполнил с большим достоинством, сопровождаемый всеобщими и вполне справедливыми сожалениями, из него вышел солиднейший присяжный поверенный на гражданские дела... Любили—и если не носили на руках, то лишь потому, что поднять его было невозможно — любили Максима Ковалевского. Необычайно жива в моей памяти огромная, тучная фигура с красивым лицом умницы и вивера, его речь - сплошная, немного лающая, немного захлебывающаяся, смешливая и любезная, целый фейерверк имен, цитат, острот, хохота, едких замечаний a propos, а часто и прямых плевков в партию политического мракобесия, забиравшего в ту пору большую силу под последним нажимом катковской педали. Я не знаю примера памяти, более обширной, чем память Ковалевского. Он шутя читал наизусть страницы английского, итальянского, испанского, шведского текста: он владел всеми без исключения европейскими языками с тою же свободою и легкостью, как русским. Огромная начитанность, стремление передать слушателям как можно больше даже шли в ущерб систематическому значению его лекций: курс его был труден. Когда Ковалевский готовился к своим лекциям - прямо непостижимо: это был человек общества в полном смысле слова; он жил широко и открыто, бывал ежедневно в театрах, концертах, его можно было встретить всюду. А между тем, не считая лекций, вряд ли кто в молодой русской юридической науке написал столько огромных по объему и разносторонних по содержанию работ, как незабвенный Максим Максимович... ныне «чужих небес любовник беспокойный». Так вспоминали мы, и склянка с духами откупорилась, и темная личность просияла. Уходя от меня, мой собеседник сказал: – Не за что меня любить русским, да и я их не люблю. А все-таки, когда 12 января будете пить за alma mater, помяните меня... Это — моя последняя привязанность! И, значит, крепкая же привязанность, если пробила она даже толстую кору национальной вражды и политического авантюризма... Да будет же в этот день мир и тебе, грешная душа, блудный сын, бессильный уже возвратиться в дом отчий! Акта нет по случаю траура. Потеря небольшая, сказать правду. Университетский акт был праздником огромного общественного значения, пока его не втиснули в рамки скучнейшей казенщины: казенный отчет, казенная речь, казенные 300—400, «по выбору», студентов. В последние годы акт проходил совершенно бесследно; студенчество стало холодно к нему, как к формальности, смысл которой—свободное и живое общение учащих и учащихся, профессоров и студентов – сделался анахронизмом. Все вырождается на свете. Выродились и теплые отношения между московским студенчеством и его профессорами, в которых еще недавно студент видел членов одной с ним семьи, старших и, следовательно, более опытных и развитых братьев по науке. Да иначе и быть не может, ибо из былых любимцев Иные погибли в бою; Другие ж всему изменили И продали шпагу свою... 340 На прошлогодней Татьяне я был поражен насмешливой апатией, с какою пирующие студенты встречали и провожали профессоров. Видимое дело: Порвалась цепь великая, Порвалась, раскачалася... Нынче многие профессора не хотят и показываться в Эрмитаж, не ожидая встретить прежнее сочувствие. Будем же надеяться, что не навеки цепь порвалась, что найдутся с той и другой стороны кузнецы сковать ее заново и крепче прежнего... Будем надеяться и пьем за это!.. И не надо больше воспоминаний и рассуждений! Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus!.. 1896 Печатается по: А. Амфитеатров. Житейская накипь. - СПб., тип. т-ва «Общественная польза», 1903, с. 103-114. Впервые два очерка под общим названием «Татьяны» были опубликованы в газете «Новое время». Александр Валентинович Амфитеатров (1862 - 1938) – воспитанник юридического факультета Московского университета (учился с 1880 г. по 1885 г.), один из самых известных русских либеральных публицистов рубежа веков. Его творческая деятельность началась в 1882 г. и длилась более полувека. Литературное наследие Амфитеатрова включает в себя, помимо огромного количества газетных и журнальных публицистических материалов, романы, повести, рассказы, критические статьи о литературе и театре, пьесы, сатирические стихотворения, мемуары. Значение этих произведений, до недавнего времени практически неизвестных современным читателям, определялось злободневностью поставленных в них проблем. Амфитеатров, называвший себя «публицистом по духу любви и привычке», считал свое творчество «типическим обобщением наблюдений». Большинство его художественных произведений – более или менее удавшиеся попытки беллетристической или драматургической обработки тем Амфитеатроважурналиста. В 1890-е годы хорошей школой для Амфитеатрова стала работа московским корреспондентом газеты «Новое время», издававшейся А.С.Сувориным. После разрыва с Сувориным в 1899 г. он вместе с В.М .Дорошевичем организовал газету «Россия». Самое известное выступление Амфитеатрова – дерзкий антимонархический фельетон «Господа Обмановы», опубликованный в этой газете в январе 1902 г. По распоряжению правительства «Россия» была закрыта, а автор фельетона сослан в Минусинск. В 1903-1904 гг. Амфитеатров сотрудничал в газете «Русь», до тех пор, пока ему не была запрещена всякая литературная деятельность. Покинув Россию в 1904 г., он жил до 1916 г. в Италии, но не переставал быть активным участником русской общественной и литературной жизни. Издавались публицистические и мемуарные книги Амфитеатрова, огромной популярностью пользовались романы«фельетоны» «Марья Лусьева», «Марья Лусьева за границей», дилогия «Сумерки божков». В Италии был задуман цикл романов-хроник «Концы и начала». В 1911 г. Амфитеатров, считавший, что либеральная интеллигенция должна быть вне партий, основал журнал «Современник». После этой неудавшейся попытки объединения литературных сил на «беспартийной» основе (поначалу в журнале сотрудничал и М.Горький) он печатался в газетах «Русское слово» и «Русская воля», редактировал сборники «Энергия», в 1917-1918 годах – сатирический журнал «Бич». Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. поставил Амфитеатрова перед выбо- 341 ром, который он сделал решительно и бесповоротно, отказавшись от сотрудничества с советской властью. Амфитеатров не смог смириться с тем, что «яростными советскими тисками» русская журналистика была раздавлена в течение девяти месяцев, а целая армия журналистов обречена на медленную, мучительную смерть. Именно это сделало невозможным его дальнейшее пребывание в советской России. В августе 1921 г. Амфитеатров бежал вместе с семьей в Финляндию, а в марте 1922 г. обосновался в Италии, близ Леванто, в своем имении, купленном еще до революции. В эмиграции темперамент Амфитеатрова-публициста не угас, ненависть к большевикам не покидала его до конца дней. Однако, мечтая о военно-политическом реванше, Амфитеатров был готов сделать ставку на кого угодно, даже на тех, с кем прежде ему было не по пути, – на монархистов и террористов, наивно верил, что «спасителем» России от большевизма способен стать даже Муссолини. Амфитеатров был одним из последних энциклопедически образованных русских журналистов. Он смело «вторгался» в литературу, историю и философию. В публицистических статьях, мемуарах и романах Амфитеатров часто вспоминал о своих «духовных корнях»: учебе на юридическом факультете Московского университета, о профессорах и студенческой вольнице, создавших из него «человека материалистического мировоззрения, потомка Базарова, ученика Михайловского и современника Чехова». Университет для Амфитеатрова – это «блестящая точка», «золотой период», школа свободы и благородства, которую он прошел в юности. Примечания 1. Точно стоги в унылых стихах Алексея Толстого - Толстой Алексей Константинович (1817-1875) – русский писатель, один из создателей (вместе с братьями Жемчужниковыми) пародийного образа Козьмы Пруткова. Стихи самого Толстого Амфитеатров оценивал крайне невысоко. 2. «Яр», «Эрмитаж», «Стрельна» - популярные московские рестораны, в которых в Татьянин день собирались преподаватели и студенты Московского университета. 3. Льва Толстого с его проповедью против Татьянина дня – имеется в виду нашумевшая статья Л.Н.Толстого «Праздник просвещения 12 января» (газета «Русские ведомости», 1889, 12 января), вошедшая в собрание его сочинений (1890) и издававшаяся отдельными брошюрами. В этой статье писатель утверждал, что «праздник самых просвещенных людей не отличается ничем, кроме внешней формы, от праздника самых диких людей». 4. Маклаков Алексей Николаевич (1838-1905) – врач-окулист, выпускник Московского университета, профессор кафедры глазных болезней. 5. Кит Китыч [Тит Титыч] Брусков – персонаж комедий А.Н.Островского «В чужом пиру похмелье» (1855) и «Тяжелые дни» (1863). В общественном сознании стал символом самодурства, грубости и невежества. 6. Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – известный юрист, общественный деятель и публицист. В 1877 г. был избран профессором государственного права и сравнительной истории права в Московском университете, уволен министром И.Д. Деляновым в 1887 г. В 1900-е гг. преподавал в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, избирался в первую Государственную Думу, был членом Государственного совета, с 1909 г. - издателем журнала «Вестник Европы». 7. Чупров Александр Иванович (1842 –1908) – экономист и общественный деятель, выпускник Московского университета, профессор. Читал курсы политической экономии и статистики. Прекрасный лектор, педагог, уделявший много внимания работе со студентами. С 1870-х гг. на протяжении более 30 лет сотрудничал в газете «Русские ведомости». Амфитеатров был племянником Чупрова. 342 8. Плевако Федор Никифорович (1842–1908/09) – известный московский адвокат, блестящий оратор, выпускник юридического факультета Московского университета. 9. Золотые звуки этого Мазини присяжных поверенных – Амфитеатров сравнивает Плевако с Анджело Мазини (1844-1926), одним из самых популярных в те годы итальянским теноров. 10. Остроумов Алексей Александрович (1844 - 1908) – врач-терапевт, доктор медицины, профессор терапевтической клиники Московского университета, 11. Миллер Орест Федорович (1833-1889) – историк русской литературы, замечательный лектор и педагог, выпускник и профессор историко-филологического факультета СанктПетербургского университета. Основатель и активный деятель общества вспомоществования студентам. О доброте и бескорыстии профессора Миллера ходили легенды. 12. Полковник Власовский – Власовский А.А. - московский обер-полицмейстер. После катастрофы на Ходынском поле в мае 1896 г. был объявлен ее главным виновником и уволен в отставку. 13. «Счастлив, кто смолоду был молод!», - сказал Пушкин – Неточная цитата из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» («Блажен, кто смолоду был молод», гл. 8, строфа Х). 14. Боголепов Николай Павлович (1847-1901) – юрист и государственный деятель, выпускник Московского университета, профессор. Читал курс римского права. Был ректором университета (1884-1887, 1891-1895), попечителем московского учебного округа (1895-1898). Консерватизм и склонность решать вопросы университетской жизни мерами принудительнополицейского характера особенно ярко проявились во время пребывания Боголепова на посту министра народного просвещения (1898-1901). По его инициативе во время студенческих волнений в 1900 г. была впервые применена высшая исправительная мера: 193 студентов отдали в солдаты. Это вызвало бурю протеста в русском обществе и послужило, в частности, одной из причин разрыва Амфитеатрова с газетой «Новое время», поддержавшей эту акцию властей. В марте 1901 г. Боголепов был смертельно ранен студентом П.В. Карповичем, изгнанным из университета за участие в беспорядках. 15. Мрочек-Дроздовский Петр Николаевич (1848-?) – выпускник Московского университета, профессор юридического факультета. С 1892 г. читал курс истории русского права. 16. Сергиевский Николай Александрович (1827-1892) – профессор богословия в Московском университете, духовный писатель, основатель и первый редактор журнала «Православное обозрение». Противник догматического отношения к преподаванию богословия. Темой большинства его проповедей, произносившихся в университетском храме, в том числе и в Татьянин день, было соотношение между верой и знанием, разумом и откровением. 17. Янжул Иван Иванович (1846 –1914) - известный экономист и публицист, выпускник и профессор юридического факультета Московского университета (до 1898 г.). Читал курсы финансового и полицейского права, выступал с публичными лекциями в Москве и Петербурге. Статьи Янжула печатались в «Отечественных записках», «Северном вестнике», «Русском экономическом обозрении», «Русских ведомостях», «Голосе», «Биржевых ведомостях» и многих других периодических изданиях. 18. Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – знаменитый историк, выпускник и профессор (с 1882 г.) историко-филологического факультета Московского университета. В 18931905 гг. был председателем Общества истории и древностей при Московском университете. 19. Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) - известный юрист, политический деятель и публицист. Учился в Московском и Геттингенском университетах. В качестве доцента и профессора юридического факультета читал курсы римского права и общей теории гражданского права. В 1884 г. был признан «политически неблагонадежным» и фактически изгнан из университета. Став присяжным поверенным, продолжал активную публицистическую деятельность. С октября 1905 г. – член центрального комитета конституционно-демократической партии. Вершина политической карьеры Муромцева – участие в работе первой Государственной Думы, председателем которой он был избран абсолютным большинством голосов. 343 20. Порвалась цепь великая, // Порвалась, раскачалася… - Неточная цитата из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Порвалась цепь великая, // Порвалась – расскочилася…», гл. V «Помещик»). В.Е.Красовский 344 Георгий Чулков Годы странствий. Из книги воспоминаний. 345 Два демона были моими спутниками с отроческих лет — демон поэзии и демон революции. Я всегда хмелел от песен Музы, и я всегда был врагом «старого порядка». А порядок в те годы был очень твердый, и казалось, что такую огромную империю, страшную в своем казеином благополучии, заколдованную таким колдуном, как Победоносцев, никак не расколдовать, никак не пробудить от ее мрачного и тяжкого сна. Революция, загнанная в подполье, казалась бессильной. Но в это же время беспокойные умы находили себе пищу в полемике с народниками. Перестраивалась на новый лад психология революции. Карл Маркс соблазнял тех, кому не нравилась сентиментальность народничества, расплывчатость и неопределенность той программы, которую защищал Н.К. Михайловский . Нет надобности распространяться в этих записках о моей тогдашней философии, но социологию Маркса я принял в те годы целиком и совершенно уверовал в пролетариат как строителя будущей цивилизации. Нравилась стройность системы, казалась убедительной начертанная Марксом схема классовой борьбы... Самая фатальность исторического процесса, неуклонно идущего к коллективизму, внушала тот оптимизм, которого так недоставало серой и унылой действительности. Народничество, со своею сомнительною этикою, было чем-то двусмысленным. А в марксизме все было так отчетливо. Нравилось именно то, что открыт объективный закон, что дело не в социальной морали, которая, как известно, палка о двух концах, а в роковой неизбежности чудесного скачка «из царства необходимости в царство свободы». На каждого токаря или слесаря я смотрел с особым любовным уважением. Ведь это тот товарищ, который перестроит мир! Жаль только, думал я, что эти блузники сами еще не подозревают, что именно они суть те счастливые избранники истории, которые, защищая свои классовые интересы, тем самым спасут мир от социального безобразия и социальной несправедливости. Надо было открыть этим блузникам секрет Карла Маркса. Одним словом, я жаждал стать пропагандистом. В это время в Москве социал-демократическая организация была, как известно, очень слаба. В сущности, вовсе не было влиятельного центра. Революционная работа велась кустарным способом. Вот и я сделался одним из кустарей тогдашнего подполья. Первый социал-демократ, с которым я тогда познакомился, был Н.А. Ф-в. Мы жили по соседству, на одной усадьбе, в Молочном пер. на Остоженке. Этот человек внушил мне к себе чрезвычайное уважение. И немудрено. Я был еще тогда гимназистом, а он кончал университет. Кроме того, он был литератором. Правда, он составлял, главным образом, популярные брошюры, но у него был немалый запас разнообразнейших сведений, и я поверил, что он в самом деле «все знает». Правда, мне тогда казалось несколько странным, что мой учитель как-то слишком самоуверен и решительно ни в чем не сомневается, но это смущение касалось философии. Зато в области социологии и политики у меня не было тогда никаких со346 мнений. И Н.А. Ф-в был для меня в этой области самым авторитетным человеком. В те же дни поддерживал я знакомство с А.В. Соколовым 3, моим товарищем по гимназии. Впоследствии под псевдонимом Станислава Вольского была им издана небезызвестная книга «Философия борьбы». Не помню, кто из них помог мне установить связь с подпольщиками, но вскоре у меня в руках оказалась кое-какая нелегальная литература, и я раза два в неделю путешествовал через Крымский мост в Замоскворечье, к одному токарю, где и вел социал-демократическую пропаганду. Занятия в этом маленьком кружке меня, по правде сказать, мало удовлетворили. Особенно меня смущало то, что мои товарищи оказались склонными к философии, и я не без удивления заметил, что в их головах гораздо больше вопросов и сомнений, чем у моего энциклопедически образованного марксиста. На иные философские вопросы товарищей я не мог отвечать, ибо в брошюрах, которые я им тогда доставлял, было кое-что — с моей точки зрения — неубедительное. И я отмалчивался, боясь впасть в противоречия с партией. Такие недоразумения бывали по поводу «высоких тем», — что касается экономики и политики, то здесь у меня все шло гладко. Однако меня тянуло от пропаганды перейти к агитации. К этому представился случай. На одной из курсовых сходок я был избран депутатом в так называемый «Исполнительный комитет объединенных землячеств и организаций» (1). С того часа закружилась моя голова в революционном хмеле. Соблазняла мысль во что бы то ни стало нарушить сонную одурь, доставшуюся России по наследству от правительственной опеки Александра III5. Я вошел в Комитет с твердым намерением повлиять на него в том смысле, чтобы студенчество отказалось от узкой «академической» программы и откровенно присоединилось к революции. Я уже мечтал о том, как выйдут на улицу с красными знаменами рука об руку студенты и рабочие. Вот это братание блузников и студентов особенно казалось заманчивым. Я уже тогда понимал, что университетская интеллигенция на таком опыте должна неминуемо расколоться. Но это нисколько не пугало. Напротив, затея казалась увлекательною. Когда я вошел в Комитет, там председательствовал Ираклий Церетели6 — впоследствии знаменитый лидер меньшевиков и ныне эмигрант. Надо ему отдать справедливость, что в те годы он очень охотно поддерживал левую фракцию Комитета, стремившуюся перевести движение на революционную почву. Теоретический его багаж был тогда не очень богат. Только попав в тюрьму, по дороге в Сибирь стал он основательно штудировать Маркса под руководством Игоря Будиловича. Впрочем, Церетели, человек способный, сделался очень скоро начетчиком марксизма и социалдемократом, хотя учитель его, Будилович, был убежденнейший и восторженный поклонник Михайловского. Церетели пользовался немалым успехом в студенческих кругах. В нем в самом деле было что-то пленительное. Красивый юноша (едва ли ему тогда было более двадцати лет), с чуть заметным грузинским акцентом, с добродушною улыбкою и с тем ясным и трезвым умом, который всегда бесспорен и для всех убедителен, он 347 без труда снискал себе популярность. Всегда ровный, спокойный и находчивый, он был идеальным председателем на сходках. Были в Комитете и будущие большевики, например, А.С. Сыромятников и В.И. Орлов, попавший позднее в 1911 году на каторгу. Были и будущие социалисты-революционеры, так, например, погибший от бомбы Швейцер, Вадим Руднев, Игорь Будилович и А.А. Ховрин, тоже впоследствии, как Орлов, побывавший на каторге. В.И. Орлов составил обстоятельные записки, посвященные бунтарскому движению 1901—1902 годов. Эти интересные мемуары будут, вероятно, напечатаны, а сейчас я, с любезного разрешения автора, читал их в рукописи. Перелистать эту толстую тетрадь мне, участнику движения, было очень любопытно. Припоминались факты, которые совсем погасли в памяти. Так, например, я совсем забыл, как мы провели заседание Комитета седьмого декабря, а между тем это заседание и выпущенный после него «Бюллетень № 17» в сущности предопределили характер тогдашнего движения. Я своевольно, без ведома Комитета, написал и напечатал прокламацию, где впервые говорилось, что мы, студенты, не рассчитываем на поддержку буржуазных кругов общества. Вот с этой уже отпечатанной прокламацией я явился на заседание Комитета, требуя под ней комитетской подписи и угрожая расколом. Наша партия победила. Церетели, Будилович, Орлов и еще некоторые стали на мою сторону. Подпись Комитета была дана, и знаменитый «Бюллетень № 17» на другой же день появился в Москве, пугая обывателей. Во главе наших врагов, «академистов», стоял тогда медик четвертого курса Аджемов, будущий небезызвестный член конституционно-демократической партии. Я хаживал в клиники громить «академистов» и сражаться с этим Аджемовым, неглупым человеком и довольно искусным оратором. Эти мои визиты в клиники наводили ужас на субинспекторов и педелей (2). Одним словом, я в те дни сжег свои корабли. За месяц, примерно, до истории с «Бюллетенем № 17» мне довелось выступить публично с такою речью, которая по тем временам неминуемо должна была привести меня в тюрьму. Дело было так. На правах писателя (я тогда уже напечатал несколько рассказов) был я приглашен на банкет памяти Добролюбова. В ресторане «Континенталь» собрались все московские либералы и радикалы. Я сидел случайно рядом с Леонидом Андреевым15, начинавшим тогда входить в моду. Банкет был как банкет. Седовласые вольнодумцы подымались один за другим и говорили обычные либеральные речи на тогдашнем «эзоповом языке», робко намекая на вожделенную конституцию (3). Выпив несколько рюмок водки, Л.Н. Андреев стал меня подзадоривать выступить с речью. Скажите что-нибудь решительное. Что это старики мочалу жуют! Пора вещи своими именами называть... Да вы сами скажите... Я не умею говорить. А вы — политик. Вам и книги в руки. — Да ведь скандал будет! 348 — Вот это и хорошо (4). Я так и сделал. Попросил слова и сказал краткую, но, кажется, достаточно выразительную речь, по тем временам неслыханную. По крайней мере, участники банкета были утешены. Леонид Андреев был в восторге. Старые радикалы полезли ко мне целоваться. Были и такие, которые опрометью бежали из «Континенталя», полагая, должно быть, что немедленно нагрянет полиция для расправы. Этой речи охранное отделение мне не забыло, и в довольно объемистом деле 1901 – 1902 годов, которое хранится ныне в Архиве революции, в справках обо мне канцелярии московского генерал-губернатора, а также департамента полиции (5) постоянно упоминается среди моих преступлений моя речь. 18 ноября 1901 г. в гостинице «Континенталь». <...> Тем юным, кто родился в начале ХХ века, трудно представить себе, какова была Москва накануне Японской войны. Какая была в ней патриархальная жизнь, тишина и безмятежность! Правительство снисходительно терпело либерализм «Русских ведомостей». Это была форточка, чтобы граждане не задохнулись от фимиама, воскуряемого царизму московскою прессою, официальною и уличною. Натуральной реакцией на косность упрямого самодержавия являлась мечта о парламенте. Литература была в положении петуха, которого гипнотизер положил на стол, проведя перед его носом черту: журналист не смел повернуть головы, уставившись на одну тему. Эта единственная тема была конституция, о которой неустанно, хотя, конечно, иносказательно твердили либералы. Людей иной закваски было мало. Вот разве Толстой, который одиноко доживал свой век в Ясной Поляне. Это был человек иной эпохи. Правда, был еще Чехов6. Как правительство «терпело» «Русские ведомости», так либеральная интеллигенция терпела Чехова. Она ему также время от времени делала «предостережения», но остракизму не подвергала, ибо его художество, хотя и не отвечало на вопрос «что делать», все же было так пленительно, так вкрадчиво-лирично, так прозрачно и — главное — так ни к чему не обязывало, что либеральный обыватель позволял себе «любить» Чехова, мечтая вместе с его героями о том, что через «двести-триста лет» у нас что-то будет иное, — не то парламент, не то вся земля преобразится чудотворно. … По университету бродили педеля и сыщики, а либеральные профессора вяло вольнодумствовали. В Татьянин день в ресторанах прятали подальше хорошую посуду, скатерти и вино. Это было предусмотрительно, ибо в этот день население так называемой Козихи и обеих Бронных выходило с песнями на улицу, славя мнимую студенческую вольность. Молодые люди отправлялись в Эрмитаж, а потом в Яр, в Стрельну. Там пили водку и пиво. На стол влезал седоволосый либерал в длинном похоронном сюртуке и произносил речь, уверяя многозначительно, что после «зимы» бывает «весна». Но Татьянин день проходил без всяких последствий. Продолжалась обычная жизнь: барышни читали Надсона, студенты — Михайловского... Иногда наоборот. В Малом Театре изумительные актеры играли почему-то пошлейшие пьесы, редко 349 позволяя себе выступать в классическом репертуаре. Чувствовалось, что песенка Малого театра спета. Явился соперник — Художественный. Здесь, в скучном сером зале, зрители замирали в сладостном созерцании того, как на сцене изображалась эта самая обывательская скука. Это был воистину Чеховский театр. После спектакля, у кого были деньги, ехали в «Прагу», где лакеи почтительно изгибались, ставя на стол котлеты марешаль. Слов «гражданин» и «товарищ» в обиходе не было вовсе, а если бы кто-нибудь сказал, что на крыше Кремлевского дворца в недалеком будущем водрузят красный флаг, чудака повезли бы в больницу для душевнобольных. Искусство ютилось по салонам. В Москве были свои Медичи, свои меценаты. Впоследствии они стали покупать декадентские картины, а тогда еще они побаивались «нового» искусства. Любили задушевность во вкусе Левитана. Одним из тогдашних литературных салонов был салон В.А. Морозовой. В ее доме на Воздвиженке читали доклады и устраивались беседы. Этот салон посещали И.И. Иванов, В.Е. Ермилов, Н.Е. Эфрос, С.Г. Кара-Мурза, сотрудники «Русских ведомостей», бывали здесь изредка А.П. Чехов, В.Г. Короленко, кое-кто из художников, иные из актеров и несколько студентов, начинавших работать в тех же «Русских ведомостях» и в «Курьере», где впервые были напечатаны рассказы Леонида Андреева, A.M. Ремизова (7) и мои. Георгий Чулков. Годы странствий. Из книги воспоминаний. Главы «Юность», «Мои тюрьмы», «В.Я. Брюсов». Москва, 1999. Чулков Георгий Иванович (1879 – 1939) – учился на медицинском факультете Московского Университета; в 1901 г. был арестован и сослан в Сибирь за участие в революционных событиях: входил в Исполнительный комитет объединения студенческих землячеств в Москве. Поэт, прозаик, критик, видный деятель символизма, мемуарист. Всегда оказывался в центре литературных и окололитературных событий начала ХХ в., «неисправимый символист», постоянный посетитель знаменитой ивановской «Башни», создатель пресловутой теории «мистического анархизма». Его имя было настолько известно, что прототип ядовитых строчек Андрея Белого узнавался современниками без труда: «Выскочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушая пророчество мистика-анархиста. Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волоса его, вставшие дыбом, волновались: «Об этом теперь напишу фельетон я». (Белый А. Старый Арбат. М., 1989. С. 272). Здесь содержится намек на поразительную работоспособность Чулкова. Уже до революции он выпустил шесть томов сочинений, редактировал и издавал сборники, альманахи, журналы, печатал рецензии, театральные обзоры. В советское время произошло превращение Чулкова-писателя в Чулкова-литературоведа. Им создана обширная «тютчевиана» (первое выверенное и прокомментированное собрание стихотворений Тютчева, статьи о поэте), написаны книги «Жизнь Пушкина», «Как работал Достоевский». Не оставлял он и художественной прозы (сборники рассказов «Посрамленные бесы», «Вечерние зори», роман о петрашевцах «Петербургские мечтатели»). Но постепенно Чулков изгоняется на обочину литературного процесса. Яркий биографический роман - исследование «Жизнь Достоевского» - остался неопубликованным. Не напечатаны и его пьесы. Первые главы воспоминаний (не мемуары в традиционном смысле, а путешествие по памяти) «Годы странствий» посвящены учебе Чулкова в университете, участию в студенческих революционных событиях, аресту, первым годам становления как писателя.. Правда, объек- 350 тивность требует признать, что притязания автора на бурное революционное прошлое несколько преувеличены. Но заслуживают внимания размышления студента-арестанта, несколько опрометчиво обронившего, что его душой с юных лет владел «демон революции». В главе «Мои тюрьмы» читаем: «Революция вышла из подполья. Бывшие ранее попытки в этом роде… не нашли еще отклика в массе. А на этот раз наш крик о свободе отозвался повсюду сочувствием... Правительство, послав без суда в Сибирь массу студентов, рабочих и разных интеллигентов, само растерялось, чуя в этом веселом мятеже новую силу. Этот малый бунт был первым предвестием большой революции». Примечания .Соколов Андрей Владимирович (партийная псевд. Ст. Вольский) – большевик, впоследствии входил в группу «Вперед», образованную в 1909 г. Отзовистами и богостроителями. После Октября 1917 г. – в эмиграции. Вернувшись в Россию в середине 1920-х гг., занялся литературным трудом. 1. «Исполнительный комитет объединенных землячеств и оргаизаций» – студенческая организация в Московском университете, стремившаяся объединить революционно настроенное студенчество. Чулков выполнял обязанности редактора бюллетеней, а также участвовал в создании объединения слушательниц женских курсов в Москве. Церетели Ираклий Георгиевич (1881 – 1915?) – студент юридического факультета, впоследствии один из лидеров меньшевиков. В 1917 г. Министр Временного правительства в Грузии. С 1921 – эмигрант. Будилович Игорь Александрович (1881 – 1954) – сын священника, студент филологического факультета Московского университета. Сыромятников Аркадий Степанович (1874 – 1954) – социал-демократ с 1904 г., одинз руководителеей1 борьбы за советскую власть в Рязани. . Орлов Василий Иванрович (1889 – 1931) – студент естественного факультета Московского университета. Математик, неоднократно судим за революционную деятельност. Его воспоминания печатались в книгах «Пятый год» (М., 1925, «Путь к Октябрю» (Вып. 5; М.,-Л, 1926). . Швейцер Максимилиан Ильич (Эдуардович) (1881 – 1905) – студент естественного факульлтета Московского университета, член боевой террористической организации. О его судьбе см.: Савинков Б.В. Воспоминания террориста. М., 1991; Ивановская П.С. В боевой организации. Воспоминания. М., 1928. Руднев Вадим Викторович (1874—1940) — сын коллежского регистратора, окончил университет в Базеле, доктор медицины, в годы учебы в Московском университете некоторое время был председателем исполнительного комитета, представлял Воронежское землячество, занимался созданием делегатского объединенного органа студентов всех высших учебных заведений Москвы. Издал бюллетень об антисемитском движении в Харьковском университете, был связан с центральной (московской) группой социал-демократической организации «Рабочее дело». В 1907 г. — член летучего боевого отряда. В дни Октября городской голова Москвы, правый эсер, создал Комитет общественной безопасности. Эмигрировал в 1919 г. Был секретарем редакции газеты «Еврейская трибуна», участвовал в выпуске газета «Родина» (Лозанна), был одним из редакторов газеты «Дни» (Берлин), издавал вместе с М. Вишняком эсеровскую газету «Свобода» (Париж), в 1937—1939 при его участии выходил журнал «Русские записки». Огромную 351 роль сыграл в издании журнала «Современные записки», став, по выражению М. Вишняка, «своего рода Иваном Калитой» для этого органа печати (см.: Вишняк М. «Современные записки». Воспоминания редактора. СПб., 1993). Ховрин Александр Алексеевич (1878—?) — сын коллежского советника, студент математического факультета Московского университета, представитель тамбовского землячества, эсер. Отбывал ссылку в Олекминске. В 1909 г, вошел в ЦК партии социал-революционеров, участвовал в экспроприации Чимкентского казначейства (Туркестанское генерал-губернаторство), за что был приговорен к каторжным работам. Аджемов Моисей Сергеевич (Мовсес Серпович) (1878— 1950) окончил медицинский и юридический факультеты Московского университета. Член II, Ш, IV Государственной Думы. Сотрудничал в «Русских ведомостях», «Вестнике права». Во время русско-японской войны был врачом. 2. педель — младший служащий при высших учебных заведениях в дореволюционной России, следящий за поведением учащихся. 3. Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель. В 1920 г. Чулков написал о нем воспоминания, включены в «Книгу о Леониде Андрееве» (Берлин, 1922). Дополненные публикацией 18 андреевских писем к автору, они вошли в книгу Чулкова «Письма Л. Андреева» (Л., 1924). Чулков, высоко оценивая талант писателя («андреевское творчество едва ли не самое замечательное явление нашей растерявшейся и ужаснувшейся современности»), в статье «Глухие выстрелы» отметил, что его сила не в идеях, а в «эмоциональности»:«.. .он кричит, когда ему страшно, и горько плачет, когда ему больно» (Чулков Г. Вчера и сегодня. М., 1916). 4.На банкете речи произнесли И.А. Бунин и Н.Н. Златовратский. Этот эпизод воспроизведен Чулковым в автобиографической поэме «Весенний лед» (1934— 1935) (другие названия — «Башня», «Юность»; рукопись хранится в РГАЛИ): В той же поэме ситуация на банкете памяти Н.А. Добролюбова описана следующим образом: В Москва седые радикалы В те дни устроили банкет В честь Добролюбова. Бокалы Звенели дружно. Много лет, Собравшись здесь, в «Континентале», Интеллигенты утешали Себя речами и вином… 5.В донесениях Департамента полиции (ГАРФ. 1898. Зч. 150 т. 2/1) «слово потомственного дворянина» Г.И. Чулкова оценено как носившее «горячий, часто революционный характер»; указано, что оно «было встречено громом рукоплесканий». 6. Чулков написал некролог А.П. Чехову (Новый путь, 1904, июль), перепечатанный под названием «Памяти Чехова» в сб. «Покрывало Изиды». Надсон Семен Яковлевич (1862 – 1887) – поэт представитель поэзии 1880-х, отразившей скорбь честного, не нашедшего места в жизни интеллигента. Даже после смерти имел множество поклонников, так называемых «надсонутых». Левитан Исаак Ильич (1860 – 1900) – живописец-пейзажист, создатель пейзажа настроения. . Морозова Варвара Алексеевна (урожд. Хлудова; 1850 – 1917) – вдова крупного московского капиталиста А.А. Морозова, гражданская жена В.М. Соболевского, редактора газеты «Русские ведомости». . Иванов Иван Иванович (1862 – 1929) – историк литературы, критик. . Ермилов Владимир Евграфович (1859 – 1918) – педагог, журналист, лектор. 352 . Эфрос Николай Ефимович (1867 – 1923) – театральный критик, историк театра, журналист. . Кара-Мурза Сергей Георгичевич (1878 – 1956) – журналист, книговед, библиофил. 7. О творчестве А.М. Ремизова Чулков написал статью «Сны в подполье» (Наши спутники. М., 1922) профессор филологического факультета М.В. Михайлова 353 Андрей Белый На рубеже двух веков. В университете А. Белый 354 <…> ЗООЛОГИ Круг зоологических дисциплин первым врывается в мое сознание: микробиология (ткани и клетки) — во мне поднимает волну интересов, которым вполне отдаюсь; и, во-вторых: интересует история трансформизма с зачатков его у Фрэнсиса Бэкона через Ламарка, Жоффруа-Сент-Илера и Гете к Дарвину, к Геккелю; короткое время я увлечен Ламарком, отдавшись моде, приподымавшей идеи Ламарка над Дарвином; гистологические и эмбриологические картины эстетикой поражают воображение; переживаю «мистерию» фаз кариокинетического деления клеток1, образования зародышевых зачатков (мезо-, экзо-и энтодерма)2, как некогда драмы Ибсена. <…> Тихомиров, ректор, антидарвинист, читавший нам общий курс и поэтому касавшийся проблем истории, употреблял все усилия разбить Дарвина; Зограф, вялый дарвинист, подчеркивал биомеханику Бючли; М.А. Мензбир, убежденнейший дарвинист, великолепный лектор, умнейше владеющий фактом, превратил курс «Введение в сравнительную анатомию» в философию зоологии, дающую яркую отповедь наскокам на Дарвина; первокурсники вводились в идеи и в факты; отсюда: повышенный интерес к микробиологии у меня; я получил сырье с предложением самому ориентировать свою мысль вокруг линий, рекомендуемых Зографом, Мензбиром или Тихомировым. Вот почему мой стол завален книгами: тут Гертвиг, Бобрецкий (зоология), Дарвин, Геккель и французский дарвинист, Катрфаж; надо всем — проблема клетки, или — проблема построения «храма жизни». Любимец же мой — профессор М. А. Мензбир. К нему привлекла отданность его идеям Дарвина: дофанатизма; и — привлекали: научность, самообладание в выборе и экономии фактов, слепляющих художество лекций его; фактами не загромождал, выбирая типичнейшие, но обставляя последним словом науки, в выборе ре-тушей и освещений фактов чувствовалась выношенность; говорил трудно, но — популярно; объясню парадоксальную эту увязку противоречивых понятий: включая в лекцию факт, он ставил его в освещении теоретической призмы, стараясь выявить основное ребро и убрать все ненужное; сравнивая Мензбира, как формировщика нашего научного вкуса, с действием различных стилей искусств, я заметил бы, что в нем увлекался художественным реализмом; лекция Мензбира — умный показ строго отобранных сравнительно-анатомических фактов, как стиль постановок Художественного театра; смотришь «Вишневый сад»; сквозь натуру жестов сквозит тебе символ; слушаешь Мензбира,— и вылепляется концепция трансформизма из ткани фактов. Так, чтением лекций, не превращенных в полемику, он зарезал Тихомирова; слушая Тихомирова, можно было подумать: его «философия» зоологии даже не антидарвинизм, антимензбиризм; при слушании М. А. Мензбира не существовало абстрактных идей, Зографа, Тихомирова; не существовало и М. А. Мензбира, стушевывавшегося перед Доской, на которой вылепливал он конструкцию клеточки, появление центросом27 и так далее. Не было красок эсте 355 тики, прекрасных фраз, афоризмов, которыми поражал физик Умов; была четкая линия мысли, не претворенная в художественно подобранный силуэт фактов; и линия фактов входила теорией; факты стояли в картине; а лик картины — Дарвин. Лекции эти сравнимы с гравюрою Дюрера проработкой штрихов и тенью строгости, убирающей все наносное в виде дешевых прикрас, не проверенных заскоков от «моды», которою пылил в глаза Зограф. Материал факта, продукция показа у Мензбира — первый сорт; видно было, что курс его — итог дум и усилий: итог всей работы; читал он «Введение», а поднимался занавес над всею наукою; всего себя, видно, влагал в этот курс. И значение курса — огромно: он-то и был форматором биологических интересов, как лекции Умова, вводившие в механицизм; Умов и Мензбир с механицизмом и с дарвинизмом стояли пред нами. И если в первый же университетский месяц зарылся я в «Происхождение видов»28 и в Гертвига, так это — действие Мензбира; если на моем столе явилась «История физики» вместе с литографированными листами умовских лекций, так это — действие Умова. Но до чего оба были различны: Умов — бард с развевающимися власами; Мензбир — скромный лишь установщик выставки фактов, после пробега по которой нам делалась ясной Гетева «Идея в явлении»; Умов взлетал в философию; Мензбир же не летал: как-то ползал, средь фактов продалбливал проходы к научным кладам типичного факта; Умов играл афоризмом Максвелла, Томсона, пленяя воображение глубиной, не всегда проницаемой; Мензбир лишь выпуклыми словесными уподоблениями и служебной метафорой доносил факт до ощупи. Для Умова характерны выражения вроде: «Бьют часы вселенной первым часом»; мы вздрагивали, чуяли глубину под словами, не облагаемую трезвым понятием; для Мензбира же характерны метафоры вроде: «Гаструла29 напоминает видом ягоду малины, снятую со стерженька». И образ малины связывался с гаструлой; сложнейшие конфигурации фактов врезались им в мозг, как гравировальным резцом. Мензбира было порой трудно слушать; он вел нас крутою тропинкою фактов, не развлекаясь красками иль анекдотиками, которыми жонглировал Зограф; по окончании лекции всякий бы мог повторить ее: так вылеплялась она умным ладом идеи с подобранным фактом; лекции Мензбира выглядеть могли бы идеологическою ловушкой, подсовывающей ловко итог его мысли, если бы не строгость, не безусловная честность, которыми действовал он. В нем жила парадоксальнейшая гармония «фанатизма» с «научною объективностью»; он был фанатик факта; и он фактически обосновывал фанатизм. Такова и наружность его. Небольшого роста, в сереньком, худой, желтый, желчный, со встопорщенным чернейшим над огромнейшим лбом клоком, с черной бородкой, сутуло сосредоточенный, дико выпученными и какими-то желтыми глазками перед собой глядящий, безбровый, весьма неказистый, вступал перевальцем он в переполненную аудиторию, не глядя, не видя, не слыша; глубокая морщина перерезывала выпуклый лоб; первое движение — силою напряжения мускулов рук сдвинуть кафедру, 356 загораживающую от нас доску (всегда забывали убрать эту кафедру); ни позы, ни жеста; одно трудовое усилие: запомнился выгиб тела, сдвигающего тяжесть кафедры; он напоминал первобытного человека иль высокоразвитую гориллу, являя кричащее доказательство теории Дарвина; взглянешь и — скажешь: «Ну, конечно же, человек происходит от обезьяны». Отодвинув кафедру, косолапо оцепеневал с мелом в руках и с пропученными пред собою глазами, не видя студента, которого взглядом фиксировал; раз этой точкой фиксации стал я, сев в первый ряд; как в меня впучился он, так и не поворачивал головы, меня не видя, лишь поворачиваясь к доске (рисовать) и потом продолжая вперение глаз в ту же точку (в меня). Постояв, помолчав, начинал свою лекцию он, выбивая громким и ровным голосом точные, ровные, гладкие фразы, как выученные наизусть; вероятно, он так говорил от слишком ясной ему картины мысли, насквозь индукции; ровно, строго, спокойно она выбивала в нас твердый рельеф. Развивал ли теорию радикала циана, слагающего белковые вещества, рисовал ли этап преформации хряща в кость,— получался твердейший рельеф без единого яркого слова; а научное воодушевление сказывалось углубленьем морщины; и делался мрачным весьма; не крылатое слово, весомое очень. Кончив лекцию, клал он свой мел и без паузы тихо и прозаичнейше удалялся с опущенною головою, вперясь пред собой исподлобья, точно это не он выбил в нас барельеф; и точно лекция его — не событие в жизни курса, а просто стирание пыли со шкафа: весьма прозаичное дело; казалось, что Мензбир в любой момент жизни готов прочесть великолепную строгую лекцию; и в любой момент лекции этой ее оборвать, чтобы без перехода заняться стиранием пыли; он говорил ведь на лекциях лишь о том, о чем думал двадцать четыре часа в сутки; и оттого было строго молчанье его, что оно было — произносимой научною мыслью. Я не видел профессора с большим отсутствием позы и фразы иль с меньшим желанием поддержать репутацию одного из любимейших профессоров; мне казалось: он делает все, чтобы потерять популярность; помнится, что боялись к нему подойти: его громкий басок мог огреть; разлетишься, а он отчитает тебя; его часто встречали и провожали аплодисментами, на которые он — нуль внимания: точно их нет; лишь морщина означится, вид станет более зверским; гориллою-умницей, или пещерным аборигеном он выглядел с головой, переросшею современников на миллионы лет,— а ходит в шкуре, Михаил Александрович, право, казался таким. Вид вовсе не располагал к легкому общению с ним; а любили за лекции, за строгую честность, за идейную непримиримость к казенному духу; ученый, на десять голов превышающий прочих из группы зоологов, был почти вытеснен из Зоологического музея, куда не являлся, ютясь со своими студентами, местами и коллекциями чуть ли не в частной, специально снимаемой квартире, где было тесно и неудобно: а курс наш ломился работать у Мензбира; мест же не было вовсе; Тихомиров и Зограф владели и помещением, и материалом, и штатом помощников, и местами, и прочим; высшее начальство из «вне университета» так 357 действовало, что Мензбир упразднялся как бы. Ни кокетства, ни позы или желания подыграться к нам. Мрачность одна. Но именно мрачностью и внешнею некрасивостью действовал он: был прекрасен воистину. Он разогрел биологические интересы во мне; обстоятельства неожиданно так сложилися, что ареною интересов стал мне сам собою подставившийся Зоологический музей. На первом курсе не было практических занятий с Мензбиром; и были — у Зографа, давшего мне авансы к широкой работе. Когда же позднее рванулся я к Мензбиру, то мест у профессора этого не оказалось уже. Мензбир внушал уважение; не забывал я, что он был любимейшим учеником крестного моего отца (С. А. Усова);30 в те уже годы учителем был он нынешнего академика Кольцова, на первой лекции которого я присутствовал. Мензбир — строгий экзаменатор; экзамен его означался эпидемией провалов, которой предшествовала эпидемия страха; он не щадил тупоумия, разгильдяйства, незнания; вместе с тем: он делал все, чтобы трудный предмет превратить в популярный, в рельефно воспринимаемый; экзамен по введению в сравнительную анатомию при строгих требованиях экзаменатора был прелегким лишь оттого, что я слушал профессора, не пропустивши, кажется, ни одной лекции; каждая входила картиною незабываемой (несмотря на тяжелый научный балласт); при учебнике Мензбира, знания которого требовал он, лекция восстановлялась сполна; не забываешь того, что в тебе формирует метод. Иначе вошли его лекции по сравнительной анатомии позвоночных (третий и четвертый курс); эти лекции — номенклатура, данная четко, но с труднозапоминаемыми подробностями; позвоночными интересовался я мало; на лекциях этих я редко бывал, день просиживая в лаборатории; оттого-то и я в полной мере переживал предэкзаменационные страхи; но экзаменовал меня не он, а покойный академик Сушкин; должен сказать: это не был экзамен, а — личное сведение счетов (за «декадентство»), на которое М. А. не был способен; он строг был к другим; но он строг был к себе. Он стоит предо мной точно высеченным из цельного камня: модель «homo sapiens», возглавляющая коллекции видов Зоологического музея, он — сама научная честность, брезгливо отмежевывающаяся от эффектов, сведения счетов, дешевенького политиканства и прочего. Этому профессору хочется сказать горячее спасибо за то, что он нам, студентам, давал. Первая встреча с университетом — Зоологический музей; семинарий по химии, физике на первом курсе — проформа; практические занятия по ботанике — определение растений (сухое и мертвое дело, коли не живое растение, а спиртовой препарат); практические занятия по анатомии человека, зачеты по остеологии и миологии (работа на трупе) — для первокурсников сериозное дело, как и экзамен (4 части учебника анатомии Зернова); но анатомия человека — предмет проходной; он рассматривался как барьер пред другими предметами: одолеешь,— свобо358 ден: иди заниматься, чем хочешь; в анатомическом театре естественники — гости у медиков. Зоологический музей стал своим; у каждого студента — своя штаб-квартира; кто — в лаборатории; кто — в Ботаническом саду (на Мещанской), кто — в гистологическом кабинете; а я — в музее; мне казалось, что я в дремучем, тенистом лесу; затеривался меж витрин и моделей в таинственных сумерках; думалося легко; посетителей — нет; нет — студентов; нет хлопанья дверей, толчеи, разговоров; и не висят объявления; «субы»32 не шмыгают; и педеля не выглядывают; вместо них — смотрит глазом стеклянным косматейший зубр, иль раскинулись щупальцы спрута: присоски — с тарелочку; и лишь кто-нибудь из работающих на хорах зоологов-спецов нос высунет, или на слоновьих, но мягких ногах, увлекаемых пухлым туловищем, точно шаром, воздушным, надутым, бледноволосый Григорий Александрович Кожевников пронесется, до ужаса выкативши пред собой водянистое светлое око,— не удивится, не спросит, что делаешь: право твое думать в этих тенистых углах среди тигров, присев на клык мамонта; я ж привлечен был хозяином этих пространств, изукрашенных зверем пяти частей света. Зал превысокий, двусветный, но темный; и хоры с перилами: вокруг стен; там отдельные камеры (клетки для специалистов, с ключами); не забегая в пространства му- ] зея, уносятся они лесенкой вверх, отпирают каморки, усаживаются за микроскопы; бродя здесь, наткнешься на полукруглую аудиторию (амфитеатром), от прочих сторон отгороженную только схемами зоологическими, меняющимися на протяжении курса; под ними, меж окнами и витриною — сборище за столом; человек пятнадцать студентов работают скальпелями, пинцетами над принесенными морскими ежами: практические занятия у Николая Васильевича Богоявленского; он тихо обходит студентов, тому иль другому показывает, в чем дефект препарата; за угол зайти,— ни студентов, ни Николая Васильевича; тишина лесов Конго: фантазии строятся. Вдруг треск гнусавого, громкого очень фальцетто из далей шкафов: — Николай Васильевич, да где у нас склянка! Иль: — Юра, опять мне напортил! «Юра» — товарищ мой: Юрий Николаевич Зограф; фальцетто же — не верещание козлоногого фавна, а профессора Николая Юрьевича Зографа, хозяина этих безлюдных пространств, схем, столов, микроскопов, зоологических клеток; Григорий Александрович — приват-доцент; Николай Васильевич — лаборант; Мензбир носу не кажет; а Тихомиров, мелькнув метеором на лекцию,— скроется. Зоологический музей — царство Зографа: он ведет здесь хозяйство большое, пасет стадо, только не коз,— а помощников; точно квартирою водворен он; лаборанты, студенты, работающие у него, все — вернейшие посетители субботников Зографа, танцующие с дочерями его,— всем есть место в музее; стиль — очень семейственный, стиль благодушный; чаек с колбасой, с белым хлебом, с шутчонками, с кряканьем, с полулиберальным умолком и с полусальным подразумеванием — в кабинете профессорском. 359 Примечания «Тишина. Лирические поэмы» (СПб., 1898) — книга стихов К. Д. Бальмонта. 4 «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899) — последняя драма Г. Ибсена. 6 Неточная цитата (в оригинале: «много святых радостей») из «Симфонии (2-й, драматической)» (Собрание эпических поэм, с. 325). 11 «Философия бессознательного» (1869.) — основное сочинение Эдуарда фон Гартмана. 12 Хандриков — герой «третьей симфонии» Белого «Возврат». Белый приступил к работе над нею в ноябре 1901 г. 14 В. В. Владимиров поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета одновременно с Белым. 15 А. С. Петровский был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета в июле 1899 г. Белый сблизился с ним осенью 1899 г. 16 Мезозой (Мегогоа) — класс животных подтипа плоских червей, ранее считавшийся промежуточной группой между простейшими и многоклеточными. 17 «Очерк истории физики» Фердинанда Розенбергера в трех частях (перевод с немецкого под ред. И. М. Сеченова. СПб., 1883-1886). 18 Цитаты (вторая — в сокращении) из статьи «Лирика и эксперимент» (1909). 19 Имение Серебряный Колодезь (Старогальская волость Ефремовского уезда Тульской губернии) Н. В. Бугаев приобрел осенью 1898 года. Первое лето Белый провел там в 1899 г. 21 «Введение в изучение зоологии и сравнительной анатомии» (М., 1887) М. А. Мензбира. 24 Непрямое деление клетки, один из способов размножения клеток животных и растений. 26 Мезодерма — средний слой зародыша многоклеточных животных и человека; из мезодермы развиваются мышцы, хрящи, кости. Экзодерма — наружный слой клеток первичной коры растения, выполняющий защитную функцию. Энтодерма — внутренний слой зародыша многоклеточных животных и человека на ранних стадиях его развития. 30 См.: Мензбир М. А. Сергей Алексеевич Усов.— В кн.: Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1887 года. М., 1887, с. 232-247. 32 «Субы» — разговорное обозначение университетских служителей и надзирателей (первая часть слов типа «субинспектор», «субординатор»). 38 Мистер Дик — персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», румяный и седовласый джентльмен. См.: Диккенс Ч. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15. М., 1959, с. 233. 39 «Валькирия» (1856) — музыкальная драма Р. Вагнера, входящая в тетралогию «Кольцо Нибелунга». Вальгалла (Валь-халла) — в скандинавской мифологии находящееся на небе жилище богов и павших храбрых воинов; в «Гибели богов», заключительной части тетралогии Вагнера, Вальгалла гибнет в пламени. 42 Намек на вступление к поэме Пушкина «Руслан и Людмила»: «Там чудеса: там леший бродит». 44 Обыгрывается строка вступления к «Руслану и Людмиле»:«Там русский дух... там Русью пахнет!» 45 Недотыкомка — бредовый образ, рождающийся в сознании сходящего с ума Передонова, героя романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» 48 Начало переписки Белого с 3. Н. Гиппиус относится к февралю 19о3.; Блоком относится к январю 1903 г. 50 Микротом — лабораторный прибор, с помощью которого получают тонкие срезы тканей животных и растений для изучения их под микроскопо 56 Эта статья появилась в 1902 г. в декабрьском номере «Мира искусства» (№ 12, с. 343— 361.) за подписью: Борис Бугаев. 59 Белый выступал с лекцией «Фридрих Ницше» в Политехническом музее в Москве 19 декабря 1907 г. 2 360 361 Михаил Осоргин Воспоминания. М. Осоргин Там, где Никитская впадает в Моховую, высятся две желто-розовые крепости московской учености. Московский студент, рожденный романтик, до старости улыбается, вспоминая свои улицы, свои аудитории, свою пивнушку и своих профессоров. Это питерцы оценивают, определяют и отдают должное, а мы просто любили и любим. Профессор Мрочек-Дроздовский, голосом тусклым и старческим, стараясь сделать страшное лицо и проявить игривость, говорил: — И вот пришли скифы: рожа черная, скулы торчат, бороды косматые, — ну, черти, совершенные черти! У самого борода тоже косматая, а пенсне свисает на верхнюю губу. Русское право и его историю читали два профессора, Мрочек-Дроздовский и Самоквасов, и приват-доцент Числов. Кто читал право, а кто его историю, понять трудно. Мрочек читал скучно, Самоквасов томительно, а Числов безнадежно; он был молод, но ничего особенного от жизни не ждал. Проф. Самоквасов, большой старик с отлично сделанной из плотной осмоленной пакли бородой, в длинном сюртуке, видавшем виды, также любил скифов, но говорил преимущественно о курганах. В своей жизни он раскопал бесчисленное количество курганов. Рассказывал он о них подробно, о каждом особо, и это 362 имело какое-то отношение к русскому праву. Его главным козырем была коробочка с мелкими угольками, которая хранилась в одной из витрин Исторического музея. Раз в течение курса он вел нас туда, то есть, собственно, не «нас», не всю тысячу юристов-первокурсников, а десяток-другой любопытствующих. Здесь, склонившись над витриной грузным корпусом и вынув коробочку, он с необычным оживлением говорил: Эта находка в корне меняет все прежние представления о наших предках. Что это за угольки? Посмотрите, но не касайтесь пальцами. Они найдены в погребальной урне. Это, милостивые государи, обгорелые зерна ржи! Значит, наши предки не были только дикими звероловами; они занимались и хлебопашеством. Значит, уже в те времена культура была достаточно высокой... и так далее. Мы заглядывали в коробочку и чувствовали умиление и гордость за предков. Профессор Самоквасов вырастал в наших глазах, и на студенческих балах мы танцевали с его племянницей, занимая ее разговором о коробочке с обгорелыми зернами ржи. Но невозможно было с полной серьезностью относиться к русскому праву при наличии права римского, важнейшего предмета, который преподавали профессора Хвостов и Соколовский. Хвостов, в начале своей профессорской карьеры, был грозой первокурсников. Римское право училось назубок, а экзамен «переживался». Хвостов был ядовит и резал безжалостно. Благодаря этому я отлично знаю, что столб воздуха над недвижимостью принадлежит ее собственнику, и прихожу в бешенство, когда над моим клочком земли имеет дерзость пролетать аэроплан. Знаю также, что из двух тонущих братьев раньше тонет младший, так что наследство получают дети старшего, и остров делится на две части линией, проходящей по середине течения реки. Весной, перед экзаменами, мы свистали Хвостову, но это на него мало действовало. Потом вдруг он переменился, стал большим либералом, заинтересовался женским вопросом, читал о нем публичные лекции, а на экзаменах ставил пятерки. К тому времени я уже кончил университет. Другой «римский» профессор, Соколовский, был особенно знаменит тем, что в суровую зиму носил легкое пальто нараспашку. Он был красив, здоров, спортсмен ей неплохой оратор. Его слушали без скуки и не боялись. Прекрасна была его стройная фигура на Тверском бульваре, где все проходившие женщины на него заглядывались, а на нас, молокососов, уже не обращали внимания. По нынешним временам он, конечно, брил бы усы, но по тем временам брил только бороду, а усы были его главной красотой. Слушали Соколовского немногие, но он не особенно и гнался за полнотой аудитории; у него была какая-то своя жизнь и свои интересы, нам неизвестные. Но аудитория была полна, сидели даже на окнах и висели на колоннах, когда читал гражданское право превосходный лектор, а позже — печальной памяти министр, проф. Кассо4. Здоровенный, черный, отлично одетый, авторитетный, подавляющий. Студенты чутки к живому и дельному слову, и Кассо был любимцем, пока не стал злым врагом и науки и студентов. 363 Ушел в министры и другой наш профессор —Зверев5, раз в год собиравший большую аудиторию: когда он говорил о свободе воли. Маленький, живой, щуплый, бойкий на язык, но большого доверия не внушавший. Энциклопедия права — предмет интересный, и он умел его оживить. Полгода его слушали, во второй половине он наскучивал. Расстались с ним без особых слез. С полной несерьезностью мы относились к графу Комаровскому6, а может быть, к его предмету — международному праву. Вероятно, в те времена — в годы рубежа двух веков, — международное право считалось таким же зрящим придатком к науке, как и богословие, которое читал о. Елеонский. Чтобы о. Елеонский мог его читать, устанавливалась очередь — приходили двое. На экзаменах о. Елеонский боязливо спрашивал студента: — О чем вы могли бы ответить? О доказательствах бытия Божия. Ну, и например? Студент бормотал, профессор любовно поправлял и ставил пять тем, кто отвечал, и четыре тем, кто откровенно признавался в полном невежестве. Но был предмет и был лектор, для которых открывалась актовая зала в старом здании, потому что никакая другая аудитория не могла вместить валившую студенческую толпу. Первая осенняя лекция Александра Ивановича Чупрова7 считалась событием и праздником. На нее собирались не одни юристы - - приходили студенты всех факультетов. Под гром рукоплесканий всходил на кафедру студенческий кумир, большим и указательным пальцем поправлял очки, мягким баритоном произносил: — Милостивые государи! Милостивые государи замирали от удовольствия и гордости. Эти два слова А. И. выговаривал по-особенному, с понижением в октаву. А затем читал свою вступительную лекцию, приблизительно одну и ту же все года. Он был отличным профессором, но его любили, главным образом, за то, что он был отличным человеком, мягким, душевным, своим. У него был непрерывный роман со студенчеством, он был с ним слит, в нем никто и никогда не усомнился. Он был настоящий русский интеллигент в положительном смысле слова, а не в нынешнем — искаженном. Чупров, университет, автономия, свобода, «Русские ведомости» — все это были синонимы. Жить без любви невозможно — и мы любили Чупрова. Много позже, за границей, я познакомился с его сыном, проф. Александром Александровичем8, талантливым ученым-статистиком, портретом своего отца, недавно умершим. Очаровательность была в их семье наследственной. Когда я думаю о прекрасных людях — я думаю о Чупровых. И не я один, — многие! Большое счастье знагь таких людей. Как безвременно угас А. А. в проклятой эмиграции! Большую аудиторию собирали Янжул9 и Новгородцев10. Янжул при мне читал последний год. Его сменил Озеров, почтительно и робко заявивший на первой лекции, что не считает себя достойным продолжить дело своего и нашего учителя. Позже он стал более уверенным. А Павла Ивановича Новгородцева любили и 364 за его предмет, и за спокойный вдохновенный голос, и за удивительную красоту лица; в мое время он был еще молод и чернобород; глаза выразительные до святости. Его философия права была для нас богословием, а он — пророком. Был у нас еще один любимец, в то время еще прозектор – Минаков и; он читал судебную медицину, курс второстепенный, им возвышенный до важности. В то время юристы не знали никаких семинариев и вне обычной часовой лекции с профессорами почти и не встречались; живого разговора с ними не было, их легко мог бы заменить граммофон. Минаков приносил с собой всякие интересные штуки, вроде сломанного ребра старухи, тут же это ребро ломал на кусочки, доказывая его хрупкость, или рассказывал любопытнейший судебный процесс, в котором он выступал экспертом, а то с таким жаром и такими знаниями излагал строение волоса, что заслушаешься. Разумеется, этот волос оказывался уликой в следственном производстве. Он любил вопросы и порой обращал лекцию в живую беседу. Это нас привлекало - и Минаков пользовался неизменным успехом. Было в обычае — и обычай этот почтенен -- блуждать по лекциям популярных профессоров других факультетов. Помню Тимирязева, не очень похожего на свой нынешний памятник у Никитских ворот, на месте сгоревшей студенческой столовой отличной дамы Троицкой, которая за сорок копеек кормила по первому разряду (хлеб вволю, чудесный квас). От него я узнал, что растение потому будто бы тянется к свету, что быстрее растет с теневой стороны. Чудовищные и препротивные вещи рассказывал и показывал знаменитый Поспелов12 в своей клинике. Приятно знакомил с птичьей жизнью столь же знаменитый проф. Мензбир13. Воспоминание более позднее — двадцатью годами. В голодную пору победы пролетариата выпала мне удача везти домой два пуда яблок; была зима, московская мостовая вся в сугробах, даже валенки проваливались. На углу Тверской и Чернышевского встретился старенький Мензбир. Что это везете? Сподобился яблоки получить. Ну, это действительно удача! Не гниль? Яблочко к яблочку, профессор! Зайдемте ко мне попробовать. Сначала посидели на ящике, пока я отдыхал, потом вдвоем живо докатили санки до дому. Я сиял за себя, он сиял за меня — добрый человек. А как, ящик вскрывши, закусили зубами по штуке и зубы сладко заныли от холода и сласти, — тут совсем размечтался профессор. — Ведь вот бывает же иногда счастье — точно с неба свалится. Я вчера сидел и мечтал... Мне очень хочется издать свою книгу, двадцатилетний труд. А где ее издашь? Ни бумаги, ни типографий, и никому она не нужна. Тут как-то дошел до меня случайно номерок английского журнала, по орнитологии. И в журнале пишут обо мне, да так почтительно. А я так и умру, этой книги не издав, и даже собрать ее нет времени. И вот размечтался — если бы найти место дворника! Один у нас нашел, отлично живет. Подмести, да дров принести – пустяк, сейчас, все сами все делают, дворники только для порядку, для прописки. Жил бы я мирно и кончал книгу. Может быть, удалось бы хоть За границей издать — хотя 365 очень хочется по-русски. А хорошо бы дворником! Помечтали, погрустили, съели еще по яблочку. В то время он продавал книжка-по-книжке свою библиотеку, замечательное собрание. На это кое-как жил, голодая наравне со всеми, а может быть, больше многих. Кончается моя страница, вырванная из студенческой памяти. Мало кто жив из тех, о ком вспомнилось. Легкой земли ушедшим! Пишу о них с улыбкой, а думаю с глубоким уважением, и о бывших наших любимцах, и о прошедших незаметно. Все они, каждый по мере сил, создавали и умножали славу двух старых зданий, стоявших и поныне стоящих там, где Большая Никитская улица впадает в Моховую. Печатается по: М. Осоргин. Воспоминания. Из цикла «Встречи». Изд-во Воронежского университета. 1992. Впервые: «Последние новости». Париж. 1933. 18 июня, № 4470. Осоргин Михаил (псевд. – Ильин Михаил Андреевич; 1878 – 1942) – прозаик, публицист, критик, переводчик, мемуарист, общественный деятель, член партии эсеров, масон, один из видных деятелей русской эмиграции. Поступил на юридический факультет Московского университета в 1897 г., на рубеже двух столетий. Началась полунищая, но счастливая студенческая жизнь в «университетском» квартале Бронных улиц. Позже поведает об отчаянно счастливой поре молодости со сходками, петициями, смелыми речами во время студенческих волнений, о приобщении к революционной деятельности, угрозе тюрьмы, ссылке – бегстве в Европу. Корреспондент «Пермских губернских ведомостей» (начал сотрудничать еще гимназистом), петербургского «Журнала для всех», «Вестника Европы», московской газеты «Русские ведомости» в Италии. Выпустил книгу «Там, где я был счастлив». Профессионально занимался журналистикой, издал свою первую книгу «Очерки современной Италии». Известность ему принес перевод, по просьбе Евгения Вахтангова, трагикомической сказки Гоцци «Принцесса Турандот». В 1916 г., вернувшись в Россию, печатается в недолговечной прессе: газетах «Власть народа», «Родина», «Наша родина, «Луч правды»; в журнале «Голос минувшего». Несколько книг выходит в писательском издательстве «Задруга». Общественная и публицистическая деятельность в голодной большевистской Москве, участие в разборе материалов московской охранки, выпуск книги «Охранное отделение и его секреты»; вместе с Н.А. Бердяевым избран вице-председателем Всероссийского союза писателей, возникшего из московского писательского клуба. М. Осоргин – первый председатель Союза журналистов в России. В 1921 г. участвует в комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья (в которой Ленин увидел «литературное прикрытие белогвардейской организации»), редактор бюллетеня «Помощь» Всероссийского комитета. И вновь тюрьма Лубянки, ЧК, угроза расстрела, несколько дней провел в специальной камере для смертников. В 1922 г. среди изгнанников на знаменитом «философском пароходе» навсегда покинул родину. Он был «самым молодым по духу представителем русской эмиграции, и эта вечная его молодость делала из него вождя не только всей русской литературной молодежи за границей, но и вообще русской молодежи в эмиграции…» (Г. Гурвич). Член берлинского и парижского Союзов русских писателей и журналистов, Общества друзей русской книги; страстный библиофил («Заметки старого книгоеда» (1928 – 1934), редактор литературного отдела газеты «Дни». Почти ежедневно печатает статьи на столбцах авторитетной парижской газеты «Послед- 366 ние новости». Б. Зайцев называл М. Осоргина «изящным человеком мягкой и тонкой души», Марк Алданов отмечал «совершенную порядочность, благородство, независимость и бескорыстие». Сам о себе ярко рассказал в мемуарной прозе автобиографического характера: «Вещи человека», «Времена», Сивцев Вражек». М. Осоргин внес несомненный вклад в «золотую библиотеку» русской мемуарной прозы русского зарубежья: самое святое осталось позади. «Наше поколение в чрезвычайно выгодных мемуарных условиях; не успев состарится, мы прожили века», – заметил он. В сборнике помещается одно из самых поэтичных воспоминаний о Московском университете, «этюд о прошлом» М. Осоргина «Профессора». Сережа, в именной указатель расставь по алфавиту, пожалуйста Мрочек-Дроздовский, Петр Николаевич (1848—1919) — историк права. Самоквасов, Дмитрий Яковлевич (1843—1911) — археолог и историк права. Хвостов, Вениамин Михайлович (1868—1920) ~ юрист. .Чупров, Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик, публицист, общественный деятель. Чупров. Александр Александрович (1874—1926) – теоретик статистики. С 1917 г. — за границей.. Минаков, Петр Андреевич (1865—1931) — антрополог, профессор судебной медицины. Поспелов, Алексей Иванович (1846—1916) — ученый-дерматолог. Мензбир, Михаил Александрович (1855—1935) — зоолог, автор известного труда «Птицы России> (т. 1—2. 1893— 1895). 367 Василий Осипович Ключевский Набросок речи, посвящённой 150-летию Московского Университета Половину своего второго века пережил наш Московский университет. С усиленным биением пульса будут приветствовать его 12 января 1905 г. многочисленные его питомцы, рассеянные по городам и селам пространной России. Каждый из них, подписывая приветственную телеграмму, живее вспомнит свои лучшие годы, бодрее освежит свои светлые воспоминания. Старый студент вспомнит, когда он был молод и как хорошо был молод; молодой положит себе завет не забывать родного университета и когда состарится. Разделенные пространством, возрастом, житейскими стезями, убеждениями, все они мысленно сольются в плотдуховную корпорацию, объединенную солидарным нравственным чувством и одинаковыми умственными интересами. Минувшее пятидесятилетие не было спокойно. Тревожной волной текла русская жизнь, и Московский университет не раз испытывал усиленную качку, разделяя надежды, стремления, одушевление, опасения, негодования, —все настроения, сменявшиеся в русском обществе. На кафедрах и скамьях университета, в профессорских курсах и в настроении студенчества согласно и чутко отзывались и великие завоевания европейской науки и мировые международные столкновения, и шумные общественные движения Запада, и крутые переломы, испытанные русской жизнью в это полное событий время. Студенты ценили профессоров, профессора понимали студентов: те и другие 368 гордились своим университетом, тех и других уважало общество. Обилие научных сил поддерживало единодушие между аудиторией и кафедрой, единомыслие между университетом и обществом. Ярким созвездием блестит в этом десятилетии плеяда московских профессоров, слову которых внимали аудитории с затаенным дыханием, трудами которых питалась русская научная мысль. Никто не назовет малоплодным для университета пятидесятилетие, в которое действовали и завершили свою деятельность такие его профессора, как Грановский, Соловьев, Щуровский, Давидов, Бредихин, Чичерин, Овер, Варвинский. В это пятидесятилетие десятки тысяч студентов вышли из университета и, расходясь по городам и усадьбам отечества, будили местные силы духовными интересами и знаниями, вынесенными из университета. Это был с каждым годом нараставший всесословный резерв русского просвещения, вербовавшийся из различных общественных состояний. Всесословность положена была в основу Московского университета его устроителями, просвещеннейшим и благороднейшим русским вельможей Шуваловым и светилом европейской науки, архангельским крестьянином Ломоносовым. Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911) окончил историкофилологический факультет Московского университета (в 1865 г.) со степенью кандидата. Его учителями были Ф.И. Буслаев, Б.Н. Чичерин, А.Н. Попов, С.В. Ешевский. Защитил магистерскую диссертацию «Древне-русские жития как исторический источник» (1872 г.) и докторскую «Боярская дума древней Руси» (1882).. Примечания 369 Сергей Николаевич Трубецкой Татьянин день С.Н. Трубецкой Сегодня – Татьянин день, годовщина нашего университета. От Москвы до отдаленных сибирских тундр всюду празднуется этот день столькими различными людьми, представителями столь различных убеждений и общественных воззрений. Для одних этот день есть праздник воспоминаний прошлого, лучших дней молодости с ее весельем, надеждами, идеалами; для других это праздник настоящего, праздник студенчества, которое встречает его в радостном сознании переживаемой молодости, в сознании своей товарищеской солидарности, с верою в свою молодую силу; для третьих, наконец, это – праздник чаемого будущего, грядущего торжества светлых идеалов, вынесенных из университетской среды. Для нас, университетских деятелей, Татьянин день есть прежде всего праздник университета, с которым так связано прошлое и настоящее нашего просвещения и в котором мы видим залог лучшего будущего. Много бурь пронеслось над университетом, и хотя каждый из нас сознает, что дело, над которым мы работаем, не умрет и переживет непогоду, но все же и нам нужен этот праздник хотя бы раз в году в наши тяжелые трудные времена. И если раз в году университетский праздник празднуется по всей России и пробуждает теплое чувство к университету, благодарные воспоминаниям о нем и сердечные пожелания ему, то мы видим в этом осязательное напоминание того, что русское общество дорожит нашим именинником, любит и чтит его и сумеет его сохранить. И мы желали бы, чтобы этот праздник был еще веселее и радостнее, и вместе, чтобы он был осмысленнее, чтобы общество, которое его празднует, глубже прониклось созна370 нием того, что, собственно, оно имеет в университете, какою великою и светлою культурно-общественною силою он может и должен стать в России… Если бы только это сознание было глубоко и укоренилось во всех слоях рнашего образованного общества! Тогда внутренняя органическая реформа университетской жизни совершилась бы сама собою, и университет исполнил бы свое великое призвание. Если бы только сознание это было жизненно, посягательства на университет стали бы у нас таким же немыслимым делом, как в Германии, где нельзя представить себе такого изменения, такого переворота, государственного или общественного, который мог бы угрожать независимости, неприкосновенности университета. Как «охранители», так и «поборники свободы» одинаково сознают там, что в университетах хранится древний и священный палладиум Германии, залог ее преуспеяния и крепости, ее духовного роста, здоровья и свободы. Что наука есть могущественный фактор общественного развития, это – прописная истина, которую признают и у нас; но ее исповедуют лишь устами, ее еще не чувствуют осязательно, она еще не составляет жизненного убеждения, проникшего в плоть и кровь нашего общества. Что университет есть рассадник высшего научного образования, это опять-таки признается на словах и у нас, хотя мало кто сознает, как много это значит, и со всех сторон хотят навязать университету внешние, чуждые ему цели, не отдавая себе отчета в том, что этим унижается университет и умаляется его значение. Университет может быть только университетом, и, оставаясь верным себе, он делает великое общественное и государственное культурное дело, которое кроме него некому делать. Он не может, не должен служить двум господам. Он имеет свою самостоятельную цель и там, где он свободно и беспрепятственно преследует только ее, – там просветительное значение его становится могущественным. Цель университета довлеет себе, она в полном смысле этого слова самостоятельна, автономна, и вот почему автономия составляет как бы естественное право университета, при нарушении которого он процветать не может и по необходимости колеблется между противоположными и одинаково чуждыми ему внешними стремлениями. Университет не может процветать на всякой почве и во всякой атмосфере. Чтобы привлекать к себе лучшие силы страны и развивать всю свою мощь, он нуждается прежде всего в нравственном уважении со стороны общества и признанием его самостоятельности. Мы должны собственным примером внушить нашим детям уважение к университету, чтобы требовать его от них. Мы вправе ждать его от студенчества, но не от одного студенчества. Нам могут указать за последние годы на отдельные прискорбные проявления неуважения к университету со стороны его питомцев. Эти проявления нам всего больнее, и оправдывать их мы не будем и не хотим. Но, предъявляя требования «детям», мы ждем, чтобы и «отцы» показали им деятельный пример уважения к университету, уважения к его самостоятельности и к его самодовлеющим целям. Этот пример так нужен и был бы так своевременен! 371 Пусть старшие уничтожат последствия погрома, который в корне расшатал уважение к университету, и пусть они восстановят и признают его поколебленный авторитет! Урок 1884 г. не может пройти даром. Теперь всем стало ясно, что авторитетом университета надо дорожить, что его попирать нельзя, что одна внешняя учебноадминистративная власть, как бы сильна она ни была, не в состоянии заменить собою авторитет самостоятельной ученой коллегии университета. Мы хотим верить, час обновления наших университетов приближается. Честь и слава тем, через кого оно воистину совершится!.. Встретим же радостно университетский праздник. «Vive Academia – pereat diabolus!» Проф. кн. С. Трубецкой Дрезден. С.Н. Трубецкой. Татьянин день. Печатается по газете «Русские ведомости».1904. № 12 (12 января). С. 2. Сергей Николаевич Трубецкой, князь (1865 – 1905) – воспитанник (1882 - 1885 г.) историко-филологического факультета Московского университета, профессор и первый выборный ректор, поборник автономии высших учебных заведений; философ, религиозный мыслитель, публицист, один из авторитетных общественных деятелей начала ХХ в. Московский университет определил весь жизненный путь С.Н. Трубецкого. По окончании оставлен при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. В 1886 г. он выдержал экзамен на магистра философии;, в 1888 г. начал читать лекции по истории древней философии в качестве приват-доцента. Жизнь его сосредоточилась на научных и философских занятиях; он несколько раз ездил за границу и слушал там знаменитых профессоров по философии, истории, классической филологии и истории церкви. В 1890 г. защитил магистерскую диссертацию «Метафизика в древней Греции», – это сочинение сразу выдвинуло его в русской философской литературе как глубокого мыслителя и оригинального исторического исследователя, в 1900 г. - докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории». В октябре 1901 г. основал Историко-филологическое общество, где претворил свою идею о плодотворности сближения профессуры и студенчества, их живого общения в процессе научной работы. В 1905 г. в обстановке общественного оживления, роста студенческого движения незадолго до смерти предпринял издание газеты «Московская неделя», в которой наряду с другими профессорами Университета намеревались принять участие еще два брата С.Н. Трубецкого – Евгений и Григорий. Однако первые два номера запретила цензура. В статье С. Трубецкого «От редакции» выдвигалась идея первоочередной необходимости политической реформы, введения в стране «представительного учреждения». Особое внимание уделялось задачам русской печати: «печать должна, прежде всего, по мере сил служить делу мира – внешнего и внутреннего. Земля жаждет мира». Кроме того, Трубецкой ставит вопрос о положении высшей школы, автономии университета. В «Московской неделе» и газете «Русские ведомости», которую многие считали более «университетской газетой», чем «Московские ведомости», как и прежде защищает автономию университета, протестует против «полицейско-бюрократической системы управления университетом», «университетской полиции», которая не подчинена ни Совету Университета, ни даже ректору (статья «Быть или не быть университету?», 1905, № 54). Он требует самостоятельности университета в делах открытия и закрытия Университета, прекращения 372 занятий, передачи применения дисциплинарных мер в руки Совета. Эта тема затрагивается и в других материалах «Русских ведомостей», в частности, в статье «Татьянин день» (1904). В этой статье, посвященной университетскому торжеству, приуроченному по традиции к престольному празднику Татьянинской церкви Московского университета, С.Н. Трубецкой вновь взволнованно говорит о необходимости университетской автономии, которую он называет естественным правом университета. Не будет преувеличением сказать, что для Трубецкого выразителем «соборного сознания» в первую очередь был университет... До последних дней он решительно отстаивал университетские свободы — не ради идеалов отвлеченного либерализма, а как непременное условие и важнейший фактор здоровой общественной самоорганизации. Благодаря своему высокому моральному авторитету С.Н. Трубецкой единодушно был включен в состав депутации земских деятелей для вручения адреса Николаю I. 6 июня 1905 г. он произнес речь о необходимости введения представительного правления. Об этом писал П.Н. Милюков: «Я могу засвидетельствовать испытанное всеми нами чувство удовлетворения обращением Трубецкого к царю в духе «отеческого» внушения…Впервые царь был действительно тронут голосом из другого мира; впервые из его уст послышались слова, похожие на искреннее обещание реформы и как бы понимание ее необходимости». В воспоминаниях сестры Трубецкого об участии его в этих событиях – характерная деталь: «Сережа рассказывает, что, когда Царь вышел к ним и он увидел «огромные глаза с выражением жертвы обреченной», ему стало страшно жаль его, жаль, как студента на эжкзамене, и захотелось прежде всего ободрить, успокоить его». По просьбе царя Трубецкой написал записку об университетской автономии, по смыслу которой и были изданы «Временные правила» 27 августа 1905 г. Через неделю, 3 сентября, совет профессоров избрал его ректором Московского университета. Спустя полтора месяца, 25 октября 1905 г. скоропостижно скончался во время заседания Министерства народного просвещения; отпевали его в Университетском храме во время студенческих волнений, и в знак протеста некоторые воинственно настроенные студенты собрались в соседнем Аудиторном корпусе и до конца службы пели там «Вы жертвою пали…». «В лице Сергея Николаевича Трубецкого мы имеем попытку христианского деятеля выступить на общественное поприще. С. Н. Трубецкой — это пример христианского мыслителя, спустившегося на арену политической жизни и пытавшегося внести в нее веяние примирения», – отметил в своих исполненных благодарности заметках об учителе Н.С. Арсеньев (см. наст. изд.). Коллега по Московскому университету проф. П.И. Новгородцев писал вскоре после смерти Трубецкого: «путь ненависти — будь то справа или слева — был глубоко неприемлем для Трубецкого, … он всей душой верил в возможность мирного исхода, и сила его была в том, что его горячее, искреннее слово и в других умело зажигать ту же веру». («Вопросы философии и психологии». 1906. Кн. I). Примечания 1. Статья «Татьянин день» написана в 1904 г., за год до избрания С. Н. Трубецкого ректором Московского университета, с которым он связывал свои заветные мысли о развитии свободной научной мысли в России, во время его пребывания на лечении в Германии. Впервые он побывал в Берлине в 1890 - 1891 гг., близко познакомился с крупнейшим протестантским богословом А. Гарнаком и знаменитым филологом-классиком Г. Дильсом. Из Берлина писал брату Евгению: «Здесь научная жизнь имеет общественный характер, существует наука как живая общественная инстанция. И поверка этого коллективного сознания необходима; в каждом дельном ученом немце ты увидишь члена этой живучей умственной корпорации, и, если ты захочешь учиться, то почувствуешь ее отрезвляющее действие. Я испытал это уже отча- 373 сти». Под влиянием знакомства с немецкой общественностью разрабатывались С. Трубецким понятия «соборного сознания», «метафизического социализма». 2. палладиум – у древних греков название статуи Афины-Паллады, считалась святыней и оплотом города 374 375 Александр Александорович Кизеветтер На рубеже двух столетий. Студенческие воспоминания Профессора Московского университета. слева направо: Веселовский С.Б., Кизеветтер А.А. и Бахрушин С. В. мемориальном кабинете Сергея Михайловича Соловьева. 376 В 1884 г. (сорок пять лет тому назад) я окончил Оренбургскую гимназию и направился в Москву для поступления на историко-филологический факультет Московского университета. <…> меня неудержимо влекла к себе Москва. Уже в средних классах гимназии я принял твердое решение посвятить себя изучению русской истории, и к Москве меня притягивало, словно магнит, имя Ключевского, тогда только что прогремевшее в связи с его блестящим докторским диспутом, на котором он защищал диссертацию: «Боярская Дума Древней Руси». Появившиеся в газетах подробные описания этого диспута (в «Голосе» о диспуте написал целый фельетон М.М. Ковалевский) я читал с замиранием сердца и, словно арестант в каземате, отсчитывал месяцы, недели и дни в ожидании того вожделенного момента, когда можно будет наконец выпорхнуть из оренбургского степного захолустья в эту заманчивую Москву, которая рисовалась мне в моих мечтах лучезарным центром кипучей умственной работы. … Разумеется, я прежде всего сбегал в университет и подал прошение о зачислении меня в студенты историко-филологического факультета.1 < …> Бок о бок с старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и старозаветное купечество. <…> Это старозаветное купечество и в высших и в низших своих слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал этот консерватизм в отношениях Охотного ряда к его территориальному соседу – университету. Охотный ряд, крупнейший московский рынок, и университет — это были тогда Рим и Карфаген. Уже много позднее, как раз когда представители крупного модернизированного купечества стали заводить у себя политические салоны и мечтать о конституции, необходимой для экономического прогресса, охотнорядцы начали сочувствовать студенческим демонстрациям, или, как их называли тогда, «студенческим историям». <…> Когда я прибыл в Москву, я застал там еще оживленные толки о нашумевшем инциденте в жизни Московской городской думы. Прогрессивная часть городской думы ухитрилась провести на пост московского городского головы знаменитого профессора Б.Н. Чичерина. Но Чичерин пробыл на этом посту очень недолго. Он произнес речь, в которой выразил ту мысль, что успехи подпольной крамолы возможны только вследствие полной неорганизованности легальной части общества и, таким образом, в широком развитии общественной самодеятельности и самоуправления лежит залог мирного преуспеяния страны. Казалось бы, высказанные в этой речи мысли дышали полной благонадежностью. Но правительственная власть боялась тогда как огня развития общественной самодеятельности, даже подполье казалось ей не столь страшным, ибо с подпольем она уже наловчилась бороться, и Чичерин по высочайшему повелению должен был оставить должность городского головы, едва успев вступить в исполнение своих обязанностей. <…> Между тем пресса была тогда почти единственной ареной, где можно было хотя и при помощи эзопова языка и с большими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные вопросы. Вообще формы общественных выступлений были в тогдашней Москве не очень многообразны. Публичные лекции профессора, например, была тогда такою редкостью, что о ней говорили и писали как о незаурядном происшествии. А когда по случаю голода 1891 г. комитет грамотности устроил целую серию публичных лекций разных профессоров в пользу голодающих, это было уже настоящее событие. Если публичные лекции были редкостью в середине 80-х годов, то о публичных митингах, разумеется, не приходилось и помышлять. Суррогатом их являлись до некоторой степени иные заседания Юридического общества при Московском университете и в особенности банкеты, устраивавшиеся в Татьянин день, в день 19 февраля или по случаю 377 юбилеев разных лиц. Юридическое общество было ученым обществом. Но по органической связи юриспруденции с вопросами общественной жизни доклады и дебаты, происходившие там, сплошь да рядом получали политичеcкий характер. Под флагом научного заседания еще можно было затрагивать некоторые политические темы, о которых нельзя было бы и пикнуть при иной обстановке. <…> В 80-х и 90-х годах минувшего столетия Муромцев вел заседания Юридического общества в небольшой круглой зале университетского правления с точно такой же торжественной выдержкой, которой он впоследствии пленял всехв громадной зале Таврического дворца. Живо помню, какое сильное впечатление произвело на меня то заседание, на котором я впервые попал в Юридическое о бщество студентом первого курса. За столом сидели Ковалевский, Янжул, Чупров, Гольцев, Зверев, Гамбаров и др. <…> Это был предметный урок, давший мне гораздо больше, нежели могли бы дать подобные умозрительные разъяснения. Возвращаясьь домой с этого заседания, я как-то сразу почувствовал, что во мне прибавилосль общественной зрелости. Когда подошло двадцатипятилетие со времени отмены крепостного права, московский генерал-губернатор потребовал от редакторов всех московских газет, чтобы в этот день в номере не было сказано ни слова про опальную реформу. Все газеты подчинились этому требованию, кроме «Русских ведомостей», которые не сочли возможным пойти на такое неприличие. Юбилейные банкеты служили тогда той отдушиной, в которую москвичи выпускали принудительно сдерживаемые цинические настроения. Здесь громом аплодисментов покрывались речи популярных застольных ораторов, которые действительно нередко воспаряли на высоты истинного красноречия. Необходимой принадлежностью каждой такой речи являлся некоторый оппозиционный душок, достаточно прозрачный, чтобы вызвать в слушателях приятное возбуждение, и в то же время достаточно умеренный, дабы пир не окончился бедою. Отправляясь на такой банкет, можно было заранее предвкушать удовольствие от едкой и пикантной речи Гольцева, наполненной острыми шпильками по адресу вершителей русских судеб; от воодушевленной импровизации Чупрова, овеянной мягкой доброжелательностью и высоко настроенным чувством; от пылких воспоминаний о далеких временах Грановского и Герцена, которые лились из уст убеленного сединами, но не стареющего душой Михаила Павловича Щепкина37. И удовольствие слушателей достигало высшей точки, если ко всему этому прибавлялась ювелирно-художественная речь Ключевского, сверкающая поражающими сближениями и отточенными афоризмами и облекавшая в изумительно красивую форму тонкие струйки мефистофельского яда. <…> В общем, на всех слоях мыслящей интеллигентной Москвы тяготело ощущение тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, суженности жизненного горизонта. Это обостряло «пленной мысли раздражение», которое взрослые умели запрятывать вглубь души и которое у молодежи время от времени прорывалось в упомянутых уже выше «студенческих историях». Эти истории только и нарушали тогда тишь да гладь общественной жизни. Но более подробная речь о них еще впереди. Я пытался набросать общую картину московской жизни того времени в самых крупных чертах ее, чтобы дать хотя некоторое представление о той жизненной атмосфере, среди которой Московский университет развертывал тогда свою учено-учебную работу. Войдем же теперь под кровлю Московского университета. 378 II После капитальных перестроек, произведенных в первое десятилетие XX в., так называемый новый университет* преобразился по своей внешности до полной неузнаваемости. Из него вышло помещение, к которому действительно можно приложить название «храма науки». Эффектная лестница с широкими отлогими ступенями ведет вас прямо во второй этаж, в красивые, просторные коридоры с изящными колоннами. Превосходные аудитории, расположенные амфитеатром, дают возможность с полным привольем разместить многочисленные курсы, читаемые разными профессорами. Много воздуха и света. Все нарядно, широко, импозантно**. Сравнительно с этим великолепием то здание, которое существовало до перестройки и в котором мне пришлось проходить университетский курс в 80-х годах минувшего столетия, по внешности производило впечатление не храма науки, а скорее громадной казармы. Но эта казарма таила в себе особые чары. Ведь тут от каждого уголка веяло славными историческим» воспоминаниями. Вот — та самая кафедра, с которой некогда читал свои вдохновенные лекции Грановский; вот небольшая полутемная аудитория, приютившаяся где-то в глубине нижнего коридорчика, — на вид она совсем невзрачна, но — это та самая аудитория, в которой Соловьев читал лекции группе студентов последнего курса, специализировавшихся на русской истории, и где на первой скамейке сидел студент Ключевский, бисерным почерком записывавший для всей группы лекции своего учителя. Вот — в большой «словесной» аудитории длинные скамьи, на которых некогда сидели Константин Аксаков39 и Герцен. Эти скамьи исчерчены и изрезаны рисунками и надписями. К сожалению, вплоть до перестройки университета никто не предпринял исследования этих надписей. А ведь могли обнаружить среди них такие, которые оказались бы лакомым кусочком для исследователей истории нашей культуры! * Университет на Моховой разделен на два больших владения, разделенных Б. Никитской улицей. Владение, расположенное к стороне Охотного ряда, называлось старым университетом, а владение к стороне Манежа, где стоит памятник Ломоносову, — новым университетом. ** Жутко подумать, что сталось со всем этим великолепием после того, как с 17-го года аудитории были захвачены под разные митинги, а затем университетские коридоры стали наполняться какими-то бесконечными хвостами, дожидавшимися раздачи различных продуктов. (Прим, авт.) И вот, ввиду всего этого, несмотря на казарменную внешность обстановки, я вступал в университет с подлинно религиозным чувством, как в храм, исполненный святыни. 379 Впрочем, не одними лишь воспоминаниями о минувшем славен был этот университет. В нем продолжала бить ключом богатая, яркая, творческая умственная жизнь. На всех факультетах было по нескольку таких профессоров, имена которых были известны всей России и произносились с глубоким уважением, порою с восхищением. Только взглянуть на них было уже заманчиво. А прослушать их курсы, стать их учеником было прямо счастьем. В один из осенних дней 1884 г. я отправился в университет, где перед началом занятий первокурсники всех факультетов должны были выслушать вступительную речь ректора. Войдя в главное крыльцо, я сразу попал в обширное помещение, имевшее вид огромных сеней. Прямо перед входною дверью была большая площадка, уставленная белыми колоннами. Вся она была уже густо наполнена первокурсниками, явившимися сюда во всевозможных одеяниях, сюртуках, пиджаках, рубашках самого разнообразного покроя (студенческой формы еще не существовало, она появилась на следующий год вместе с новым университетским уставом, но, как и самый этот устав, стала обязательной только для следующих за нами курсов; мы же, студенты приема 1884 г., так и проходили весь университетский курс по старым правилам, новый устав, так сказать, шел за нами по пятам). Эта площадка, уходя вглубь, переходила потом в большую полутемную комнату, уставленную многочисленными вешалками; тут мы раздевались и вешали свое верхнее платье. А у самой входной двери от поименованной площадки шли направо и налево две двери; дверь направо вела в так называемый «гербариум». Это была простая комната, в которой не заключалось ничего, относящегося к ботанике; очевидно, название «repбариум» осталось от каких-то прежних времен, когда факультетские помещения имели иное расположение. Теперь же в этой комнате помещалась библиотека семинариев классического отделения и происходили семинарские занятия. Дверь налево была всегда распахнута, она вела в профессорскую прихожую. Здесь находилась резиденция главного университетского швейцара. То был высокий старик в мундирном кафтане. Кабы не этот кафтан, его самого можно было бы принять по виду за профессора, чему способствовали и тщательно расчесанная борода и особенно громадные очки, украшавшие его нос и как бы господствовавшие своим сверканием над всей студенческой толпой, которая толкалась перед профессорской прихожей. Время от времени эта толпа расступалась, и оставленной посередине ее узенькой щелью пробирались к своим вешалкам профессора; раздевшись, они проходили сквозь прихожую в дальнейшую дверь, которая тотчас плотно захлопывалась за ними. Там за этой дверью находилась комната для профессоров, своего рода университетский Олимп, недосягаемый для студентов. От 9-ти до 4-х часов, каждый раз, когда большая стрелка часов становилась на 12-ти, рослая фигура швейцара, сверкавшая очками, показывалась на пороге профессорской прихожей и несколько дребезжащий голос прорезывал воздух возглосом: «Никанор, звоо-о-ни!>> И в ответ на этот возглас раздавался резкий удар довольно большого колокола. Это Никанор, низенький и пузатенький солдат с багровым носиком, подавал своим колоколом сигнал, по которому затем по всем коридорам громадного здания начинали дребезжать малые звонки, возвещавшие конец лекции и перерыв до начала следующей. Аудитории были расположены в нескольких этажах. Из сеней и раздевательной вы попадали в небольшой коридорчик, в конце которого были две аудитории: «малая словесная» и «словесная внизу»; таковы были их традиционные наименования, хотя обе они помещались в одном этаже, прямо друг против друга. По сравнительно малой вместимости этих аудиторий в них читались либо для оканчивающих, либо необязательные, более специальные курсы, либо велись семинарские занятия. Посередине коридорчика была 380 дверь, пройдя которую вы попадали в громадную квадратную комнату с свободным пролетом через все этажи вплоть до чердака. Здесь также стояли студенческие вешалки, а по стенам, точно по громадным горным утесам, лепились сбоку, нависая над бездной, уходящие ввысь чугунные лестницы. Они-то и вели в аудитории верхних этажей. Во втором этаже находилась «большая словесная аудитория», можно сказать, — центральный фокус всей жизни историко-филологического факультета. Здесь читали лекции все те профессора, которые притягивали наибольшее количество слушателей; здесь происходили некоторые диспуты, здесь читались пробные и вступительные лекции новых профессоров и доцентов и т. п. Бывали здесь и студенческие сходки, хотя более крупные сходки в бурные дни «студенческих историй» собирались в других местах: либо на университетском дворе, либо в анатомическом театре, либо в актовом зале, который находился в здании «старого» университета. На третьем этаже помещались аудитории юридического факультета. Туда мы, историки, забегали послушать наиболее популярных профессоровюристов: М.Ковалевского, Зверева, Муромцева, да экономиста Чупрова — кумира всего студенчества без различия факультетов. В большую словесную аудиторию были созваны первокурсники всех факультетов для первого знакомства с ректором перед началом занятий. Аудитория эта была относительно обширна, но все же она была мала для таких лекторов, как Ключевский или Тихонравов40, к которым набивались слушатели со всех факультетов. Тогда все скамейки были переполнены и все пространство между скамейками и кафедрой и по бокам кафедры битком было набито стоящими студентами, которые стояли плечом к плечу, сплошной массой, так что популярному лектору не так-то легко было пробраться к кафедре. Такую же картину представляла собою «большая словесная» и в тот день, когда мы были собраны выслушать речь ректора. Везде стояла, что называется, «непротолченная труба» народа. Толпа пестрая, многоцветная благодаря отсутствию форменной одежды. Она стеклась сюда со всех углов русской земли. Во-первых, сам Московский учебный округ был очень обширен, он вбирал в себя все центральные губернии. Во-вторых, Московский университет обладал мощной притягательной силой для абитуриентов других учебных округов. Я сам, как уже сказал выше, явился в Москву, минуя Казань, из пограничного с Азией Оренбурга; были здесь и сибиряки, и горцы Кавказа, и уроженцы западного края и т. д. Поистине Московский университет являлся всероссийским микрокосмом, продолжал собирательную миссию преемников Калиты, только уже не в политической, а в культурной области. Заметил я тогда в этой толпе молодого человека с огненно-рыжей шевелюрой. То был будущий известный писатель-эрудит, считающийся поэтом, а на самом деле являющийся ученым эссеистом в прозе и стихах – Вячеслав Иванов Наконец толпа затихла, и на кафедре перед нами выросла высокая и сухая фигура ректора. То был профессор римского права Николай Павлович Боголепов, позднее ставший попечителем Московского учебного округа, а еще позднее, не на радость ни себе, ни русской школе, занявший пост министра народного просвещения и сраженный в 1901 г. пулей Карповича44. Он стоял тогда перед нами высокий, сухой, какой-то застывший (его довольно метко прозвали Каменным гостем). смотря прямо перед собой остановившимися глазами. Поставив на кафедру блестящий цилиндр, он начал речь медленным, размеренным голосом, без повышений и понижений, говорил, точно воз вез. Речь была торжественная и вялая. Сказал, между прочим, что Московский университет гордится тем, что ни разу не был закрыт вследствие беспорядков, и убеждал воздерживаться от всяких эксцессов политического характера. В заключение посоветовал аккуратно посе- 381 щать и записывать лекции, не полагаясь на литографические издания их. Речь ректора не произвела на слушателей впечатления, не вызывала никакого подъема духа. Это была благонамеренная проза, не задевавшая никакой сердечной струны. На следующий день нас ожидало более импозантное зрелище. Занятия начались лекцией профессора богословия протоиерея Успенского собора Сергиевского. Опять большая словесная аудитория была битком набита студентами. Богословие читалось одновременно для всех факультетов, и стечение слушателей на первые три-четыре лекции было громадно. Затем аудитория быстро поредела и временами являла собою уже настоящую пустыню. Сергиевский и в церковном богослужении, и на университетской кафедре любил внешние эффекты. Его появление на кафедре составляло настоящее театральное действо. Он шествовал плавно, высокий, стройный, с худощавым, но красивым лицом, обрамленным прядями седых волос, в щегольской темно-фиолетовой рясе и в ослепительно белых манжетах, похожий скорее на величественного кардинала, нежели на православного батюшку, а перед ним двигался швейцар, несший в руках большое мягкое кресло. Получалось что-то вроде процессии. Швейцар подходил к кафедре, снимал с нее простой венский стул, которым довольствовались все прочие лекторы, и торжественно водворял на место принесенное кресло. Сергиевский плавно шествовал к кафедре с таким расчетом, чтобы приблизиться к ней как раз в тот момент, когда была закончена установка кресла. Медленно поднимался он на ступени кафедры и наконец представал перед нами во весь свой рост, величественный и важный. Затем, не садясь, при общей тишине он отвешивал медленно три поясных поклона, один — прямо перед собою, другой — направо и третий - налево. Только после этого он водружался на свое кресло и тихим, несколько таинственным голосом начинал лекцию. Он любил высокопарные выражения, бьющие на эффект. Две фразы из его курса пользовались особенной известностью: «Поставим паровоз веры на рельсы философии, и первая наша станция будет Бог». Так говорил он в начале курса. А подходя к догмату св. Троицы, он говорил: «Теперь я буду говорить не для того, чтобы что-нибудь сказать, но дабы не умолчать». Несмотря, однако, на эту высокопарность, он был умный человек, отдавал себе ясный отчет в том, что большинство его слушателей не чувствует влечения к богословским наукам, и предъявлял к аудитории самые умеренные требования. На экзаменах он доводил свою снисходительность до последнего предела, не признавал иных отметок, кроме пятерки, и только уже в особенно вопиющих случаях позволял себе поставить экзаменующему пять с минусом. Он был не лишен язвительного юмора. Услыхав от одного студента на экзамене неожиданно для себя ответ, обличавший серьезную богословскую подготовку, он, удивленно всматриваясь в студента, вежливо спросил его: «Не атеист ли вы?» И когда студент в свою очередь выразил удивление такому вопросу, Сергиевский спокойно объяснил, что обыкновенно светские люди изучают богословие так подробно с целью выступления против миссионеров на богословских диспутах. Чутко улавливал он и попытки некоторых ловких милостивых государей, пытавшихся блеснуть перед ним проявлением ханжества. Таких попыток он отнюдь не поощрял и иногда обрывал иx не без остроумия. Когда студент в университете обращался к нему со словами «отец протоиерей» или «батюшка», он проходил мимо, не откликаясь, как будто обращение относилось вовсе не к нему. Откликался только на обращение «господин профессор». Когда же один студент очень уже надоел ему, называя его «батюшка», он наконец вежливым тоном сказал: «Господин студент, я совсем не имел чести знать вашей матушки». С этого дня перед нами постепенно стали выступать наши университетские учителя и началось наше приобщение к университетской науке. 382 Но прежде чем перейти к рассказу о наших университетских учителях, я брошу взгляд на главные черты в жизни тогдашнего студенчества. Студенческая масса в то время, как и всегда, подразделялась главным образом на три группы – на политиков, на будущих обывателей и на будущих ученых. Я примкнул к третьей группе, прежде всего потому, что ощущал в себе непреодолимую страсть к научным занятиям, а затем также и потому, что в тогдашних политических движениях среди студенчества не усматривал большого толка. С первого же курса я ушел с головой в книги и делил все свое время между аудиторией и публичной библиотекой Румянцевского музея.<…> Дело в том, что в этих «студенческих движениях» в то время не было еще никакой организованности.<…> «История» начиналась во имя каких-нибудь требований, касавшихся студенческого быта. Но утвердительно можно сказать, что истинная подкладка всегда была политическая и замысел «историй» исходил от какого-нибудь внеуниверситетского кружка. Университет избирался опорной точкой для демонстрации, ибо ни на какую иную среду нельзя было тогда рассчитывать в этом отношении. <…> Окруженных студентов полиция с торжеством отводила в Манеж — огромное здание, находящееся как раз насупротив университета, по своим размерам могущее вобрать в себя чуть не половину всего студенчества и представляющее своего рода чудо архитектурного искусства: протягивающаяся на громадное пространство крыша этого манежа поддерживается только одними стенами, без единой колонны или какой-либо иной внутренней подпоры. Процессия перевода окруженных полицией студентов с университетского двора в Манеж еще более усиливала впечатление от «студенческой истории» как от какого-то крупного революционного события. И уличная толпа, глазевшая на эту процессию, и сами студенты невольно проникались таким убеждением. А власти не только не старались парализовать это убеждение, но, напротив того, делали все для его дальнейшего обострения и углубления. В тот же день, а иногда на следующее утро, студентов под конвоем солдат и казаков вели через весь город из Манежа в Бутырскую тюрьму, расположенную на окраине Москвы. Можно себе представить, в какой мере эта демонстративная прогулка подымала дух «бунтующих» студентов, окружая их ореолом страдальцев за революционные идеалы. Ведь кроме «сходки» и резолюции, принимаемой на сходке, в их распоряжении не было решительно никаких иных способов для политических манифестаций; студенческие «забастовки» были изобретены позднее. Между тем, лишь только произошли первые аресты студентов, «университетская история» тотчас получала обильную пищу для дальнейшего развертывания. <…> Смешно вспомнить, из каких пустяков инспекция раздувала целые истории. Строгому преследованию подвергались, например, аплодисменты после лекции. В них усматривали почему-то нечто, свидетельствующее о неблагонадежности. После первой лекции Ключевского аудитория, восхищенная мастерским чтением, непроизвольно разразилась рукоплесканиями. За это некоторые студенты были посажены в карцер. Да, в карцер. Можно ли было бы себе представить, чтобы в середине 90-х годов студент был посажен в карцер университетской инспекцией? А нас, в 80-х годах, сажали в карцер даже за такие невинные вещи, как аплодисменты любимому профессору! Так глубоко изменилась обстановка университетской жизни за десять лет. Изменилось и многое другое. Во время моего студенчества профессор появлялся на кафедре не иначе как либо в синем форменном фраке, либо в черном фраке и белом галстуке. Только В.И. Герье позволял себе приходить на лекцию в черном сюртуке. В 90-х 383 годах от этой чопорности не осталось и следа. И лекторы стали сплошь да рядом читать лекции в домашних пиджаках. Те, кого не удовлетворяли вспышки «университетских историй, хаотичные, не дававшие никаких результатов, <…> кто не разделял того предрассудка, что наука якобы сушит ум и сердце и вытравляет из души живое гражданское чувство, но кто искал и находил в науке удовлетворение своим серьезным духовным запросам, – те имели возможность получить в стенах Московского университета то, чего они искали, к чему они стремились, ибо Московский университет того времени не был беден крупными научными силами, и среди его профессоров было немало таких, которые блистали и глубокой ученостью, и прекрасными лекторскими дарованиями. Теперь я и перейду к воспоминаниям о своих университетских учителях. В восьмидесятых годах минувшего столетия историко-филологический факультет Московского университета стоял весьма высоко. В составе его профессоров находился целый ряд выдающихся ученых, которые большею частью были в то же время и прекрасными университетскими преподавателями. Конечно, в семье не без урода, но семьято сама по себе была великолепная. Она являла блестящее соединение крупных научных сил. Тут не только было чему поучиться, тут можно было зажечься любовью к науке, почувствовать то особое наслаждение, которое сопряжено с погружением в научные интересы. Попытаюсь теперь набросать портреты своих университетских учителей, стараясь уловить наиболее существенное, но не упуская и мелочей: ведь нередко мелочи-то бросают свет на самую суть. В самом начале этих воспоминаний я сказал, что меня привлекло в Московский университет из далекого Оренбурга имя Ключевского. И в самом деле, это имя уже гремело не только по Москве, но и далеко за ее пределами. И, конечно, не я один предвкушал слушание лекций знаменитого профессора как нечто заманчивое, сулящее высокое наслаждение. Ключевский в то время прочитывал полный курс русской истории в течение двух лет, читая по две двухчасовые лекции в неделю, всегда — по средам и субботам. В один год прочитывался период от начала Руси и кончая царствованием Ивана Грозного; во второй год — период от Смутного времени, кончая реформами Александра II, впрочем, иногда Ключевский заканчивал и на каком-либо более раннем моменте XIX столетия. Поступив в университет в 1884 г., я попадал на первый отдел этого двухгодичного цикла, т. е. получал приятную возможность прослушать курс Ключевского в правильной хронологической последовательности, с самого начала. В этот год Ключевский несколько запоздал с началом лекций. И вот недели три подряд каждую среду и субботу большая аудитория набивалась битком, свыше всякой меры. Обливаясь потом и нажимая друг на друга, студенты безуспешно, но терпеливо выстаивали до звонка; так велико было желание не пропустить вступительной лекции Ключевского. Наконец в одну из сред по терпеливо ожидавшей толпе пронесся оживленный гул: из швейцарской пришло известие, что Ключевский приехал. Вскоре, с величайшим трудом протискиваясь сквозь густую толпу студентов, к кафедре стал приближаться, как-то бочком, словно крадучись и за что-то цепляясь, невысокий брюнет с небольшой острой бородкой клинышком и с ниспадавшей на лоб узкою прядью черных волос. Ключевский сел на кафедру (тогда он читал все время сидя, впоследствии он стал читать, стоя на кафедре), и на миг на нас взглянули через очки прекрасные черные глаза, к сожалению, 384 тотчас же вытянувшиеся в узенькие щелочки. Через несколько секунд зазвучал тихий, вкрадчиво-мягкий голос, с чрезвычайно характерными, несколько певучими переливами, благодаря которым почти каждое слово подавалось с своей особой интонацией, словно изваянное, осязательно-выпуклое. Большею частью напряженные ожидания приносят известное разочарование. Не так было в этом случае. Можно сказать безошибочно, что к концу вступительной лекции Ключевского все слушатели были влюблены в этого лектора-чародея. И затем весь его двухгодичный курс прослушивался с тем же напряженным и восхищенным вниманием. Этот курс пленял неотразимо необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобрйзительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушали этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким существенным дополнением к его словам служили виртуозные интонации его голоса. Когда я начинаю теперь читать его печатный курс, мне неизменно слышатся эти интонации, они неразрывно сплелись для меня с самыми словами курса, и я не могу отрешиться от той мысли, что без этих интонаций читатель печатного текста этих лекций даже и не может вникнуть во всю многозначительность их содержания. В Ключевском органически сочетались глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист. Вот почему он был поистине гениальным профессором. <…> И все это излагалось изумительным по точности и красоте языком, который так и сверкал своеобразнейшими и неожиданнейшими оборотами и мысли и слова. Из остроумных и поражающих своей меткостью афоризмов, определений, эпитетов, образов, которыми насыщен курс Ключевского, можно было бы составить целую книгу. Включенные в этот курс знаменитые характеристики исторических деятелей: Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра Великого, Елизаветы, Петра III, Екатерины II – представляют собою истинные шедевры русской художественной прозы. И когда Ключевский произносил их с кафедры, слушатели чувствовали себя необыкновенно близко от предмета лекции, как будто тут, в самой аудитории, проносилось над ними веяние исторического прошлого и как будто сам Ключевский вот только вчера лично беседовал с царем Алексеем Михайловичем или Петром Великим. Остроумие Ключевского поистине не знало пределов. Если образы и стилистические фигуры, которыми сверкал его курс, были у него заготовлены заранее и даже повторялись из года в год, то это отнюдь не значило, чтобы он был способен только к придуманным и выношенным блесткам остроумия. Нет, его уму было свойственно остроумие кипучее, пенящееся и мгновенно вспыхивавшее ослепительным фейерверком. И оно не покидало его при самых разнообразных обстоятельствах, в непринужденных шутливых беседах с друзьями так же, как и в любой торжественной обстановке, и даже в такие неприятные моменты его жизни, в которые, казалось бы, ему было совсем не до острот. Прелесть его острот состояла в том, что в каждой из них, наряду с совершенно неожиданным сопоставлением понятий, всегда таилась очень тонкая мысль. На каком-то публичном обеде проф. Иванюков (ранее бывший кавалеристомгусаром, а потом ставший профессором политической экономии), сказал весьма банальную речь с цитатами из разных авторов; Ключевский сейчас же заметил: «Иванюков сохранил от своей старой профессии две наклонности: ходить на чужих ногах и казаться ростом выше себя». Однажды в Московской духовной академии (у «Троицы»), где Ключевский одновременно с университетом читал курс русской истории, справляли какой-то его юбилей. Дорогого учителя пришли поздравить его многочисленные ученики, из ко- 385 торых некоторые носили уже монашеское платье, будучи пострижены в иноческий чин, а другие еще пребывали в миру. Выслушав приветственные речи, Ключевский сказал: «От всего сердца благодарю, господа, вас всех, как тех, которые уже приняли образ ангельский, так и тех, кто еще не утратил образа человеческого». Редактор исторического журнала «Русский архив» Бартенев был жарким поклонником Екатерины II, к которой Ключевский относился саркастически. Когда однажды Ключевского спросили, кто такой Бартенев, он тотчас ответил: «Это — посмертный любовник Екатерины II». Но вот еще одна молниеносная острота Ключевского, которую он отпустил в чрезвычайно неприятный для него момент. После смерти Александра III Ключевский произнес в Обществе истории и древностей российских, где он в то время состоял председателем, речь о скончавшемся императоре. Это был панегирик миролюбивой внешней политике Александра III. Внутренняя политика была обойдена полным молчанием. Тем не менее панегиристический тон речи резко расходился с оппозиционными настроениями общества и вызвал возмущение в студенчестве. Ключевский же повторил свою речь с кафедры в университетской аудитории. Речь вызвала свистки. «Вы мне свищите, господа, – сказал тогда Ключевский, – я ничего против этого не имею; каждый имеет право выражать свои убеждения доступными ему способами». Все такие остроты имели ту пикантность, что, будучи по существу очень колючими, они, благодаря искусной игре слов, не давали формального повода к обиде. Острый язык Ключевского не щадил никого. Весьма нередко люди, только что с поспешной радостью улыбавшиеся остроте Ключевского, коловшей враждебные им начала, мгновенно скисались от следующей его остроты, которая столь же метко поражала дорогие им прямо противоположные начала. Отсюда родилась репутация Ключевского как неисправимого скептика, не признающего никаких святынь. Кажется, и ему самому доставляло порою удовольствие разыгрывать роль Мефистофеля. Он был очень дружен с рано умершим от чахотки молодым историком литературы, подававшим блестящие надежды, – А.А. Шаховым. На всех собраниях и журфиксах они были неразлучны. Их тогда так и звали в Москве: «Фауст и Мефистофель». Между тем эта мефистофелевская репутация Ключевского далеко не отвечала действительности. Под маской беспощадного острословия в нем таилась душа, горячо чувствующая и даже чувствительная. Он только не любил пускать посторонних в святая святых своей души. Значительная часть его мефистофелевских выходок вызывалась своего рода стыдливостью, целомудренностью чувства, желанием прикрыть от окружающих свои подлинные переживания. Впрочем, при внимательном наблюдении можно было почувствовать эту столь тщательно им скрывавшуюся психологическую его подоплеку. Ведь это совершенно неверно, что будто бы в его курсе все сводится к развенчиванию всего героического в русской истории. Такое мнение мне приходилось слышать не раз. Но думающие так доказывают этим лишь то, что они восприняли из курса Ключевского только наиболее броские словечки, не проникнув в суть его содержания: «слона»то они и не заметили. А разве можно отрицать, что через весь этот курс проходит глубокая вера в даровитость и творческую силу русского народа? Этот «скептик» и «остряк» был горячим патриотом и народолюбцем, но только его любовь к родному народу никогда не принимала характера идеализации. Вот к этому он действительно был неспособен; до этого его не допускали острый критический ум и чувство духовной независимости. Любить он умел. Но он не умел и не желал превращать любовь к кому бы и чему бы то ни было в низкопоклонство и распластывание во прахе. 386 Он отличался сложной и утонченной духовной организацией, которая отпечатлевалась на его нервно-подвижном лице. Это был человек-мимоза. Он был недоверчив до мнительности. Малейшая детонация в отношениях, какое-нибудь случайно сорвавшееся не совсем удачное слово мгновенно коробили его, и он съеживался и уходил в себя. Пушкин сказал, что «старость ходит осторожно и подозрительно глядит». А Ключевский во все возрасты своей жизни неуклонно держался этой тактической линии. Приобрести его доверие было весьма нелегко. Зато когда наконец лед был сломан, вы получали истинно чарующее наслаждение от общения с этим бездонно умным, беспредельно талантливым, по внешности колючим, а в сущности в высшей степени добрым человеком. Он был добр не на словах, а в делах. Я знаю случаи, когда после продолжительного заседания он, не пообедав, ехал на окраину города и уже старческими ногами взбирался по лестнице в студенческую мансарду для того, чтобы поскорее сообщить студенту благоприятное для его дела постановление факультета. Это был ученый мирового калибра. Иностранцы только теперь мало-помалу приступают к переводам его курса на западноевропейские языки. К сожалению, появившиеся переводы страдают непозволительными пропусками. Давно пора всем культурным странам узнать всего Ключевского целиком. Ему по праву принадлежит место в пантеоне мировой науки. Патриархом нашего факультета был Владимир Иванович Герье. Это была ходячая историческая реликвия. Шутка ли сказать: Герье являлся перед нами живым свидетелем эпохи Грановского, и мы в его лице имели общего учителя с самим Ключевским, который когда-то слушал его лекции! А между тем этот современник Грановского и учитель Ключевского, этот на вид сухопарый, но железный телом и духом человек стоял перед нами на кафедре, бодрый, свежий, без единого седого волоска на русой голове. Он поседел и одряхлел только в самые последние годы своей жизни, совпавшие с началом общерусской разрухи. Герье читал курсы по истории Рима, по эпохе реформации, по истории Европы XVII и XVIII вв. и по истории Великой французской революции. Мне за время студенчества довелось прослушать у него только римскую историю Европы XVIII в. (просвещенный абсолютизм). Когда-то, в 60-х годах, Герье напечатал две диссертации, одну о Лейбнице, другую — «по архивским источникам» — о борьбе за польский престол в 30-х годах XVIII в. Это были для своего времени очень почтенные работы, но каких-либо новых путей в науке они не пролагали. А во всех последующих своих трудах Герье являлся не столько исследователем, сколько популяризатором, очень солидным и талантливым. Он писал отличным литературным языком, был широко образован, всегда давал очень ясное представление об излагаемом предмете. Его излюбленными темами были различные этюды по истории политических и историософских идей. Его университетские курсы, несмотря на их некоторую старомодность, были очень полезны для слушателей. Они были составлены весьма педагогично. Курс римской истории открывался, например, обширным историографическим введением. Для первокурсников это введение было целым откровением. Перед нами открывалась яркая страница из истории исторической науки. Профессор вводил нас в избранное и поучительное общество корифеев исторической мысли. Вико, Нибу, Рубино, Швеглер, Моммзен и многие другие выступали перед нами в живых очертаниях, и вместе с тем на конкретных примерах выяснялись методологические приемы исторического исследования и последовательные смеша главнейших историографических школ. 387 В курсе по истории Европы XVII столетия наиболее сильную сторону составляли очерки политических доктрин, причем особенно подробные экскурсы были посвящены теориям Монтескье, Руссо и Мабли. Герье читал просто, без всяких эффектов, неторопливо и размеренно, очень ясно и отчетливо излагая свою мысль. Он считался грозою факультета. О его строгости на экзаменах ходили целые легенды. И точно, он был требователен и, не довольствуясь тем, чтобы студенты заучивали его лекции, понуждал нас к знакомству с исторической литературой. Я должен сказать, что требования его были вполне разумны, да и в качестве экзаменатора он был вовсе не так страшен, как его малевали ходячие среди студенчества анекдоты. Один из этих анекдотов пользовался особой популярностью. За столом сидят три экзаменатора: протоиерей Сергиевский, философ Троицкий и Герье. Сергиевский говорит студентам: «Верь, не то будет единица», Троицкий говорит: «Не верь, не то будет единица», а Герье говорит: «Верь – не верь, а единица все равно будет». Действительность, однако, далеко отставала от этой студенческой молвы. Правда, требования Герье были строги, но они были точно определенны. А те, кто хотя немного возвышались над обычными требованиями, наверняка могли рассчитывать на самую лестную оценку. Перед экзаменами Герье предлагал желающим принести на экзамен краткие письменные отчеты о прочитанных книгах из числа им рекомендованных. <…> Впрочем, характер Герье был строптивый, капризный и язвительный. Тяжелый он был человек. Когда к нему собирались его ученики, среди которых были люди самых разнообразных возрастов, его домашние ревностно наблюдали за тем, чтобы в разговорах не поднималось таких тем, которые могли бы рассердить Владимира Ивановича. И уже заранее было условлено, что как только кто-нибудь из домашних прикоснется рукою к лампе, это значило, что надо было немедленно менять тему разговора. И бывали вечера, когда огонь в лампе приходнлось поправлять очень часто. Противоречить Герье было рискованно. Я знаю случай, когда Герье, встретив в посетившем его госте несогласие с собой, вскочил, ринулся и переднюю, надел шубу и ушел из своего дома, оставив гостя в одиночестве в кабинете. Робели перед Герье чрезвычайно не только студенты, но и такие его ученики, которые сами уже занимали кафедры. Как-то раз два философа, Лопатин и Сергей Трубецкой, вознегодовав на какие-то произвольные распоряжения Герье на женских курсах, решили немедленно поехать к Герье и выложить ему «всю правду». Едучи к Герье на, извозчике, они были настроены очень воинственно. Но лишь только они вошли в кабинет Герье, язык у них прилип к гортани. Они просидели у Герье целый вечер, мило болтая о том и о сем, да так и уехали, не решившись коснуться цели своего посещения. Ну а кто не робел, тому приходилось познать все значение поговорки «нашла коса на камень». Это мне довелось испытать лично на себе, когда я начал читать лекции на Герьевских курсах. В противоположность Ключевскому, Герье всегда принимал широкое участие в общественной работе. <…> В деле высшей школы крупной заслугой его было создание в Москве Высших женских курсов. Тут он был для Москвы таким же пионером, каким Бестужев-Рюмин был в Петербурге. <…> Вторым представителем кафедры всеобщей истории был тогда Павел Гаврилович Виноградов, впоследствии проф.Оксфордского университета, скончавшийся в 1926 г. Тогда это был стройный, красивый, молодой профессор, являвшийся на кафедру не иначе как в черном фраке и белом галстуке. Он читал нам курсы по истории средних веков и по истории Греции. Сопоставление 388 лекций Виноградова и лекций Герье сразу бросало свет на прогресс исторической науки. Как ни были полезны и педагогичны лекции Герье, от них веяло старомодными приемами исторического изучения. Виноградов поднимал нас на высоту новейших научно- исторических проблем. Его курсы — особенно курс по средним векам — были для первокурсников трудноваты и требовали усиленного внимания. Зато они заставляли нас подтягиваться и работать головой. Великолепно ставил Виноградов занятия в своем историческом семинарии. Ни Ключевский, ни Герье не шли вровень с ним в этом отношении. Ключевский слишком заполнял семинарий собственными импровизациями. Тут каждое слово было драгоценно, — только лови налету блестящие искры научной мысли, — но на долю участников семинария доставалась более пассивная роль. <…> эти наши собрания принадлежат к числу лучших моих воспоминаний из поры студенчества. Вместе с тем Виноградову был присущ дар группировать около себя преданных учеников, формировать школу, сплоченную общими научными интересами. Это общение удерживалось и по окончании университетского курса. Виноградовскне семинаристы («павликиане», как их называли по имени Павла Гавриловича) были приглашаемы затем на дом к профессору, где они встречались с более старшими историками и где велись научные собрания более высокого типа; там разбирались новинки научно-исторической литературы, там работавшие над подготовкой диссертаций делали предварительные сообщения о своих изысканиях и только что покинувшие студенческую скамью неофиты исторической науки сходились с историками ряда предшествующих выпусков. Так, гостеприимная квартира П.Г. Виноградова в небольшом домике священника Словцова в Мертвом переулке была тогда центром оживленного общения московских историков. На этих собраниях мы слышали доклады Милюкова, Фортунатова, Виппера, А. Тучкова, Корелина, Иванова, Шамонина, Беляева, Кудрявцева, Петрушевского, Русакова, Бруна, Мануйлова и многих других. По каждому докладу сам хозяин всегда имел наготове ряд интереснейших соображений, и вечер протекал в увлекательной научной беседе. Независимо от этих научных собраний, в другие дни в тот же домик сходились уже не одни историки, но более разнообразное общество. Здесь мы видели Ключевского в непринужденной приятельской обстановке и наслаждались блестками его юмора, здесь Милюков, с головой ушедший тогда в архивы, излагал свои открытия по истории петровских реформ; Степан Федорович Фортунатов со звонко-раскатистым смехом рассказывал разные эпизоды из прений в английском парламенте, известные ему с такими подробностями, как будто он только вчера приехал из Лондона; Николай Яковлевич Грот, блестя Красиными глазами, заводил философские прения; иногда появлялись иногородние гости — Кареев из Петербурга, Лучицкий из Киева и т. д. И молодые «павликиане», только что вылупившиеся из яйца, вбирали жадно все эти впечатления, как бы продолжая тем самым свое университетское образование. Я остановился с некоторою обстоятельностью на трех профессорах-историках, которые имели ближайшее отношение к моим научным интересам. Теперь более кратко помяну других тогдашних преподавателей нашего факультета. Историю русской литературы нам читал Николай Саввич Тихонравов. Это был один из тех ученых, труды которых представляют собою руководящие вехи на столбовой дороге развития науки. Он считал себя учеником Шевырева. Но, конечно, он лишь отдавал этим дань благодарности школьным воспоминаниям. Своей исследовательской деятельностью он начинал собственную «тихонравовскую» полосу, в разработке истории русской литературы создавал собственную «тихонравовскую» школу. Глубоко запускал он исследовательский заступ в неизданные, рукописные 389 сокровища русской литературной письменности и вводил в оборот научного изучения целые новые ее отделы. Вслед за Буслаевым117 Тихонравов явился основополагателем этой области русской науки. Он придавал своим исследованиям очень широкий размах. Большую роль в его анализе играл всегда сравнительно-исторический метод. Явление русского литературного развития он ставил в тесную связь с течениями мировой литературы. Эту точку зрения применял он и к древней русской литературе, и к литературным фактам XVIII и XIX столетий. Все напечатанное Тихонравовым составляет лишь малую часть того, что было им выработано в его лаборатории. Большой утратой для науки является то обстоятельство, что остались неопубликованными его университетские курсы, в которых он излагал результаты своей текущей кабинетной работы. Только с опубликованием этих курсов фигура Тихонравова как исследователя встала бы во весь рост перед ученым миром. После Ключевского это был самый блестящий лектор на нашем факультете. Его лекторская манера была иная, нежели у Ключевского. Если Ключевский сопровождал свое артистическое чтение выразительной мимикой нервно-подвижного лица, то Тихонравов, обладавший плотной фигурой, сидел на кафедре во время лекции, словно застыв в непеременяемой позе, и ни одна черточка его круглого лица с коротким носом в больших очках с черепаховой оправой, бывало, не дрогнет в то время, как вся аудитория оглашалась взрывами бурного смеха, лишь только он начнет своим звучным, низким баритоном выразительно цитировать остроумные и характерные речения древних памятников. Чем курьезнее была цитата, тем строже было выражение как бы застывшего лица лектора и тем внушительнее звучали полновесные, как бы даже несколько торжественные интонации его красивого баритона. Подобно Ключевскому, Тихонравов излагал лекции удивительным по красоте и меткости чистым русским языком. Он был первоклассным оратором. Он мог держать во власти своей речи любую аудиторию и умел, когда было нужно, переломить в свою пользу настроение слушающей его толпы. Долгое время Тихонравов был ректором Московского университета. Однажды, когда разбушевалась одна из студенческих «историй», многочисленная сходка, собравшаяся в актовом зале, послала за Тихонравовым, причем в этом приглашении прямо было сказано, что требует к себе ректора, чтобы побить его. Конечно, никто и не помышлял о том, что ректор явится на такое приглашение. Просто это была выходка разъярившейся толпы. А Тихонравов взял да и явился на сходку как ни в чем не бывало. Толпа замерла при его появлении. Протеснившись к кафедре, он поднял руку в знак желания говорить. Среди водворившейся глубокой тишины зазвучал спокойный и уверенный голос Тихонравова. Надо заметить, что Тихонравов сильно шепелявил, свистящие согласные выговаривал как шипящие. Но, как Ключевскому легкое заикание не мешало очаровывать слушателей своей речью, так и шепелявость Тихонравова нисколько не вредила обаятельности его ораторского таланта. Говорил он на этот раз не особенно долго, красота каждой фразы соединялась с глубокой обдуманностью сказанного, проистекавшей из превосходного знания психологии студенческой толпы. В одном месте речи оратор прослезился. И когда он кончил, толпа, собиравшаяся его бить, с торжеством вынесла его на руках. Прямо из университета он поехал в Екатерининскую больницу, где собралась другая большая сходка, по большей части состоявшая из студентов-медиков. Тихонравов слово в слово повторил ту же речь и на том же самом месте прослезился. И такая же бурная овация была ему наградой и на этот раз. Иного рода ораторские триумфы пожинал он на годичных университетских актах. Во 390 время ректорства Тихонравова шла упорная борьба между Советом Московского университета и Катковым, редактором «Московских ведомостей» и арендатором университетской типографии. Борьба эта, связанная со сложными материальными отношениями Каткова к университету, принимала налет политической пикировки, ибо Катков не упускал случая, чтобы в своей газете не замахнуться на университет обвинением университетской корпорации в политической неблагонадежности. И вот ежегодно на университетском акте в Татьянин день Тихонравов давал Каткову отпор; включая в свою ректорскую речь несколько пикантных пассажей с тонкими ехидными намеками на неблаговидную роль, Каткова в университетских делах. Эти намеки представляли собой мастерские образцы ядовитого остроумия, корректного по форме, но попадавшего по назначению не в бровь, а в глаз. И потом на всех многочисленных пирушках в течение Татьянина дня смаковались эти крылатые словечки Тихонравова. А Тихонравов произносил их по своему обыкновению строго-величавым голосом, с бесстрастным выражением лица. Он вообще был очень сдержан в проявлении своих чувств. Об этом интересно говорит Ключевский в своих воспоминаниях о Тихонравове. Оба они были завзятые рыболовы и любили ловить рыбу вместе. И вот Ключевский сообщает: «Тихонравов никогда не выходил из себя, даже когда ему приходилось слышать какую-нибудь чрезвычайную нелепость из области его специальности, он безмолвствовал, только в глазах его появлялось, — говорит Ключевский, — точно такое же выражение, которое я видел в них, когда однажды Тихонравов поймал большого окуня, а я его упустил». <…> В первый год моего студенчества он прочел нам несколько истинно вдохновенных лекций о протопопе Аввакуме и раскольнической письменности, и, увы, — после этого до конца учебного года мы его уже не видели и не слышали. Курсы по истории всеобщей литературы нам читали Николай Ильич Стороженко и Алексей Николаевич Веселовский (брат знаменитого Александра Николаевича). Оба были чрезвычайно милые люди, приветливые, общительные, хорошие знатоки своего предмета, но к числу ученых светил не принадлежали. <…> Среди лингвистов у нас были перворазрядные ученые светила: Федор Евгеньевич Корш и Филипп Федорович Фортунатов. Корш был поистине гениальным языковедом. На всех языках он говорил, как на родном, включая сюда и всевозможные наречия мелких племен. Ключевский говаривал, что Корш был главным секретарем при вавилонском столпотворении. Его филологические комбинации были блестящи; в них ярко сверкала творческая мысль. Он обладал колоссальной памятью; знал наизусть стихи всех мировых поэтов; о классической литературе уже и говорить нечего. И при всем непрерывном кипении своей творческой мысли он печатал очень мало. Его литературное наследие и в отдаленной степени не соответствует тому богатству идей, которое он с расточительностью гения разбрасывал направо и налево в устных сообщениях. <…> Не отличался литературной плодовитостью и другой крупный наш лингвист Филипп Федорович Фортунатов. Он читал нам курс сравнительного языковедения. Специалисты упивались его лекциями. Для неспециалистов слушать его было очень тяжело. С чрезвычайной скупостью отмеривал он слова, и для понимания его лаконического изложения требовалась солидная подготовка. Он почти ничего не печатал. А западноевропейские корифеи лингвистики добывали через его учеников литографированные записки его лекций, в которых заключались крупные научные откровения. <…> Другим языковедом был тогда Дювернуа, брат талантливого петербургского профессора гражданского права. Странный это был профессор. Он ходил по Москве, словно иностранец, нежданно для себя попавший в русскую столицу. Его речь была весьма 391 нелепа для русского уха. Я слышал, как он, идя по улице и желая поторопить бабу, медленно шедшую перед ним и мешавшую ему идти, говорил ей: «Поселянка, прогрессируй» – и искренне удивлялся, что баба его не понимает. Надо сказать, что и студенты в такой же мере не могли понять его лекций. Эти лекции пестрели выражениями, смысл которых составлял тайну лектора. … Он любил очень часто употреблять в лекциях никому непонятное выражение «этимологический бомбаст». И этот «бомбаст» однажды спас одного студента от великого посрамления на экзамене. Студент был бойкий, легкомысленный и беззаботный по части филологии. На экзамене Дювернуа задает ему разъяснить корень в слове тризна. Студент как ни в чем не бывало начинает описывать обряд тризны по умершем. Дювернуа только что хочет его остановить, как является попечитель учебного округа кн. Мещерский, совершенный рамолик, и, слушая ответ студента, подговаривает: «Прекрасно, прекрасно». Студент разливается соловьем о тризне, устроенной Ольгой по Игоре. Дювернуа не решается вмешаться при попечителе, но зеленеет от злости. Но вот попечитель благодарит студента и удаляется. Тогда Дювернуа, сверкая гневными очами, говорит студенту: «Ну-с, за все это я задам вам теперь только один вопрос и если вы на него не ответите, то никогда не пропущу вас на следующий курс (тогда были экзамены не по предметной, а по курсовой системе): как называется такая-то форма?» Студент чувствует, что валится в пропасть; вдруг спасительная мысль блеснула в его мозгу, и он отвечает: «Этимологический бомбаст». Дювернуа, услышав любимое слово, приятно улыбается и ставит студенту переводную отметку: три с минусом. Кафедру латинской словесности занимал тогда Гавриил Афанасьевич Иванов. Я уже упоминал о нем выше, говоря о том, как находчиво он умиротворил студенческую сходку. Это был человек примечательный. Говорили, что он занимал когда-то должность почтового смотрителя и досуги посвящал изучению классиков. Проезжал как-то по тракту профессор Леонтьев, знаток классической словесности. Сидя в комнате смотрителя в ожидании лошадей, он бросил взгляд на полку с книгами и к своему изумлению увидел, что там стоят творения Овидия, Горация, Тита Ливия и т.п. «Кто же здесь читает эти книги?» — спросил удивленный профессор. – «Это я-с», – отвечал смиренно стоявший у двери почтовый смотритель. Профессор разговорился с неожиданно встреченным им любителем древних классиков, и результат разговора был тот, что почтовый смотритель был вытащен из провинциальной глуши в Москву и в конце концов занял университетскую кафедру. И стал он прекрасным профессором. Он переводил нам Цицерона. Его комментарии были глубоко поучительны, а его перевод обличал в нем тонкого, образцового стилиста. <…> Греческую словесность читал нам Зубков — олицетворение бездарности. Полный и рыхлый, румяный и кудрявый, с пухлым лицом вербного херувима, он без всякого одушевления тянул лямку преподавания. <…> Другим профессором греческого языка и словесности был А.Н. Шварц 123 — потомок масона Шварца, профессорствовавшего в Московском университете в XVIII столетии и дружившего с знаменитым Новиковым. <…> Наконец, надо назвать еще одного классика: И.В. Цветаева (отца современной поэтессы), читавшего историю античного искусства и римские древности. О нем многого мне, сказать нечего, я мало знал его, и наблюдать его мне почти не приходилось. Помню только, что он особенно увлекался тогда, римской эпиграфикой. М.М. Ковалевский рассказывал, что, гуляя как-то раз по маленькому городку в Италии, он увидел, что под самый карниз какой-то башни подвешена корзина, в которой копошится человеческая фи- 392 гура. «Ну кому же сидеть в этой корзине, как не Цветаеву», — предположил Ковалевский, и тотчас сверху послышался голос Цветаева: «Здравствуйте, Максим Максимович, а я тут всю неделю в этой корзине, — преинтересная тут надпись, еще не дешифрированная». Представителем философской кафедры при моем поступлении в университет был Троицкий. <…> На диспутах он оказывался великолепным дебатером. Но ум его — точный и ясный — был какой-то застывший на определенных зарубках, чуждый тревоги искания, раз навсегда успокоившийся на добытых результатах. Владимир Соловьев чрезвычайно остроумно в одной своей статье сравнил ум Троицкого с аквариумом, наглухо закрытым со всех сторон, красивым и содержательным, но не знающим никаких треволнений, бурь и водоворотов. Там все — безмолвно, спокойно, неподвижно и раз навсегда очерчено стеклянным футляром. Примечательно, что Троицкий читал только логику и психологию (теорию ассоциаций) и совсем не вводил в свое преподавание истории философии. <…> Когда я был уже на третьем курсе, в Московский университет перешел с юга новый философ, Николай Яковлевич Грот. Это был во всех отношениях полный антипод Троицкого. То был уже не аквариум, а стремительный каскад, прыгающий, бурливый, пенящийся. Грот был малого роста, но лицо его было изумительно красиво. Густые черные кудри обрамляли его голову. Под благородным лбом сияли прекрасные глаза. Изящно очерченный рот оттенялся небольшой бородкой. Он говорил высоким музыкальным тенором. Он внес с собою на философскую кафедру нашего факультета новую струю. Вместо отчеканенного, но застывшего позитивизма Троицкого перед нами засверкали всевозможными переливами широкие метафизические построения. В курсах Грота не было выдержанной стройности. Выйдет какая-нибудь новая книга, Грот заинтересуется ею и тотчас несет ее на лекцию; начатое было изложение отодвигается в сторону, и мы слушаем импровизацию на неожиданную тему. Самая речь Грота, торопливая, быстрая, растекающаяся, отражала на себе его характер и его мышление. Это был человек чрезвычайно живой, кипящий, но в его живом кипении не чувствовалось подлинной глубины. Притом он обнаруживал норою какую-то обезоруживающую наивность. Помню, как-то раз он взялся нарисовать нам типичный образ истинного философа, начиная с наружности. Мы сидели, кусая губы и давясь от сдерживаемого смеха: Грот подробно описывал собственную свою наружность! Скоро Грот проявил организаторские таланты. Еще по мысли Троицкого при Московском университете возникло Психологическое общество. Троицкий предполагал объединить в этом Обществе работу философовпсихологов и представителей естествознания – физиологов и биологов. Но лишь только появился Грот, Троицкий как-то стушевался и махнул рукой на собственное детище. А Грот и быстро сгруппировавшаяся около него компания молодых философов придали Психологическому обществу совсем иное направление. Троицкий не создал никакой школы. Единственный молодой московский философ, тяготевший к направлению Троицкого — Белкин, — был весьма бездарен. А вся талантливая молодежь, занимавшаяся философией, стояла в оппозиции Троицкому и погружалась как раз в метафизическне проблемы. Во главе этой молодежи находились Лопатин, Сергей Трубецкой и — крупнейший алмаз того философского поколения — Владимир Соловьев, уже не связанный формально с Московским университетом, но представлявший собою истинную душу того философского кружка, который с распростертыми объятиями принял к себе Грота, во всех отношениях подошедшего к этой тесной дружеской философской компании. Эта компания и завладела Психологическим обще- 393 ством, превратив его в философское общество в широком смысле слова. Нечего и говорить, что Троицкий там не показывался. Психологическое общество сыграло видную роль в культурной жизни Москвы. Заседания привлекали многочисленную публику. Кроме того, нашелся меценат, с помощью которого возник печатный орган этого Общества, журнал «Вопросы философии и психологии». Тот же меценат — один из Абрикосовых – собирал после заседания членов общества к себе на ужин, и тут-то развертывалась блестящая беседа, в которой философские споры перемежались со всевозможными шутливыми импровизациями. Лопатин мастерски рассказывал всякие страшные истории с привидениями и делал такое проникновенно-таинственное лицо, что всем становилось жутко; Владимир Соловьев сверкал юмористическими пародиями; Сергей Трубецкой читал свои сатирические сказки. На одном из таких-то ужинов был поставлен на баллотировку вопрос о том, существует ли Бог, и, к сожалению, я не знаю, каким количеством голосов, вопрос был решен утвердительно. <…> Пора кончать эти воспоминания. Не могу, однако, их кончить, не сказав несколько слов еще о двух моих университетских преподавателях. С 1886 г. — по новому уставу — возникла приват-доцентура. Одними из первых приват-доцентов перед нами явились П.Н. Милюков и С.Ф. Фортунатов. Милюков, тогда весь погруженный в кабинетные исследования и архивные изыскания, читал нам специальные курсы по историографии, по истории колонизации, по обзору начатков исторической жизни на русской равнине. Все эти курсы представляли собой самостоятельные монографические исследования. К сожалению, из них первый курс по историографии, да и то лишь в первой своей части, превратился затем в книгу («Основные моменты развития русской исторической мысли»). Между тем из этих курсов могли бы вырасти такие же фундаментальные монографии, какой является и книга о государственном хозяйстве России при Петре Великом. Лекции Милюкова производили на тех студентов, которые уже готовились посвятить себя изучению русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед нами был лектор, вводивший нас в текущую работу своей лаборатории, и кипучесть этой исследовательской работы заражала и одушевляла внимательных слушателей. Лектор был молод и еще далеко не был искушен в публичных выступлениях всякого рода. Даже небольшая аудитория специального состава волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхивало густым румянцем. А нам это было симпатично. Молодой лектор сумел сблизиться с нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. Тут же воочию развертывалась перед нами картина кипучей работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скромная квартира походила на лавочку букиниста. Там нельзя было сделать ни одного движения, не задев за какую-нибудь книгу. Письменный стол был завален всевозможными специальными изданиями и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за приятными и интересными беседами. А мне думалось порой: с каким удовольствием любезный хозяин после нашего ухода останется один и вернется к работе, от которой мы его оторвали. Мы не сомневались, что имеем дело с человеком, который наполнит нашу ученую литературу многочисленными фундаментальными историческими трудами. И точно, он сделал немало в этой области. Но сделанное им составляет лишь небольшую долю того, что он непременно совершил бы, если бы не потянуло его на иные пути, на иную арену. Степан Федорович Фортунатов – брат языковеда, о котором говорилось выше, – 394 представлял собою полную противоположность своему брату. Насколько Филипп Федорович был молчалив и тих, настолько Степан Федорович отличался живой общительностью. <…> Степан Федорович читал курсы по истории Англии, Соединенных Штатов Северной Америки, французской революции. Он обладал феноменальной памятью. Политическая история Англии и Северо-Американскнх Соединенных Штатов была ему известна в таких мельчайших подробностях, как будто это была его личная биография. <…> Можно себе представить, какой успех имели его лекции в его аудитории, битком набитой слушателями. Степан Федорович Фортунатов был энтузиастом культа политической свободы. Он с жаром отстаивал идеи конституционализма и личных гражданских вольностей. Нередко его упрекали в приверженности к доктрине старого либерализма манчестерского типа. Эти упреки были, конечно, неосновательны. У нас в России, за самыми лишь немногими исключениями, сторонники либеральной доктрины вовсе не стояли за принцип laissez faire, а напротив того, придавали большое значение государственному вмешательству в экономические отношения в интересах социальной справедливости. И Степан Федорович не был, конечно, манчестерцем. Но он, на мой взгляд, правильно полагал, что русская интеллигенция склонна была скорее недооценивать, нежели переоценивать значение политической гарантии личных свобод, упуская из виду, что правомерная свобода личности, — и сама по себе составляя великое благо, — служит в то же время необходимой предпосылкой, необходимым условием и всех тех социальных преобразований, которые вызываются требованиями социальной справедливости. <…> На этом я прощаюсь с моими студенческими воспоминаниями. И приятно и грустно вспоминать о том, что пережил на «утре бытия». Так и просятся на уста восклицания Гоголя: «О, моя юность, о моя свежесть!» Печатается по: А.А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий». Глава первая. Студенческие воспоминания. М., 1997. (в сокращении) Кизеветтер Александр Александрович (1866 – 1933) – историк, профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук, публицист, общественный деятель, член ЦК партии кадетов, депутат 2-й Государственной Думы. С 1884 по 1888 г. учился на историко-филологическом факультете Московского университета, объединившего в это время многих талантливых профессоров. В первый же год пребывания в Университете он слушал лекции Ключевского, с третьего курса занимался русской историей под его руководством. Учился Кизеветтер и у приват-доцента П. Милюкова, читавшего специальные курсы по историографии. По окончании университета Кизеветтер был оставлен в нем для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории, руководимой В.О. Ключевским. Вскоре он начал читать специальные курсы по истории крестьянской реформы 1861 года, внутренней политике России в первой половине XIX в., по русской историографии. Помимо занятий в Университете Кизеветтер преподавал в Лазаревском институте восточных языков, в Обществе воспитателей и учителей, на педагогических курсах, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, на Высших женских курсах Герье. Современники признавали Кизеветтера самым популярным после Ключевского лектором. Продолжая научные завоевания своих предшественников, С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, Кизеветтер создал яркие портреты исторических деятелей. Не случайно Ключевский, возглавлявший кафедру русской истории, счел его своим лучшим преемником (однако Министерство народного просвеще- 395 ния не утвердило это предложение). Кизеветтер вошел в определенный круг единомышленников, объединенных общими научными и общественными интересам: В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов и отчасти П.Н. Милюков, А.А. Кудрявцев. Преподавательская и просветительская деятельность шла параллельно с научноисследовательской работой. «Семь лет почти.ежедневно сидел я в архиве от 9 часов утра до 3 часов дня и накопил такую гору выписок из архивных документов, что для их обработки потребовалось еще около двух лет», — писал в своих воспоминаниях Кизеветтер. В 1903 году он защитил магистерскую диссертацию «Посадская община в России XV1I1 ст.», тогда же вышла и одноименная книга, имевшая новаторский характер, в 1909 – докторскую диссертацию. В 1893 – 1909 гг. он приват-доцент, в 1909 – 1911 гг. профессор Московского университета. В 1911 г. в знак протеста против фактического уничтожения университетской автономии покинул университет вместе с ректором университета А.А. Мануйловым, группой профессоров. Преподавал в Народном университете А.Л. Шанявского и в Коммерческом институте. Когда Кизеветтер приступал к монографическому исследованию, которое считал своим главным призванием, он «сразу становился аскетом, отказываясь от живописания и от составления отвлеченных формул. Он тут только прислушивался к голосу источников, стараясь подслушать в них биение жизни, – вспоминал П. Милюков. (Два русских историка (С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер) // Современные записки, 1933. Кн. 1). Диссертация Кизеветтера имела широкий научный резонанс. Обществом истории древностей российских в составе В.О. Ключевского, Д.И. Иловайского, М.К. Любавского и др. ее автору была присуждена премия Г.Ф. Карпова, а рецензентам М.М. Богословскому и Е.В. Петухову — золотые медали. Кроме книги-диссертации он публиковался в журналах «Русская мысль», «Русское богатство», «Образование», «Ежемесячный журнал для всех». Статьи о «Домострое», об Иване Грозном, о реформах Петра I, о городских наказах екатерининской Комиссии 1767 года и другие являлись итогом его работы над специальными и лекционными курсами и свидетельствовали о глубоко научном подходе лектора к задачам преподавания. Кизеветтера, по его собственному признанию, «манила... легальная общественная деятельность», которую он считал единственно возможной формой борьбы за свои идеалы. Он работал в Московском комитете и в Комиссии грамотности, куда входили П.Г. Виноградов, В.И. Вернадский, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев. В 1903 вошёл в редакцию журнала "Русская Мысль", позднее начал сотрудничать в газете "Русские Ведомости". Был постоянным посетителем «Телешовских сред». В канун революции 1905 г. он принял участие в обсуждении программы либерального журнала «Освобождение», вступил в "Союз освобождения". По признанию Кизеветтера, он постоянно находился в «атмосфере политического возбуждения». Стал одним из учредителей партии кадетов, в январе 1906 избран членом её ЦК, в 1915 г. Кизеветтер упрекал Милюкова в отступлении от принципов либерализма. Несмотря на утверждение Кизеветтера: «Я по природе вовсе не политик. Я ученый и писатель», он активно участвовал в политической жизни, считая это своим нравственным долгом. Восторженно встретив Февральскую революцию, в статье "Амнистия" в «Русских ведомостях» он приветствовал свержение самодержавия. В октябре был выдвинут кандидатом в члены Учредительного Собрания от Москвы. Часто выступал в печати: статья "Враги народа" ("Русские Ведомости", 1917, 8 ноября), 19 ноября - "Большевики и печать. (К сегодняшнему митингу журналистов)" о закрытии большевиками ряда газет и журналов. 25 ноября в статье "В защиту тёмных масс" о вине интеллигенции перед народом. 28 января "Буржуазная природа большевистского движения." В сентябре 1922 г. выслан из Советской России. «Уезжал я из России с ясным сознанием того, что покидаю ее на продолжительное время», – признавался он в письме к Астрову 15 октября 1922 г. В Россию он больше не вернулся. Жил в Праге. Занимался научной и педагогической деятельностью. Московский Университет всегда был в «памяти сердца» А. Кизеветтера. В эмиграции, он 396 посвятит своим профессорам и преподавателям много ярких признательных страниц в воспоминаниях «На рубеже двух столетий» (Прага, 1929) и в обстоятельном предисловии к юбилейному сборнику, посвященному 175-летию Московского Университета (Париж-Прага, 1930). Написанные со свойственным Кизеветтеру чувством исторического такта, с блеском, эти работы стали событием для всей русской эмиграции: «Вы изобразили так прошлое, как никакие адресы сделать этого не могли бы… Славная плеяда Ваших предшественников…Грановский, Ключевский, Чупров… нашли в Вашем лице… достойного продолжателя…». Высоко ценил Воспомнания А. Кизеветтера и проф. П.А. Заончковский. Примечания 1.О диспуте по поводу докторской диссертации В.О. Ключевского «Боярская Дума древней Руси» см. «Голос», 4 окт., 1882 г., «Русские ведомости». 1882 г, 1 окт.. 2.Кизеветтер преподавал в частной женской гимназии Л.О. Ржевской в 1903—1907 гг. 3. Так иронически (по аналогии с битвой под Дрезденом в 1913 г.) называлось столкновение студентов с полицией 12 октября 1861 г. у гостиницы «Дрезден» на Тверской площади. 4.1 марта 1881 г. бомбой, брошенной народовольцем И.И. Грине-вицким, был убит Александр П. 3убатов С.В. (1864—1917), жандармский полковник, в 1888— 1902 гг. начальник Московского отделения, в 1902—1903 — начальник Особого отдела департамента полиции. Катков М.Н. (1818—1887), публицист и издатель, в 1863—1887 гг. редактор и издатель газ. «Московские ведомости». Толстой Д.А. (1823—1889), граф, с 1867 обер-прокурор Св. Синода, в 1866—1880 гг. министр народного просвещения, в 1882— 1889 министр внутренних дел. 5. Контрреформы — мероприятия правительства Александра III в период реакции 80-х гг., пересмотр буржуазных реформ 60-х гг.: восстановление предварительной цензуры (1882), введение сословных принципов в начальной и средней школах, отмена автономии университетов (1884), введение института земских начальников (1889), установление бюджетной опеки над земскими и городским самоуправлением (1890, 1892). «Московский листок» — газета, выходила в Москве с 1881 по 1918 г. Булгарин Ф.В. (1789—1859), писатель, журналист и издатель. Пастухов Н.И. (1882—1911), публицист, редактор-издатель газ. «Московский листок», «Русской газеты», журналов «Развлечение», «Заноза» и др., автора рассказов из жизни купечества. "Дорошевич В.Н. (1864—1922), журналист, фельетонист. "«Русские ведомости» — газета, выходила в Москве в 1863—1918 гг. Соболевский В.М. (1846—1913), редактор «Русских ведомостей», публицист, юрист. 6. 6февраля 1861 г. был объявлен Манифест об освобождении крестьян. Джаншиев Г.А. (1851—1900), публицист, юрист, сотрудник «Русских ведомостей», издатель книги «Из эпохи великих реформ. Историческая справка». М. 1892. Эррисман Ф.Ф. (Гульдрейх Фридрих) (1842—1915), швейцарец, в 1869—1896 гг. работал в России, с 1882 г. профессор Московского университета, основоположник научной гигиены в России. 397 Феоктистов Е.М. (1828—1898), публицист, историк, начальник Главного управления по делам печати (1883—1896), автор книги «За кулисами политики и литературы. 1848— 1896». 7. Голод 1891 г. вызвал в русском обществе большую волну благотворительных акций: Л.Н.Толстой организовал Комитет по борьбе с голодом, собирались пожертвования, с публичными лекциями по истории, науке и культуре России выступали известные ученые и общественные деятели, в том числе К.А.Тимирязев, И.М.Сеченов и другие. 8. Юридическое общество при Московском университете существовало в 1865— 1890-х гг., имело свой периодический орган «Юридический вестник» (ред. Н.В.Калачев, В.Н.Пешков, М.М.Ковалевский, С.А.Муромцев и др.). 9. Татьянин день – отмечается 25 января. Подписание императрицей Елизаветой Петровной Манифеста об учреждении Московского университета 25 января 1755 г. стало праздником русского студенчества. Гамбаров Ю.С. (1850—1926), в 1887—1899 гг. профессор гражданского права Московского университета, с 1901 — профессор Петербургского политехнического института. Хохлов П.А. (1854—1919), певец Большого театра, первый исполнитель партии Евгения Онегина в опере П.И.Чайковского. . Щепкин М.П. (1832—1908), общественный деятель, публицист, гласный Московской городской думы. Тихонравов Н.С. (1832—1893), историк литературы, археолог, в 1859—1889 гг. профессор истории русской литературы Московского университета, в 1877 —1883 гг. ректор, с 1890 г. председатель Общества любителей российской словесности. Калита Иван (1325—1340), великий князь Московский. Иванов В.И. (1866—1949), поэт, символист, с 1924 г. жил в Италии. Боголепов Н.П. (1846—1901), профессор римского права Московского университета в 1883—1887гг., в 1891 —1893 — ректор, с 1895 — попечитель Московского учебного округа, в 1898—1901 — министр народного просвещения. Карпович П.В. (1874—1917), эсер, в 1901 г. смертельно ранил министра народного просвещения Н.П.Боголепова, был приговорен к двадцатилетней каторге, но в 1907 г. бежал, эмигрант. Ермолова М.Н. (1853—1928), артистка Малого театра, с 1920 г. первая Народная артистка республики. Федотова Г.Н. (1846—1925), артистка Малого театра, народная артистка Республики. Медведева (Гайдукова) Н.М. (1832—1899), актриса Малого театра, заслуженная актриса императорских театров. Никулина-Косицкая Л.П. (1827—1868), артистка Малого театра. Садовские: Садовская О.О. (урожд. Лазарева) (1849—1919), артистка Малого театра; Садовский М.П. (1847—1910), артист Малого театра, драматург, переводчик, поэт. Ленский (Вервициотти) А.П. (1847—1908), актер и режиссер Малого театра, театральный педагог. Южин (Сумбатов) А.И. (1857—1927), артист и художественный руководитель Малого театра, драматург, народный артист Республики. Иванов Г.А. (1826—1904), профессор римской словесности Московского университета. Сабуров А.А., государственный деятель, в 1880—1881 гг. министр народного просвещения. Синявский, студент юридического факультета Московского университета. 22 ноября 1877 г. в зале Московского дворянского собрания во время концерта нанес «оскорбление 398 действием» инспектору Брызгалову. Брызгалов А.А. (ум. 1888), инспектор Московского университета. В период реакции 80-х гг. среди студенчества возникло движение «белоподкладочников», отрицающих участие в политической борьбе. Мария Федоровна (Дагмара, принцесса Датская) (1847—1928), императрица, жена Александра III.). Европейцев М.В. (1823—1867), дядя В.О.Ключевского, священник. Беляев И.Д. (1810—1873), профессор русского законодательства Московского университета, славянофил. Лешков В.Н. (1810—1881), профессор полицейского права Московского университета, в 1865—1880 гг. первый председатель московского Юридического общества, редактор «Юридического вестника» и «Юридической газеты». 399 400 Василий Алексеевич Маклаков Отрывки из воспоминаний** Я в университет был так долго, что мог бы отнести себя к злополучной категории вечных студентов. Поступил в 87 году и последний экзамен держал в 96. На естественном факультете я слушал лекции, но экзаменов не держалi; на филологическом и слушал лекции и держал экзамены; на юридическом держал экзамены, но лекций не слушал. Имел диплом двух факультетов; использовал до отказа и воспитательное влияние студенческой жизни на образовательную школу профессоров. Вспоминая, каким я в университет поступил, оценивая все, что мне дали университетские годы, вижу, насколько я всем был обязан ему. Но это не только черта личной моей биографии, в оглашении которой есть все же нечто нескромное; воспитательное значение университета интересная страница в истории нашей общественной жизни. Это оправдывает мои студенческие воспоминания. …………………………………………………………………………… ГЛАВА V. Филологический Факультет. Мой вынужденный переход с естественного на филологический факультет в связи с причинами, которые его вызвалиii и с обязательством, которое я тогда приПо просьбе юбилейного комитета В.А. Маклаков написал воспоминания о своей студенческой жизни; автор, однако, находит, что оглашение их пока преждевременно. Мы печатаем из них небольшой отрывок, имеющий самостоятельный интерес. * 401 нял перед попечителем, графом Капнистомiii, взявшим меня на поруки, изменил мое положение в университете и само мое к нему отношение. Я кончал так, как надо было начать: стал наконец заниматься тем, для чего университет существует, т. е. наукой. Моими учителями оказались в то время уже профессора, а не только студенческие кружки, подпольные организации, да старшие товарищиiv. Мое пребывание на филологическом факультете сделалось обратным тому, чем оно было на естественном. Я использовал университет в прямом его назначении, как учебное заведение и почти совершенно отошел от студенческой общественной жизни. Филологический факультет и оставил поэтому во мне воспоминания не о студентах, не об их направлениях и начинаниях, а о профессорах и о том, что они давали студентам. Добавлю при этом, что я ценю в них теперь не ученых, а преподавателей. Значение ученого — в его научных работах, которые можно использовать и без прямой его помощи; часто, как преподаватели, ученые стоять не высоко; достоинство и уменье преподавателя sui generis. А в способах преподавания я меньше всего значения придаю классическому университетскому приему, т. е. «чтению» лекций. Лекционная система мне представлялась и представляется варварством. Раз есть книгопечатание и мы грамотны, мы лекции можем прочесть; этим выгадаем во времени и в понимании. В университетском преподавании важнее и продуктивнее практические занятия и семинары: только в них профессора дают студентам то, чего книга не в состоянии дать. Мои воспоминания о филологическом факультете коснутся поэтому только тех немногих профессоров, у которых я практически занимался. О тех, которых я знал только как лекторов, вспоминать я не стану. Среди них были и европейские имена. Например, знаменитый языковед Ф.-Ф. Фортунатов. Он был между прочим замечателен тем, что обижался на тех, кто ходил на его лекции. Вы все равно ничего не понимаете, говорил он нам, зачем же вы ходите? Неужели вы воображаете, что это и не нужно?» И студенты переставали на его лекции ходить, и он проводил их tete-a-tete с издателем своих лекций, диктуя и исправляя издаваемый текст. Не буду вспоминать и о тех молодых приват-доцентах (Корелинv, Милюковvi и др.), у которых я практически не работал. Главными китами, на которых стоял исторический факультет, были трое: Герьеvii, Ключевскийviii и Виноградовix. Герье едва ли не только honoris causax причисляли к этой плеяд. Он был человеком прежней формации. Студенты считали его отсталым, педантом, застывшим на старых позициях. Его лекции напоминали его физиономию. Он производил впечатление ни старого, ни молодого; казалось, и всегда он был тем, чем был в наше время, т. е. какою-то засохшею мумией, но без единой сединки. Время на него не влияло. Так и его предмет можно было готовить по старым курсам; время тоже в них ничего не меняло, ни в форме, ни в содержании. Эта манера была связана с его преподавательским мировоззрением. Он приспособлял свои лекции к низкому уровню своих слушателей. Настоящая наука для избранных, но Герье, как преподаватель, заботился не о них, а об общей массе аудитории. У меня не было опыта, чтобы знать, какую помощь находили в нем те исключения, которых он оставлял при себе и которые собирались стать профессорами. Быть может, к ним 402 он относился иначе. Но он не старался их отыскать среди слушателей, заинтересовать или выдвинуть. Он как будто всем говорил одинаково: «куда вам заниматься наукой, когда вы не знаете азбуки?» И с покорностью, без одушевления учил этой азбуке. Его семинарии с набившими оскомину темами о Тите Ливииxi, Тэнеxii и Ранкеxiii были томительно скучны. Если Герье на это указывали, он отвечал: «ведь и такие темы им не по силам, они и с ними не справятся». Здесь была доля правды: уровень знаний, которые давала гимназия, был так низок, что самые элементарные темы его превышали. Начиная с азов, обучая студентов вступительным шагам всякой научной работы, Герье делал, конечно, неблагодарное, но полезное дело. Если для среднего уровня такая работа была нужна, а может быть и трудна, — Герье незаслуженно считали строгим экзаменатором, — то лиц хоть скольконибудь подготовленных она унижала и раздражала. Как преподаватель Герье тянул всех к низшему уровню и, того не замечая и не желая, он под гипнозом студенческой неподготовленности демократизировал знания. На выпускных экзаменах, после письменного испытания по всеобщей истории я встретил Герье на Тверском бульваре; он шел с толстым портфелем, набитым только что поданными ему сочинениям. Я был в это время в привилегированном положении; моя работа на Виноградовском семинарии была по постановлению факультета напечатана в Ученых Запискахxiv; я был «подающим надежды» студентом; при этом для Герье я был посторонним, занимался у Виноградова, не у него. Но Герье было известно, что Виноградова прочит меня в профессораxv; он мог откоситься ко мне, как к будущему товарищу, а не как к ученику; мог это показать, себя не роняя. «Я позабыл дома очки, сказал он, будьте добры мне почитать, что ваши товарищи здесь написали». Мы сели на лавке, я стал читать сочинения, а он ставил отметки. Почти все время он горько улыбался: «и это кончающие». Должен признаться, что прочитанные подряд сочинения на одну и ту же тему в своей совокупности производили смешное и жалкое впечатление. Был виден набор одних и тех же чужих фраз, выхваченных из мало усвоенных лекций, без следов собственной мысли. Иногда от таких работ становилось смешно, как от чтения плохо разобранной стенограммы. «А после этого говорят», — начал Герье и замолчал. Я понимал, о чём он думал. При таком уровне студенческой массы можно ли было его упрекать, что его лекции слишком элементарны? Но преодолеть эту некультурность, поднять и расшевелить научные интересы студентов, Герье не умел и только скорбел и раздражался на самих же студентов. После 1905 года Герье приобрел в нашем обществе репутацию реакционера. Однако его прошлое с этим не согласовалось. Он был передовым по убеждениям человеком, сотрудничал в «Вестнике Европы», был бессменным гласным городской думы и губернского земства, стоял горой за университетскую автономию и сыграл ничем не заменимую роль в области высшего женского образованияxvi. Все это отводило ему почетное место в либеральном лагере. Но после 1905 года он выступил в печати с резким и раздраженным осуждением первых двух Государственных Думxvii. Как в таких случаях обыкновенно бывает, его стали обвинять в ренегатстве, в измене своим собственными взглядам. Это было несправедливо; он 403 остался тем же, чем был — культурным передовым человеком, убежденным сторонником конституционного строя, только одновременно с этим и ненавистником радикальной демагогии и революционной фразеологии. А таким он был очень давно. Помню, как студентом еще первого курса при Александре III, я читал у него на семинарии заданный нам классический реферат о Реформации. Говоря об Императоре, я между прочим сказал, что Император Германии в то время был менее всего тем, чем Монарх должен быть, т. е. представителем только исполнительной власти. Герье саркастически осклабившись попросил повторить фразу, как будто ее не расслышал. Я с апломбом ее повторил. Герье недовольно пожевал губами, но промолчал. Далее я сталь доказывать, что сопротивление Папы церковным реформам оказалось полезно. Не будь этого, не было бы и Реформации; была бы проведена церковная реформа и только. Так, говорил я, и для торжества великих идей 18-го века оказалась полезной неспособность французского правительства провести нужный реформы мирным путем. Именно эта его неспособность породила такое событие, как Революцияxviii, которая, несмотря на свои эксцессы и кровь, озарила эти идеи незабываемым светом. Тут Герье уже не выдержал. Он покрылся красными пятнами и прерывающимся голосом стал меня разносить. «Вы напоминаете мне молодого петушка, говорил он, которому хочется кого-нибудь задеть шпорой, чтобы показать, что он тоже петух. Почему вы говорите, что назначение Монарха быть только исполнительной властью? Это можно утверждать только с точки зрения определенной политической доктрины, да и то плохо принятой, т. е. с точки зрения Монтескье. Но его определение воли Монарха годится не для всяких монархий, оно не безусловно. Но вам доставляет удовольствие без всякой надобности, хотя бы мимоходом царапнуть монархию. Но это куда ни шло! А вот ваше сравнение Реформации с Революцией? Здесь есть верная мысль. Без злоупотреблений Церкви Реформации могло бы не быть; идеи веротерпимости, свободы совести явились в результате этих злоупотреблений. В этих пределах ваше сравнение судьбы этих идей с политическими идеями 18-гo века, которая тоже явились реакцией против злоупотреблений феодализма и абсолютизма, — совершенно законно. Но вам этого мало. Вам оказалось нужным пристегнуть сюда Революцию, оправдывать ее даже прославлять ее эксцессы и кровь». Я стал заступаться за Революцию. Герье волновался и злился. «Если бы вы были постарше, сказал он, я бы дал вам тему для серьезной работы; показать зло, которое Французская революция принесла идеям, которым служила. Но в ваши годы этого не понимают». Он сказал это очень серьезно и грустно. Я вспоминал этот разнос, когда позднее Герье так же страстно стал нападать на поведение либерального лагеря в 1905 году и потом на деятельность 1-ой Государственной Думы. С ним можно было не соглашаться, но в том, что он тогда говорил и писал, не было и признаков ренегатства; только не было и той капитуляции либерализма перед революционными увлечениями, которая в то время торжествовала на политическом фронте. И когда мы видим, что делают в России с идеями социализма его последователи, я лучше понимаю и полемические нападки Герье, и ту меланхолию в которой он жил свои последние годы. Он мог повторить слова Шербю404 льеxix, которые так любил И. С. Аксаковxx: Dieu dans sa sagesse prefеre ceux qui te trient a ceux qui le comprometlentxxi. С такими взглядами он себя пережил; своим идеям он не изменил, но и к новым настроениям общества приспособить не смог; трагедия последних лет его жизни была именно в этом. Самой красочной фигурой факультета был, конечно, Ключевский. Трудно что-либо прибавить к тому, что о нем уже было написано более компетентными лицами. Ключевский явился живым опровержением моей теории о бесполезности лекционной системы. Его лекции не только давали эстетическое наслаждение; они запоминались, понимались лучше, чем книга. Тот, кто слышал Ключевского, не мог уже читать его произведения, не вспоминая его голоса, ужимок и интонаций. И чтобы от всей теории не отказаться, я приходил к заключению, что Ключевский «актер», а не лектор. Но актер он был замечательный, и лекции его были несравнимы ни с чем. Особенностью его был, во-первых, язык, исключительный по силе, оригинальности и красочности; он был настолько своеобразен, что когда Ключевский напечатал в «Русской Мысли» свою статью о Лермонтове, под заглавием «Грусть», то хотя он ее не подписал, с первых же строк все по языку узнали Ключевского. Другим свойством его была необыкновенно выразительная манера произношения, с странными логическими ударениями и паузами, с оригинальными модуляциям голоса, сопровождаемыми своеобразными гримасами и поднятием бровей. Ключевский мог так прочесть отрывок из летописи, что он навеки не забывался. Любопытно, что одной из причин этой своеобразной манеры Ключевского было его легкое заиканье. Этот недостаток он старался скрывать; только разглядывая его изблизи, можно было заметить, что когда он неожиданно умолкал и делал как будто непонятную паузу, его нижняя челюсть начинала усиленно и беспомощно дергаться. Он делал вид, что пауза вызвана тем, что он думает и сосредоточивается. Часто пауза приходилась не там, где ей по смыслу полагалось бы быть; те, кто не знали про его заиканье, могли думать, что он или оригинальничает или не находит нужного слова; но в результате это скрытое заиканье не только не вредило Ключевскому, но придавало оригинальность и даже прелесть его своеобразной манере. Я имел возможность наблюдать Ключевского не только на кафедре. При жизни моего отцаxxii он часто бывал у нас на журфиксах, а после я встречал его на таких же журфиксах у Н. В. Давыдоваxxiii. Ключевский любил ходить в гости и по русскому обычаю сидел там до поздней ночи, до после ужина. Он и в домашней обстановке был так же интересен и блестящ, как на кафедре. Те же чеканные фразы и своеобразная дикция; та же любовь к острому слову, к неожиданным и забавным сопоставлениям, над которыми он потом сам беззвучно смеялся; он так же прищуривался, одновременно поднимая брови над своими близорукими, насмешливыми, никогда не глядевшими в лицо собеседника глазами; та же выразительная мимика, которая как будто вколачивала его слова в память слушателя. Слушать его было всегда наслаждением, и когда он начинал говорить, то несмотря на свой тихий голос он становился тотчас центром внимания. Стилистический блеск его ни в каких условиях не покидал, быль как бы частью его природы. Воз405 можно, что и заиканье ему помогало; оно заставляло его говорить медленно, с остановками, давая этим возможность каждое слово обдумать. Точно также его бисерный почерк, необыкновенно четкий, где он дописывал каждую букву, помогал ему отделывать то, что он писал, придавать законченную красоту его письменной речи. Но при исключительной одаренности Ключевский был все-таки человеком упорной работы, привыкшим доводить все до совершенства. Это одинаково касается и формы содержания. Он себе не доверяет, к самому себе относился очень критически, без признаков самонадеянности. Помню, как в пятнадцатилетие со дня смерти Некрасова мы, студенты, затеяли почтить его память устройством публичного заседания. Пошли просить Гольцеваxxiv принять в нем участие; он согласился без оговорок и, узнав, что мы хотим звать и Ключевского, предложил, чтобы сначала Ключевский выбрал тему по своему вкусу. Гольцев соглашался читать то, что на его долю останется. За тему он не стоял и только просил его заранее предупредить. Ободренные, первым успехом, мы явились к Ключевскому. К нашему удовольствию идея читать о Некрасове его не оттолкнула. Он как будто обрадовался, что молодежь помнит и ценит Некрасова; сам оказался его поклонником. Но когда он узнал, что заседание предположено через месяц, он стал смеяться: «Как через месяц» — спрашивает он, удивленно поднимая брови. — «Да разве можно приготовиться к лекции в один месяц?» Мы говорили, что всегда говорят в таких случаях лекторам, что ему готовиться нечего, что что бы он ни прочел, будет все хорошо и т. д. Ключевский не хотел даже слушать. «Прочесть лекцию не долго, говорил он; не долго ее написать; долго ждать, чтобы «наклюнулась тема». Он стал вслух размышлять; указывал, о чем надо подумать, что освежить в памяти, чтобы читать о Некрасове; говорил о состоянии тогдашней литературы, о любимейших русских авторах, к которым причислял, повторяя это несколько раз с ударением, «русского писателя Гейне в переводе Михайлова»xxv; вспоминал о тогдашних политических настроениях. Он увлекся и говорил около часу. Мы слушали его зачарованные; потом горячо убеждали повторить на лекции то, что он нам говорил. Но Ключевский не допускал мысли о том, чтобы он мог читать раньше, чем через полгода. Уходя от него и сравнивая этот отказ с безусловным согласием Гольцева, мы невольно становились не на сторону Гольцева. После блестящей публичной лекции Ключевского «Добрые люди древней Руси», я, возвращаясь домой, некоторое время шел пешком вместе с ним и его сыном Борисом. Ключевский был очень доволен приемом аудитории; обыкновенно столь сдержанный, он делился впечатлениями, моим присутствием не стесняясь; я оказался свидетелем, как они оба с сыном вспоминали отдельные удачные словечки и впечатление, которое они производили на публику. Было ясно, что эти словечки были заранее подготовлены и изучены и что Ключевский рассчитывал на их эффект. Такая сознательная, упорная, хотя скрытая работа над исключительным даром, которым его наделила природа, и сделала из Ключевского того несравненного «виртуоза», каким он был как писатель и лектор. Своими публичными лекциями Ключевский публику не баловал, может быть потому, что к ним слишком долго готовился. Но бывали моменты, когда ему поне406 воле приходилось выступать перед публикой, и тогда его диалектический талант проявлялся во всем своем блеске. Это были ученые диспуты. Они всегда были событиями. Я помню диспуты Семевскогоxxvi и особенно Милюкова. Ключевский имел против себя в этом последнем случае скорее враждебную аудиторию. Диссертации двух молодых ученых Карелина и Милюкова были одновременно представлены на степень магистра по всеобщей и по русской истории. Герье дал Карелину сразу две степени; того же ждали и от Ключевского по отношению к Милюкову за его труд о Петре Великом. Но Ключевский этого не сделал, и поспешная на выводы студенческая молодежь в этом заподозрила пристрастие и несправедливость. <…> У Ключевского в истории были свои любимцы и свои герои. Их он находил на всех ступенях общественной лестницы. Им был и ушедший от мира отшельник Сергий Радонежский, своим подвижничеством вернувший несчастной русской земле веру в себя; и упрямо защищавшие свою, религию старообрядцы; и тот темный ревнитель старого быта Андрей Иванов, сам явившийся в Преображенский Приказ обличить своего Государя Петра за богопротивные новшества, за что «c ним разумеется и было потуплено по закону»; и всеми забытые добрые люди старой Руси, о которых он напомнил Москве своей публичной лекцией, и его любимец на троне «добрая, славная душа» тишайший царь Алексей Михайлович, считавший себя, несмотря на свое самодержавие, беззащитным перед каким-то нахальным монахом, отцом Микитой, казначеем Савина монастыря. Они были многообразны и многочисленны, настояние герои и любимцы Ключевского; облик которых он с любовью восстанавливал в своих лекциях. Таких людей не ценят их современники и забывает история. Они поглощаются понятием «народа» и «общества». «Так и нужно, — говорил Ключевский, — смерть есть забвение. Истинный символ смерти не европейский памятник, воздвигаемый в похвалу определенного умершего человека, а наш русский могильный холм, который ничьего имени с собой не соединяет». У человека с такими взглядами были шансы остаться непонятыми для тщеславных и самодовольных люден нашего века. И недаром от них, от их любопытства и суеты он отгораживался маской шутки и острого слова. Современные люди его понимали по-своему. Его иногда злые, а и добродушные насмешки над историческими личностями всеми воспринимались с большим удовольствием; а идеала его не замечали и во всяком случае им не соблазнялись. Да он его и не старался распространять и внушать; его идеал оставался при нем. Ключевский расспрашивал, наблюдал, выносил в душе свои приговоры и ни с кем вместе не шел. В эпоху освободительного движения и введения конституционного строя, многие активные политики воображали, что его убедили и перевели в близкий им лагерь. Что он про них действительно думал, он унес c собою в могилу; но оставался вес время в стороне от движения. Последнее место в этом очерке я оставил П. Г. Виноградову. Не потому, что лично больше всего был связан именно с ним и ему очень многим обязан; а потому, что он для меня является идеалом университетского преподавателя. Не мне 407 судить о нем, как об ученом; приглашение его в Оксфорд и его мировая известность говорят за себя. Я могу вспоминать о нем только как об исключительном преподавателе, который мог создать и до некоторой степени создал в Московском университете целую ученую школу. В Виноградове сочетались оба главных свойства большого ученого: память и творчество. Обладание громадным, уже накопленным запасом знаний и фактов, без которого современную науку двигать нельзя, и умение этим запасом владеть, не попадая ему под власть, не становясь на готовые рельсы, с которых нельзя уже сойти. Только сочетанием этих двух свойств можно избегнуть опасности стать или ученым тупицей, шкафом с книжными полками, или талантливым «фантазером» в науке. Многое знать и не потерять способности творить — в этом мерило ученого. Это Виноградов умел делать с державной легкостью. В нем не было блеска Ключевского, он о нем и не заботился. У него и не уходило столько времени и труда на то, чтобы отчеканивать свое изложение. Курсы Виноградова ежегодно менялись, и он не стал бы ждать шести месяцев, чтобы ему «наклюнулась тема». Но о чем бы с ним ни говорили, в его распоряжении всегда находилась масса аналогий, сравнений, иллюстраций из разных эпох и народов, которые показывали с кристальной ясностью, что в истории все совершается по непреложным законам общественной жизни, что в ней нет ничего необъяснимого. В обнаружении и определении этой закономерности был лейтмотив Виноградовских лекций и его научных работ. При этом идею этой закономерности он нам не навязывал, не внушал «a priori», как аксиому своей исторической философии. Это был простой логический вывод, к которому каждый естественно сам приходил, усвоив его изложение. Он читал, между прочим, историю Средних веков: этот курс для многих был совсем непохож на то, как эту историю обыкновенно читают. «Мой идеал, сказал он мне раз, прочитать историю средних веков, не назвав ни одного собственного имени. Они не нужны для ее понимания». Но может быть именно эта отвлеченность, сближавшая его историю с социологией, сделала его учебник для гимназий мало понятным и интересным для школьников среднего возраста. Но в чем Виноградов был незаменим — были его семинарии. Они давали не меньшее эстетическое наслаждение, чем лекции Ключевского и при этом наслаждение более ценное. Виноградов умел заставить студентов работать перед собой: вызывал возражения, старался отыскать в каждой сказанной глупости или наивности зерно правильной мысли; принимался развивать чужую идею, показывая, куда она приводила и где находилась ошибка. При этом он всё освещал такой массой примеров и аналогий, не исключая и современной нам жизни, что логика исторических фактов сама собой обнаруживалась, а события современные получал» новое объективное освещение. Виноградов не хуже Герье понимал неподготовленность наших студентов для серьезной работы; но он не построил на ней системы преподавания, не сделал задачей университета заменить собой то, чего гимназия не давала. Он устроил параллельные семинарии. Один обязательный, общий, другой необязательный, для избранных, как мы говорили не без претензии, для «специалистов»; в этом по408 следнем и шло наше настоящее научное воспитание. Эти семинарии были не многолюдны; но как и лекции Ключевского они привлекали постороннюю публику; только шли сюда люди с бол е серьезными интересами не затем, чтобы прослушать одну эффектную лекцию. <…> Я мог бы сам засвидетельствовать, по своему опыту, что, когда я был уже юристом и практиком, школа мысли, которой нас научил Виноградов — мне не раз оказывалась очень полезной. На этих же семинариях усердным работником был Гершензонxxvii, знаток и поклонник московской старины; «один в России остался славянофил, да и тот еврей» острил про него Н.А. Хомяковxxviii. Блестящий, увлекательный стилист и писатель, но не умевший связать двух слов устно, тонкий, изящный эстет, при этом с утрированной, почти карикатурной семитической внешностью. В личности Виноградова было мало загадочного; он просто был очень даровитый, нормальный человек, с детских лет превосходно воспитанный, разносторонне и широко образованный европеец в лучшем смысле этого слова, более европеец, чем многие представители Запада, которым уже успела приесться культура Европы. <…> Я могу сказать, что Виноградов вообще имел Lа courage dc son opinionxxix, и взглядов своих не скрывал. Вскоре после этого диспута, он открыл на юридическом факультете необязательный курс по истории государственного права, т.е. по кафедре уволенного М. Ковалевскогоxxx. Виноградовский диспут так меня поразил, что я пошел послушать его вступительную лекцию. Он начал ее похвальным словом предшественнику и кончил словами, в которых тогда все увидели вызов: «если не по объему и достоинству, то по направлению мой курс будет всецело примыкать к курсу М.М. Ковалевского. Еще до 1905 года Виноградов окончательно покинул не только Московский университет, но и Россию и был приглашен профессором в Оксфорд. Там я встретил его, когда он принимал парламентскую делегацию, которая в 1907 году ездила в Англиюxxxi. Виноградову с его взглядами, с его европеизмом было нелегко жить в России. И если мы не можем себе представить Ключевского вне России, то Виноградова гораздо лучше видим в Европе. Напротив, ему было трудно ужиться в России, не только с правительством, но и с вашей общественностью. Он слишком хорошо знал Европу, был слишком подлинным европейцем, чтобы не понимать, что неудачи и беды России происходят не только по вине нашей власти, но и по неподготовленности, несерьезности нашего обществаxxxii. Освободительному движению с конечными его идеалами он не мог не сочувствовать, но он понимал, что «дело веков исправлять не легко», что одна свобода и народоправство не исцелили бы России от тех привычек, которые ей привил каш неразумный абсолютизм. Виноградов не разделял увлечений кадетской программы. В моей памяти запечатлелась одна из редких политических статей Виноградова в «Русских Ведомостях», об основах русской конституции и избирательного закона. Виноградов был сторонником двухпалатной систёмы; не без иронии относился к максимализму наших политических партий, к их претензиям ввести сразу все последние слова европейских демократий. «Надо же оставить что-нибудь и для будущих поко409 лений», шутил он. Но главный вопрос, который он ставил, был вопрос об избирательном праве, ибо от него зависел характер и судьба будущей государственной власти. Он категорически стоял за двухстепенность выборов, осуждая пресловутую четырехвосткуxxxiii. Он понимал, что в крестьянской России цензовых выборов делать нельзя; знал, что в России нет материала для аристократии, что отстранять крестьян от государственной жизни — безумие. Но именно потому, что всеобщее избирательное право он считал неизбежным, он наставал на непременной двухстепенности выборов; благодаря ей русский парламент мог бы найти основу в местном самоуправлении, в развитии которого Виноградов видел необходимую школу для народа и потому первейшую задачу новой России, На эту статью ему тогда отвечал Милюков; он напротив стоял за однопалатную систему и за четырехвостку, которые по его мнению делали народное представительство более сильным для борьбы с исторической властью. Разница двух мировоззрений сказалась в этой полемике. На одной стороне был настоящий европеец, который остался историком и поэтому не забыл, что демократия с четырехвосткой совсем не панацея и годна не для всех. Этот европеец несколько свысока, как посторонний, смотрел на нашу народную некультурность, мирился с ней, как с совершенно естественным злом, которое нельзя игнорировать в угоду политическим симпатиям и соображениям. А на другой стороне быль активный «политик», варившийся в атмосфере повседневной борьбы, поневоле приспособлявши свои взгляды к практическим целям, которые в то время преследовались; ему приходилось из тактики настаивать на четырехвостке, закрывая глаза на ее недостатки, не считаясь с тем, что русское общество и народ своей политической зрелости еще не доказали. В этом пункте они должны были бы разойтись. Если бы Виноградов после 1905 г. остался в России, русская партийная жизнь так же безжалостно бы прошла мимо него, не использовав его дарований, как она прошла мимо многих из тех, кто по своим достоинствам и заслугам представляли в то время лучшую часть русского общества, но не хотели послушно идти за толпой и ее вожаками. Виноградов посвоему темпераменту и складу ума уже перерос увлечения и иллюзии детского периода нашей политической свободы, когда партии и их лидеры не только работали на пользу России, но и кроме того играли в Европу. Отъезд Виноградова в Англию во время конституционного переустройства России быль простым совпадением, но он же явился и символом. Я был обязан Виноградову тем, что если не стал ученым и профессором как он на это рассчитывал, то все же изведал соблазны научного творчества. Этот эпизод моей жизни связан с работой в его семинарии. Печатается по кн.: Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. Изд. Парижского и Пражского Комитетов по ознаменованию 175-летия Московского университета под ред. проф. В. Б. Ельяшевича, А. А. Кизеветтера и М. М. Новикова. Париж, «Современные Записки», 1930. С. 294—318. Василий Алексеевич Маклаков (1869—1957) — один из наиболее ярких рус410 ских адвокатов начала XX века, общественный деятель, мемуарист. В 1887—1894 годах учился на физико-математическом и историкофилологическом факультетах Московского университета. В годы учебы активно участвовал в общественной жизни университета сначала в студенческих землячествах, а с 1890 года — в хоре и оркестре, где стал первым председателем хозяйственной комиссии и в 1891 году выступил инициатором передачи всего сбора с традиционного осеннего благотворительного концерта в пользу голодающих крестьян. В 1895 году после смерти отца принял решение экстерном сдать экзамены за юридический факультет и уже следующей весной получил второй университетский диплом. Вступив на поприще присяжного поверенного достаточно поздно, в 1896 году, Маклаков быстро приобрел известность и популярность. Он входил во многие объединения адвокатов (“Бродячий клуб”, консультация помощников присяжных поверенных при Съезде мировых судей Москвы, кружок уголовных защитников), выступал преимущественно на уголовных и политических процессах, а если речь шла о защите малоимущих, нередко делал это безвозмездно. Маклаков обладал незаурядным ораторским мастерством; ходили слухи, что он умеет «гипнотизировать судей». По мнению многих юристов, именно ему принадлежала центральная роль в наиболее знаменитых, пожалуй, процессах того времени — в Выборгском процессе и в деле Бейлиса. В феврале 1904 года В. А. Маклаков стал секретарем и архивариусом общества «Беседа», первым его членом, не принадлежавшим к земской среде, На Учредительном съезде конституционно-демократической партии был избран членом ЦК. Депутат и один из лучших ораторов II—IV Государственных дум, он активно участвовал в разработке думского Наказа; основной темой его парламентских выступлений была защита законности. Маклаков принадлежал к числу правых кадетов, вплоть до начала Первой мировой войны предпринимал многочисленные, но бесплодные попытки объединить либеральные силы, примирить кадетов, октябристов и прогрессистов, чем неоднократно навлекал на себя недовольство партийного лидера П. Н. Милюкова. Со студенческих лет В. А. Маклаков был частым гостем в доме Л. Н. Толстого в Москве и в Ясной Поляне; неоднократно выполнял поручения писателя, в том числе связанные с защитой обвиняемых на суде. По собственному признанию Василия Алексеевича, он испытал сильное влияние Толстого и в своей общественнополитической деятельности стремился руководиться идеями, от него усвоенными. Впоследствии Маклаков опубликовал целый ряд посвященных Толстому речей и статей, в которых — совершенно неожиданно для современников — предстал как глубокий мыслитель и блестящий писательxxxiv. Общественная деятельность В. А. Маклакова завершилась в эмиграции. Октябрьскую революцию он встретил в Париже, куда только что прибыл в качестве посла Российской Республики. И хотя Временное правительство перестало существовать, он, используя свои старые связи во Франции, сумел сыграть видную роль в жизни русской эмиграции, в 1924 году возглавив Эмигрантский комитет, 411 защищая перед французскими властями юридические права беженцев из России и заслужив благодарность многих и многих из них. Последние годы своей жизни В. А. Маклаков отдал работе над мемуарами, к сожалению, до сих пор не переизданными в России: «Власть и общественность на закате старой России (Воспоминания современника)» (Т. 1—3. [Париж], [1936]) и «Из воспоминаний» (Нью-Йорк, 1954). Непосредственный участник и очевидец исторических событий, писатель, прекрасно владеющий словом, и, одновременно, вдумчивый историк, талантливый ученик П. Г. Виноградова и В. О. Ключевского, он создал великолепные книги, которые не сможет обойти вниманием ни один исследователь общественно-политической жизни России конца XIX — начала XX веков. 412 Николай Сергеевич Арсеньев Дары и встречи жизненного пути Н.С. Арсеньев 413 <…> С воздействиями окружающей духовной среды соединялся порыв молодости, подъем молодости во всей его напряженности и силе... Я со всей силой пережил — и не только я, но и многие окружавшие меня сверстники — то, что Лев Толстой называет весенним чувством, т. е. ожидание чего-то нового, увлекательного и интересного, радостного, какой-то интересной встречи, чего-то, что вот-вот случится, вот-вот, на углу этой улицы, или что ждет меня дома или сегодня вечером, когда буду у друзей. Это так характерно для молодости вообще, но мне почему-то кажется, что время моей юности — время необычайного расцвета русской культуры в годы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне — было периодом какого-то особенного усиленного ее цветения. С особой силой это светлое весеннее чувство, эта радость общения со сверстниками выливалась в умственном общении, в стремлении поделиться теми мыслями и взглядами, которые вырабатывались в собственных занятиях и размышлениях. <…> ___________ Это интенсивное умственное кипение сказывалось, между прочим (а для нас, молодежи, в первую очередь), в университетской жизни этих лет, лет особенного расцвета Московского университета. Основная тенденция всей культурной работы университета заключалась не только в том, чтобы давать знание, но в том, чтобы, прежде всего, приучать к добросовестному исследованию, к духу честного, вдумчивого и конструктивного критицизма и, наконец, зажигать духовно. Недаром сохранился ряд восторженных воспоминаний о воспитательном воздействии Московского университета в лице лучших его преподавателей. Так, историк С.М. Соловьев вспоминает об одном из своих учителей, профессоре римской словесности и древней истории, В.А. Крюкове: «он бросился на нас, гимназистов, с огромной массой новых идей, с совершенно новой для нас наукой, изложив ее блестящим образом, разумеется, ошеломившей нас, взбудоражившей наши головы, вспахал, выборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошие семена, за что и вечная ему благодарность».* Другой слушатель так вспоминает лекции другого знаменитого преподавателя Московского университета того же времени, А.Г. Редкина, читавшего политическую экономию и энциклопедию права: он ставил себе задачей «развить в слушателях любовь к науке, чувство правды и справедливости, строгую логическую последовательность в мышлении и ученое направление, основанное на изучении источников». Своими лекциями по энциклопедии права он «до такой степени возбуждал нас, что, несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию»**. _____________________ *«Вестник Европы», 1907 г., № 4, стр. 445. Воспоминания С. М. Соловьева о годах его студенчества относятся к периоду большого расцвета жизни Московского университета в годы попечительства гр. Строганова (1835 - 1847). ** Журнал «Нива», 1898 г., «Литературное приложение», № 12. Ср. блестящую вступительную статью В. Спиридова к 1-ому тому Полного собрания сочинений Аполлона Григо- 414 рьева, Петроград, 1918 г. Такое же — и потрясающее, и облагораживающее — воздействие на молодежь имели лекции Грановского. Много, много можно назвать других знаменитых и великих имен из самых различных областей знаний, умственных и духовных — своим примером — воспитателей молодежи. Так, в последних годах XIX и в первых годах XX века огромное духовнооплодотворяющее воздействие оказал на молодежь князь Сергей Николаевич Трубецкой, о котором скажу еще несколько слов ниже. Этот дух научной добросовестности и уважения к свободе научной совести другого являлся в разные времена драгоценнейшей традицией, огромным воспитательным делом и воспитательным заветом Московского университета. Этот дух большевики подавили — и то не совсем это им удалось. И верим, что это подавление свободы духа, носителем которого был Московский университет, окончится. Но и раньше в жизни Московского университета были периоды борьбы между свободой научного мышления и стремлением к угашению духа — путем морального насилия: например, в первые годы XX века, когда революционная толпа старалась захватить власть над Университетом*. Эта — в общем, не такая многочисленная — группа стремилась навязать студентам свои материалистическиреволюционные трафареты не столько путем аргументов (ибо аргументация их была слаба), сколько некоего рода моральным давлением. Я сам это пережил в первый год1 моего пребывания в Московском университете (1906 - 1907 академический год). Студенчество само дало отпор этой попытке революционного насилия. Зато годы 1907 -1910 (когда я был на 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах) были для меня, как и для многих других, годами необычайно плодотворными. Не только мы учились, но нас и наши учителя, и вся обстановка моральная заставили критически думать. А волны революционно-материалистического настроения, которые были еще сильно распространены среди молодежи, вызывали и на идейную борьбу за права духовной свободы, за права духа. Помню крытый стеклянным куполом (или, вернее, шатром) высокий центральный холл только что тогда вновь отстроенного здания «Нового Университета» на Моховой: три этажа переплетающихся лестниц и галерей с колоннами (не мраморными, к сожалению) вдоль лестниц — три этажа таких галерей, один над другим — а из галереи вход в аудитории. Все это нарядное, новое, с иголочки, свежевыкрашенное. Масса света и места. На широких перилах галереи я часто, облокотившись, читал в перерывах между лекциями, особенно испанских драматургов (я тогда увлекался испанским языком). В галереях — место для встреч со знакомыми, для разговоров, для споров. Это — здание историкофилологического факультета, высокое, светлое (благодаря своему высокому стеклянному куполу). А если пройти внутренним коридором через здание естественного факультета, то можно в чайной выпить стакан чаю с большой белой сайкой (филипповской или чуевской) со вложенными двумя большими кусками чайной 415 колбасы. _____________ * Были, конечно, более ранние, из других источников исходившие, попытки подавления свободы научного духа в Университетах; напр., в эпоху Магницкого и в 1848-1855 годах. Это вкусно, т. к. лекции, чтение, дискуссии пробуждают аппетит, и очень дешево, вместе с тем. В светлых аудиториях, расположенных амфитеатром, читают лекции, в аудиториях поменьше — ведутся семинары. Я слушаю Историю новой философии и Введение в психологию у Л.М. Лопатина, Историю итальянского искусства (с туманными картинами) — у Романова, Историю России XVIII века (от Петра до Екатерины) — у Ключевского (два раза я прослушал тот же курс), а Историю западно-европейской литературы XVIII века и другой курс о Байроне — у Розанова, санскрит — у Поржезинского, Историю патристичес-кой философии — у Ивана Васильевича Попова. Читаю на занятиях у М. М. Покровского комедии Плавта, на занятиях у А.И. Соболевского — трагедию Эврипида «Алькестида» и посещаю лекции П.Г. Виноградова по истории раннего средневековья, слушаю Историю древнерусской литературы у Сперанского, курс о русских былинах приват-доцента С.Г. Шамбинаго, курс по русской литературе начала XIX века (особенно про русских романтиков — Веневитинова, Одоевского и др.) — у Сакулина; посещаю иногда (но с внутренним протестом) лекции по философии истории проф. Р. Ю. Виппера и, наконец, Введение в философию Челпанова. Это, конечно, не сразу подряд, в один год, а в течение четырех лет. Уже со второго года обучения я понял, что посещать лекции нужно меньше, а, главное, усиленно читать и читать параллельно с читаемым курсом — главным образом, основоположные труды. Кроме того, меня захватили предметы, мало или совсем не представленные в университете — история религий (древнегреческая религия, религия эллинизма, мистические культы древности, религия Индии и специально буддизм), а также раннее христианство, ранние отцы Церкви, а также и отдельные явления или целые периоды различных западно-европейских литератур и культур: в первую очередь Данте, испанская драма, эпоха Возрождения в Италии, религиозная поэзия Средних веков, немецкий романтизм, Гетевский «Фауст», Шекспир и английская драма, английские романтики XIX века (особенно Шелли), Паскаль, средневековые мистики и т. д. Особенно много давали мне курсы Лопатина и И. В. Попова и семинары, где кипела усиленная работа. Были семинары: по русскому романтизму (Сакулин), по итальянскому Возрождению, по Гетевскому «Фаусту», по Истории французской литературной критики (Розанов). Особенно интересны и значительны были семинары у пожилого уже, необычайно тонко и многосторонне образованного, огромного знатока итальянской и испанской культуры и литературы, приват-доцента Брауна, так, интересные и поучительные по тонкости понимания семинары по «Новой Жизни» Данте и по «Novelas Ejemplares»* Сервантеса и драмам Кальдерона. Некоторые семинары (у Сакулина, у Розанова) были ареной захватывающих дискуссий особенно тогда, когда вдруг тема касалась вопросов основоположного характера — вопросов миросозерцания. Разгоралась тогда борьба — борьба за права духа, в противополож416 ность упрощенно-позитивистическому, дешево-материалистическому толкованию явлений культурной жизни; и как волнительно и радостно было в ней участвовать! Помню семинар у Сакулина о русской литературе начала XIX века. Мне было 18 лет, и я читал доклад о молодом поэте Веневитинове, центральной личности кружка «любомудров». ______________ * «Назидательным новеллам» (исп.) Очерку московских романтических настроений и литературной деятельности Веневитинова я предпослал характеристику основ романтизма вообще и изображение романтической «Sehnsucht», метафизического «томления», духовной «жажды», как одной из движущих сил духовной жизни человечества вообще. Далее я изобразил восторженное восприятие живой одушевленности и органичности мира у Шеллинга и близких ему по духу мыслителей и поэтов романтики. Я выставил тезисы, отпечатал их на машинке и прибил к дверям аудитории. «Романтизм, как борьба за права духа» — таков был смысл этих тезисов. Томление (Sehnsucht) по высшей Действительности, как главный корень романтизма и, вместе с тем, как оплодотворяющая и вдохновляющая струя в жизни человеческого духа, независимо от разницы времен, рас и местных условий. Помню, что я цитировал во вступительной части и Плотина, и индусские «Упанишады», и Гетевского «Фауста», и из стихотворений Шиллера, и романтиков — Эйхендорфа и Новалиса. Моим главным оппонентом был человек, наружность которого показалась мне крайне неприятной: на вид уже лет под 30, если не старше, в золотых очках, с космами нечесаных желтых волос, свисающих на воротник и уши, в расстегнутой студенческой тужурке, с отталкивающей — так казалось мне — ядовитой улыбкой. Он начал, ехидно улыбаясь, говорить, что весь идеализм и все «томление» возникают лишь, как отражение революционно социалистического подъема. Так было, например, с Шиллером. Тогда я ему, с датами в руках, ответил, что Шиллер действительно был сначала в течение некоторого времени сторонником революционных настроений, но потом он от них резко отвернулся. И к тому периоду, когда он порвал с революционными увлечениями, относятся эти стихи, в которых мы находим высшее проявление его идеалистического порыва (без всякого отношения к какой бы то ни было революции) : Arm in Arme, hoeher stets und hoeher Vom Mongolen bis zurn griech'schen Seher, Der sich an den letzten Seraph reiht, Wallen wir, einmuetigen Ringeltanzes, Bis sich dort im Meer des ewigen Glanzes Sterbend untertauchen Raum und Zeit. «Рука об руку, все выше и выше, // От дикого монгола до просветленного эллинского созерцателя, // за которым начинаются уже ангельские чины, // Движемся мы, охваченные единодушным восхождением, // пока там — в море вечного света, Не потонут бесследно и пространство и время». Я помню, что мне казалось, будто мой голос вдруг зазвенел с вершины амфитеатра скамей и что профессор Сакулин (большой знаток русской литературы этого периода, хотя и марксист — но последнее обстоятельтво мало тогда влияло на его изложение русской литературы) снизу, со своей кафедры, смотрел на меня с 417 некоторым как будто одобрением. Я был тогда задорный мальчишка 18 лет в борьбе против исполина — марксизма. А на семинаре Е. Г. Брауна как раскрылась мне вдруг тонкая, своеобразная, таинственная благоуханность Дантовской «Новой Жизни»! Я слушал Ключевского два года подряд — Русскую историю XVIII века (Петр I, его преемники и Екатерина II). Он обладал блестящим мастерством и изумительной техникой речи. В огромной «богословской» аудитории, набитой до отказа, даже на отдаленных высоких хорах было слышно отчетливо каждое его слово. Он говорил медленно, не спеша, негромко, но необычайно внятным голосом, как бы смаковал иногда свои выражения. На тех, которые казались ему особенно удачными, он немного приостанавливался. Были тут порой и некоторые шуточки с политическими намеками на современность, ехидно-остроумные, которые снискивали бурю восторгов аудитории. Меня эти шуточки меньше увлекали, но нельзя было отказать им в ехидном блеске. Когда я на следующий год опять стал приходить на тот же курс Ключевского, повторяемый им из года в год, то меня неожиданно поразило, что шуточки, которые я уже слышал в предшествующем году и которые я считал блестящей импровизацией, — повторялись. Они, оказывается, были стереотипно - трафаретным украшением его лекций. Это меня очень разочаровало. Но блеск его манеры излагать и мастерство характеристики были очень велики. С особой благодарностью хочу упомянуть лекции еще двух московских доцентов: интересный и научно ценный курс о русских былинах С. К. Шамбинаго (полный знаний и остроумия) и курсы по истории итальянского искусства приватдоцента Романова. Романов говорил, слегка запинаясь, несколько шероховато, но с огромным знанием и любовью к предмету и показывал замечательные световые картины скульптур Никколо и Джиованни Пизано, «Порта дель парадизо» Гиберти, купол Брунелески, кантории Донателло и Луки делла Робия, все развитие скульптурного творчества Донателло, а из области живописи — фрески Джиотто в Ассизи, фрески Орканьи в «Кампо Сан-то» в Пизе, знаменитые фрески Мазано — все это в деталях проходило перед нашим взором. В позднейшие годы моего университетского курса я с большой пользой и увлечением слушал замечательные, насыщенные знанием лекции приезжавшего из Московской Духовной Академии профессора Ивана Васильевича Попова по патристике и истории средневековой философии. Его лекции по миросозерцанию отцов Церкви (патристике) были особенно замечательны; в них соединялись живое религиозное чувство, истинно научный подход и тонкость суждения. Они были поучительны, будили мысль и углубляли веру. Но особенно памятны мне лекции профессора Льва Михайловича Лопатина. ________ Научные занятия — лекции, а особенно чтение на дому, шли рука об руку с захваченностью той идейной борьбой, которая шла в стенах Университета и которую я выше назвал «борьбой за права духа» : это была борьба против безоговорочного отрицания всяких духовных начал, как в жизни человека, так и в жизни общества и в жизни мира. При этом проповедуемые атеизм и классовая борьба 418 были не только теоретической позицией, теоретической установкой, а стремлением путем морального нажима: насмешкой, готовыми трафаретными формулами, проповедуемыми, как незыблемая, неоспоримая догма, а иногда окриком (не аргументами, ибо их у теоретиков атеизма было не много в запасе), — зажать рот противнику. Это было стремлением не к свободному обсуждению с разных сторон этих основоположных вопросов жизни: есть ли Бог, есть ли нравственный закон, есть ли непреходящий смысл жизни и мира? — а догматическое, полное нетерпимости желание навязать свое узкое и скудное миросозерцание другим, с подавлением духовной свободы других. То есть, то, что было позднее заклеймено в знаменитом сборнике «Вехи» (1909 г.), то, что в полной мере и с полной силой осуществилось потом в большевизме, то, что Достоевский провидел уже в своих «Бесах». Против этого духовного гнета восстала сама молодежь. Это сказалось прежде всего в том, что дважды объявленная в весеннем полугодии 1907 года забастовка — объявленная революционными студенческими организациями — была сорвана самой молодежью, которая хотела работать. Небольшие группы революционного студенчества в черных папахах, и иногда — помню — с дубинками в руках, врывались в аудитории, чтобы срывать лекции, но получали отпор (не рукопашный, а словесный) от самих слушателей и должны были в ряде случаев с позором удалиться. Группа студентов историко-филологического факультета человек в 35 решила ходить по возможности на все читаемые лекции, чтобы защитить их от насильственных срывателей (группы срывателей были численностью в 10-15 человек). И забастовка провалилась — сначала на филологическом факультете, затем и на прочих. Это было в то время, когда новый конституционный строй был уже введен в России и студенческие политические забастовки имели поэтому чисто разрушительный революционный характер. Три последних года моего пребывания в университете прошли уже мирно, в усиленной работе. Но «борьба за права духа» продолжалась — не в виде перебранок между вторгавшимися в аудитории «срывателями» — а в многочисленных жарких дискуссиях и прениях, будь то в семинарах или в научных и литературно-философских кружках, связанных с Университетом. Большую роль в этом горячем обмене мыслей сыграло «Общество памяти князя Сергея Николаевича Трубецкого» при университете. Имя С. Н. Трубецкого было знаменем борьбы за права духа и, вместе с тем, оно теснейшим образом связано с судьбами Московского университета начала 20-го века. Замечательный педагог, зажигавший духовным огнем своих слушателей, тончайший исследователь Платона, философ и человек сильной религиозной веры, С. Н. Трубецкой был вместе с тем, и проповедником истинной свободы духа. Он был добросовестный ученый, передававший студентам научные данные своей дисциплины (он занимал кафедру древней философии), вводя их в самый процесс исследовательской работы и, вместе с тем, он был мыслитель большой глубины, и эта его мысль освещала неожиданным светом плоды его научных изысканий. Его глубокая религиозность была сокрытым источником того духовного огня, которым горела его душа и который вдохновлял и всю его научно-педагогическую и философскую и 419 общественную деятельность. Вдохновляющим центром его деятельности была вера в Божественный Логос, как основы и просветляющей силы и цели мироздания и жизни человечества. Ему, этому Божественному Логосу, призвано человечество служить. Его искали, Ему служили уже Гераклит и Платон. Ему и мы призваны служить в нашей научной работе и в нашей жизни, личной и общественной: это сознание невольно передавалось слушателям Трубецкого, хотя, конечно, в университетских лекциях он не излагал своих личных религиозных взглядов. Я его уже не застал в Университете, но я был под сильнейшим влиянием его книг: «Метафизика древней Греции» и «Учение о Логосе», которыми я зачитывался еще в 7-ом и 8-ом классах гимназического курса. «Общество памяти С. Н. Трубецкого», насчитывавшее около 300 членов из числа студентов и доцентов, задалось целью продолжать дело Трубецкого: будить души к признанию духовных ценностей, и прежде всего ценностей религиозных, звать к истинной широте и свободе мысли. Центром интенсивной философской мысли, на основаниях близких к воззрениям Трубецкого, был уже неоднократно упомянутый мною ближайший друг обоих братьев Трубецких и Владимира Соловьева, философ-спиритуалист Л. М. Лопатин. Он был продолжателем или возобновителем — но при этом глубоко оригинальным мыслителем — идеи Лейбница: для него основой мира была духовная реальность, духовные центры, монады, но не разъединенные друг с другом, как представлял их Лейбниц, а в тесном духовном единении, в неразрывной связи друг с другом — в Боге. Лопатин проповедывал, как основной философский метод к познанию основоположной сущности мира, метод интроспекции <…> часть реальности обладает, как оказывается, по методу интроспекции, всеми свойствами духовного порядка, не подлежащими ни мере, ни весу и т. д., то есть оказывается духовной. Не следует ли из этого заключить, что и вся основная реальность, окружающая нас и которой мы являемся небольшой частью, духовна? Так приблизительно развивал он свои мысли об исконной духовности мира в своих статьях или, например, в своих докладах в знаменитом, состоявшем при университете, «Психологическом Обществе», которого он был председателем (а основано оно было им вместе с Гротом и Сергеем Трубецким). Но в университетских лекциях Лопатин не развивал своих систематических взглядов. Здесь он читал «Историю новой философии» и уже упомянутый мною курс «Введения в психологию». Я чувствую потребность вернуться к этому курсу, так как он был одним из самых сильных моих умственных и духовных переживаний в стенах Московского университета. Курс Лопатина по истории новой философии был талантливо составлен — и блестящ, и очень глубок, и тонок в оценке философских систем, но читал его Лопатин скучно, не говорил свободно, а именно читал по своим собственным запискам скучным монотонным голосом, иногда взвизгивая на тех местах, которые он хотел подчеркнуть. Можно было на этот курс не ходить, так как он был отпечатан на гектографе. Другое дело было с курсом психологии. Он его сам переживал, он его читал (тоже по своему написанному тексту, который имелся напечатанным на гектографе) вдохновенно, даже несколько взвизгивающие инто420 нации на важных местах не мешали. Слушатели были захвачены. Происходило перед их глазами трезвенно-научное изложение подхода к духовной жизни человека — «введение в психологию», и рассмотрение всех руководящих научных теорий — и материалистической, и «психофизического параллелизма» и других, но происходило это с такой ясностью, четкостью, яркостью, с такой силой духовного зрения — ибо анализ и мысль Лопатина шли дальше разбора неадекватных теорий -— что покоряло и душу молодых. Слушателей было немного: в огромной так называемой «богословской аудитории», где было 800 сидячих мест (и около 400 мест стоячих), где читал обыкновенно и Ключевский, сидело человек 35-40. Но как увлекал он, когда рассматривал характерные черты процесса памяти или вопрос о свободе творческого выбора между различными имеющимися налицо и притом обладающими различной силой мотивами, причем этот творческий выбор может более, казалось бы, слабую по своему влиянию в данный момент на душу мотивацию сделать творчески более сильной и решающей. Не в безмотивности волевого решения, а именно в этом творческом акте выбора между разными уходящими в духовную глубь цепями мотиваций и основана и состоит, по Лопатину, свобода воли. Творческий духовный облик внутреннейшего «я» человека, когда оно не подавлено цепями привычки и материальности, когда оно соответствует своей основоположной сущности, но, более того, даже тогда, когда оно сковано внешними цепями механизации и смутно протестует против них, ярко выступал перед слушателями. Лопатин вводил их в созерцание внутренней, свободной, творческой сущности человека, хотя бы и измененной, искаженной и подавленной извне. Этот курс «Введение в психологию» есть одно из высших произведений русской мысли, посвященных вопросу о душе (приближается к нему по силе «Душа человека» Франка), и он до сих пор, к сожалению, не напечатан. Поражает и блеск стиля, и точность и яркость формулировок, и сила духовного горения при ясности и убедительности мысли. Это испытывалось при чтении его Записок по его курсу, еще больше — при слушании его. Это был один из величайших вкладов в то время в умственную сокровищницу молодого поколения после творчески будящей деятельности С. Н. Трубецкого (продолженной в значительной степени и его братом — Евгением Николаевичем Трубецким). Все это вошло в русскую духовную традицию (не умирающую и теперь, хотя она и под спудом) в борьбе за права духовного начала. __________ Одна черта была в жизни тогдашнего Московского университета, когда схлынула революционная волна (т. е., начиная с 1907 г.), особенно привлекательна, симпатична и полезна для молодежи: она действовала умственно не менее оплодотворяюще и развивающе, чем наилучшие лекции. Иногда даже более. Это было личное, тесное общение с профессорами. Мы называли наших профессоров просто по имени и отчеству. Но удивительно было то, что профессора некоторых, наиболее усердных участников своих семинаров и вообще тех своих слушателей, которые особенно увлекались научными интересами и жили научной жизнью, 421 также называли по имени и отчеству. Я удивлялся, как они могут все это запомнить. Получался привлекательный дух научного товарищества между теми, кто посвящал свои силы и свое время науке, — старшими и младшими. При этом ясно, конечно, ощущалась разница между руководителями и учениками, все это происходило на фоне глубокого и искреннего уважения к старшим. Особенно уютны, непринужденны и симпатичны были собрания запросто некоторых особенно заинтересованных наукой слушателей (человек до 10-12) у своих профессоров. Происходило это так. Почти каждый из профессоров имел обычно приемные часы для всех желающих обратиться к нему за научными указаниями или советом студентов — большей частью раз в неделю у себя на квартире в дневной час. На эти приемные часы для краткого делового разговора могли приходить все студенты, имевшие в том нужду. Кроме того, профессор по личному своему выбору и усмотрению приглашал тех из своих слушателей, которые казались ему особенно развитыми и заинтересованными, приходить на чашку чая в более тесном кругу в определенный день недели — например, вторник или воскресенье. Приглашение это давалось не на один раз, а раз навсегда, причем пользоваться им студент мог, когда ему захочется. Он мог три недели не ходить, а прийти в четвертый раз; мог приходить каждые две недели, мог приходить чаще, мог приходить реже. Эти собрания у профессоров за чашкой чаю, происходившие совершенно запросто, в духе почти товарищеской интимности между учителями и слушателями, причем темами разговора служили не только разные научные вопросы, но и вопросы общей культурной жизни, — были глубоко воспитательны и приятны. С благодарностью вспоминаю собрания по воскресным дням вокруг самовара у профессора Матвея Никаноровича Розанова, который обладал очень большим шармом, и — если не ошибаюсь — по четвергам вечером на квартире у большого специалиста по древнерусской литературе, профессора Михаила Несторовича Сперанского. М. Н. Сперанский был холостяк; поэтому разливать чай гостям должен был один из студентов. Всегда была у него на столе масса вкусных сладостей — разного сорта пастилы, мармелад. И у М. Н. Розанова и у М. Н. Сперанского между стаканами чая и курением лился оживленный разговор. А если у кого были какие-нибудь специальные научные вопросы к профессору, то он имел возможность подробно с ним поговорить наедине. Так создается связь между учителями и слушателями и сознание солидарности научной и человеческой в совместной работе на поле науки. С особенной благодарностью вспоминаю о моем ближайшем учителе по университету, профессоре Матвее Никаноровиче Розанове, возглавителе отделения западно-европейской литературы. Человек большой гуманности, мягкости и теплоты, он был полон участия к умственным интересам своих слушателей. Еще больше я обязан научному руководительству и знаниям и помощи одного, как я уже говорил, из крупнейших знатоков итальянской и испанской литературы в тогдашней русской академической жизни — Евгения Густавовича Брауна — человека, как и Розанов, необыкновенно привлекательного душевно и вместе с тем высоко одаренного и эстетически. _______________ 422 Кипела умственная жизнь. Так, в «семинарах» я помню разговоры об итальянском Возрождении в его отношении к Средним Векам, где мне приходилось выступать против до крайности упрощенной «бурхгартовской», вернее, вульгаризации бурхгартовской схемы: Средние Века — тьма суеверного духовного рабства, подавление личности, Возрождение — свобода, индивидуализм, пробуждение чувства природы и всякие другие блага. Пришлось указывать на огромные духовные ценности и великие произведения искусства, созданные Средними Веками, далее на то, что такого резкого перерыва традиции никогда не было, что религиозное начало играло, например, очень важную роль (наряду с откровенной проповедью чувственности и сладострастного паганизма) и в эпоху Возрождения. Но особенно интересны и оживленны были доклады и прения в целом ряде научных кружков и обществ, возникших в Московском университете в то время. Вечером после 8 ч., когда лекции все были закончены, собирались (обыкновенно раз в неделю или раз в две недели) в одной из аудиторий эти студенческие научные кружки и общества, нередко с участием профессоров. Помню кружок истории литературы, в котором участвовали, — если не ошибаюсь, 17–18 студентов и оставленных при университете и 7 университетских преподавателей; на каждом заседании кружка присутствовало двое или трое профессоров. Потом, когда кружок вырос он вышел за тесные пределы внутриуниверситетской жизни, сделался Обществом Истории Литературы при Университете и собирался в одном из кабинетов Исторического Музея. Иногда доклады читали студенты, иногда – профессора. Прения были очень оживленные. Царил дух большой научной солидарности, уважения к чужим мнениям, при всей часто большой разнице в воззрениях. Помню бурные, оживленные собрания «Общества памяти кн. С. Н. Трубецкого», особенно в секции, которая меня наиболее интересовала – «истории религий». Был антихристианский и «панвавилонистски» настроенный доклад одного из учеников проф. Виппера. <…> Я поднял перчатку и через три недели ответил ему докладом, в котором я доказывал его тенденциозность, а главное, основополагающее отличие христианства от натуралистических религий умирающего духа природных сил с их мутным чувственным экстазом. Это было так ясно, что удивляешься, что в пылу тенденциозного увлечения и своей ненависти к христианству некоторые крайние представители тогдашней «сравнительной истории религий» могли это основополагающее различие проглядеть. Председательствовал на этом заседании князь Е. Н. Трубецкой, а ему «секундировал» С. Н. Булгаков. Огромное воспитательное значение имели для меня некоторые научнофилософские собрания и кружки, находившиеся вне стен университета, и особенно общение с некоторыми лицами старшего поколения. _______________ «Кружок ищущих христианского просвещения». Собирался он в особняке доктора Корнилова на Нижней Кисловке. Участниками его были: глубокий христианский мыслитель, бывший главной вдохновляющей силой кружка, Владимир Александрович Кожевников, философы князь Е.Н. Трубецкой и С.Н. Булгаков, 423 Федор Дмитриевич Самарин — старший из братьев Самариных, славянофил, ученый богослов и председатель кружка; бывший толстовец М.А. Новоселов; П.Б. Мансуров, граф Д.А. Олсуфьев (земец и член Государственного совета по выборам), Г.А. Рачинский — человек изумительной утонченности культуры; архимандрит Феодор (впоследствии епископ и ректор Московской Духовной академии); священник Фудель, доктор-гомеопат бессребреник Трифоновский, седой старичок с кротким детским лицом и веерообразной седой бородой, истинный «Божий человек»; красавец д-р Мамонов; иногда граф К.А. Хрептович-Бутенев; наконец, сам Корнилов, тоже «Божий человек», благотворитель и бессребреник. Помню атмосферу этих собраний в светлые зимние вечера в особняке Корнилова. Вдоль стен сидят на стульях гости — больше дамы, молодежь, иногда коекто из духовенства. Помню из молодых Сережу Мансурова, О. А. Михалкову (ныне Глебову) на этих вечерах. Мой брат Юрий и я бывали на них регулярно. Часто бывали на них мои обе тети, у которых я жил — М.В. и Н.В. Арсеньевы, А.Д. и С. Д. Самарины, А.В. Мартынова — маленькая, худенькая, с совсем седыми волосами и еще молодым лицом. Посередине зала, вокруг стола, сидели сами члены кружка — человек 12-15. Вместе с гостями собиралось человек 60—80. Более смешанное, хотя тоже интересное, впечатление производили гораздо Более смешанное, хотя тоже интересное, впечатление производили гораздо более многочисленные собрания «Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева» в красивом особняке М.К. Морозовой в Мертвом переулке (а перед тем они происходили в зале «Польской библиотеки» на Мясницкой). Здесь охватывало вас веяние яркого «александрийского» культурного цветения. Пышный культурный цвет, но не всегда без червоточины, не всегда без некоторой гнили, не всегда свободный от некоторого «декаданса», зато часто без «трезвения». В этом была черта некоторого отличия, тонкая линия водораздела между атмосферой корниловского кружка и «Общества памяти Соловьева». Но какое богатство тем и тонов представляло это «соловьевское» общество! И много было интересных исканий, искренних порывов, столкновений, мнений. Это была религиозность, но в значительной степени (хотя и не исключительно) внецерковная или, вернее, нецерковная, рядом и с церковной, а главное, вливалась сюда порой и пряная струя «символического» оргиазма, буйно-оргиастического, чувственновозбужденного (иногда даже сексуально-языческого) подхода к религии и религиозному опыту. Христианство втягивалось в море буйно-оргиастических, чувственно-гностических переживаний. Характерны для этой атмосферы были выкрики одного из участников (известного религиозного философа) о «святой плоти» или стихотворения Сергея Соловьева (племянника философа) о чаше Диониса, которая литературно и безответственно смешивалась с чашей Евхаристии, как Диони