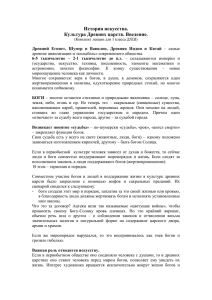1 силой ключом к власти над вещами, окончательно это подтвердила. На власть,...
advertisement
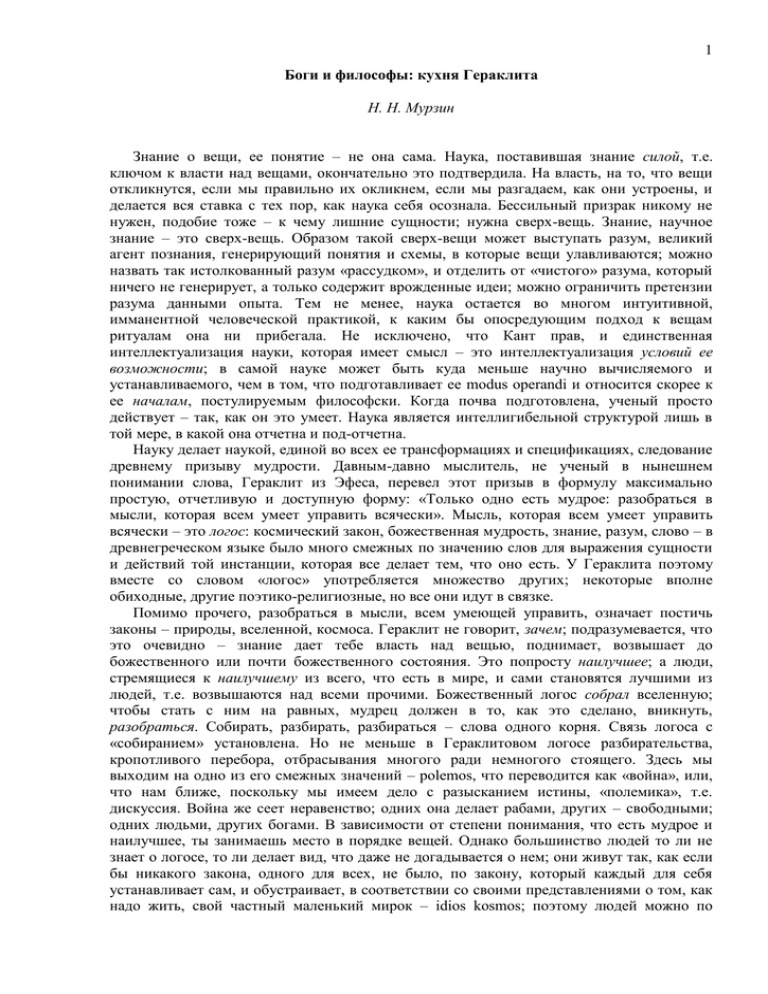
1 Боги и философы: кухня Гераклита Н. Н. Мурзин Знание о вещи, ее понятие – не она сама. Наука, поставившая знание силой, т.е. ключом к власти над вещами, окончательно это подтвердила. На власть, на то, что вещи откликнутся, если мы правильно их окликнем, если мы разгадаем, как они устроены, и делается вся ставка с тех пор, как наука себя осознала. Бессильный призрак никому не нужен, подобие тоже – к чему лишние сущности; нужна сверх-вещь. Знание, научное знание – это сверх-вещь. Образом такой сверх-вещи может выступать разум, великий агент познания, генерирующий понятия и схемы, в которые вещи улавливаются; можно назвать так истолкованный разум «рассудком», и отделить от «чистого» разума, который ничего не генерирует, а только содержит врожденные идеи; можно ограничить претензии разума данными опыта. Тем не менее, наука остается во многом интуитивной, имманентной человеческой практикой, к каким бы опосредующим подход к вещам ритуалам она ни прибегала. Не исключено, что Кант прав, и единственная интеллектуализация науки, которая имеет смысл – это интеллектуализация условий ее возможности; в самой науке может быть куда меньше научно вычисляемого и устанавливаемого, чем в том, что подготавливает ее modus operandi и относится скорее к ее началам, постулируемым философски. Когда почва подготовлена, ученый просто действует – так, как он это умеет. Наука является интеллигибельной структурой лишь в той мере, в какой она отчетна и под-отчетна. Науку делает наукой, единой во всех ее трансформациях и спецификациях, следование древнему призыву мудрости. Давным-давно мыслитель, не ученый в нынешнем понимании слова, Гераклит из Эфеса, перевел этот призыв в формулу максимально простую, отчетливую и доступную форму: «Только одно есть мудрое: разобраться в мысли, которая всем умеет управить всячески». Мысль, которая всем умеет управить всячески – это логос: космический закон, божественная мудрость, знание, разум, слово – в древнегреческом языке было много смежных по значению слов для выражения сущности и действий той инстанции, которая все делает тем, что оно есть. У Гераклита поэтому вместе со словом «логос» употребляется множество других; некоторые вполне обиходные, другие поэтико-религиозные, но все они идут в связке. Помимо прочего, разобраться в мысли, всем умеющей управить, означает постичь законы – природы, вселенной, космоса. Гераклит не говорит, зачем; подразумевается, что это очевидно – знание дает тебе власть над вещью, поднимает, возвышает до божественного или почти божественного состояния. Это попросту наилучшее; а люди, стремящиеся к наилучшему из всего, что есть в мире, и сами становятся лучшими из людей, т.е. возвышаются над всеми прочими. Божественный логос собрал вселенную; чтобы стать с ним на равных, мудрец должен в то, как это сделано, вникнуть, разобраться. Собирать, разбирать, разбираться – слова одного корня. Связь логоса с «собиранием» установлена. Но не меньше в Гераклитовом логосе разбирательства, кропотливого перебора, отбрасывания многого ради немногого стоящего. Здесь мы выходим на одно из его смежных значений – polemos, что переводится как «война», или, что нам ближе, поскольку мы имеем дело с разысканием истины, «полемика», т.е. дискуссия. Война же сеет неравенство; одних она делает рабами, других – свободными; одних людьми, других богами. В зависимости от степени понимания, что есть мудрое и наилучшее, ты занимаешь место в порядке вещей. Однако большинство людей то ли не знает о логосе, то ли делает вид, что даже не догадывается о нем; они живут так, как если бы никакого закона, одного для всех, не было, по закону, который каждый для себя устанавливает сам, и обустраивает, в соответствии со своими представлениями о том, как надо жить, свой частный маленький мирок – idios kosmos; поэтому людей можно по 2 справедливости называть «идиотами». Тем не менее, смутное представление о логосезаконе у них все же имеется, иначе они просто жили бы в согласии с природой, как животные. Человек откуда-то знает, что должен быть какой-то закон, что просто так ничего не происходит. И первое, что он делает, сколь бы глуп он ни был – пытается для себя сформулировать, в чем этот закон. Правда, как правило, он при этом формулирует такой закон, которого бы ему хотелось. Однако нужна сила, и немалая, чтобы отстоять право жить по своим собственным правилам, и ни с кем и ни с чем больше не считаться. Поэтому большинство людей, кто из страха, кто из осмотрительности, не решается настаивать на полном осуществлении своей личной воли. Вместо этого они пытаются понять, по каким законам живут другие люди, чтобы приспособиться к ним и в соответствии с ними выработать собственные правила; они стараются не думать о том, чего бы хотели от жизни они лично. Получается, что мировой логос все устроил так, что странное существо человек, обнаруживающее себя в этом устроенном логосом мире, этого логоса не видит, как если бы его не было, и предоставлено самому себе. Все, что у него есть – это инстинктивное облекание в форму закона, императива, устроения всего, что с ним и вокруг него происходит – от собственных желаний («моя воля – закон») до жизненной практики («надо делать так и так, чтобы добиться успеха»), от распорядка частного существования до регулирования социальных отношений. Правда, до себя он доходит, если доходит вообще, в последнюю очередь; часто ему легче заставить других людей жить так, как он считает нужным, чем самого себя. Вообще, именно с появлением другого человек вдруг начинает устанавливать правила, мыслить регулятивно; пока он живет анахоретом, этой мысли у него может даже и не возникнуть. Поэтому именно социальное существование, при всех его недостатках, является, несмотря на приблизительность и ограниченность, первым наброском всеобщего закона, на который можно ссылаться как на пример; хаос атомизированных индивидуальностей такого примера не дает. И Гераклит отмечает это: «Если хочешь говорить с умом, тебе надобно крепко опираться на общее для всех, как граждане полиса – на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все человеческие законы питаются от одного, божественного» (Фрагмент 114). Итак, греческий полис – живой пример перед глазами мудреца. Это не значит, что он устроен наилучшим образом из всех возможных; но он устроен, его создает воля, которая начинает видеть за пределами частностей, мыслить шире и смотреть дальше, чем обычно смотрит отдельный человек. Если бы не было полиса и созидающего, собирающего его в единое целое закона, мудрому не к кому было бы обращаться, непонятно как говорить о том, что «все есть некоторым образом одно». Природа многообразна и хаотична; мудрый начинает постигать то, что она тоже устроена, и устроена мудро, намного мудрее и совершеннее, чем любое человеческое устроение, все же не с нее самой, а на опосредующем примере самоорганизации мыслящих существ, от природы дистанцированных. Вот тогда, через уподобление и сравнение одного с другим, человек начинает видеть действие упорядочивающей силы под покровом природной реальности и чтить могущество этой силы, потому что она, как и власть полиса, собирает и упорядочивает, определяет границы и дает законы, но ее границы – это границы целого мира, и правит она хозяйством столь огромным и многоразличным, что человеку и представить-то его удается с трудом, не то что самому с ним управиться. Наука берет сторону отца, бога, закона, силы – ее занимает в этом космогоническом процессе аспект упорядочения, приведения к единству; в греческой «мудрости» уже содержатся семена тео-логии. Мифология, народная религия, искусство же сохраняют то полу-воображаемое, полу-интеллектуальное представление о многообразии упорядочиваемого, которое отражается в сонме мифических существ, населяющих легенды и предания. Трудно сказать, есть ли единый корень у анимизма, веры в одушевленность природных вещей и явлений, во всех мировых культурах. Но возможно, в индивидуализированных природных божествах греков интеллектуального было не меньше, чем полета чистой фантазии. Это 3 могло быть даже скрытое требование к божественному логосу, силе судьбы: чтобы быть признанным действительно всемогущим, надо одержать победу не только количественную, но и качественную – над тем, что труднее всего усмирить и привести к единству: над индивидуальной волей. Просто сгрести в кучу вещи, материю, сущее, все довольно-таки безвольное, не интересно, да и недостойно бога. Надо как бы победить в сражении; надо, чтобы воля торжествовала над другой волей, превозмогала реальное сопротивление, одолевала настоящего противника. А для этого его надо иметь, или, на худой конец, создать. И от греков до немецкого идеализма, до Гегеля, а потом Шопенгауэра и Ницше, протянется эта мысль о божественной игре первоначала в преодоление ею же назначенной себе преграды, противоположности, может быть, даже из себя порожденной. В разделе о Гераклите в «Лекциях по истории философии» Гегель так и выразится: «…слова Гераклита…из всего да будет одно, и из одного все. Это одно не есть абстрактное одно, а деятельность, самораскалывание на противоположности; мертвое бесконечное есть дурная абстракция по сравнению с этим глубоким бесконечным, которое мы видим у Гераклита. Что бог сотворил вселенную, расколол самого себя, родил сына и т.д., – все это конкретное содержится в этом определении»1. Однако, все это происходит на взгляд человека, все это нужно человеку, как мы только что увидели: нужно, чтобы хоть как-то начать представлять себе то, как устроена действительность. И тут же, следом, Гераклит скажет: «Для бога все прекрасно, хорошо и справедливо; люди же одно признают несправедливым, другое – справедливым» (Фрагмент 102). Кажется, что речь идет только о справедливости и несправедливости; но возможно, и шире, обо всех противоположностях, на которые мы привыкли делить, а боги умудряются как-то без этого обходиться. Не то чтобы несправедливое в принципе не существовало и не могло бы кем-то осознаваться; но для бога, совершенного, бессмертного, который крепче смертного, зло отодвигается все дальше, поскольку то, что человеку способно причинить зло, например, заставить страдать, над богом не властно. Так что бог понимает, что зло в мире есть, вернее, что кем-то что-то может осознаваться как зло, но для него это пустой звук. Здесь неожиданно делается понятно, почему у Парменида богиня могла сказать такую, на взгляд смертного, несуразицу: бытие есть, небытия нет. Если все, что есть, прекрасно, хорошо и справедливо, то обратное этому для них попросту не существует, и не-бытие, как противоположность бытия, для них отождествляется со всем плохим. А раз плохого нет, и осталось только пустое слово для него, то, по этой ассоциации, вообразить себе противоположность бытия, о котором мы уже думаем отвлеченно от «моральных категорий» как о материи, присутствии, вещах, мы просто не в состоянии. Но мы уже не понимаем, что эта мысль атакует зло, а не какое-то абстрактное небытие, понятое как анти-тезис не менее абстрактному тезису о бытии, т. е. как обратное всему несомненно наличествующему. Все последующие апории, бесконечные парадоксы, на которые обратил внимание уже Платон, следуют из человеческого непонимания, недопонимания – причем не только божественного, но и своего собственного, человеческого. Зло затрагивает человека непосредственно; но ему постоянно почему-то кажется, что истина – это такая бесконечно возвышенная материя, и к нему с его мелкими проблемами отношения не имеет. Поэтому, когда грек, или наследник греческой мудрости (а мы все таковы – ученые, философы, гуманитарии, технари), рассуждает, он старается абстрагироваться от чисто человеческой ситуации, в которой он вообще-то с потрохами, и никак иначе в принципе и быть не может, чтобы соблюсти воображаемый политес и вести себя в божественной сфере соответственно. «В Риме поступай как римлянин». При этом бог понимает о зле, о бытии и небытии, больше, при том, что никак этим не затронут, находится над этими обстоятельствами. Хорохориться, делать хорошую мину при плохой игре если и не от греков собственно пошло, то им эта идея все же несомненно близка; и как это несхоже с иудейским 1 Г. В. Ф. Гегель. Лекции по истории философии. СПб.:«Наука», 2006. С. 291. 4 перманентным сетованием на житье-бытье – причем, слаще всего сетуется именно в присутствии Создателя. В претерпевании греками страдания, в драматической «перипетии» их существования перед лицом бессмертных богов есть что-то от инициации, а проще говоря – от желания быть принятым, введенным в некий круг; ведь для того, чтобы тебя приняли, надо уметь сойти за своего, за схожего с теми, к кому хочешь присоединиться; смотрите, как будто говорит грек своим богам, я не обращаю внимания на зло, хотя оно причиняет мне страдания, я веду себя как вы, я такой же, как вы, я «свой». С фантастической наивной прямолинейностью грек и с богами ведет себя как мальчишка, который хочет, чтобы его взяли в игру. Но миновали века; о наивности сегодня и не заикаются, если только не задумываются, что бы еще такое необычное, экзотическое продать утомленному жизнью представителю общества потребления, безнадежно дряхлеющей цивилизации; тогда идут в ход наивность, первобытность и первозданность, раскапывают которые ученые, а сбывают мастера виртуальных поделок и обманок, нынешние риторы и софисты. Если вдуматься, какая невероятная ирония в том, что факт жизни и психологии древнего грека тысячелетия учености превратили в абстрактную проблему. Ирония чисто историческая. Впрочем, основания к этому всетаки имелись. Богов создает мысль. Чтобы их воспринять именно так, а не иначе, уже весь мир, вселенная, космос, должны быть определенным образом осмыслены. Мысль подготавливает арену для идей. Боги – это идеи. Люди тоже. Но подготовка ведь предшествует тому, что ею подготавливается. Кто же тогда подготавливал явление и богов, и людей? Это ведь мы мыслим, вот прямо сейчас, мы, люди. Разве нет? Достоверность переживания настоящего момента, ясность сознания сознающего субъекта, отчетливость процессов мышления – вся картезианская парадигма Я-доказательства с несокрушимой силой свидетельствует в нашу пользу. А если все же нет? Если «я, мыслящий», ego cogito, тоже подготовлен, заготовлен заранее? Откуда-то же я такой взялся? Получается, что если ничего, кроме мысли, предуготовить не может, и в то же время это не моя мысль, потому что она и меня предуготовила, а значит, я – потом, а она – сначала, то предуготовила все мысль, которая как бы ничья, никому не принадлежит, сама по себе. Тогда эта мысль – бог богов, верховный закон и абсолютная власть, логосмолния, отец-война; то, что создает и богов, и людей. Но о чем же следует думать в первую очередь? О мысли, которая все создала, или о «богах»? Впрочем, «бог» – это только особый взгляд на характер реальности, созданной мыслью, перспектива, как сказал бы Ницше, которая приглашает проследовать взглядом и мыслью по ту сторону добра и зла, по ту сторону всего «человеческого, слишком человеческого». Мы мыслим; боги есть. Не связаны ли боги с бытием, не означают ли они бытие, не есть ли божественное само олицетворение бытия? Которое для человека смешано с небытием и злом, идет напополам с «нет», а потому и сам человек – нечто смешанное, наполовину есть, наполовину нет, «смертный». Не мертвый, а смертный, т.е. имеющий и жизнь, и смерть. Вернее, это он есть у жизни и у смерти, вот и делят его постоянно, надвое. Богов ничто не разделяет; они цельные, сущие. И снова прав Парменид, и правду говорила богиня Истина, но правду только для таких, как она, богов и богинь: самого по себе небытия нет; для человека оно реально; для богов – только слово, пустой звук. От Августина до Декарта и Спинозы, от не-сущести зла до дуализма двух субстанций, или двух атрибутов одной субстанции – мысли и протяженности, которая основной признак налично данного, существующего вне нас мира, длится нескончаемо эта мысль. Гераклит дошел до нас в пресловутых фрагментах; нет возможности, говоря о нем, ссылаться на единый текст или корпус текстов за более-менее доказанным авторством. Многие фрагменты приводятся по сочинениям других философов древности, цитировавших его; как правило, каждый из них брал из Гераклита то, что было ближе по 5 духу лично ему, или сообразно той теме, которую он на тот момент развивал. Поэтому невозможно до конца исключить тот вариант, что сам Гераклит мыслил однозначно и непротиворечиво, а характерная «диалектичность» его высказываний, известных на сегодняшний день – результат последующего перемешивания их со схожими высказываниями позднейших авторов и затруднительности отделения одних от других. С другой стороны, не зря же еще при его жизни его прозвали «темным»; согражданамэфесцам было непросто, наверное, его понять, раз они дали ему такое прозвище. Из того, что он говорил о богах, как и вообще из всего сказанного им, ничего однозначного и непротиворечивого не следует. Боги рождены войной-полемосом, но сами как бы выше ее. Ее для них в каком-то смысле нет. Ведь война это всегда несправедливость, а уж большей несправедливости, чем та, которую не исправить, трудно вообразить – однако Гераклитов полемос именно таков: боги навсегда боги, а люди – люди, и тут ничего не изменишь; по крайней мере, на взгляд людей тут чувствуется что-то несправедливое – суд и разделение окончательные. Человек же страдает от разделения, зная, что оно зло, и стремится его избежать, хочет вернуться к цельности. Если война создает богов, получается, она имеет над ними власть, ведь они – ее порождение; однако, поскольку для главного орудия всякой власти – угрозы причинения страдания – они неуязвимы, власти над богами нет и быть не может. Тут, правда, есть еще нехороший вариант, что война богам на руку, что она играет на них – как говорится, кому война, а кому мать родна. Она возвышает одних за счет ущерба для других – мы это знаем на примерах нашей человечьей истории: можно ведь так отгородиться, что даже массовые страдания и смерть обернуть себе на пользу или, по крайней мере, не быть ими затронутым (тогда, конечно, война для богов – дело чрезвычайно выгодное, положительное, прекрасное, ничего плохого в ней нет; она работает на них, они – ее усугубление). Пока несправедливость не коснулась тебя лично, ее как бы нет, она фантомное понятие. Но ведь именно люди привыкли так устраиваться: они редко способны бороться с бедственным положением как таковым; как правило, они стремятся исправить лишь свое персональное бедственное положение. Это им, с урезанным смертностью восприятием и оттого почти нулевой способностью к эмпатии, чужое горе – далекий отголосок, и своя рубашка ближе к телу. Что же, боги не слишком отличаются от людей? Такие же ограниченные и убогие, как мы, только вот случайно могущественные и бессмертные, повезло им? Или это наш взгляд на них, взгляд обиженных и обойденных, и мы вообще не понимаем, что они такое, а для того, чтобы хоть как-то представлять, переводим в человеческий план? Все эти варианты отразились в культуре. Уже нашей культуре; и уже русский поэт, не древнегреческий, напишет: нет правды на земле, но правды нет и выше. Вот и говори потом, что Гераклит был давно, а мы совсем другие. Боги ближе к природе, чем к людям, они – имманентное соприсутствие. Божественный логос-закон неотделим от вещей, которыми управляет, настолько, что они как бы сами собой управляют, panta dia panton: все через все. При этом мы его опознаем, опознает мысль в нас, которая тоже логос. «Закон природы» управляет вещами тем, что он их такими, как есть, и делает. Мы же воздействуем на вещи через другие вещи, потому что действуем из мира, где вещи вброшены в общее пространство и охвачены им, как граждане полиса – границами полиса, которые и есть nomos, «закон», а буквально городская стена. Власть полиса распространяется только в его пределах, и только на тех, кто в его стенах, кто принят под защиту, кто признан властью и сам признал ее. Собирает людей идея, но, воплощенная, осуществившаяся, она уже не то, что их звало каждого по одиночке, или что обсуждали и о чем договаривались на советах. В пространстве полиса людей собирает уже нечто иное (и в нечто иное), и сила там действует иная, нежели та, что в это пространство их ввела. Ее воздействие схоже с внешним, грубо механическим, в то время как она претендует на то, чтобы быть внутренним принципом почти органического единства, почти природного организма: новой, социальной целостности. 6 Интеллектуальное сохраняется в виде знаков и символов, призванных выразить имманентный логос этого микрокосма, вселенной в уменьшенном масштабе, но оно постоянно вынуждено обращаться к силе, с которой непосредственно уже не связано. Платон в теории государственного устройства для этого вводит сословие стражей-воинов, стоящих между правителями-философами и демиургами-пролетариями; до последних они доносят волю и решения первых; разум и сила, мудрость и власть, мысль и реальность здесь уже расходятся, они действуют сообща и без трений только в идеализированной перспективе. Тем не менее государство, «полития», продолжает ориентироваться на идеал божественной имманентности правящего управляемому. Оно мечтает отшлифовать законы или довести подчинение до безупречного автоматизма исполнения, чтобы разница в какой-то момент перестала быть заметной. Разумеется, это утопия. Индивидуальная воля, пускай даже в негативной форме личного эгоизма, фактор неустранимый, и в нем, в его поразительном выживании, больше природно-божественного, чем в любом человеческом законе, даже самом прекрасном. Потому что такие законы, внешние к вещам, которыми призваны управлять, пускай и основанные на изощреннейшем понимании того, как вещи устроены, все равно только подогнаны к ним и остаются функцией пространства, в которое вещи вброшены, а оно куда беднее (возможно, пониманием), чем внутреннее измерение самой природы и жизни. «И здесь все полно богов», говорит Гераклит гостям, входящим на его грязненькую кухоньку. Казалось бы, какая насмешка. Мол, зачем вам в храмы беломраморные идти, богам все равно, где быть, они не люди, которым одно – хорошо, другое – плохо. Тут Платон, на той кухне не бывавший, возразил бы, что не на пустом месте люди ввели различия и создали иерархию ценностей – все-таки в самой природе вещи разные, одни подходят для изящных дел и мыслей, другие для грубых. Гераклит, может, и согласился бы: конечно, война всех по-своему рассудила, каждому свое место отвела, и иерархия во вселенной имеется. Но опять же, имеется она для нас; мы видим и мыслим в такой перспективе, поскольку же мысль самая что ни на есть объективная реальность, объективнее не бывает, то и окружающий нас мир таков; это не просто химера, заморочившая одну или несколько (миллионов) голов. Просто вот такой стороной к нам реальность обернута, как для индусов гора Меру – синей, небесной гранью. Но боги не с нами, они на другой стороне, они другая перспектива. Но если перспективы на одно и то же, как протяженность и мысль у Спинозы – атрибуты одной субстанции, то и мир, получается, один. И они могут в то же самое время быть прямо здесь и сейчас. И ощущение, нет, понимание их присутствия вселяет панику – там, где человек привык быть один, там, где он хочет ото всех и вся затвориться, отгородиться, не для злого дела, а может, так, в носу поковырять, он не один. Ту самую панику, страх полуденного часа, когда граница между миром богов и миром людей исчезает. Ницше умер в полдень. Не надо идти в храм, чтобы найти богов; «не надо» в смысле, не обязательно. Не то, что храм не нужен, и вообще религия не нужна. Думай Гераклит так, не говорил бы сплошь и рядом о богах. Храм очень даже нужен, он – знак, он возвещает о богах; Аполлон, божество дельфийского храма, не открывает и не утаивает, а только возвещает; Ницше сочтет Аполлона богом богов, и весь греческий пантеон даст в его свете. Знаки, культура, традиция нужны; они – перечень особых примет, по которым опознают, рассказ о том, куда обычно ходят и что обычно делают, чтобы встретить, найти, понять то самое, о чем это все. Никакого иного смысла в них нет, и не нужно. Выучил урок, собрал все, что следует, и – отправляйся в путь. Запомнил круг – сотри его. Чтобы найти богов, их надо потерять (не в смысле «лишиться», впасть в безверие и мрак – тут уже наши смыслы вступают в силу, после-христианские). Чтобы найти меня, говорил Заратустра у все того же Ницше, надо сначала меня потерять. Как же теряют богов? Да вот так и теряют – входя на кухню к Гераклиту. Что же за богов там находят, потеряв при этом богов беломраморных храмов и священных рощ, традиционных, известных богов олимпийского пантеона? Потеряв без 7 отказа, потому что боги пантеона – не какие-то другие, неправильные, ненужные, от которых следует отречься, а их изображения разбить; они не другие, они другое тех же самых богов, другое, потому что повернутое к нам, то, как они нам открылись; это боги одного взгляда. Возможен, однако, другой взгляд – опять же оговоримся, тут лишний раз на самом деле не лишний – без переоценки ценностей и кардинального слома; и он возможен, возможны изменение взгляда и смена аспекта, потому что мысль, разделившая людей и богов, при этом их соединяет, она и тем, и другим обща. И все-таки, хотя он основан на идее расширения границ божественного, на признании самых разных богов, пантеон сужает. Боги, обретаемые вне его – его глубинное божественное, но не он сам. Что же они такое? То, понимание чего мы, возможно, утратили – не потому, что минули века и пришли иные племена, а с ними – иная вера, иные переживания, иной modus operandi. Слишком долго, под самыми разными знаменами и осеняя себя самыми разными символами веры, мы искали только силу, только власть. Чтобы понять, как упорядочить хаос человеческой жизни, рассчитать не поддающиеся расчету траектории индивидуальных воль, мы проникли в глубины природы. Кто-то верит, что все давным-давно рассчитано и просчитано, и никакой загадки не осталось, если вообще она когда-то была, и верят в нее одни дураки и недоделанные романтики. У «хозяев жизни» такая позиция объяснима и в чем-то даже оправдана – что им боги, которые не они сами; но порой и у философствующих в голосе сквозит скука, если им приходится обсуждать что-то не в терминах «трансцендентальной редукции» или «концептуального каркаса». Коллега Дмитрий Смирнов однажды сказал, в оправдание Хайдеггера и в подтверждение его своеобразия, возможно, единственно правильные слова: кто еще в то время мог осмелиться заговорить о богах? Индивидуальность, даже божественная (особенно божественная) такое же сужение и условность, как социальное целое; это вещи одной природы. Боги одно с сущим не потому, что в нем слились и потеряли себя. По ту сторону все то же самое, но все истинно. Остается предположить, что и индивидуальность там нечто иное, но вовсе никуда не исчезает. Боги – это боги, хотя при этом, может, и что-то еще. Также как и мы – это мы, и что-то еще, очень даже много чего: метафоры, тропы, социальные атомы. Как и чем разбить тот идол, который собрал и запер в себе всю красоту, весь смысл, все существо бытия, как Вритра, поглотивший воды? Этот идол далеко не безобидный знак. Мир опустошается, лишенный того, что украдено и заточено в нем. Боги – это «все» и «повсюду», как в японском синто – духи: духи природы, духи предметов, духи предков. Странно думать, что мы все это знали. Избавление от многих вещей из прошлого имело смысл. Но теперь нам чего-то не хватает. Впрочем, мы в меньшинстве. Огромному количеству людей на земле не хватает чего-то более внятного – того насущно необходимого, которого в достатке у немногих, и которое можно, например, отнять и поделить. Голодного не попрекнешь. Мы, любители мудрости, и здесь не при делах. Техническая цивилизация сегодня делает вещи красивыми, и это тоже отдаленное эхо божественной красоты, космического порядка. Но ближайшее все еще не видится красивым. Вещи и люди согнаны в пределы пространства, где ими так или иначе можно манипулировать. Власть только учится управлять иначе, и то далеко не везде, и далеко не всегда получается (фактически, почти никогда). Силы, воздействующие на людей, в самых развитых на сегодняшний день обществах утончены невероятно, но по-прежнему материальны; властный логос там правит не кнутом (nemetai – Гераклит: «все сущее пасется бичом», – от Nemesis, Немезиды, карающего меча возмездия, как уточняет Хайдеггер), а расчетливо, программно, кибернетически (у Гераклита: ekubernese). Его пределы большей частью виртуальны. Но он все равно должен созывать в них, заманивать, улавливать. Боги правят иначе, и на фоне утонченной человеческой власти отличие выглядит не менее разительно, чем на фоне примитивной и грубой; они, как у Гельдерлина, «с улыбкой нас гонят вон»; отпускают, приговаривают к свободе.