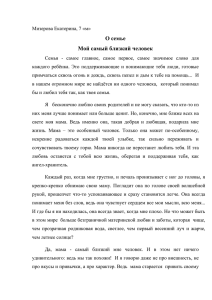Ирвин ЯЛОМ Мама и смысл жизни 1
advertisement
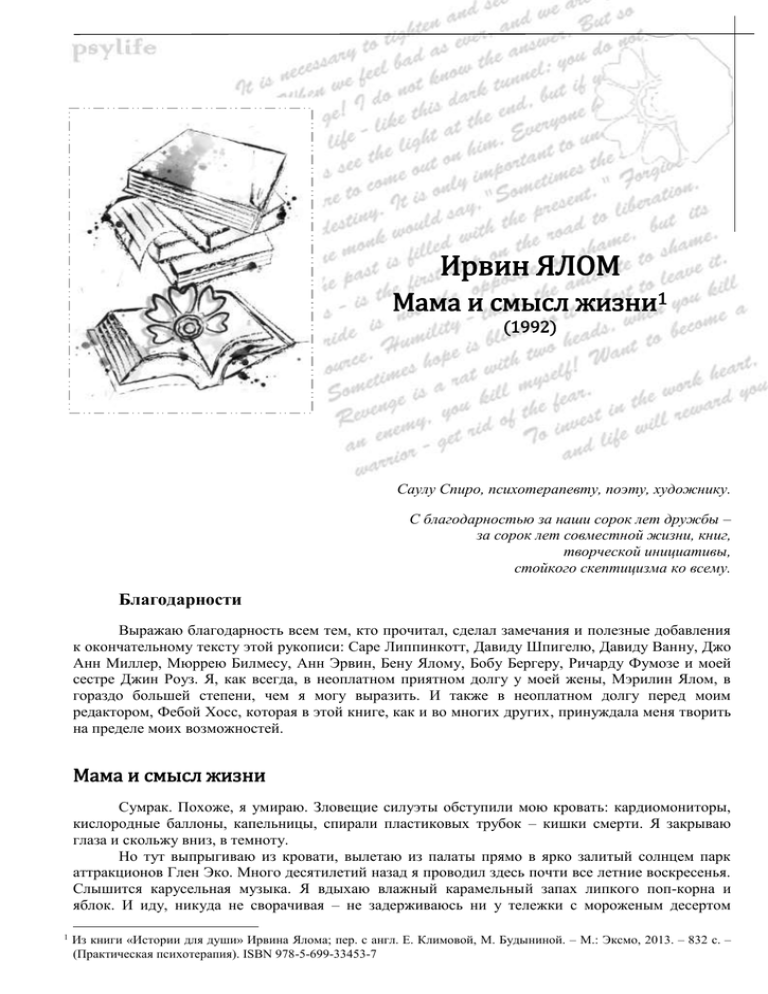
Ирвин ЯЛОМ Мама и смысл жизни1 (1992) Саулу Спиро, психотерапевту, поэту, художнику. С благодарностью за наши сорок лет дружбы – за сорок лет совместной жизни, книг, творческой инициативы, стойкого скептицизма ко всему. Благодарности Выражаю благодарность всем тем, кто прочитал, сделал замечания и полезные добавления к окончательному тексту этой рукописи: Саре Липпинкотт, Давиду Шпигелю, Давиду Ванну, Джо Анн Миллер, Мюррею Билмесу, Анн Эрвин, Бену Ялому, Бобу Бергеру, Ричарду Фумозе и моей сестре Джин Роуз. Я, как всегда, в неоплатном приятном долгу у моей жены, Мэрилин Ялом, в гораздо большей степени, чем я могу выразить. И также в неоплатном долгу перед моим редактором, Фебой Хосс, которая в этой книге, как и во многих других, принуждала меня творить на пределе моих возможностей. Мама и смысл жизни Сумрак. Похоже, я умираю. Зловещие силуэты обступили мою кровать: кардиомониторы, кислородные баллоны, капельницы, спирали пластиковых трубок – кишки смерти. Я закрываю глаза и скольжу вниз, в темноту. Но тут выпрыгиваю из кровати, вылетаю из палаты прямо в ярко залитый солнцем парк аттракционов Глен Эко. Много десятилетий назад я проводил здесь почти все летние воскресенья. Слышится карусельная музыка. Я вдыхаю влажный карамельный запах липкого поп-корна и яблок. И иду, никуда не сворачивая – не задерживаюсь ни у тележки с мороженым десертом 1 Из книги «Истории для души» Ирвина Ялома; пер. с англ. Е. Климовой, М. Будыниной. – М.: Эксмо, 2013. – 832 с. – (Практическая психотерапия). ISBN 978-5-699-33453-7 Мама и смысл жизни 2 «Белый медведь», ни у двойных американских горок, ни у колеса обозрения – чтобы встать в очередь за билетами в «Пещеру ужасов». И вот билет куплен, я жду, пока следующий вагончик обогнет угол и с лязгом остановится около меня. Я залезаю в него и опускаю скобу безопасности, чтобы приковать себя к сиденью. Оглядываюсь в последний раз – и там, посреди кучки зевак – вижу ее. Я машу руками и зову, громко, чтобы все услышали: – Мама! Мама! Тут вагончик трогается с места и бьется о створки дверей, которые распахиваются, открывая зияющую чернотой утробу. Я откидываюсь назад, насколько могу, и, пока меня не поглотила тьма, снова кричу: – Мама! Я молодец, мама? Скажи, я молодец?.. Поднимаю голову с подушки, пытаясь стряхнуть сон. Слова застряли у меня в горле: «Я молодец, мама? Скажи, я молодец?» Но мама уже давно в могиле. Вот уже десять лет, как ее, холодную как лед, зарыли в простом сосновом гробу на кладбище «Анакостия» под Вашингтоном. Что от нее осталось? Думаю, одни кости. Конечно, бактерии отполировали их до блеска. Может быть, осталась пара жидких седых прядей, а может, еще видны блестящие полоски хряща на концах больших костей, берцовых и бедренных. И конечно, кольцо! Где-то в костяном прахе должно быть тонкое серебряное филигранное обручальное кольцо, которое папа купил на Эстер-стрит после того, как они приехали в Нью-Йорк третьим классом из еврейского местечка где-то в России, на другом конце света. Да, мамы давно уж нет. Десять лет. Отдала концы и истлела. Ничего не осталось – только волосы, хрящи, кости, серебряное обручальное кольцо. И ее образ, наблюдающий за мной в моих воспоминаниях и снах. Зачем же я машу ей во сне? Ведь махать ей я перестал много лет назад. Как давно? Может, десятки лет. Кажется, это было больше полувека назад, когда она повела меня, восьмилетнего, в «Лесной» – кинотеатр по соседству, за углом от папиного магазина. Хотя в зале было достаточно свободных мест, она плюхнулась рядом с одним из местных хулиганов, мальчишкой на год старше меня. – Эй, леди, тут занято, – прорычал он. – Нуда, конечно! Занято тут, – презрительно отозвалась мать, устраиваясь поудобнее. – Он занял место. Подумайте, какой важный! Она произнесла это громко, во всеуслышание. Мне захотелось вжаться в кресло и исчезнуть в его свекольно-красном бархате. Чуть позже, когда уже погасили свет, я набрался духу и медленно повернул голову. Вон он, пересел на несколько рядов назад, к своему дружку. Я так и знал – они смотрели на меня и тыкали пальцами в мою сторону. Один показал мне кулак и беззвучно произнес: «Погоди у меня!» Так мама закрыла мне доступ в «Лесной». Теперь это была вражеская территория. Вход был воспрещен – по крайней мере среди бела дня. Если я хотел быть в курсе воскресных сериалов – «Бак Роджерс», «Бэтмен», «Зеленый шершень», «Фантом», – мне приходилось прокрадываться в зал уже после начала сеанса, занимать место в темноте, в самом последнем ряду, как можно ближе к выходу, и убегать, не дожидаясь конца фильма, пока не включили свет. В нашем квартале не было задачи важнее, чем избежать чудовищной катастрофы – быть избитым. «Стукнули» – да запросто: заехали кулаком в челюсть, и все. «Треснули», «вломили», «напинали», «порезали» – один черт. Но если быть избитым – ohmygod. Когда это закончится? Что от тебя останется? Ты – навсегда вне игры с клеймом «избитый». Но махать маме? С какой стати я машу ей теперь, когда много лет мы жили в состоянии ничем не нарушаемой неприязни? Тщеславная, подозрительная, властная, злопамятная, она лезла во все дырки, считала свое мнение единственно правильным и была чудовищно невежественна (но не глупа! – даже я это понимал). У меня с ней не связано никакого, ни одного-единственного теплого воспоминания. Никогда не было такого, чтобы я гордился ею, никогда у меня не мелькала мысль: «Как хорошо, что у меня такая мама!» У нее был ядовитый язык и всегда наготове язвительное слово в чей угодно адрес – кроме папы и сестры. Я любил тетю Ханю, сестру отца, такую милую, с неистощимым запасом душевного тепла, Мама и смысл жизни 3 ее сосиски-гриль, завернутые в ломтики колбасы, ее несравненный штрудель (рецепт навсегда утерян, поскольку сын Хани отказался им поделиться – впрочем, это уже другая история). Больше всего я любил Ханю по воскресеньям. В этот день ее магазинчик-закусочная, расположенный возле вашингтонской военно-морской верфи, не работал. Ханя ставила автомат для игры в пинбол на бесплатный режим и разрешала мне играть часами. Она не возражала, когда я подсовывал сложенные бумажки под передние ножки стола, чтобы шары катились медленнее, и я набирал больше очков. Мое благоговение перед Ханей приводило маму в бешенство, она постоянно разражалась злобными тирадами в адрес своей золовки. У мамы сложился традиционный перечень Ханиных прегрешений: бедность, нежелание работать в лавке, отсутствие деловой сметки, мужлодырь, отсутствие гордости и готовность принимать в дар поношенные вещи. По-английски мама говорила ужасно, с чудовищным акцентом и густой примесью идиша. Она никогда не приходила ко мне в школу, ни на день открытых дверей, ни на родительские собрания. И слава богу! Меня корежило от одной мысли, что мне пришлось бы представлять ей своих друзей. Я ссорился с мамой, демонстративно не слушался ее, кричал на нее, избегал ее и, наконец, уже подростком, вообще перестал с ней разговаривать. Величайшая загадка моего детства – как папа ее терпел? Помню моменты счастья – воскресное утро, мы с ним играем в шахматы, папа весело подпевает пластинке с русскими или еврейскими песнями, качая головой в такт музыке. Но всегда наступает момент, когда утренний воздух разлетается на куски от маминого пронзительного крика со второго этажа: «Гевалт, гевалт, хватит! Вейзмир, хватит этой музыки, хватит шума!» Отец без единого слова встает, выключает фонограф, и мы продолжаем нашу игру в тишине. Сколько раз я молился про себя: «Ну, папочка, ну, пожалуйста, заткни ее, хоть один раз!» Так почему я машу ей? И что это мне вдруг под конец жизни вздумалось спрашивать: «Я молодец, мама?» Неужели – и эта мысль бьет меня как обухом по голове! – я всю жизнь жил напоказ, ради одного зрителя – этой презренной женщины? Всю жизнь я пытался сбежать, удрать от прошлого – от местечковости, от третьего класса, от гетто, талесов2, пения молитв, черных костюмов, бакалейной лавки. Всю жизнь я тянулся к освобождению и росту. Возможно ли, что мне не удалось убежать ни от прошлого, ни от матери? Как я завидовал своим друзьям, у которых были матери – милые, умеющие держаться в обществе, всегда готовые помочь. И как я удивлялся, почему эти друзья не привязаны к своим матерям – не звонят, не навещают, не видят их во сне, даже не часто думают о них. А вот мне приходится силой выкидывать маму из головы много раз на дню, и даже сейчас, когда ее уже десять лет нет на свете, я машинально тянусь к телефону – позвонить ей. Ну хорошо, умом я все это понимаю. Я даже лекции читал на эту тему. Я объясняю своим пациентам, что детям, которых в детстве обижали, часто трудно отделиться от своих дисфункциональных семей, в то время как дети хороших, любящих родителей вырастают и уходят гораздо легче. В конце концов, главная задача хорошего родителя – помочь ребенку уйти из дома, ведь верно? Я все понимаю, но не могу смириться. Я не хочу, чтобы мама навещала меня каждый день. Для меня невыносимо, что она так вплелась во все волокна моего мозга, что мне уже никогда не удастся выполоть ее окончательно. А самое невыносимое – что под конец жизни я вынужден спрашивать: «Я молодец, мама?» Помню ее большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загораживало дверь в ее квартирку, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги – все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да еще десятка два переводов на другие языки – стопки опасно кренились. Я часто воображал себе: один подземный толчок средней силы – и маму накроет обвалом книг, написанных ее единственным сыном. Когда бы я ни пришел, я заставал ее в этом кресле, с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила – но не читала. Сейчас она была почти слепая. Но и раньше, когда зрение еще не изменило ей, она бы в них ничего не поняла: ее единственным 2 Т а л е с (или талит) – иудейское молитвенное покрывало (обычно белое с черными или синими полосами по краям; мужчины покрывают им голову и плечи во время молитвы). – Прим. ред. Мама и смысл жизни 4 образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США. Я – писатель. А мама не может читать. И все равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? По картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь? Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулезный поиск нужной мысли, ускользающий поворот красивой фразы – ничто из этого ей не знакомо. В чем смысл жизни? Смысл моей жизни? В тех самых книгах, стопки которых кренятся у мамы на столе, содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. «Нам по природе свойственно искать смысл, – писал я, – и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна». И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи. Сначала – придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни – достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело – совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас, где-то там, а мы просто его обнаружили. Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать; другие, спеленутые отчаянием, мечтают лишь о покое, одиночестве, о том, чтобы не было больно; третьи посвящают жизнь поискам успеха, процветания, власти, истины; четвертые хотят переступить через себя и раствориться в чем-нибудь или ком-нибудь: любимом человеке или божественной сущности. Есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве. «Чтобы не погибнуть от истины, – сказал Ницше, – у нас есть искусство». Поэтому золотым путем я считаю творчество, поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное. Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель – заслужить одобрение покойной мамы. Этот сон как приговор: он слишком силен, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нем забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь. Я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. Я знаю, как выжать из них секреты... И вот я опять роняю голову на подушку и уплываю, перематывая сон обратно к вагончику «Пещеры ужасов». Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко. – Мама, мама! – кричу я, размахивая руками. – Я молодец? Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распихивая людей направо и налево. – Игвин, что за вопрос, – говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика. Я смотрю на нее. На вид ей лет пятьдесят или шестьдесят, она, крепкая, коренастая, без видимого усилия несет большую, битком набитую хозяйственную сумку, с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локтя и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колен. Она влепляет мне крепкий мокрый поцелуй. Я симулирую взаимность. – Ты молодец! Большего и желать нельзя. Столько книг. Я тобой горжусь. Если б только твой папа это видел. – Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал... ты плохо видишь... – Уж что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги. Она открывает свою хозяйственную сумку, достает две моих книги и нежно гладит их. Мама и смысл жизни 5 – Большие книги. Красивые. Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе. – Важно, что внутри. Может, там одна чепуха. – Игвин, не говори narishkeit – глупостей. Прекрасные книги! – Мама, что ты их все время таскаешь с собой, даже в Глен Эко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что... – Про тебя все знают. Весь мир. Моя парикмахерша говорит, ее дочка проходит твои книги в школе. – Парикмахерша? Ну, конечно, она – главная специалистка! – Все говорят. Я всем говорю. Почему бы нет? – Мама, тебе что, делать больше нечего? Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям? К Хане, Герти, Любе, Дороти, Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Глен Эко? – Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне еще быть? – Мама, я вот что хочу сказать... мы оба взрослые люди. Мне уже за шестьдесят. Может, нам уже хватит видеть одни сны на двоих. – Ты всегда меня стыдился. – Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь. – Всегда думал, что я глупая. Всегда думал, что я ничего не понимаю. – Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не все. Просто ты никогда... никогда... – Что я никогда? Ну, говори. Раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать. – А что я собираюсь сказать? – Нет, Игвин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты все переиначишь. – Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь. – Я тебя не слушаю? Я тебя не слушаю?! Скажи, Игвин, а ты-то меня слушаешь? Ты-то про меня что-нибудь знаешь? – Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать. – Нет уж, Игвин. Я-то умею слушать, еще как умею. Я каждую ночь слушала тишину – как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Ни здрасти сказать. Ни спросить, может, я устала за день. Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал? – Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была. – Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь матери. Стенка. Я ее строила? – Я этого не говорил. Только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было пятьдесят лет назад. Но я чувствовал: все, что ты мне говорила, было с подтекстом. – Воc? Текстом? – Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике. – Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и просил тебе что-нибудь принести? Карандаши, бумагу... Помнишь Эла? Из винного магазина. Ему еще лицо порезали во время ограбления. – Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос. – Ну вот, Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин: «Это прынц! Прынц звонит! А чего бы прынцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться». Элу просто было завидно: ему-то родители ничего не давали. И я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав: я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонил – днем или ночью, – я бросала папу одного, даже если в лавке было полно покупателей, и мчалась на соседнюю улицу, к Меншу, в магазинчик «Все за 5 и 10 центов». И марки тебе были нужны. И тетради. И чернила. А потом и шариковые ручки. У тебя вся одежда была в чернилах. Ровно прынц... И никакой критики. – Мама, мы с тобой начали разговаривать. Это уже хорошо. Давай не будем друг друга Мама и смысл жизни 6 обвинять. Давай попробуем понять друг друга. Скажем так: я чувствовал, что ты меня критикуешь. Я знаю, что другим ты говорила про меня только хорошее. Хвалилась мной. Но мне ты никогда ничего такого не говорила. В лицо. – Игвин, с тобой тогда не так уж и просто было говорить. Не только мне – всем. Ты все знал. Ты все читал. Люди тебя, скорее, немножко побаивались. Может, я тоже. Фер вейс? Кто знает? Но вот что я тебе скажу, Игвин. Мне приходилось куда хужей твоего. Во-первых, ты про меня тоже ничего хорошего не говорил. Я вела хозяйство. Я тебе готовила. Ты двадцать лет ел то, что я готовила. Было вкусно, я знаю. Откуда знаю? Да потому что ничего не оставалось ни на тарелках, ни в кастрюлях. Но ты ни разу не сказал, что вкусно. Ни разу в жизни. А? Хотя бы раз сказал? Я молчу и только все ниже склоняю голову от стыда. – И вот еще что. Я знала, что за моей спиной ты ничего хорошего про меня не говоришь. Ты знал, что я хвалюсь тобой за глаза – у тебя хоть это было. А я знала, что ты меня стыдился. Все время стыдился, и при мне, и без меня. Стыдился моего английского и моего акцента. Всего, что я не знала. И всего, что я говорила неправильно. Я слыхала, как вы с дружками надо мной смеялись – Джулия, Шелли, Джерри. Я все слыхала. А? Я еще ниже опускаю голову. – Ты всегда все замечала. – Откуда мне знать то, что написано в твоих книгах? Если бы у меня были такие возможности, если бы я могла ходить в школу, чего бы я только не добилась своей головой, своим saychel! Но в России, в нашем местечке я не могла ходить в школу – туда пускали только мальчиков. – Я знаю, мама. Я знаю, ты бы училась не хуже меня, если бы у тебя была возможность. – Я приехала сюда с мамой и папой. Мне было только двадцать лет. Я шесть дней в неделю работала на швейной фабрике. По двенадцать часов в день. С семи утра до семи вечера, иногда до восьми. А за два часа до того, как идти на работу, в пять утра, мне надо было провожать папу к его газетному киоску у метро и помогать ему раскладывать газеты. Братья никогда не помогали. Саймон учился на бухгалтера. Хайми водил такси – домой он не приходил и денег не присылал. А потом я вышла замуж за твоего отца и переехала в Вашингтон, и там до старости работала вместе с ним в лавке, и дом убирала, и готовила. А потом родилась Джин, с ней не было ни минуты забот. А потом родился ты. И с тобой было ох как непросто. А я ведь не переставала работать. И ты это видел! Ты знаешь! Ты слышал, как я бегаю вверх-вниз по лестнице. Скажешь, я вру? – Мама, я знаю. – И все эти годы я поддерживала твоих дедушку и бабушку, пока они были живы. У них ведь ничего не было – гроши от газетного киоска. Потом мы открыли для дедушки кондитерскую лавку, но он не мог работать, ведь мужчинам надо молиться. Ты помнишь дедушку? Я киваю. – Что-то помню... Мне, наверное, года четыре или пять... Многоквартирный дом в Бронксе, там пахнет кислым... Я кидаю с пятого этажа хлебные крошки и шарики из фольги – курам, которые роются во дворе... Дедушка весь в черном, в высокой черной ермолке, клокастая седая борода в пятнах соуса, руки и лоб обмотаны черными шнурами... он бормочет молитвы. Мы не можем общаться – он говорит только на идише. Но очень больно щиплет меня за щеку. Все остальные – бабушка, мама, тетя Лена – работают... Бегают весь день вверх-вниз по лестнице, в магазин, упаковывают, распаковывают, готовят, ощипывают кур, чистят рыбу, вытирают пыль. А дедушка и пальцем не шевелит. Сидит и читает. Как король. – Каждый месяц, – продолжает мама, – я садилась на поезд, ехала в Нью-Йорк, везла им еду и деньги. А потом, когда бабушка была уже в доме престарелых, я платила за ее содержание и навещала ее там – раз в две недели – ты должен помнить, я иногда брала тебя с собой. Кто еще из родных помогал? Да никто! Твой дядя Саймон приходил раз в несколько месяцев и приносил бутылку «Севен Ап». А в следующий раз, когда я к ней приходила, я только и слышала что про дивный «Севен Ап» Саймона. Даже когда она совсем ослепла, она лежала и не выпускала из рук пустую бутылку из-под «Севен Ап». И я не только бабушке помогала, а всей семье – моим братьям Саймону и Хайми, сестре Лене, тете Хане, твоему дяде Эйбу, которого я недавно Мама и смысл жизни 7 привезла из России – всем, всей семье, вся семья кормилась с этой shmutzig, грязной маленькой бакалейной лавчонки. И мне никто никогда не помогал. Никогда! И никто ни разу не сказал мне спасибо. Я делаю глубокий-глубокий вдох и произношу: – Я скажу, мама. Спасибо. Не очень трудно. Почему же мне для этого понадобилось пятьдесят лет? Я держусь за ее руку – может, впервые в жизни. За мясистую часть повыше локтя. Она на ощупь мягкая и теплая – немножко похожа на мамино тесто для kichel перед тем, как его посадят в печь. – Я помню, как ты рассказывала нам с Джин про «Севен Ап» Саймона. Конечно, тебе было очень обидно. – Обидно? Не то слово! Иногда она пила этот «Севен Ап», закусывая его моим kichel, и не переставая говорила только про «Севен Ап». А ты ведь знаешь, сколько труда уходит на kichel. – Мама, я так рад, что мы разговариваем. Первый раз в жизни. Может быть, я всегда этого хотел, и поэтому ты не уходишь у меня из головы и из снов. Может быть, теперь все будет подругому. – По-другому это как? – Ну... я смогу быть в большей степени сам собой... чтобы жить ради тех целей и дел, которые я сам себе выберу. – Ты хочешь от меня отделаться? – Нет... ну, не в этом смысле, в хорошем смысле. Я и для тебя хочу того же самого. Я хочу, чтобы ты могла отдохнуть. – Отдохнуть? Ты когда-нибудь видел, чтобы я отдыхала? Твой папочка каждый день ложился поспать после обеда. Ты хоть раз видел, чтобы я спала среди дня? – Я хочу сказать, что у тебя должна быть своя цель в жизни – а не это, – я тыкаю пальцем в ее хозяйственную сумку. – Не мои книги! И у меня должна быть моя собственная цель. – Но я же только что объяснила, – отвечает она, перекладывая сумку в другую руку, подальше от меня. – Это не только твои книги. Это и мои книги! Я все еще крепко держусь за ее руку, но теперь она почему-то оказывается холодной, и я разжимаю пальцы. – Что значит «у меня должна быть своя цель в жизни»? – продолжает она. – Эти книги и есть моя цель. Я работала ради тебя – и ради них. Всю жизнь я работала на эти книги, на мои книги. Она лезет в сумку и вытаскивает еще две книги. Я морщусь, потому что боюсь, что она сейчас поднимет их над головой и начнет демонстрировать небольшой толпе зевак, которая уже собралась вокруг нас. – Мама, ты не понимаешь. Нам надо разделиться – мы сковываем друг друга. Это нужно, чтобы стать личностью. Об этом я и писал во всех этих книгах. И я хочу того же самого для моих собственных детей, для всех детей. Быть без оков. – Вос мейнен – еаков? – Нет, нет, «без оков» – это значит, чтобы их ничто не сковывало, чтобы они были свободны. Как же мне получше объяснить? Скажем, так: каждый человек, по природе своей, одинок. Это тяжело, но это так на самом деле, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я хочу, чтобы у меня были свои собственные мысли и свои собственные сны. А у тебя – свои. Мама, уйди из моих снов! На ее лице застывает строгое выражение, и она делает шаг назад. Я торопливо продолжаю: – Не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я хочу, чтобы нам обоим было хорошо – и тебе, и мне. У тебя должны быть свои собственные сны в этой жизни. Уж это-то ты точно можешь понять. – Игвин, ты по-прежнему думаешь, что ты все понимаешь, а я ничего не понимаю. Но я тоже смотрю в жизнь. И в смерть. Я понимаю про смерть – больше твоего. Поверь мне. И про одиночество понимаю больше твоего. – Но, мама, тебе же не приходится жить в одиночестве. Ты все время со мной. Ты не оставляешь меня. Ты бродишь в моих мыслях. В моих снах. – Нет, сынок. Мама и смысл жизни 8 «Сынок»! Меня так не называли лет пятьдесят. Я уж и забыл, что она и папа иногда меня так звали. – Сынок, все совсем не так, как ты думаешь, – продолжает она. – Некоторых вещей ты не понимаешь, кое-что у тебя повернуто с ног на голову. Ты знаешь тот сон, где я стою в толпе и смотрю, как ты в вагончике машешь мне, зовешь, спрашиваешь, удалась ли твоя жизнь? – Мама, ну конечно же, я помню свой сон. С него же все и началось. – Твой сон? Вот это я и хотела тебе сказать. Ты ошибаешься, Игвин – ты думаешь, что я была в твоем сне. Это был не твой сон, сынок. Это был мой сон. Матерям тоже снятся сны. Странствия с Полой Когда я был студентом-медиком, меня учили высокому искусству – смотреть, слушать, прикасаться. Я смотрел на алые гортани, выпирающие барабанные перепонки, змейки кровавых ручейков в сетчатке глаза. Слушал шипение сердечных шумов, бульканье труб кишечника, какофонию респираторных хрипов. Ощущал скользкие края печени и селезенки, упругость кист яичника, мраморную твердость рака простаты. В университете меня учили изучать пациентов. А вот учиться у пациентов я стал гораздо позже, на другой стадии своего образования. Возможно, это началось с моего профессора, Джона Уайтхорна, который часто говорил: «Слушайте своих пациентов; учитесь у них. Чтобы поумнеть, нужно вечно учиться». И он имел в виду больше, чем банальную истину, что хороший слушатель узнает о пациенте гораздо больше. Он в буквальном смысле предписывал нам учиться у пациентов. Джон Уайтхорн – чопорный, неуклюжий, вежливый, с блестящей лысиной, окаймленной коротко стриженным полумесяцем седых волос, – тридцать лет руководил факультетом психиатрии университета Джонса Хопкинса и делал это безупречно. Он носил очки в золотой оправе, и у него не было ни одной лишней черты – ни одной морщинки: ни на лице, ни на коричневом костюме, в котором он ходил каждый день (мы подозревали, что у него в гардеробе два или три одинаковых костюма). Лишней мимики и жестов у него тоже не было. Когда он читал лекцию, двигались только его губы, все остальное – руки, щеки, брови – оставалось удивительно неподвижным. На третьем году моей ординатуры в психиатрической клинике мы – я и пять моих однокурсников – каждый четверг во второй половине дня делали обход вместе с профессором Уайтхорном. А до этого мы обедали у него в кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простая и всегда одна и та же – сэндвичи с тунцом, мясной нарезкой и холодными крабовыми котлетками, за ними следовал фруктовый салат и пекановый пирог, – но подавалась она всегда с южной элегантностью: льняная скатерть, сверкающие серебряные подносы, английский тонкостенный фарфор. За обедом мы долго и неспешно беседовали. Хотя нам всем нужно было делать обходы, хотя пациенты требовали неотложного внимания, поторопить доктора Уайтхорна нам не удавалось, и в конце концов даже я, самый гиперактивный изо всей группы, научился говорить времени «подожди». В эти два часа мы могли задавать профессору любые вопросы. Помню, я спрашивал его о таких вещах, как происхождение паранойи, ответственность врача за самоубийство пациента, несоответствие между возможной излечимостью пациента в результате терапии и спущенной сверху предопределенностью. Профессор отвечал подробно, но не скрывал, что предпочитает другие темы: меткость персидских лучников, достоинства и недостатки греческого и испанского мраморов, грубые промахи, допущенные в битве при Геттисберге, усовершенствованная самим профессором периодическая таблица элементов (по первому образованию он был химик). После обеда д-р Уайтхорн принимал в том же кабинете четырех или пятерых своих пациентов, а мы молча наблюдали. Невозможно было заранее предсказать, насколько затянется каждая беседа. Иные длились пятнадцать минут, другие продолжались – два-три часа. Ясней всего я помню летние месяцы, прохладный затемненный кабинет, оранжевые и зеленые полосы на парусине тента, закрывающего свирепое балтиморское солнце, опоры тента, обвитые магнолией, мохнатые цветки которой свисали прямо за окном. Из углового окна можно было разглядеть край Мама и смысл жизни 9 теннисного корта для сотрудников клиники. У меня ныло под ложечкой, так мне хотелось поиграть. Я ерзал, представляя себе подачи и удары с лета, а тени на корте все росли и росли. И лишь когда сумрак проглатывал последние полосы корта, я оставлял надежду поиграть и полностью переключался на беседу д-ра Уайтхорна с пациентами. Он не торопился. У него было много времени. Больше всего на свете его интересовали профессия и любимые занятия пациента. В один из четвергов воодушевленный вопросами профессора южноамериканский плантатор целый час рассказывал о кофейных деревьях, а через неделю это мог быть профессор истории, рассказывающий о гибели Великой Армады. Можно было подумать, что для доктора Уайтхорна нет важней задачи, чем понять взаимосвязь между высотой над уровнем моря и качеством кофейных бобов, или узнать, какая политическая подоплека шестнадцатого века стояла за Великой Армадой. Он так незаметно перемещался в личную сферу рассказчика, что я всегда изумлялся, когда пациент-параноик, подозревающий все и вся, вдруг начинал откровенно говорить о себе и своем психотическом мире. Позволяя пациентам обучать его, доктор устанавливал контакт с личностью, а не с болезнью пациента. Его стратегия неизменно подкрепляла как самооценку пациента, так и его желание открыться. Казалось бы, лукавый собеседник. И все же никакого лукавства. Не было двуличия и лживости: доктор Уайтхорн искренне желал учиться. Он был собирателем, и таким способом за многие годы накопил поразительное богатство любопытных фактов. «Вы только выиграете, и ваши пациенты тоже, – говорил он, – если вы позволите им достаточно долго рассказывать о своих жизнях, своих интересах. Узнайте, как они живут, – и вы не только приобретете новые знания, но в конце концов узнаете все, что нужно, об их болезни». Через пятнадцать лет, в начале семидесятых – когда д-р Уайтхорн уже умер, а я стал профессором психиатрии – женщина по имени Пола, больная раком груди, вошла в мою жизнь, чтобы довершить мое образование. Я убежден, что она с самого начала взяла на себя роль моей наставницы, хотя тогда я об этом не знал, а она этого никогда так и не признала. Пола записалась на прием, узнав от социального работника онкологической клиники, что я хочу создать терапевтическую группу для неизлечимых пациентов. Когда Пола впервые вошла в мой кабинет, меня сразу поразила ее внешность: достоинство осанки, сияющая улыбка, которая заставила меня собраться, копна коротких, жизнерадостно-мальчишеских, ослепительно белых волос, и что-то такое, что я могу назвать лишь сиянием, казалось, исходило от ее мудрых, жгучесиних глаз. Она приковала мое внимание первыми же словами. – Меня зовут Пола Уэст, – сказала она. – У меня рак в терминальной стадии. Но я не раковая пациентка. И действительно, на протяжении всего пути рядом с ней, в течение многих лет, я никогда не воспринимал ее как пациентку. Она продолжила коротко и точно описывать свою историю болезни: рак груди, обнаруженный пять лет назад; хирургическое удаление этой груди; рак другой груди, удаление и этой груди тоже. Затем химиотерапия со всем ужасным комплектом: тошнота, рвота, полная потеря волос. А потом лучевая терапия, до максимального уровня, до предела. Но ничто не могло остановить продвижение рака: в череп, позвоночник, глазницы. Рак Полы требовал пищи, и хотя хирурги все время швыряли ему жертвенные подношения – груди, лимфоузлы, яичники, надпочечники, – он был ненасытен. Воображая себе обнаженное тело Полы, я видел грудную клетку, исполосованную шрамами, без грудей, без плоти, без мускулов, словно шпангоуты выброшенного на берег галеона, а ниже, под грудью, живот с рубцами от операций, и все это покоится на толстых, бесформенных, утолщенных стероидной терапией бедрах. Короче говоря, пятидесятипятилетняя женщина без грудей, надпочечников, яичников, матки и, я уверен, без либидо. Мне всегда нравились женщины с упругими, грациозными телами, полной грудью и явной чувственностью. Но когда я встретил Полу, случилась удивительная вещь: я счел ее прекрасной и влюбился. Мы встречались раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, на основании не отвечающего никаким нормам контракта. Сторонний наблюдатель мог бы назвать это психотерапией, потому что я записывал Полу к себе в журнал приема, а она садилась в кресло, Мама и смысл жизни 10 предназначенное для пациентов, и проводила там ритуальные пятьдесят минут. И все же наши роли были размыты. Например, никогда не возникал вопрос об оплате. С самого начала я знал, что у нас не обычный терапевтический контракт между больным и врачом, и я никогда не спешил упоминать о деньгах в присутствии Полы: это было бы вульгарно. И не только о деньгах, но и о других столь же неделикатных темах – плотской жизни, адаптации в браке, светских отношениях. Жизнь, смерть, духовность, покой, трансцендентность – вот о чем мы! говорили. Это единственное, что заботило Полу. Больше всего мы говорили о смерти. Еженедельно в моем кабинете встречались не двое, а четверо: я. Пола и две смерти – ее и моя. Она стала для меня любовницей смерти, познакомила меня с ней, научила меня думать о ней и даже помогла с ней подружиться. Я начал понимать, что смерть была оболгана прессой. Понимать, что, хоть в смерти и мало радости, она вовсе не чудовищное зло, швыряющее нас в какое-то невообразимо ужасное место. Я научился демифологизировать смерть, дабы увидеть ее в истинном свете – как событие, как часть жизни, как конец дальнейших возможностей. «Это нейтральное событие, – говорила Пола, – а мы научились окрашивать его страхом». Каждую неделю Пола входила в мой кабинет, вспыхивала широкой улыбкой, которую я обожал, тянулась к своей большой соломенной сумке, извлекала из нее дневник, клала его на колени и делилась со мной образами, размышлениями и снами прошедшей недели. Я вслушивался и пытался реагировать адекватно. Каждый раз, когда я выражал сомнения в том, что полезен ей, Пола озадачивалась, а потом через мгновение уже улыбалась, как бы ободряя меня, и вновь возвращалась к своему дневнику. Вместе мы заново пережили всю ее схватку с раком: первоначальный шок и неверие, телесные увечья и постепенное приятие. Со временем она привыкла говорить: «У меня рак». Она рассказывала о том, как любовно ухаживали за ней муж и близкие друзья. Это я мог понять: ведь Полу трудно было не любить. (Конечно, я открылся ей в своей любви гораздо позже, но Пола мне не поверила.) Потом она рассказывала об ужасных днях, когда рак возвращался. «Это мой путь на Голгофу, – говорила она, – а испытания, которые переживают все пациенты с рецидивами, – это остановки на крестном пути: кабинеты лучевой терапии, где над тобой нависает всевидящее око из страшного суда, безликий торопливый персонал, смущенные друзья, равнодушные доктора и самое страшное – оглушительная тишина секретности». Она плакала, рассказывая, как позвонила своему хирургу, который на протяжении двадцати лет был ее другом, и медсестра сообщила ей, что доктор больше ее не примет, потому что ничем не может помочь. «Что такое с врачами? Почему они не могут понять, насколько важно просто быть рядом? – спрашивала Пола. – Почему не осознают, что именно в момент, когда они уже ничего не могут сделать, они и нужны больше всего?» Я узнал от Полы, что ужас перед смертельной болезнью многократно усиливается отчужденностью других людей. Дурацкий спектакль, исполняемый теми, кто пытается замаскировать приближение смерти, усугубляет изоляцию умирающего пациента. Но смерть нельзя спрятать, она обнаруживает себя повсюду: медсестры говорят приглушенными голосами, доктора во время обхода начинают уделять много внимания совсем другим частям тела, студентымедики входят в палату на цыпочках, члены семьи героически улыбаются, посетители старательно изображают жизнерадостность. Одна раковая больная рассказала мне, что узнала о том, что скоро умрет, когда лечащий врач вдруг закончил ее осмотр не обычным игривым шлепком по попе, а теплым рукопожатием. Много страшнее смерти для умирающего человека полная изоляция, которая сопровождает ее. Мы пытаемся идти по жизни парами, но умираем в одиночку – никто не может умереть вместе с нами или вместо нас. Живые избегают умирающих, отчуждаются от них, и это служит прообразом окончательной – смертельной – отчужденности и изоляции. «Есть два проявления предсмертной изоляции, – учила меня Пола. – Когда пациент отсекает себя от живущих, потому что не хочет втаскивать семью и друзей в свой собственный ужас, открывая им свои страхи или зловещие мысли. И когда друзья сторонятся умирающего, потому что чувствуют себя беспомощными, неловкими, не знают, что говорить и делать, боятся подойти слишком близко и увидеть предвестие собственной смерти». Но изоляция Полы кончилась. Даже если я ей ничем не смогу помочь, уж верен ей я буду Мама и смысл жизни 11 точно. Пусть другие ее покинули – я ее не покину. Как хорошо, что она меня нашла! Разве я мог знать, что настанет время, когда Пола сочтет меня своим Петром, многажды отрекшимся от нее? Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать горечь от переживания изоляции и одиночества, рассказать о периоде, который она часто называла своим Гефсиманским садом. Однажды она принесла мне литографию работы своей дочери, где несколько стилизованных силуэтов побивали камнями святую – крохотную, скорченную фигурку женщины, чьи тонкие руки не могли противостоять граду камней. Эта картина до сих пор висит у меня в кабинете, и каждый раз, глядя на нее, я вспоминаю слова Полы: «Я – эта женщина, бессильная предотвратить свою смерть». Выбраться из Гефсиманского сада Поле помог священник епископальной церкви. Знакомый с мудрым афоризмом из «Антихриста» Ницше: «Тот, кто знает, ЗАЧЕМ жить, может вынести любое КАК», священник помог ей воспринять страдание по-другому. «Твой рак – это твой крест, – сказал он ей. – Твое страдание – это служение». Эта формулировка – «божественное озарение», как назвала ее Пола, – все изменила. Пола рассказывала и о том, как научилась принимать свое служение, и о взятой на себя задаче – облегчать страдание людей, больных раком. И я начал понимать свою роль: это не Пола – объект моей работы, а я – объект ее работы, ее служения. Я мог ей помочь, но не поддержкой, не интерпретацией, и даже не заботой или верностью. Моя роль заключалась в том, чтобы позволить себя учить. Возможно ли, что человек, чьи дни сочтены, чье тело изъедено раком, может проживать «золотые дни»? Для Полы – возможно. Именно она открыла мне, что честное принятие смерти обогащает восприятие жизни, усиливает удовлетворение от нее. Я отнесся к этому скептически. Я подозревал, что значение слов о «золотых днях» преувеличено – типичные для Полы красивые слова о духовности. – Золотые? В самом деле?! Пола, посуди сама, что «золотого» в умирании? – Ирв, – укорила меня Пола, – это неправильный вопрос. Попробуй понять, что «золото» – не в умирании, а в том, чтобы жить полной жизнью перед лицом смерти. Подумай, как остры и драгоценны последние впечатления: последняя весна, последний полет пушинок одуванчика, последнее облетание лепестков глицинии. – И еще, – говорила Пола, – золотой период – это время великого освобождения. Это время, когда ты можешь сказать «нет» всем этим банальным обязательствам и посвятить себя тому, что тебе дороже всего – общению с друзьями, смене времен года, игре морских волн. Пола резко критиковала работы Элизабет Кюблер-Росс, «верховной жрицы смерти» от медицины, которая, ничего не зная о золотой стадии, выработала негативистский клинический подход к смерти. Стадии умирания в формулировке Кюблер-Росс – отрицание, гнев, попытки «заключить сделку с судьбой», депрессия, принятие – каждый раз сердили Полу. Она настаивала, и я уверен в ее правоте, что такое жесткое разделение эмоциональных реакций на категории дегуманизирует и пациента, и врача. Золотой период Полы был временем глубокого и напряженного изучения себя самой: ей снилось, что она бродит по огромным залам, что обнаруживает у себя в доме новые, ранее не используемые комнаты. И еще этот период был временем подготовки: ей снилось, что она убирает дом, от подвала до чердака, наводит порядок в письменных столах и шкафах. Она эффективно, заботливо подготавливала и своего мужа. Временами она чувствовала себя лучше и могла бы в это время ходить за покупками, готовить, но намеренно не делала этого, чтобы муж научился сам себя обслуживать. Однажды она рассказала мне, что очень гордится им, потому что он впервые сказал «когда я буду на пенсии» вместо «когда мы будем на пенсии». Во время таких разговоров я сидел с круглыми глазами и не верил своим ушам. Да правду ли она говорит? Может ли такая добродетель существовать вне диккенсовского мира, где живут Пеготти, крошка Доррит, Том Пинч и Боффины? В литературе по психиатрии редко обсуждается такая черта личности, как добродетель, разве что иногда ее называют защитой личности от темных низких импульсов, и сначала я сомневался в мотивах Полы и пытался незаметно нащупать бреши и вмятины в этой маске святости. Но ничего не найдя, я вынужден был заключить, что это не маска, прекратить поиски и погрузиться в источаемую Полой благодать. Пола была уверена, что подготовка к смерти жизненно необходима и требует Мама и смысл жизни 12 целенаправленного внимания. Узнав, что рак распространился на позвоночник, Пола подготовила тринадцатилетнего сына к своей смерти, написав ему письмо. Оно тронуло меня до слез. В последнем абзаце она говорила, что у человеческого зародыша легкие не дышат, а глаза не видят. Так эмбрион готовится к существованию, которое пока не может себе вообразить. «И мы тоже, – рассуждала она, – разве не готовимся к существованию, которое по ту сторону нашего познания, по ту сторону даже наших фантазий?» Я никогда не понимал верующих людей. Сколько я себя помню, мне казалось очевидным, что религиозные системы создаются для утешения и успокоения тревог человеческой жизни. Однажды, лет в двенадцать или тринадцать, когда я работал в продуктовой лавке своего отца, я поделился своим скептицизмом с ветераном Второй мировой войны, только что вернувшимся с европейского фронта. В ответ он протянул мне мятую, выцветшую картинку с девой Марией и Иисусом, которую всегда носил с собой во время боевых действий в Нормандии. – Переверни, – сказал он. – Читай вслух. – В окопах атеистов нет, – прочитал я. – Верно! В окопах атеистов нет, – медленно повторил он, тыча в меня пальцем при каждом слове. – Христианский Бог, еврейский Бог, китайский Бог, какой угодно – но Бог! Клянусь Богом! Без него никак. Мятая картинка, подаренная незнакомцем, заворожила меня. Она пережила Нормандию и неизвестно сколько еще разных битв. Может быть, подумал я, это знак, может быть, божественное провидение наконец меня нашло. Два года я носил эту картинку в бумажнике, время от времени доставал и размышлял над ней. А потом как-то раз спросил себя: «Ну и что? Что с того, что в окопах атеистов нет? В любом случае это подтверждает мою скептическую позицию: конечно, вера возрастает, когда увеличивается страх. В том-то и дело: страх порождает веру. Нам нужен бог, мы хотим, чтобы он был, но, как бы сильно мы ни хотели, желание не станет действительностью. Вера, сколь угодно горячая, чистая, всепоглощающая, ничего не говорит о реальности существования Бога». На следующий день, зайдя в книжный магазин, я вытащил из бумажника теперь уже не обладающую для меня силой картинку и очень осторожно – она заслуживала уважения – вложил ее в книгу под названием «Спокойствие духа», в надежде, что, может быть, другой метущийся разум найдет ее и извлечет из нее больше пользы. Хотя мысль о смерти давно наполняла меня ужасом, я научился предпочитать этот первобытный ужас некоторым верованиям, чья главная убедительность крылась в их полной абсурдности. Я всегда ненавидел непоколебимую формулировку «Верую, ибо абсурдно». Но как терапевт я держу подобные мысли при себе. Я знаю, что религиозная вера – мощный источник утешения, и никогда не пытаюсь разубедить людей, если не могу предложить взамен ничего лучшего. Мой агностицизм трудно было пошатнуть. Ну, может быть, пару раз в школе во время утренней молитвы мне становилось не по себе при виде всех учителей и одноклассников, которые стояли со склоненными головами и что-то шептали, обращаясь к патриарху на небесах. «Неужели все, кроме меня, сумасшедшие?» – удивлялся я. А потом в газетах появились фотографии Франклина Делано Рузвельта, ходившего в церковь каждое воскресенье, – и это заставило меня задуматься, к верованиям Ф.Д.Р. нельзя было не относиться серьезно. А как же убеждения Полы? Как же ее письмо к сыну, уверенность, что нас ждет цель, которую мы даже не можем предугадать? Фрейда развлекла бы метафора Полы, и с точки зрения религии я бы с ним полностью согласился. «Исполнение желаний в чистом виде, – сказал бы он. – Мы хотим быть, мы страшимся небытия и выдумываем приятные сказочки, в которых все наши желания исполняются. Ожидающая впереди неведомая цель, вечность души, рай, бессмертие, Бог, перевоплощение – все это иллюзии, призванные подсластить горечь смертности». Пола всегда деликатно реагировала на мой скептицизм и мягко напоминала мне, что, какими бы невероятными ни казались мне ее взгляды, опровергнуть их я не могу. Несмотря на все свои сомнения, я любил метафоры Полы и слушал ее проповеди терпеливей, чем любые другие в своей жизни. Может быть, это был простой товарообмен – я отдавал уголок своего скептицизма за то, чтобы теснее прижаться к ее благодати. Временами я даже слышал из собственных уст фразочки типа «Кто знает?», «В конце концов, доказательств нет», «Разве мы когда-нибудь узнаем доподлинно?» Я завидовал ее сыну. Понимал ли он, как ему повезло? Как бы я хотел быть сыном Мама и смысл жизни 13 такой матери. Примерно в это время я пошел на похороны матери своего друга. Священник рассказал утешительную историю: «Люди собрались на берегу и печально машут, провожая уходящий корабль. Корабль уменьшается, скрывается вдали, виднеется только верхушка мачты. Когда и она исчезает, зрители бормочут: «Он ушел». Но в это самое время где-то далеко другая группа людей пристально глядит на горизонт и, завидев верхушку мачты, восклицает: «Он пришел!» «Дурацкая басня», – фыркнул бы я до знакомства с Полой. Но теперь я стал снисходительней. Оглядев собравшихся на похоронах, я на мгновение ощутил единство с ними – мы были связаны иллюзией. У всех нас на душе стало светлей от мысли о корабле, который приближается к берегам новой жизни. До встречи с Полой я первый готов был высмеивать чокнутых калифорнийцев. Чудачества «нью-эйдж» можно перечислять бесконечно: таро, «Книга перемен», массажи и йоги, реинкарнация, суфизм, контакт с духами, астрология, нумерология, иглоукалывание, сайентология, рольфинг, холотропное дыхание, терапия прошлых жизней. Люди всегда нуждались в этих умилительных верованиях, думал я раньше. Эти верования отвечают их глубинным стремлениям, и некоторые люди слишком слабы, чтобы без них обойтись. Бедные детишки, пусть утешаются своими сказочками! Но теперь я выражал свое мнение более деликатно. Теперь с моих губ сходили обтекаемые фразы: «Кто знает?», «Может быть!», «Жизнь сложна и непознаваема». Несколько недель прошло с тех пор, как мы начали встречаться, и у нас с Полой начали рождаться конкретные планы по созданию группы для умирающих пациентов. Сейчас такие группы уже никого не удивят, о них часто рассказывают в журналах и по телевидению, но в 1973 году прецедентов не было: умирание подвергалось такой же цензуре, как порнография. Поэтому нам приходилось импровизировать на каждом шагу. Даже самое начало было огромным препятствием. Как собрать такую группу? Где искать участников? Не печатать же объявление в газете: «Разыскиваются умирающие»?! Но обширная сеть знакомств Полы – в церкви, в больницах, клиниках и организациях по уходу за больными на дому – начала приносить потенциальных участников группы. Стэнфордское отделение почечного диализа направило к нам первого человека – Джима, девятнадцатилетнего юношу с тяжелым поражением почек. Он знал, что ему остается жить недолго, но совсем не жаждал познакомиться со смертью поближе. Джим старался не смотреть в глаза мне и Поле и, по правде говоря, вообще избегал любых форм контакта с кем бы то ни было. «Я человек без будущего, – говорил он. – Разве я гожусь в мужья или в друзья? Какой смысл говорить, выносить на поверхность боль отвержения? Я уже достаточно говорил. Меня достаточно много раз отвергали. Я и без людей прекрасно обхожусь». Мы с Полой видели его лишь дважды, на третью встречу он не пришел. Джим, заключили мы, был слишком здоровым. Почечный диализ дает очень много надежды, откладывает смерть настолько, что отрицание успевает пустить корни. Нет, нам нужны обреченные, те, кто стоит первым в очереди за смертью, у кого не осталось надежды. Потом появились Роб и Сол. Ни один из них полностью не отвечал нашим требованиям: Роб часто отрицал, что умирает, а Сол утверждал, что уже примирился со своей смертью и наша помощь ему не нужна. Робу было всего двадцать семь лет, и последние полгода он жил с острой злокачественной опухолью мозга. Он то и дело ударялся в отрицание. Например, он мог заявить: «Через полтора месяца я пойду в пеший поход по Альпам!» (я думаю, что бедняга никогда не был восточней Невады), а через несколько секунд начинал проклинать свои парализованные ноги, потому что они мешали ему отыскать потерявшийся страховой полис: «Я же должен выяснить, не откажут ли в деньгах моей жене и детям, если я покончу с собой». Хотя мы знали, что людей у нас недостаточно, мы начали группу с четырех человек – Полы, Сола, Роба и меня. Поскольку Сол и Пола в помощи не нуждались, а я был терапевтом, смыслом существования группы стал Роб. Но он упрямо отказывался удовлетворить наши притязания. Мы пытались направить его и утешить, в то же время уважая его выбор – отрицание. Поддерживать отрицание – неблагодарное, двойственное стремление, особенно при том, что мы хотели помочь Робу принять факт смерти и взять максимум от той жизни, что ему еще осталась. Ожидание очередной встречи не приносило нам особой радости. Через два месяца головные боли Мама и смысл жизни 14 Роба обострились, и как-то ночью он тихо умер во сне. Сомневаюсь, что мы ему чем-то помогли. Сол реагировал на смерть совершенно по-другому. Его дух рос по мере того, как его жизнь близилась к завершению. Неминуемая смерть наполнила его жизнь неведомым ранее смыслом. У Сола была множественная миелома, чрезвычайно болезненный рак, проникающий в кости; многие кости у Сола были переломаны, тело от шеи до бедер заковано в гипс. Невероятно много людей любили Сола, трудно было поверить, что ему всего тридцать лет. Он, как и Пола, пережил период глубокого отчаяния и преобразился, ошеломленный идеей, что его рак – это служение. Это откровение определило всю последующую жизнь Сола – даже его согласие вступить в группу: он чувствовал, что группа станет тем местом, где он сможет помочь другим людям найти в болезни глубинный смысл. Сол пришел в группу на полгода раньше, когда она была еще слишком мала, чтобы предоставить ему достойную аудиторию, и он находил себе другие трибуны – в основном старшие классы школ, где обращался к трудным подросткам. «Вы хотите испоганить свое тело наркотиками? Убить его бухлом, травкой, кокаином? – гремел его голос в аудитории. – Хотите разбить его в лепешку, гоняя на машине? Убить? Бросить с моста Золотых ворот? Вам оно не нужно? Ну, тогда отдайте свое тело мне! Мне оно нужно. Я его возьму. Я хочу жить!» Это было невероятно притягательно и убедительно. Я дрожал, слушая речи Сола. Страсть его выступления прирастала той особенной силой, которую мы всегда придаем словам умирающих. Школьники слушали в молчании, ощущая, как и я, что он говорит правду, что у него нет времени играть, притворяться или бояться последствий. Через месяц в группе появилась Ивлин, и это предоставило Солу еще одну благоприятную возможность служения. Шестидесятидвухлетнюю Ивлин, озлобленную, умирающую от лейкемии, прикатили на группу на каталке в тот момент, когда ей делали переливание крови. Она откровенно говорила о своей болезни. Она знала, что умирает. «Я могу с этим смириться, – сказала она, – это уже не имеет значения. Но что уж точно имеет значение – это моя дочь. Она отравляет мои последние дни!» Ивлин черными красками описывала свою дочь, клинического психолога, называла ее «мстительной, неспособной на любовь женщиной». Несколько месяцев назад они жестоко и бессмысленно поссорились – дочь присматривала за кошкой Ивлин и накормила ее не той едой. С тех пор мать и дочь друг с другом не разговаривали. Выслушав Ивлин, Сол обратился к ней с простыми и страстными словами: – Ивлин, послушай, что я тебе скажу. Я тоже умираю. Какая разница, что ест твоя кошка? Какая разница, кто первый уступит? Ты знаешь, что у тебя мало времени. Хватит притворяться! Для тебя нет ничего на свете важнее любви твоей дочери. Не умирай, я тебя очень прошу, не умирай, не сказав ей об этом! Это отравит ее жизнь, она не сможет оправиться и передаст этот яд дальше – своей дочери! Ивлин, разорви этот порочный круг! Призыв подействовал. Через несколько дней Ивлин умерла, но медсестры отделения рассказали нам, что под влиянием слов Сола она, рыдая, помирилась с дочерью. Я очень гордился Солом. Это была первая победа нашей группы! Потом к нам присоединились еще два пациента, и через несколько месяцев мы с Полой решили, что уже многому научились и можем взять группу побольше. Пола начала всерьез набирать людей. Ее связи в Американском онкологическом обществе позволили нам быстро получить направления для нескольких пациентов. Мы провели собеседования, приняли семь новых женщин, всех – с раком груди, и официально открыли группу. На первой встрече группы в полном составе Пола удивила меня, начав с чтения хасидской притчи: «Раввин беседовал с Богом об аде и рае. «Я покажу тебе ад», – сказал Бог и повел раввина в комнату, где стоял большой круглый стол. Вокруг стола сидели голодные, отчаявшиеся люди. Посреди стола стоял огромный горшок с едой, которая пахла так аппетитно, что у раввина потекли слюнки. У всех сидящих за столом в руках были ложки с очень длинными ручками. Длинные ложки как раз доставали до горшка, но их ручки были длинней рук едоков, и те не могли поднести еду к губам, а значит, не могли есть. Раввин увидел, что их страдания поистине ужасны. «А теперь я покажу тебе рай», – сказал Господь. Они вошли в другую комнату, точно такую же, как первая. В ней стоял такой же круглый стол, а на нем такой же горшок с едой. У людей были такие же ложки с длинными ручками. Но здесь все, упитанные и довольные, беседовали и Мама и смысл жизни 15 смеялись. Раввин ничего не понимал. «Это очень просто, но требует некоторой сноровки, – сказал Господь. – Видишь ли, в этой комнате люди научились кормить друг друга». Я слегка растерялся оттого, что Пола, не посоветовавшись со мной, решила начать с чтения этой притчи. Но ничего не сказал. Такая уж у нее манера, подумал я, зная, что мы еще не разработали наши роли и наши способы сотрудничества в группе. Кроме того, выбор Полы был безупречен – до сего дня это было самое вдохновляющее начало работы новой группы, какое я когда-либо видел. Как назвать группу? Пола предложила название «Мост». Почему? По двум причинам. Вопервых, группа наводит мосты от одних раковых пациентов к другим. Во-вторых, здесь мы выкладываем все карты на стол3. Отсюда – «Мост». Это было в стиле Полы. Численность нашей «паствы», как называла ее Пола, быстро росла. Каждую неделю-две среди нас появлялись новые искаженные страхом лица. Пола принимала их под свое крыло, звала пообедать, учила, чаровала и одухотворяла. Скоро нас стало так много, что группа разбилась на две – по восемь человек, и я пригласил нескольких психиатров-интернов в качестве соведущих. Все члены группы были против ее разделения на две части: ведь это угрожало целостности семьи. Я предложил компромисс: в течение часа с четвертью проводить встречу двух разных групп, а потом на пятнадцать минут объединяться, чтобы группы могли рассказать одна другой, что было на встрече. Встречи группы производили на ее членов мощное воздействие. Мы обсуждали крайне болезненные темы, посягнуть на которые, думаю, до нас не осмеливалась ни одна группа. Встреча за встречей – люди приходили с новыми метастазами, новыми трагедиями, но каждый раз мы находили способ быть рядом и поддержать страдающего. Время от времени, когда кто-то из участников был слишком слаб, стоял на пороге смерти и не мог прийти на группу, мы проводили встречу у его постели. Не было такой темы, которую можно было бы назвать для нашей группы трудной, и роль Полы во время каждого жизненно важного обсуждения была решающей. Например, одна встреча началась с того, что участница по имени Ева рассказала о своей зависти к подруге, которая на днях умерла во сне, внезапно, от сердечного приступа. «Это лучшая смерть», – сказала Ева. Но Пола решила поспорить и заявила, что внезапная смерть – это трагедия. Мне стало неловко за Полу. Зачем, думал я, ей обязательно нужно ставить себя в глупое положение? Как можно спорить с утверждением Евы, что умереть во сне – лучше всего? Однако Пола, как обычно, убедительно и вежливо обосновала свою точку зрения, что внезапная смерть – худший вариант. – Человеку нужно время, много времени, – говорила она, – чтобы не торопясь подготовить к своей смерти других: мужа, друзей и самое главное – детей. Нужно завершить все незаконченные дела своей жизни. Потому что ваши начинания достаточно важны, чтобы не бросать их на полдороге, ведь верно? Ваши дела заслуживают, чтобы их довели до конца, ваши проблемы – чтобы их решили. А иначе получается, что ваша жизнь была бессмысленной. Более того, – продолжала она, – умирание – это часть жизни. Пропустить ее, проспать значило бы пропустить одно из величайших приключений, какие выпадают человеку. Однако последнее слово осталось за Евой, тоже довольно сильной личностью: – Знаешь, Пола, что бы ты ни говорила, а я все равно завидую своей подруге. Я всегда любила сюрпризы. Скоро слава о нашей группе разошлась по всему Стэнфордскому университету. Студентыординаторы, медсестры, целые группы студентов младших курсов стали приходить, чтобы наблюдать за встречами через одностороннее зеркало. Иногда уровень боли в группе становился невыносимым, и студенты в слезах выбегали из наблюдательной комнаты. Но всегда возвращались. Психотерапевтические группы часто – но, как правило, с неохотой – допускают в качестве наблюдателей студентов. Но – не наша группа: мы, наоборот, всегда с радостью на это соглашались. Другие члены группы, как и Пола, жаждали учеников, они чувствовали, что могут многому научить, что смертный приговор сделал их мудрее. И один урок они усвоили особенно 3 Слово «мост» (bridge) в английском совпадает с названием карточной игры «бридж». Мама и смысл жизни 16 хорошо: жизнь нельзя откладывать на потом, ее надо прожить сейчас, не оставлять до выходных, до отпуска, до того времени, когда дети пойдут в университет, до пенсии, когда уже не будет сил и возможностей. Я неоднократно слышал, как кто-то из участниц группы жаловался: «Ну почему я по-настоящему научилась жить только сейчас, когда мое тело изрешечено раком?» В то время я был поглощен задачей преуспеть в научном мире, и мой график, забитый научными исследованиями, составлением заявок на гранты, чтением лекций, преподаванием и писательством, ограничивал время моих контактов с Полой. Может быть, я боялся подойти к ней слишком близко? Может быть, ее взгляд на вещи с точки зрения космоса, ее отрыв от обыденных желаний могли бы подорвать мою решимость преуспеть на академическом поприще? Конечно, я каждую неделю видел ее в группе, где я был штатным ведущим, терапевтом, а Пола... кем была Пола? – нет, не соведущим, не котерапевтом, она была кем-то другим... координатором, методистом, посредником. Она помогала новым участникам сориентироваться в группе, организовывала им теплый прием, делилась опытом, звонила на неделе всем участникам, выводила их пообедать и всегда была рядом во время кризиса. Наверное, лучше всего к ее роли подходят слова «консультант по духовности». Она делала встречи возвышеннее и глубже. Когда она говорила, я внимательно слушал: у Полы всегда были неожиданные прозрения. Она учила членов группы: как медитировать, как заглянуть глубоко в себя, как найти центр спокойствия, как ограничить боль. Как-то раз, на одной из встреч, когда та уже подходила к концу, Пола меня удивила: она достала из сумки свечу, зажгла и поставила на пол. «Давайте сдвинемся теснее, – сказала она, протягивая руки участникам, сидящим справа и слева, – посмотрим на свечу и немного помедитируем в тишине». До встречи с Полой я настолько погряз в медицинских традициях, что не подумал бы ничего хорошего о враче, который в финале групповой встречи берется за руки с пациентами и молча пялится на свечку. Но и участникам группы, и мне предложение Полы показалось столь уместным, что с тех пор мы заканчивали таким образом все наши встречи. Я научился ценить эти завершающие моменты и, если сидел рядом с Полой, всегда тепло сжимал ее руку, прежде чем отпустить. Она обычно вела медитацию вслух, импровизируя, и всегда делала это с большим достоинством. Я обожал ее медитации и до конца жизни буду вспоминать ее тихие наставления: «Отпустите, отпустите гнев, отпустите боль, отпустите жалость к себе. Потянитесь к себе в душу, в мирные, тихие глубины, откройтесь любви, прощению, Богу...» Опасные идеи для зажатого атеиста-эмпирика с медицинским образованием! Иногда я задавался вопросом – есть ли у Полы вообще какие-то потребности помимо жажды помогать другим? Я часто спрашивал ее, может ли группа ей чем-то помочь, но так и не получил ответа. Загруженность ее расписания порой просто удивляла меня – она ежедневно навещала несколько больных. Что ею движет, спрашивал я себя, и почему она говорит о своих проблемах только в прошедшем времени? Она предлагает нам только свои решения – но не свои нерешенные проблемы. Но я никогда не углублялся в эти мысли. В конце концов, у Полы запущенный рак с метастазами, и она прожила дольше, чем предсказала бы самая оптимистическая статистика. Пола была полна энергии, все любили ее, и она всех любила, вдохновляя каждого, кто был вынужден жить с раковой болезнью. Чего еще надо? То было золотое время моих странствий с Полой. Возможно, мне следовало бы на этом и остановиться. Но в один прекрасный день я огляделся и понял, насколько разрослось наше предприятие – ведущие групп, секретари, которые расшифровывают протоколы встреч и зачисляют новых участников, преподаватели, которые встречаются со студентаминаблюдателями. Я решил, что для таких масштабов необходим приток капитала, и начал искать средства для научных исследований – для поддержания группы на плаву. Я не считал, что профессионально занимаюсь смертью, и потому никогда не брал денег с участников групп и даже не спрашивал, есть ли у них медицинская страховка. Но я посвящал группе достаточно много времени и сил, и у меня были моральные обязательства перед Стэнфордским университетом – я должен был как-то помогать ему компенсировать расходы на мою зарплату. И еще я чувствовал, что период, когда я учился быть ведущим группы раковых пациентов, подходит к концу – настала пора что-то сделать с нашим предприятием, исследовать его с научной точки зрения, оценить эффективность, опубликовать результаты, сделать так, чтобы о нас узнали, чтобы стимулировать возникновение подобных программ по всей стране. Короче, настала пора продвигать наше Мама и смысл жизни 17 предприятие и самому продвигаться. Благоприятная возможность представилась, когда Национальный онкологический институт начал собирать заявки на исследования социально-поведенческих особенностей больных раком груди. Я подал заявку и получил грант, который позволял мне оценить эффективность моего терапевтического подхода к больным раком груди в терминальной стадии. Это был простой, незамысловатый проект. Я был уверен, что мой подход позволяет улучшить качество жизни смертельно больных пациентов и что мне осталось только разработать систему оценки и взять на себя административную сторону процесса заполнения участниками анкет до того, как они войдут в группу, и – через регулярные интервалы – после того. Заметьте, что я стал чаще пользоваться местоимением первого лица единственного числа: «Я решил... я применил... мой терапевтический подход». Оглядываясь назад и просеивая пепел своих отношений с Полой, я начинаю подозревать, что эти местоимения предрекали распад нашей любви. Но тогда, проживая тот период, я не замечал ни малейших признаков ухудшения. Я помню только, что Пола наполняла меня светом, а я был ее опорой, тихой гаванью, какую она искала, пока нам не посчастливилось найти друг друга. В одном я уверен: проблемы начались вскоре после того, как я официально приступил к субсидированным исследованиям. В наших отношениях появились сначала тоненькие, толщиной с волос, трещинки, а потом – настоящие разломы. Возможно, первым явным признаком беды стали слова Полы: «Я чувствую, что этот исследовательский проект меня эксплуатирует». Я счел это заявление странным, потому что старался предоставить ей именно ту роль, которую она сама просила: она интервьюировала кандидатов в группу, все они были женщины с раком груди в его тяжелой форме – с метастазами, и помогала составлять анкеты для опросов. Более того, я позаботился, чтобы ей хорошо платили – гораздо больше, чем обычному ассистенту, и больше, чем она сама запросила. Через несколько недель у нас состоялся неприятный разговор. Пола сказала, что перетрудилась и что ей нужно больше времени для себя. Я посочувствовал ей и постарался что-то предложить, чтобы снизить бешеный темп ее жизни. Вскоре после этого я подал в Национальный онкологический институт письменный отчет о первой стадии исследования. Я поставил имя Полы первым в списке младших научных сотрудников, но вскоре до меня дошли слухи: она считает, что я недостаточно высоко оценил ее вклад. (Не обратив внимания на этот слух – мне казалось, что это нехарактерно для Полы, – я совершил ошибку.) Вскоре я ввел в одну из групп в качестве котерапевта доктора Кингсли – молодую женщину, психолога. У нее не было опыта работы с онкологическими больными, но она была невероятно умна, полна добрых намерений и предана работе. Вскоре Пола вызвала меня на разговор. «Эта женщина, – стала выговаривать мне она, – самый холодный и жесткий человек из всех, кого я знаю. Она и за тысячу лет не поможет ни одному пациенту». Я был поражен ее озлобленным, обвиняющим тоном и тем, насколько искаженно Пола восприняла нового котерапевта. «Пола, откуда такая резкость? – думал я. – Где твое сострадание, где христианский подход к ближнему?» В условиях гранта оговаривалось, что в течение первых шести месяцев после получения финансирования я должен провести двухдневный семинар, чтобы проконсультироваться с группой из шести специалистов-онкологов и специалистами по организации исследований и статистическому анализу. Я пригласил Полу и четверых других участников группы присутствовать в качестве пациентов-консультантов. Семинар был бессмысленной тратой времени и денег и проводился исключительно для галочки. Но такова уж судьба исследователя, получающего финансирование от государства: скоро привыкаешь совершать все нужные инвесторам телодвижения. Однако Пола не могла с этим свыкнуться. Посчитав, сколько денег уйдет на этот двухдневный семинар (а это было около пяти тысяч долларов), она гневно выговаривала мне: – Подумай, как могли бы помочь раковым больным эти пять тысяч! «Пола, – подумал я, – я тебя очень люблю, но у тебя иногда такая каша в голове». – Разве ты не видишь, – сказал я, – что приходится идти на компромисс? Мы не можем использовать эти деньги на прямую помощь пациентам. И – что гораздо важнее – мы можем Мама и смысл жизни 18 вообще потерять финансирование, если не проведем этот семинар по правилам, установленным федеральным ведомством. Если мы не сдадимся и завершим исследование, доказав ценность нашего подхода для умирающих раковых пациентов, то от этого выиграет много больше людей. Гораздо больше, чем если бы мы напрямую потратили эти пять тысяч долларов на больных. Пола, это никуда не годная экономия. Прошу тебя, умоляю, пойди на компромисс один-единственный раз! Я чувствовал, как она во мне разочарована. Медленно качая головой, она ответила: – Пойти на компромисс один-единственный раз? Ирв, компромиссы не ходят по одному. Они плодятся. На семинаре все консультанты честно проделали то, для чего их пригласили, и отработали заплаченные им немалые деньги. Один говорил о психологическом тестировании – с целью измерения депрессии, беспокойства, способов преодоления и локуса контроля. Другой – о системах здравоохранения, третий – о ресурсах общества. Пола с головой ушла в работу семинара. Видимо, она понимала, что у нее мало времени, и не собиралась ждать неизвестно чего. При невозмутимых консультантах она играла роль Сократа, приставленного – как «овод к коню» – к гражданам Афин: не давала сытой успокоенности взять верх, разрушая всякое мнимое знание. Например, когда они обсуждали симптомы, свидетельствующие о том, что больной использует неадаптивные стратегии преодоления болезни (такие, как нежелание вставать с постели и одеваться, как замыкание в себе и слезы), Пола возражала: для нее все эти виды поведения говорили скорее о стадии инкубации, постепенно переходящей в новую стадию, а иногда становящейся и периодом роста. Пола сопротивлялась любым попыткам экспертов убедить ее, что подобные вопросы можно решить с помощью статистики и анализа данных, используя достаточно большую выборку, статистические показатели и контрольную группу. Потом участников семинара попросили назвать важные составляющие жизни человека до заболевания, которые позволили бы заранее сказать о том, что раковый больной сможет психологически приспособиться к своей болезни. Доктор Ли, специалист по раку, записывал мелом на доске предложения участников: стабильность брака, профиль личности, семейная история. Пола подняла руку и произнесла: «А как насчет отваги? И духовной глубины?» Доктор Ли намеренно долго молча смотрел на Полу, подбрасывая и ловя мелок. Наконец повернулся и записал ее предложения на доске. Я считал, что слова Полы не были лишены смысла, но знал – и знал, что все собравшиеся это знают, – что д-р Ли, глядя на взлетающий в воздух мелок, думал: «Кто-нибудь, ради бога, уведите отсюда эту старуху!» Позднее, за обедом, он презрительно назвал Полу проповедницей. Несмотря на то что д-р Ли был выдающимся онкологом, чья поддержка и рекомендации были незаменимы для нашего проекта, я рискнул выступить против него и стойко защищал Полу, подчеркивая ее важнейшую роль в организации и работе группы. Мне не удалось поменять его впечатление о Поле, но я был горд, что вступился за нее. В тот же вечер Пола мне позвонила. Она была в ярости. – Все эти врачи на семинаре – роботы! Да, не люди, а роботы! Мы, пациенты, те, кто борется с раком двадцать четыре часа в сутки, – кто мы для них? Я тебе больше скажу: мы для них всего-навсего «неадаптивные стратегии преодоления». Я говорил с ней довольно долго, делая все, чтобы успокоить и смягчить ее. Я осторожно намекал, что не стоит распространять один стереотип на всех врачей, и призывал ее к терпению. Я еще раз поклялся в верности принципам, с которых мы начали работу группы. И закончил такими словами: – Пола, не забывай, все это ничего не значит, потому что у меня свой собственный план исследований. Я не собираюсь поддаваться механистическим идеям этих врачей. Доверься мне! Но Пола не собиралась ни смягчаться, ни – как оказалось – доверять мне. Злосчастный семинар не шел у нее из головы. Много недель она думала о нем и наконец открыто обвинила меня в том, что я продался бюрократам. Она направила свое личное «мнение меньшинства» – энергичное и ядовитое – в Национальный онкологический институт. Наконец, в один прекрасный день Пола явилась ко мне в кабинет и сказала, что решила покинуть группу. Мама и смысл жизни 19 – Почему? – Я просто устала. – Пола, ты что-то скрываешь. Скажи мне настоящую причину. – Говорю тебе, я устала. Как я ни допрашивал ее, она продолжала называть этот повод основным, хотя мы оба знали: настоящая причина в том, что я ее разочаровал. Я использовал всю свою хитрость (а за годы практики я усвоил кое-какие способы управлять людьми), но безрезультатно. Все мои попытки – добродушное подтрунивание, ссылки на нашу давнюю дружбу – наталкивались на ее ледяной взгляд. Я утерял взаимопонимание с ней, и мне пришлось вынести всю боль неискреннего разговора. – Я просто слишком много работаю. С меня хватит, – говорила она. – Пола, я месяцами тебе это твержу. Сократи свои визиты и звонки – мыслимо ли это – у тебя на попечении десятки пациентов! Просто приходи на группу. Ты нужна группе. И мне. Уверен, полтора часа в неделю для тебя не слишком тяжело. – Нет, я не могу это делать постепенно, по частям. Мне нужен перерыв! Кроме того, группа за мной не поспевает. Она слишком поверхностна. Мне нужно идти вглубь – работать с символами, снами, архетипами. – Пола, я согласен. – Я говорил очень серьезно. – Я тоже считаю, что это нужно, и мы в группе как раз подходим к этому порогу. – Нет, я слишком устала, из меня выпили все соки. С каждым новым пациентом я снова переживаю свой личный кризис, свою Голгофу. Нет, я решила. На следующей неделе я приду в последний раз. Так она и сделала. В группу она больше не вернулась. Я просил ее звонить мне в любое время, если ей нужно будет поговорить. Она ответила, что я и сам могу ей звонить. Она не старалась меня задеть, но ее ответ сильно ранил меня, заставив по-другому взглянуть на ситуацию. Пола мне никогда больше не звонила. Я звонил ей несколько раз. Два раза по моему приглашению мы ходили обедать. Первый раз оказался таким ужасным, что прошло много месяцев, прежде чем я рискнул пригласить ее еще раз. Та наша встреча началась со зловещего предзнаменования. В выбранном нами ресторане все столики были заняты, и мы, перейдя дорогу, попали в другой, «Троттер», огромное, похожее на пещеру помещение, лишенное даже намека на шарм. Раньше в этом здании торговали автомобилями «Олдсмобиль», потом – экологически чистыми продуктами, потом там устроили танцевальный зал. Теперь в здании был ресторан, а в ресторане подавали «танцевальные» сэндвичи – под названием «Вальс», «Твист» и «Чарльстон». То, что дело было плохо, я почувствовал, когда услышал свой голос, заказывающий сэндвич «Хула», и убедился в этом окончательно, когда Пола открыла сумку, достала камень размером с небольшой грейпфрут и положила на стол между нами. – Это мой камень гнева, – сказала она. С этого момента в моей памяти зияют провалы, что для меня, вообще говоря, не характерно. К счастью, я кое-что записал сразу после обеда – беседа с Полой была для меня слишком важна, чтобы доверить ее памяти. – Камень гнева? – повторил я безучастно. Покрытый лишайником булыжник, лежащий на столе между нами, просто приковывал мой взгляд. – Ирв, меня со всех сторон рвали на куски, как буфетную стойку, и гнев просто пожирал меня. Теперь я научилась его откладывать. В этот камень. Я обязательно должна была принести его сегодня. Я хотела, чтобы он присутствовал при нашей встрече. – Пола, за что ты на меня сердишься? – Я больше не сержусь. У меня слишком мало времени, чтобы сердиться. Но ты причинил мне боль. Ты бросил меня, когда мне больше всего нужна была помощь. – Пола, я никогда не бросал тебя, – сказал я. Но она, словно не слыша, продолжала: – После семинара я не могла прийти в себя. Я глядела на доктора Ли, на то, как он подбрасывал этот мелок, игнорируя меня, игнорируя человеческие заботы пациентов, и чувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Пациенты – люди. Мы боремся. Иногда мы невероятно отважно сражаемся против рака. Мы часто говорим о выигранной или проигранной Мама и смысл жизни 20 битве – а это и есть битва. Иногда мы предаемся отчаянию, иногда нас охватывает чисто физическое изнеможение, а иногда мы возвышаемся над раком. Мы – не «стратегии преодоления». Мы – нечто большее, гораздо большее. – Но, Пола, это же д-р Ли говорил, а не я. У меня совсем другая позиция. Когда я потом говорил с ним, я защищал тебя. Я тебе об этом рассказывал. После всей нашей совместной работы – как ты могла подумать, что я вижу в тебе только стратегию преодоления? Я ненавижу эти термины и эту точку зрения так же, как и ты! – Ты знаешь, что я не собираюсь возвращаться в группу. – Пола, меня не это волнует. – Это была правда. Меня уже не так волновало, вернется ли Пола в группу. Хотя она и была там мощной вдохновляющей силой, я начал понимать, что она была чересчур сильной и слишком вдохновляла. После ее ухода несколько других пациентов начали расти и научились вдохновлять себя сами. – Для меня важнее всего, чтобы ты мне доверяла, чтобы я не был тебе безразличен. – После того семинара, Ирв, я плакала целые сутки. Я звонила тебе. А ты мне в тот день не позвонил. Позже, позвонив, ты даже не попытался меня утешить. Я пошла в церковь, молиться, и три часа говорила с отцом Элсоном. Вот он меня выслушал. Он всегда меня слушает. Я думаю, что он меня спас. Черт бы побрал этого священника! Я постарался вспомнить тот день, три месяца назад. Я смутно помнил, что говорил с Полой по телефону, но совсем не помнил, чтобы она просила о помощи. Тогда я был уверен, что она позвонила, чтобы опять пилить меня по поводу семинара, который мы уже обсуждали неоднократно. Слишком много раз обсуждали. Почему она никак не может понять? Сколько раз я должен повторять, что я не доктор Ли, что это не я подбрасывал мелок, что я, наоборот, защищал ее перед доктором, что группа будет работать по-прежнему, и я не собираюсь ничего в ней менять, разве только участникам придется раз в три месяца заполнять анкету. Да, Пола мне звонила в тот день, но ни тогда, ни потом она не просила о помощи. – Пола, если бы ты сказала, что тебе нужна помощь, неужели ты думаешь, я бы отказал? – Я плакала целые сутки. – Я же не телепат. Ты сказала, что хочешь поговорить об исследовании и о своем особом мнении. – Я плакала целые сутки. Так мы и говорили, не слыша друг друга. Я изо всех сил пытался к ней пробиться. Я говорил, что она нужна мне – мне, а не группе. И действительно, я в ней нуждался. У меня начались всякие неурядицы, и мне нужно было вдохновение и успокаивающее присутствие Полы. Как-то вечером, несколькими месяцами раньше, я позвонил Поле якобы для того, чтобы обсудить планы работы группы, а на самом деле – потому что моя жена была в отъезде, и я чувствовал себя одиноким и несчастным. После телефонного разговора, который продолжался почти час, мне стало гораздо лучше, хоть я и испытывал некоторую вину за то, что получил терапию задарма, втихую. И тотчас же я вспомнил ту долгую целительную телефонную беседу с Полой. Почему я не был честнее? Почему не сказал откровенно: «Послушай, Пола, можно мне с тобой поговорить? Помоги мне – мне страшно, одиноко, я чувствую, что мною управляют. Я не могу спать». Нет, это было исключено! Я предпочитал получать поддержку украдкой. А значит, требовать, чтобы Пола открыто просила о помощи, – с моей стороны чистой воды лицемерие. Она замаскировала свою просьбу, позвонила под предлогом обсуждения семинара? Ну и что? Я должен был постараться ее утешить, а не ждать, чтобы она умоляла меня на коленях. Думая о камне гнева Полы, я осознал, как мало шансов спасти наши отношения. Конечно, хитрость и изворотливость сейчас были неуместны, и я раскрылся перед Полой как никогда раньше. – Ты мне нужна, – говорил я, напоминая ей, как я и раньше часто делал, что у врачей тоже есть свои нужды. – Может быть, я проявил недостаточно чуткости, когда ты была расстроена. Но я не телепат, а ты годами отклоняла все мои предложения помощи! На самом же деле мне хотелось сказать вот что: «Пола, дай мне еще один шанс. Даже если и в этот раз я не уловил твоей обиды, не бросай меня навсегда!» В тот день я почти умолял ее. Но Пола осталась непоколебимой, и мы расстались, даже не коснувшись друг друга. Мама и смысл жизни 21 Я на много месяцев выбросил Полу из головы, но однажды д-р Кингсли, та молодая психолог, к которой Пола испытывала беспричинную антипатию, рассказала мне о своей неприятной стычке с Полой. Пола пришла в группу, которую вела д-р Кингсли (теперь в нашем проекте было уже несколько групп), и – будто бы она Миссис Рак – единолично заняла все время сессии своей речью. Я тут же позвонил Поле и опять пригласил ее на обед. Пола очень обрадовалась моему приглашению, что меня слегка удивило, но как только мы встретились – на этот раз в клубе сотрудников Стэнфорда, где не подают сэндвичей «Хула», – я понял, что у нее на уме. Она не могла говорить ни о чем, кроме как о д-ре Кингсли. По словам Полы, котерапевт д-ра Кингсли пригласил Полу для выступления перед группой, но стоило Поле заговорить, д-р Кингсли сказала, что она занимает слишком много времени. – Ты должен сделать ей выговор, – настаивала Пола. – Ты же знаешь, что преподаватели могут и должны отвечать за непрофессиональное поведение своих студентов. Но д-р Кингсли была моей коллегой, а не студенткой, и я знал ее много лет. Я давно дружил с ее мужем, и, кроме того, мы с ней вместе руководили многими группами. Я знал, что она прекрасный терапевт, и был уверен, что, рассказывая о ее поведении на группе, Пола сильно искажает картину. Медленно, очень-очень медленно до меня начало доходить, что Пола ревнует: ревнует к вниманию и симпатии, которые я уделяю д-ру Кингсли, ревнует к моему союзу с ней и всеми остальными сотрудниками – участниками исследования. Естественно, Пола была против того семинара, естественно, ей было не по душе мое сотрудничество с любыми другими исследователями. Она сопротивлялась бы любым изменениям. Ее единственным желанием было – вернуться в то время, когда мы вдвоем были наедине с немногочисленной «паствой». Что я мог сделать? Ее настойчивое требование сделать выбор между нею и д-ром Кингсли ставило меня перед невозможной дилеммой. «Я хорошо отношусь и к тебе, и к д-ру Кингсли. Что мне сделать, чтобы сохранить мою цельность, профессиональную общность и дружбу с д-ром Кингсли таким образом, чтобы ты не чувствовала при этом, что я тебя бросил?» Я пытался пробиться к Поле всеми возможными способами, но дистанция между нами все увеличивалась. Я не мог найти нужных слов. Любая тема была потенциально опасна. У меня больше не было права задавать Поле личные вопросы, и она не проявляла никакого интереса к моей жизни. Все время, пока мы обедали, Пола рассказывала мне истории о том, как ужасно обращаются с ней врачи: – Они игнорируют мои вопросы. От их лекарств больше вреда, чем пользы. Упомянув о психологе, который беседовал кое с кем из раковых пациентов, членов бывшей нашей группы, она предупредила: – Он ворует наши разработки, чтобы использовать их в своей книге. Прими меры, Ирв. Пола была явно не в себе. И я был встревожен и опечален ее паранойей. Думаю, мое расстройство было заметно, потому что, когда я встал, чтобы уйти, Пола попросила меня ненадолго задержаться. – Ирв, у меня есть для тебя история. Присядь, я расскажу тебе про койота и саранчу. Она знала, что я люблю истории. Особенно ее истории. Я стал слушать. Жил-был койот, у которого была невыносимо тяжелая жизнь. Весь день он видел только своих голодных щенков, охотников да капканы. Как-то раз он убежал подальше от всех, чтобы побыть в одиночестве. Вдруг он услышал нежную мелодию, мелодию о покое и благоденствии. Он пошел на звук и вышел на лесную поляну. Там на трухлявом бревне сидела большая саранча, грелась на солнышке и пела песню. – Научи меня своей песне, – попросил койот саранчу. Она не ответила. Он еще раз потребовал научить его песне. Но саранча все не реагировала. Наконец, когда койот пригрозил, что съест саранчу, она сдалась, стала повторять свою прекрасную песню и повторяла до тех пор, пока койот ее не выучил. Напевая новую песню, койот направился обратно к семье. Вдруг рядом вспорхнула стая диких гусей и отвлекла его. Придя в себя, койот открыл пасть, чтобы снова запеть, но обнаружил, что забыл песню. Он повернул обратно к солнечной поляне. Но к этому моменту саранча перелиняла и взлетела на дерево. На бревне осталась лишь ее пустая шкурка. Думая, что саранча все еще внутри, койот, не теряя времени, решил сделать так, чтобы песня постоянно была внутри него – и мигом проглотил шкурку. На пути к дому он опять понял, что не знает песни. Он осознал, что нельзя выучить песню, проглотив саранчу. И решил ее выпустить и заставить научить его петь. Мама и смысл жизни 22 Он взял нож и вспорол себе живот. Разрез был такой глубокий, что койот умер. – Вот так, Ирв, – закончила Пола. Она одарила меня своей прекрасной, блаженной улыбкой, взяла за руку и шепнула прямо мне в ухо: «Научись петь свою собственную песню». Я был очень тронут: улыбка, тайна, стремление к мудрости – это была та Пола, которую я знал, совсем как в старые добрые времена. Притча мне понравилась. Я принял ее буквальный смысл – нужно научиться петь свою собственную песню – и вытеснил мрачный, тревожащий подтекст истории моих отношений с Полой. И по сей день я не в силах изучать эту историю слишком пристально. Итак, каждый из нас стал петь свою отдельную песню. Моя карьера шла в гору: я проводил исследования, писал многочисленные книги, получал вожделенные академические награды и новые должности. Прошло десять лет. Проект по изучению рака груди, который помогла начать Пола, уже завершился, и результаты его были опубликованы. Мы провели групповую терапию для пятидесяти женщин с раком груди на последних стадиях (с метастазами) и обнаружили, что наш подход значительно улучшил качество жизни больных на протяжении отпущенного им времени по сравнению с тридцатью шестью женщинами из контрольной группы. (Много лет спустя мой коллега д-р Дэвид Шпигель, которого я за много лет до того пригласил на роль главного исследователя проекта, опубликовал в «Ланцете» статью по результатам проекта, из которой следовало, что группа существенно удлинила жизнь ее участниц.) Но эта группа уже принадлежит истории, все тридцать женщин из первоначальной группы «Мост» и восемьдесят шесть участниц исследования рака груди давно умерли. Все, кроме одной. Однажды в больничном коридоре рыжеволосая молодая женщина остановила меня и, покраснев, сказала: – У меня для вас поклон от Полы Уэст. Пола! Не может быть! Пола еще жива?! А я даже не знал. Страшно подумать, что я превратился в человека, не подозревающего о присутствии на земле такой великой личности, как Пола. – От Полы? Как она поживает? – запинаясь, ответил я. – Откуда вы ее знаете? – Два года назад, когда у меня диагностировали волчанку, Пола пришла меня навестить и ввела в свою группу взаимопомощи больных волчанкой. С тех пор она заботится и обо мне, и обо всем сообществе больных волчанкой. – Очень сочувствую вам. Но Пола? Волчанка? Я не знал. Какое лицемерие, подумал я. Как я мог знать? Я хоть раз позвонил ей? – Она говорит, что у нее началась волчанка из-за лекарств, которые ей прописывали от рака. – Она очень плоха? – Ну, про Полу никогда не скажешь. Видимо, не слишком, раз начала вести группу взаимопомощи для больных волчанкой, приглашает каждого новичка к себе на обед, навещает тех, кто плохо себя чувствует и не может выйти из дому, устраивает лекции специалистов-медиков, чтобы держать нас в курсе новых исследований в области волчанки. И не слишком больна, чтобы организовать расследование комитета по медицинской этике против врачей, которые лечили ее от рака. Организует, просвещает, помогает, агитирует, основывает группы, обрушивается на докторов – да, это точно Пола. Я поблагодарил молодую женщину и в тот же день набрал телефонный номер Полы, который все еще помнил наизусть, хотя последний раз звонил по нему десять лет назад. В ожидании ответа я размышлял о недавних геронтологических исследованиях, которые показали связь между жизненным стилем личности и долголетием: сварливые, параноидальные, настороженные и настойчивые пациенты обычно живут дольше. Лучше вздорная, раздражительная, но живая Пола, думал я, чем благодушная и мертвая! Она, похоже, обрадовалась моему звонку и пригласила меня на обед к себе домой: она сказала, что от волчанки ее кожа стала слишком чувствительна к солнцу и она не может днем выйти в ресторан. Я с радостью согласился. В назначенный день я пришел к Поле, она была в саду Мама и смысл жизни 23 перед домом. Завернутая с головы до ног в полотно, в огромной широкополой шляпе, она пропалывала клумбу высокой, благоухающей испанской лаванды. – Эта болезнь, скорее всего, убьет меня, но я не дам ей встать между мной и моим садом, – сказала Пола. Взяв меня за руку, она проводила меня в дом, усадила на темно-фиолетовый бархатный диван, села рядом и начала разговор на серьезной ноте: – Ирв, я тебя сто лет не видела, но я часто о тебе думаю. Часто молюсь за тебя. – Пола, мне приятно, что ты обо мне думаешь. Но что касается молитв, ты же знаешь, у меня с этим проблемы. – Да, да, я поняла, что это та область, на которую тебе нужно взглянуть шире. Это значит, – добавила она, улыбаясь, – что мне еще предстоит над тобой потрудиться. Помнишь, как мы с тобой последний раз говорили о Боге? Это было много лет назад, но я помню, что ты сказал: «Святость для меня – это как будто пучит ночью!» – Вне контекста это звучит очень грубо. Но тогда я не хотел тебя обидеть. Я просто имел в виду, что чувство – это всего лишь чувство. Субъективное состояние не способно породить объективную истину. Желание, страх, благоговение, трепет перед тайной еще не означают... – Да, да, – с улыбкой прервала меня Пола. – Твой привычный материалистический катехизис. Я его слышала уже много раз, и меня всегда поражало, сколько страсти, преданности, веры ты в него вкладываешь. Помню, в нашем последнем разговоре ты сказал, что среди твоих близких друзей и людей, чей ум внушал бы тебе уважение, никогда не было истово верующих. Я кивнул. – А мне надо было еще тогда тебе ответить: ты забыл про одного верующего друга – про меня! Как бы мне хотелось привести тебя к священному! Как удивительно, что ты позвонил именно сейчас, потому что я много думала о тебе в последние две недели. Я только что провела две недели в духовной группе при монастыре в Сьеррах, и мне бы так хотелось взять тебя с собой. Садись поудобней, и я тебе расскажу... Как-то утром нас попросили медитировать, думая о комнибудь умершем, о человеке, которого мы любили и с которым по-настоящем, так и не расстались. Я решила думать о своем брате, которого очень любила, – он умер в семнадцать лет, когда я была еще ребенком. Нас попросили написать прощальное письмо и в нем сказать этому человеку все важное, то, что мы никогда ему не говорили. Потом мы должны были найти в лесу предмет, символизирующий этого человека. И наконец, похоронить этот предмет вместе с письмом. Я выбрала небольшой гранитный камушек и похоронила его в тени можжевельника. Мой брат чемто напоминал скалу – крепкий, устойчивый. Будь он жив, он бы меня поддержал. Он бы никогда не отмахнулся от меня. Говоря это, Пола заглянула мне в глаза. Я начал было протестовать, но она положила мне палец на губы и продолжала: – В ту ночь, в полночь, монастырские колокола начали звонить по людям, которых мы потеряли. В группе нас было двадцать четыре человека, и колокола прозвонили двадцать четыре раза. Я сидела у себя в комнате и, услышав первый удар колокола, испытала – действительно, понастоящему испытала – смерть своего брата, и меня накрыла волна невыразимой печали, когда я подумала обо всем, что мы делали с ним вместе, и о том, что уже никогда вместе не сделаем. Потом случилась странная вещь: колокола продолжали звонить, и с каждым ударом я вспоминала кого-нибудь из умерших участников нашей группы «Мост». Когда звон прекратился, я вспомнила двадцать одного человека. И все время, пока звонили колокола, я плакала. Я плакала так сильно, что одна монахиня пришла ко мне в комнату, обняла меня и держала в объятиях. – Ирв, ты их помнишь? Помнишь Линду, Банни... – И Еву, и Лили. – На мои глаза навернулись слезы, когда я вместе с Полой начал вспоминать лица, истории, боль участников нашей первой группы. – И Мэдилайн, и Габби. – И Джуди, и Джоан. – И Ивлин, и Робина. – И Сола, и Роба. Обнявшись и слегка раскачиваясь, мы с Полой продолжали этот дуэт, эту панихиду, пока не погребли имена двадцати одного человека из нашей маленькой семьи. – Это святой момент, Ирв, – сказала Пола, разжимая объятия и заглядывая мне в глаза. – Мама и смысл жизни 24 Неужели ты не чувствуешь, что их души – рядом? – Я их так ясно помню, и я чувствую твое присутствие, Пола. Для меня это достаточно свято. – Я тебя хорошо знаю, Ирв. Помяни мои слова: придет день, и ты поймешь, до какой степени ты на самом деле верующий. Но с моей стороны нечестно пытаться тебя обращать в веру, когда ты голодный. Пойду, организую обед. – Пола, подожди секунду. Несколько минут назад ты сказала, что твой брат никогда не отмахнулся бы от тебя. Это был намек на меня? – Когда-то, – сказала Пола, глаза ее испускали свет, – в день, когда ты был мне нужен больше всего, ты меня покинул. Но то было тогда. И прошло. Теперь ты вернулся. Я был уверен, что знаю, какой день она имеет в виду. Тот день, когда д-р Ли жонглировал мелом. Сколько времени занял полет мела? Секунду? Две? Но эти краткие моменты вмерзли в память Полы. Их можно было убрать разве что ледорубом. Я понимал, что не стоит и пытаться. Вместо этого я вернулся к ее брату. – Ты говоришь, что твой брат был как скала, и это напоминает мне камень, тот камень гнева, который ты однажды положила на стол между нами. Ты знаешь, ведь ты раньше никогда не рассказывала мне, что у тебя был брат. Но его смерть помогает мне понять кое-что и о нас с тобой. Может быть, нас всегда на самом деле было трое – я, ты и твой брат? Я хочу понять, не была ли его смерть причиной того, что ты решила сама себе быть скалой, что ты так и не позволила мне стать твоей скалой. Может быть, его смерть убедила тебя, что все остальные мужчины хрупки и ненадежны? Я остановился и подождал. Как она отреагирует? За все годы знакомства с Полой я впервые предложил ей интерпретацию, относящуюся к ней самой. Но она ничего не сказала. Я продолжал: – Я полагаю, что я прав, и думаю – хорошо, что ты поехала в тот монастырь, хорошо, что постаралась попрощаться с братом. Может быть, и у нас с тобой теперь все будет по-другому. Опять молчание. Потом Пола с загадочной улыбкой пробормотала: – Теперь пора и тебя покормить, – и ушла в кухню. Были ли эти слова – «Теперь пора и тебя покормить» – признанием, что я только что накормил ее? Черт, как трудно дать что-либо этой женщине! Через минуту, когда мы сели за стол, Пола посмотрела на меня в упор и спросила: – Ирв, у меня беда. Будешь моей скалой? – Конечно, – ответил я радостно, воспринимая ее просьбу о помощи как ответ на мой вопрос. – Ты можешь опереться на меня. Какая беда? Но как только Пола начала объяснять, что случилось, радость от того, что мне позволили помочь, быстро сменилась растерянностью. – Я так откровенно высказывалась о врачах, что, кажется, попала у них в черный список. Все врачи Ларчвудской клиники сговорились против меня. Но я не могу перейти в другую клинику – моя медицинская страховка не позволяет. А в моем состоянии меня не примет ни одна другая страховая компания. Я уверена, что врачи, когда лечили меня, нарушали принципы медицинской этики, что из-за их лечения у меня началась волчанка. Я уверена, что они были некомпетентны. Они меня боятся! В моей медицинской карте эти врачи писали красными чернилами, так что, если суд затребует мою карту, они смогут легко найти и изъять эти записи. Они использовали меня как подопытную морскую свинку. Они преднамеренно не лечили меня стероидами, пока не стало уже слишком поздно. А потом ошиблись с дозировкой... Я совершенно уверена, что они хотели от меня избавиться, – продолжала Пола. – Всю неделю я сочиняла письмо медицинской комиссии и рассказала про них всю правду. Но я пока не опустила это письмо, потому что меня беспокоит, что случится с этими врачами и их семьями, если у них отберут лицензии. С другой стороны, разве можно позволить, чтобы они продолжали калечить пациентов? Я не могу пойти на компромисс. Помнишь, я как-то сказала тебе, что компромиссы не ходят поодиночке: они плодятся, и сам не заметишь, как поступишься наиболее дорогими своими убеждениями. А если я промолчу здесь, сейчас, это тоже будет компромисс! Я молюсь, чтобы Бог меня направил. Моя растерянность перешла в отчаяние. Может быть, в обвинениях Полы и было крохотное зерно истины. Может быть, кому-то из ее врачей, как д-ру Ли много лет назад, поведение Полы Мама и смысл жизни 25 было так неприятно, что он решил от нее отделаться. Но записи красными чернилами, использование в качестве подопытного животного, отказ в назначении необходимого лекарства? Эти обвинения были абсурдны, и я был уверен, что они – проявления паранойи. Я знал кое-кого из этих врачей и был убежден в их честности. Пола опять заставила меня выбирать между ее непоколебимыми убеждениями – и моими. Больше всего на свете мне не хотелось дать ей повод подумать, что я ее опять бросаю. Но как я мог остаться с ней? Я чувствовал, что я в ловушке. Наконец, после стольких лет, Пола открыто просила меня о помощи. Я видел только один возможный ответ: рассматривать ее как невменяемую и обходиться с ней соответственно – то есть «обходиться» в извращенном, торгашеском смысле этого слова – втюхивать. Именно этого я всегда старался избегать с Полой, да и с любым другим человеком, потому что «обходиться» с человеком подобным образом – значит, обращаться с ним как с объектом – а это антитеза тому, чтобы действительно быть с человеком. Эту дилемму я мог понять, она была мне созвучна. Я слушал, осторожно задавал вопросы и держал свое мнение при себе. Наконец я предложил ей написать в медицинскую комиссию более мягкое письмо. – Честное, но более мягкое, – сказал я. – Тогда врачи не лишатся лицензий, а отделаются выговорами. Все это, конечно, было обманом. Ни одна медицинская комиссия на свете не стала бы рассматривать такое письмо всерьез. Никто не поверил бы, что все врачи клиники вступили в заговор против Полы. Выговоры и отзывы лицензий были невозможны. Пола глубоко задумалась, взвешивая мой совет. Думаю, она почувствовала мою заботу и, надеюсь, не поняла, что я ее обманываю. Наконец она кивнула. – Ты дал мне добрый, надежный совет, Ирв. Именно то, что нужно. Я почувствовал укол злой иронии: только теперь, когда я обманул Полу, она сочла меня достойным доверия, а мою помощь – реальной. Несмотря на повышенную чувствительность к солнцу, Пола настояла, что проводит меня до машины. Она надела свою широкополую шляпу, завернулась в полотно, накинула вуаль и, когда я включил зажигание, потянулась в открытое окно машины, чтобы обнять меня в последний раз. Отъезжая от ее дома, я смотрел в зеркало заднего обзора. Силуэт Полы прорисовывался на фоне солнца, шляпа и полотняные покрывала источали свет. Пола светилась внутренним светом. Подул ветерок. Одежды Полы затрепетали. Она казалась листком – трепещущим, свернутым вокруг черенка, готовым к полету. Все десять лет, предшествующих этому визиту, я посвятил написанию книг. Я выдавал их одну за другой. Такая продуктивность была плодом простой стратегии: писательство было для меня главным делом, и я следил, чтобы ничто другое ему не мешало. Я охранял свое время яростно, как медведица медвежат. Я вычеркнул из расписания все, кроме самого необходимого. Даже Пола попала в категорию необязательных дел, и у меня не нашлось времени позвонить ей еще раз. Через несколько месяцев умерла моя мать, и когда я летел на похороны, в самолете я вдруг вспомнил о Поле. Я размышлял о ее прощальном письме покойному брату – обо всем том, что она так и не сказала ему. И я думал обо всем том, что так и не сказал матери. А я почти ничего ей не сказал! Мы с матерью любили друг друга, но никогда не разговаривали прямо, от сердца к сердцу, как два человека, достигающие друг друга чистыми руками и чистыми смыслами. Мы всегда именно «обходились» друг с другом, говорили, не слыша друг друга, и каждый из нас боялся, обманывал другого, манипулируя им. Я уверен: именно поэтому я всегда старался говорить с Полой честно и откровенно. И поэтому мне было так неприятно, когда пришлось с ней «обходиться». В ночь после похорон я увидел чрезвычайно мощный сон. Моя мать и множество ее друзей и родственников – все покойные – очень тихо сидят на ступеньках лестницы. Я слышу голос матери, она зовет меня по имени – выкрикивает мое имя изо всех сил. Особенно хорошо я ощущаю присутствие тети Минни – она совершенно неподвижно сидит на верхней ступеньке. Потом она начинает двигаться – сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, – и вот она уже вибрирует со страшной скоростью, как шмель. В этот момент все, кто Мама и смысл жизни 26 сидит на ступеньках, все взрослые из моего детства, все покойники, начинают дрожать. Дядя Эйб тянет руку, чтобы ущипнуть меня за щеку, приговаривая, как обычно: «Сынок, дорогой». Потом и другие начинают тянуться к моим щекам. Сначала щиплют нежно, потом свирепеют: щипки становятся болезненными. Я просыпаюсь в ужасе, с пылающими щеками. Три часа ночи. Этот сон изображает поединок со смертью. Сначала меня зовет покойная мать, и я вижу всех своих покойников, сидящих в зловещей неподвижности на лестнице. Потом я пытаюсь отрицать неподвижность смерти, стараюсь вдохнуть движение жизни в мертвых. Меня особенно привлекает тетя Минни, которая умерла годом раньше, после обширного инсульта, который полностью парализовал ее на несколько месяцев, – она не могла двинуть ни одним мускулом, только глазами. В моем сне Минни начинает двигаться, но быстро теряет контроль и впадает в исступление. Дальше я пытаюсь избавиться от страха перед мертвыми, воображая себе, как они нежно щиплют меня за щеки. Но мой страх снова прорывается наружу, щипки становятся яростными, злобными, и страх смерти захлестывает меня. От образа тети, трепещущей, как шмель, я потом еще долго не мог избавиться. Я подумал: может быть, это послание означает, что мой собственный лихорадочный ритм жизни – всего лишь неуклюжая попытка заглушить страх смерти? Не говорит ли мне этот сон, что мне надо притормозить и заняться тем, что для меня по-настоящему ценно? Мысль о ценностях заставила меня вспомнить о Поле. Почему же я ей не позвонил? Она была единственным человеком, кто встретился со смертью глаза в глаза и заставил ее опустить взгляд. Я вспомнил, как она руководила медитацией в конце наших встреч: устремив взгляд на пламя свечи, звучным голосом ведя нас вглубь, к спокойствию. Сказал ли я ей хоть раз, что значили для меня эти моменты? Столько вещей, о которых я ей так и не сказал. Скажу теперь. В самолете, уже летя домой с похорон матери, я дал себе обещание возобновить дружбу с Полой. Но так и не выполнил обещания. У меня было слишком много дел: жена, дети, пациенты, студенты, письменные труды. Я делал норму, по странице в день, и игнорировал все остальное – все прочие части моей жизни. Они должны были ждать, пока я закончу книгу. И Поле тоже приходилось ждать. Но Пола, конечно, ждать не стала. Через несколько месяцев я получил записку от ее сына – мальчика, которому я когда-то завидовал, что у него такая мать, как Пола, того самого сына, которому она много лет назад написала такое замечательное письмо о своей приближающейся смерти. В записке были простые слова: «Моя мать умерла. Я уверен, она хотела бы, чтобы вы об этом знали». Южный комфорт4 Я тратил свое время. Пять лет. В течение пяти лет я каждый день вел группу в психиатрическом отделении больницы. Ежедневно в десять утра я покидал свой уютный, уставленный книжными шкафами кабинет на медицинском факультете Стэнфордского университета, садился на велосипед, ехал в больницу, входил в отделение, морщась от первого вдоха липкого лизольного воздуха, нацеживал настоящий кофе из термоса для персонала (пациентам – никакого кофеина, никакого табака, никакого алкоголя, никакого секса; полагаю, для того, чтобы они не устраивались здесь слишком комфортно и слишком надолго). Затем я расставлял стулья в круг в групповой комнате, вытаскивал из кармана дирижерскую палочку и восемьдесят минут дирижировал встречей психотерапевтической группы. Хотя в отделении было двадцать коек, на группу ходило гораздо меньше народу – иногда всего человека четыре или пять. Я был разборчив с клиентурой и принимал только пациентов с высоким уровнем функционирования5. Кто получал допуск в группу? Тот, кто был ориентирован 4 5 Мы оставили дословный перевод названия рассказа «Southern Comfort». Это устойчивое словосочетание на новоорлеанском сленге означает что-то вроде «любвеобильная темнокожая», а также так называется крепкий и сладкий коктейль, популярный в южных штатах. – Прим. ред. Так называемые high-, lower – functioning patient – это реалии американской медицинской практики разделения больных по «уровню функционирования» в связи со степенью соцадаптации, самообслуживания и дееспособности. Не беря на себя задачу соотнесения этих терминов с принятой в России классификацией болезней, оставим здесь «кальку» с английского. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 27 трижды, во времени, пространстве и собственной личности. Члены моей группы должны были знать хотя бы, кто они, когда и где. Я не возражал против больных с психозами (главное, чтобы они помалкивали о своем расстройстве и не мешали другим работать), но требовал, чтобы каждый член группы был в состоянии в течение восьмидесяти минут говорить, следить за происходящим и признавать, что нуждается в помощи. В любом престижном клубе есть свои условия приема. Возможно, мои требования к членам группы делали мою терапевтическую группу – «Группу с планом работы», как я ее называл, а почему, объясню позже – более привлекательной. А что с теми, кто не получил допуск – пациенты в возбужденном или в регрессированном состоянии? Для них предназначалась «Группа общения», другая группа в отделении, чьи встречи были короче, с более четкой структурой и предъявляли меньше требований к участникам. И, конечно, всегда были также и отщепенцы, чей интеллект и внимание были слишком повреждены, кто был слишком агрессивен или маниакален для того, чтобы быть принятым в любую из групп – те, кто не мог приспособиться ни к какой группе. Часто некоторым перевозбужденным, социально изолированным пациентам позволялось присутствовать на группе общения после того, как инъекции и таблетки успокаивали их на день-другой. «Позволялось присутствовать» – эти слова заставили бы улыбнуться даже самого замкнутого в себе пациента. Нет! Буду честен. В истории больницы никогда не было такого, чтобы возбужденные пациенты колотили в дверь комнаты, где проходит встреча группы, требуя, чтобы их тоже туда пустили. Гораздо чаще повторялась совсем другая сцена: перед группой санитары и медсестры в белых халатах носятся по отделению, выковыривают участников группы из потайных мест в стенных шкафах, туалетах, душевых и гонят их в групповую комнату. У «группы с планом работы» сложилась особая репутация: в ней было трудно, приходилось напрягаться, а главное – в ней все было на виду: негде спрятаться. Никто из обитателей отделения не ломился в чужую группу. Пациент «более высокого уровня функционирования» скорее умер бы, чем по своей воле оказался в «группе общения». Если же какой-нибудь «менее функциональный пациент» случайно забредал на встречу «группы с планом работы», то, стоило ему понять, где он, его глаза стекленели от страха, и он сам быстренько сматывался. Возможность перехода «с повышением» – из группы пациентов с низким уровнем в группу с высоким уровнем функционирования – технически существовала, но, как правило, пациенты не оставались в больнице так надолго. Таким образом, пациенты таким завуалированным образом были разделены по сортам, и каждый знал свое место. Но вслух об этом никто никогда не говорил. До того, как я начал проводить группы в больнице, я думал, что быть ведущим группы амбулаторных больных – тяжелый труд. Совсем непросто вести группу из семи-восьми нуждающихся в поддержке пациентов, у которых большие проблемы в отношениях с другими людьми. За время встречи я очень уставал, часто – просто до истощения, и восхищался теми терапевтами, у которых хватало выносливости после одной группы сразу вести другую. Но стоило мне приступить к работе с группой стационарных больных, и я начал с тоской вспоминать старые добрые дни, когда работал с амбулаторными. Представьте себе группу амбулаторных пациентов – сплоченных, сотрудничающих друг с другом людей с высокой мотивацией: тихая, уютная комната, медсестры не стучат в дверь, чтобы уволочь пациента на какую-нибудь процедуру или к врачу, среди пациентов – ни одного самоубийцы с перебинтованными запястьями, никто не отказывается говорить, никто не накачан успокоительными до полной отключки и не начинает храпеть посреди встречи, а самое главное – на каждую встречу приходят одни и те же пациенты, один и тот же котерапевт, и так – неделю за неделей, месяц за месяцем. Какая роскошь! Просто нирвана для терапевта. В противоположность этой картине моя группа стационарных больных была полным кошмаром. Постоянная реорганизация и частое обновление состава группы, повторяющиеся психотические вспышки, манипулирующие друг другом участники, выжженные изнутри двадцатью годами депрессии или шизофрении больные люди, которые уже никогда не поправятся, и надо всем этим – давящая атмосфера безысходности. Но настоящим убийцей, зубодробителем, была бюрократия, царившая в системе здравоохранения и медицинском страховании. Каждый день оперотряды агентов НМО 6 совершали 6 НМО (health maintenance organization) – система обеспечения регулируемого медицинского обслуживания в США, Мама и смысл жизни 28 налет на отделение, обнюхивали все больничные карты и приказывали выписать очередного безнадежного пациента со спутанным сознанием, если он вчера кое-как функционировал и если в его карте не было записи лечащего врача, гласящей, что пациент склонен к самоубийству или опасен для окружающих. Неужели было время, и не так уж давно, когда забота о больном была превыше всего? Неужели когда-то поступивших в больницу больных держали там, пока они не поправятся? А может, это был только сон? Я больше уже не говорю об этом, больше не рискую вызвать снисходительные улыбки моих студентов «болтовней о золотом веке», когда задачей больничной администрации было помогать врачу оказывать помощь пациенту. Бюрократические парадоксы сводили с ума. Возьмем, например, историю Джона – мужчины средних лет с паранойей и легкой умственной отсталостью. После того, как однажды на него напали в ночлежке для бездомных, он избегал бесплатных ночлежек и спал на улице. Джон знал волшебные слова, открывающие ему двери больницы, и часто в холодные, дождливые ночи, обычно около полуночи, он расцарапывал себе запястья у приемного покоя «Скорой помощи» и угрожал нанести себе более серьезные повреждения, если штат не обеспечит ему безопасное, приватное место для ночлега. Но ни одно учреждение не обладало полномочиями выдать Джону двадцать долларов на комнату. А поскольку у дежурного врача в приемном покое не было уверенности – с медицинской и юридической точек зрения, – что Джон не совершит серьезной попытки самоубийства, если его заставить спать в ночлежке, то Джон много раз за год получал возможность хорошо выспаться в больничной палате стоимостью 700 долларов в сутки. И все благодаря нашей нелепой и бесчеловечной системе медицинского страхования. Современную практику краткосрочной психиатрической госпитализации можно считать оправданной только в том случае, если существует адекватная программа работы с больным после выписки. Тем не менее в 1972 году губернатор Рональд Рейган одним смелым, гениальным росчерком пера отменил душевные болезни в Калифорнии, не только закрыв крупные психиатрические больницы штата, но и уничтожив большую часть общедоступных реабилитационных программ. В результате больничный персонал был вынужден день за днем производить загадочные действия – сначала лечить пациентов, а потом выписывать их в те же неблагоприятные условия, которые в первую очередь и стали причиной госпитализации. Как будто на скорую руку зашиваешь раненых солдат и бросаешь их обратно в бой. Представьте, что вы рвете себе задницу, работая с пациентами, – первичные интервью и их обработка, ежедневные обходы, представление информации лечащим психиатрам, планерки для сотрудников, работа со студентами-медиками, вписывание назначений в медицинские карты, ежедневные терапевтические сессии, – при этом прекрасно отдавая себе отчет, что еще пара дней, и у вас не будет выбора, кроме как вернуть пациентов назад в ту же злокачественную среду, которая изрыгнула их. Назад в бесчеловечные семьи алкоголиков. Назад к озлобленным супругам, у которых давно уже кончились любовь и терпение. Назад на улицу, к набитым рухлядью магазинным тележкам. Назад к ночевкам в разлагающихся автомобилях. Назад в общество невменяемых дружков-кокаинистов и безжалостных торговцев наркотиками, поджидающих своих жертв за воротами больницы. Вопрос: и как же мы, целители, умудряемся не сойти с ума? Ответ: мы учимся потворствовать лжи. Вот как я тратил свое время. Сначала научился приглушать свое искреннее желание помочь – тот самый маяк, который и привел меня в эту профессию. Потом освоил каноны профессионального выживания: не принимай ничего близко к сердцу – нельзя, чтобы пациенты начали значить для тебя слишком много. Помни, что завтра их здесь уже не будет. Их планы на жизнь после выписки не должны тебя волновать. Довольствуйся малым. Ставь перед собой лишь малые цели. Не пытайся достичь слишком многого. Исключи всякий риск неудачи. Если пациенты в терапевтической группе узнают хотя бы то, что общение может им помочь, что быть ближе к другим – хорошо, что они сами могут быть кому-то полезны – это уже много. Постепенно, после разочарования, накопившегося за несколько месяцев ведения групп с ежедневной сменой состава, я разработал метод, позволявший выжимать максимум пользы из этих направленная на снижение расходов системы здравоохранения, покрываемых страховыми компаниями. Мама и смысл жизни 29 разрозненных групповых встреч. Самым радикальным моим шагом было изменение временных рамок. Вопрос: какова продолжительность жизни терапевтической группы в психиатрическом отделении больницы? Ответ: одна встреча. Группы амбулаторных пациентов существуют много месяцев, даже лет. Определенным проблемам нужно время, чтобы проявиться, чтобы их можно было опознать и решить. В долговременной терапии есть время на «проработку» – можно ходить кругами вокруг проблемы, подходя к ее решению снова и снова (есть даже такой шутливый термин, «циклотерапия»). А у больничных терапевтических групп нет стабильности, в них – из-за мельтешения участников – невозможно возвратиться к обсуждению темы. За пять лет моей работы в отделении две встречи группы подряд в одном и том же составе были большой редкостью, а три мне никогда так и не удалось провести. А уж сколько пациентов я видел лишь единожды! Они приходили на одну встречу, а на следующий день их уже выписывали. Так я и стал прагматическим групповым терапевтом в духе Джона Стюарта Милля7 – и на одноразовых группах стремился всего лишь оказать наивысшее возможное благо наибольшему возможному количеству людей. Может быть, именно потому, что я сделал ведение больничной терапевтической группы своего рода искусством, мне удалось сохранить преданность делу, заведомо безнадежному из-за обстоятельств, на которые я не мог повлиять. Я считаю, что создавал восхитительные групповые встречи. Прекрасные, как произведения искусства. Я рано понял, что не способен ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах. Я смирился с тем, что никогда не стану артистом или художником. Но начав ваять групповые встречи, я изменил свое мнение. Может быть, у меня все-таки есть талант? Может быть, дело было лишь в том, чтобы найти свое призвание? Пациентам встречи нравились, время летело быстро, мы узнавали на опыте, что такое нежность и захватывающее волнение. Я учил других тому, чему научился сам. На студентовнаблюдателей это производило большое впечатление. О своей работе с группами стационарных больных я читал лекции и написал книгу. Проходили годы, и все это стало мне надоедать. Встречи казались однообразными. Как мало можно было сделать за одну сессию! Как будто бы я навеки приговорен к первым минутам беседы, обещающей быть такой содержательной. Я жаждал большего. Я хотел входить глубже, я хотел значить больше в жизни моих пациентов. И потому много лет назад я перестал вести группы стационарных больных и сосредоточился на других видах терапии. Но каждые три месяца, когда в больницу приходят новые ординаторы, я сажусь на велосипед и еду из своего кабинета на медицинском факультете в психиатрическое отделение больницы, чтобы целую неделю работать на износ, обучая студентов ведению терапевтических групп стационарных больных. Вот и сегодня я приехал в больницу за этим. Но не мог полностью отдаться тому, что делаю. У меня было тяжело на душе. Всего три недели назад умерла моя мать, и ее смерть, как выяснилось чуть позже, коренным образом повлияла на ход группы. Войдя в комнату, где должна была проходить встреча, я огляделся и сразу заметил энергичные юные лица трех новых ординаторов. Как всегда, меня охватила волна нежности к моим студентам, и мне больше всего на свете захотелось что-нибудь им подарить: хорошо проведенное практическое занятие, поддержку преданного делу учителя, какую я в их возрасте получал от своих учителей. Но когда я осмотрел групповую комнату внимательно, я пал духом. Мало того, что завалы медицинского оборудования: стойки капельниц, катетеры, кардиомониторы, инвалидные коляски, – напомнили мне, что это отделение предназначено для тяжелых (и потому особенно невосприимчивых к «лечению словом»!) психиатрических пациентов. Но как же выглядели эти пациенты! Они, все пятеро, сидели в ряд. Их состояние старшая медсестра вкратце описала мне по телефону. Первым был Мартин, пожилой человек в инвалидной коляске, страдающий тяжелой формой мышечной атрофии. Он был пристегнут к коляске ремнем и до пояса укрыт простыней, 7 Д ж о н С т ю а р т М и л л ь (1806 – 1873) – известный английский мыслитель и экономист, ввел в употребление термин «утилитаризм». Обладал редким критическим тактом, был талантливым и ясным систематизатором и популяризатором, и этим объясняется успех его произведений. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 30 под которой нельзя было разглядеть его ноги – бесплотные палочки, покрытые темной, словно дубленой кожей. Одно его предплечье было плотно забинтовано и поддерживалось на весу специальной рамкой – без сомнения, он перерезал себе вены на запястье. (Потом я узнал, что его сын, измученный и озлобленный тринадцатью годами ухода за больным отцом, прокомментировал его попытку самоубийства словами: «Даже это он не смог сделать почеловечески!») Рядом с Мартином сидела Дороти, у нее был паралич нижних конечностей после того, как год назад выбросилась из окна третьего этажа, пытаясь покончить с собой. Она была в таком депрессивном ступоре, что едва могла поднять голову. Потом были Роза и Кэрол, две молодые женщины – больные анорексией, прикованные к капельницам. Их кормили внутривенно, потому что из-за постоянно вызываемой рвоты химический состав их крови был разбалансирован, и вес их тел стал опасно низким. Особую тревогу вызывал внешний вид Кэрол: изысканные, почти совершенные черты лица, но почти не покрытые плотью. Глядя на нее, я иногда видел лицо дивно прекрасного ребенка, а порой – ухмыляющийся череп. Последней была Магнолия, неухоженная, ожиревшая семидесятилетняя негритянка с парализованными ногами, чей паралич ставил врачей в тупик. Ее очки в толстой золотой оправе починены кусочком пластыря, к волосам приколот крохотный чепец из тонкого кружева. Когда она представлялась, я был поражен тем, как она выдерживает своими карими глазами с поволокой мой пристальный взгляд, и потрясен тем, с каким достоинством она – по-южному мягко и протяжно – говорила. – Мине очень приятно, докта, – сказала она. – Я много хорошего про вас слыхала. По словам медсестер, Магнолия, которая сейчас так спокойно сидела в своей инвалидной коляске, часто приходила в возбуждение и начинала рвать на себе одежду, ловя ползающих по телу воображаемых насекомых. Первым делом я посадил членов группы в кружок и попросил трех ординаторов сесть позади больных, вне их поля зрения. Я начал встречу как обычно – представился, коротко объяснил участникам, что такое групповая терапия, предложил называть друг друга по имени и сказал, что буду здесь еще четыре дня. – После этого группу будут вести два ординатора, – я показал ординаторов и назвал их имена. – Цель группы, – продолжал я, – помочь вам узнать больше о ваших взаимоотношениях с другими людьми. Я взглянул на эти человеческие руины: иссохшие ноги Мартина, усмешку посмертной маски Кэрол, бутылки капельниц, вводящих Розе и Кэрол жизненно важное питание, которое те отказывались принимать через рот, мочеприемник Дороти, куда откачивалось через трубочку содержимое ее парализованного мочевого пузыря, парализованные ноги Магнолии, – и мои слова показались мне тривиальными и глупыми. Этим людям нужно было так много, а «помощь во взаимоотношениях» казалась такой жалкой мелочью. Но что проку притворяться, будто группы могут сделать больше, чем на самом деле? «Помни свою мантру», – напоминал я самому себе. «Довольствуйся малым. Довольствуйся малым» – небольшие цели, небольшие успехи. Я называл небольшую группу стационарных больных «группой с планом работы», потому что всегда в самом начале встречи просил каждого участника сформулировать свой «план», то есть рассказать о какой-то черте, которую он хотел бы изменить. Группа работала лучше, если «планы работы» участников относились к умению строить отношения, а особенно, если они касались вопросов, которые можно было проработать в группе прямо сейчас. Пациенты, госпитализированные из-за острых проблем, угрожающих их жизни, всегда недоумевали, почему в фокусе внимания группы оказываются отношения, и у них не получалось включать свои проблемы в «план работы группы». Я всегда им на это отвечал: «Я знаю, что вы попали в больницу не из-за того, что у вас проблемы в отношениях с людьми, но у меня большой опыт работы, и я знаю, что любому человеку, пережившему тяжелую психологическую ситуацию, идет на пользу, если он налаживает свои отношения с другими людьми. Тут важно то, что мы можем извлечь максимум пользы из этой встречи, если сосредоточимся на отношениях, потому что именно это в группах получается лучше всего. И в этом – сильная сторона групповой терапии». Мама и смысл жизни 31 Сформулировать адекватные пункты для плана работы группы было очень трудным заданием, которое многим участникам группы не удавалось выполнить даже после нескольких встреч. Но я всегда говорил, чтобы они не переживали: «Я здесь для того, чтобы вам помочь». И все же этот процесс обычно занимал почти половину отведенного на группу времени. За оставшееся время я старался разобраться с как можно большим числом вопросов из плана работы. Между тем, чтобы сформулировать проблему, и тем, чтобы заняться ее решением, не всегда была четкая граница. Некоторым пациентам помогало уже само по себе формулирование пунктов плана работы. Просто распознать и определить проблему и попросить о помощи было довольно целительным опытом для многих людей за то недолгое время, которое мы были вместе. Начали Роза и Кэрол – пациентки с анорексией. Кэрол заявила, что у нее нет проблем и ей не нужно улучшать отношения с людьми. – Наоборот, – сказала она решительно, – что мне нужно, так это поменьше контактов с окружающими. Лишь когда я заметил, что никогда не знал никого, кто не хотел бы хоть что-нибудь в себе изменить, она нерешительно сказала, что часто бессильна противостоять чужому гневу – особенно гневу родителей, которые заставляют ее есть. Таким образом, она не очень уверенно наметила свой план работы в группе: «Я постараюсь здесь, на встрече, быть более уверенной в себе, постараюсь отстаивать свои интересы». Роза тоже не хотела улучшать свои отношения с другими и тоже хотела держаться подальше от людей. Она никому не доверяла: – Люди меня вечно не понимают и пытаются переделать. – Может быть, тебе будет полезно, – спросил я, пытаясь перевести эту проблему в плоскость «здесь и сейчас», – если тебя поймут сегодня, здесь, в группе? – Может быть, – ответила она, но предупредила, что ей тяжело много говорить в группах. – Я всегда чувствую, что другие люди лучше, важнее меня. Дороти, капая слюной на подбородок и низко опустив голову, чтобы не встречаться со мной взглядом, говорила отчаянным шепотом и не дала мне ничего. Она сказала, что слишком подавлена и не может участвовать в работе группы, и что медсестры сказали ей, что ей достаточно просто слушать. Я понял, что здесь работать не с чем, и повернулся к оставшимся двум пациентам. – Я уже не надеюсь, что со мной когда-нибудь случится что-нибудь хорошее, – сказал Мартин. Его тело безжалостно иссыхало, уничтожалось. Его жена умерла, как и все остальные люди из его прошлого. Прошло много лет с тех пор, как он последний раз говорил с другом. Его сыну осточертело ухаживать за ним. – Доктор, найдите себе более полезное занятие, – сказал он. – Не теряйте на меня время. Давайте не будем себя обманывать – мне уже нельзя помочь. Когда-то я был хорошим моряком. На судне я мог все! Видели бы вы, как я взлетал по мачте до «вороньего гнезда»! Не было ничего, что бы я там не умел, ничего – о чем бы не знал! А сейчас – разве кто-нибудь может мне помочь? Разве я могу помочь кому-нибудь? Магнолия выдвинула следующий план работы: – Мине бы хотелось в этой группе научиться слушать получше. Как вы скажете, докта, это будет хорошо? Моя мамка всегда говорила, очень важно уметь слушать других. Боже милостивый! До конца сессии оставалась куча времени. Чем его заполнить? Я старался сохранять самообладание, но чувствовал, как острие паники начинает проникать в меня. Хорошенькая демонстрация для ординаторов, нечего сказать! Вы только посмотрите, с чем приходилось работать: Дороти вообще не собирается разговаривать. Магнолия хочет научиться слушать. Мартин, в чьей жизни людей нет, считает, что он не может никому ничего дать. (Я отметил: шансы на то, что появится какой-то просвет, очень слабы.) Я точно знал, что план работы, выдвинутый Кэрол, – стать более самодостаточной и не бояться идти на конфликт – на самом деле ничего не значит: Кэрол просто делала вид, что сотрудничает со мной. Кроме того, для стимуляции чьей-то ассертивности необходима активная группа, члены которой, побуждаемые ведущим, могли бы учиться открыто выражать свои мнения или просить остальных уделить им внимание. Сегодня у Кэрол было бы мало возможностей поупражняться в проявлении желаемого качества. Роза дала мне тоненький лучик надежды – свое убеждение, что ее не понимают и что она Мама и смысл жизни 32 хуже других. (Возможно, на это тоже можно будет опереться в работе, отметил я.) Начал я со страха Кэрол перед тем, чтобы открыто заявлять о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружающих: попросил ее покритиковать – пусть мягко! – то, как я веду эту встречу. Но Кэрол уклонилась, уверив меня, что, по ее мнению, я чрезвычайно сочувственно отношусь к участникам и веду встречу умело. Я обратился к Розе, больше – не к кому, и предложил ей развить мысль о том, что окружающие важней ее. Она рассказала, как провалила все, что могла в своей жизни: «образование, отношения с людьми, все возможности, какие у меня были». Я постарался перевести ее комментарии в «здесь и сейчас» (это всегда усиливает терапевтическое воздействие). «Оглядись вокруг, – предложил я, – и попробуй описать, как так получается, что другие участники группы важнее, чем ты». – Начну с Кэрол, – сказала Роза, вдохновляясь задачей. – Она такая красивая. Я все время на нее смотрю. Это все равно что смотреть на великую живопись. И я завидую ее фигуре. Она плоская, у нее прекрасные пропорции, а я... сами видите... раздутая и жирная. Вот, посмотрите. С этими словами Роза ущипнула себя за живот и продемонстрировала нам складочку плоти толщиной в восьмую часть дюйма. Это было умопомрачение, типичное для больных анорексией. Роза, как многие анорексики, настолько ловко упаковывалась во много слоев одежды, что ее исхудание было незаметно. Она весила меньше восьмидесяти фунтов. И восхищаться Кэрол, которая весила еще меньше, было чистым безумием с ее стороны. Месяц назад меня вызвали в отделение, потому что Кэрол упала в обморок. Я добрался до отделения как раз тогда, когда медсестры несли ее к кровати. Больничный халат на ней задрался, обнажив ягодицы, сквозь которые, едва не прокалывая кожу, выпирали головки бедренных костей. Это зрелище напомнило мне жуткие фотографии людей, переживших концлагерь. Но оспаривать убеждение Розы, что она толстая, было бессмысленно. Искажение образа собственного тела у больных анорексией принимает специфическую психопатологическую форму – я много раз пытался с ними спорить на группах и уже знал, что в этом споре мне не победить. Роза продолжала свои сравнения. У Мартина и Дороти проблемы были куда серьезней, чем у нее. – Иногда, – сказала она, – мне хочется, чтобы и у меня была какая-нибудь явная болезнь: например, паралич. Тогда бы я чувствовала, что у меня больше прав на существование. Это замечание так потрясло Дороти, что она подняла голову и дала свой первый (и последний на этой группе) комментарий. – Хочешь парализованные ноги? – хрипло прошептала она. – Возьми мои. К моему глубочайшему изумлению, на помощь Розе ринулся Мартин. – Нет-нет, Дороти, – я правильно запомнил? Дороти, верно? Роза ничего такого не хотела сказать. Я знаю, она не имела в виду, что хочет ноги вроде твоих или моих. Посмотри на мои ноги. Посмотри-посмотри! Разве нормальный человек захочет такие? Здоровой рукой Мартин сорвал с себя простыню и указал на свои ноги. Отвратительно деформированные, они заканчивались двумя или тремя искривленными шишками. Остальные пальцы полностью отгнили. Ни Дороти, ни остальные члены группы не стали рассматривать ноги Мартина. Меня, несмотря на весь мой врачебный опыт, тоже охватило отвращение. – Роза сказала в переносном смысле, – продолжал Мартин. – Она имела в виду, что ей было бы легче, имей она какую-то явную болезнь, что-то такое, что можно увидеть. Верно, Роза? Ты ведь Роза, правильно? Мартин меня удивил. За его увечьем я умудрился не заметить острого ума. Но он еще не закончил. – Роза, можно я спрошу тебя кое о чем? Я не хочу лезть не в свое дело, так что можешь не отвечать, если не хочешь. – Валяй! – ответила Роза. – Но не обещаю ответить. – В чем твоя болезнь? То есть я хочу спросить, что с тобой не так? Ты очень худая, но не выглядишь больной. Почему у тебя капельница? – спросил он, указав рукой. – Я не ем. Меня кормят через эту штуку. – Не ешь? Тебе не дают есть? Мама и смысл жизни 33 – Нет, они хотят, чтобы я ела. А я не хочу. Роза распушила волосы, словно бы прихорашиваясь. – Ты не голодна? – продолжал допрос Мартин. – Нет. Меня заворожил этот обмен репликами. Обычно вокруг больных с расстройствами пищевого поведения все ходят на цыпочках. (Они так ранимы, так легко уходят в глухую защиту, так упорно отрицают свою болезнь.) Я никогда не видел, чтобы больному анорексией задавали такие прямые вопросы. – А я всегда голодный, – сказал Мартин. – Ты бы видела, сколько всего я съел сегодня на завтрак: двенадцать блинчиков, яйца, два стакана апельсинового сока. Он замолчал, колеблясь. – Не ешь? Неужели у тебя никогда не бывает аппетита? – Нет. Я не помню, чтобы он когда-то был. Я не люблю есть. – Не любишь есть?! Я видел, как Мартин напрягается, пытаясь осмыслить эти слова. Он был действительно поставлен в тупик – как будто встретил человека, которому не нравится дышать. – Я всегда много ел. Всегда любил поесть. Когда родители брали меня с собой покататься на машине, они всегда прихватывали арахис и картофельные чипсы. Они даже прозвали меня так. – Как? – спросила Роза, которая к этому времени слегка развернула свой стул в сторону Мартина. – Мистер Хрустящий Картофель. Мои мама и папа были родом из Англии и называли чипсы «хрустящим картофелем». Так они и меня звали, «мистер Хрустящий Картофель». Они любили подъехать к порту и смотреть, как туда заходят большие корабли. Мама с папой говорили: «Ну, мистер Хрустящий Картофель, поехали кататься». И я выбегал к машине – у нас была единственная машина во всем квартале. Конечно, ноги у меня тогда были здоровые. Как у тебя, Роза, – Мартин подался вперед из кресла и посмотрел вниз. – У тебя, кажется, здоровые ноги. Правда, чуть худоваты, совсем без мяса... Я раньше так любил побегать... Мартин умолк. Он, в замешательстве морща лоб, снова закутал ноги простыней. – Не любит есть, – повторил он, словно про себя. – А я всегда любил поесть. Думаю, ты многое упускаешь. Тут заговорила Магнолия, которая в соответствии со своим планом работы в группе внимательно слушала Мартина: – Роза, детка, я тока што вспомнила, как мой Дарнелл был малой. Иногда он тоже не кушал. И ты знаешь, чего я делала? Меняла ему обстановку! Мы садились в машину и ехали в Джорджию – мы жили прямо возле границы. В Джорджии-то он кушал. Госпидя, как он кушал в Джорджии! Мы часто шутили про его тамошний аппетит. Магнолия нагнулась ближе к Розе и понизила голос до громкого шепота: – Дорогая, может, тебе, чтобы кушать, надо уехать из Калифорнии? Пытаясь выудить из этой беседы нечто терапевтическое, я остановил действие (на нашем жаргоне это называется «process check») и попросил участников группы осмыслить свое взаимодействие. – Роза, что ты чувствуешь по поводу того, что сейчас происходит в группе? По поводу вопросов Мартина и Магнолии? – Ничего, пусть спрашивают, я не возражаю. И Мартин мне нравится... – Ты бы не могла обратиться к нему напрямую? Роза повернулась к Мартину. – Ты мне нравишься. Не знаю, почему. Она снова повернулась ко мне. – Он здесь уже неделю, но до сегодняшнего дня, до группы, я с ним ни разу не говорила. Кажется, что у нас с ним много общего, хотя я знаю, что на самом деле – нет. – Ты чувствуешь, что он тебя понимает? – Понимает? Не знаю... Ну, да, в каком-то странном смысле – да. Может быть, это оно и есть. – Это то, что я вижу. Я вижу, что Мартин изо всех сил старался тебя понять. И кроме этого Мама и смысл жизни 34 он не пытался больше ничего делать – я не слышал, чтобы он пробовал тобой управлять, или командовал тобой, или даже говорил, что ты обязана есть. – И хорошо, что не пытался. От этого все равно никакого толку не было бы. С этими словами Роза с Кэрол переглянулись с костлявыми оскалами сообщниц. Я ненавидел этот преступный сговор. Мне хотелось встряхнуть их так, чтобы у них загремели кости. Мне хотелось заорать: «Хватит пить диетическую колу! Держитесь подальше от этих чертовых тренажеров! Это не шутки – вас обеих отделяют от смерти только пять-шесть фунтов веса! И когда вы наконец закончите умирать, всю вашу жизнь можно будет уложить в эпитафию из трех слов: Я умерла худой». Но, конечно, я удержал свои мнения и настроения при себе. Проявив их, я бы ничего не изменил, только разорвал бы непрочные нити отношений, которые мне удалось сегодня протянуть. Вместо этого я обратился к Розе со словами: – Ты заметила, что в разговоре с Мартином уже выполнила часть своего плана? Ты сказала, что хотела бы, чтобы тебя кто-нибудь понял, и Мартину, кажется, это удалось. Затем я повернулся к Мартину. – Что ты чувствуешь по этому поводу? Мартин молча уставился на меня. Я подумал, что это, может быть, самый оживленный разговор, который выпал на его долю за многие годы. – Помнишь, – напомнил я ему, – ты сказал в начале встречи, что больше никому ничем не можешь помочь. А я только что слышал, как Роза сказала, что ты ей помог. Ты ведь тоже слышал? Мартин кивнул. Я видел, что у него блестят глаза и что он слишком взволнован, чтобы говорить. Все, этого достаточно. Я воспользовался крохотной возможностью и хорошо поработал с Мартином и Розой. По крайней мере, мы не уйдем со встречи с пустыми руками (сознаюсь, что я думал об ординаторах ничуть не меньше, чем о пациентах). Я снова повернулся к Розе. – Что ты чувствуешь по поводу того, что тебе сказала Магнолия? Конечно, вряд ли можно уехать из Калифорнии, чтобы поесть, но я видел: Магнолия протянула тебе руку помощи. – Протянула руку? Странно, что вы так говорите, – ответила Роза. – Я не думаю, что Магнолия что-то там тянула. Дарить для нее – как дышать, ее рука помощи и так рядом, ей ни к чему ее протягивать. Она – чистая душа. Жаль, я не могу взять ее к себе домой или поселиться у нее. – Милая, – Магнолия одарила Розу огромной улыбкой во все тридцать два зуба, – тибе не захочется в мой дом. Скока их ни прыскай, они все ползут и ползут. Видимо, Магнолия говорила о своих галлюцинаторных насекомых. – Вам бы Магнолию взять к себе на работу, – сказала Роза, обращаясь ко мне. – Вот она мне по-настоящему помогает. И не только мне. Всем. Даже медсестры к ней ходят со своими бедами. – Детка, ну что ты. У тибе всего так мало. Ты такая худенькая, мине ничего не стоит тибе помогать. И у тибе большое сердце. О тибе приятно заботиться. Приятно помогать. Для мине это лучшее лекарство. Это для мине лучшее лекарство, докта, – повторила Магнолия, обращаясь ко мне. – Тока людям помогать, больше мине ничего не надо. На несколько секунд я онемел. Магнолия меня зачаровала – эти мудрые глаза, располагающая улыбка, щедрые материнские колени. И руки – совсем как у моей матери: большие складки плоти спускаются с верхней части руки, закрывая локти. Каково, когда тебя обнимают, укачивают эти шоколадные руки, похожие на подушки? Я подумал обо всех тяготах своей жизни – писательство, преподавание, консультирование, пациенты, жена, четверо детей, финансовые обязательства, инвестиции, а теперь еще и смерть матери. Мне нужен покой, подумал я. Комфорт в стиле Магнолии – вот что мне нужно, покой в объятиях больших рук Магнолии. Мне вспомнился припев старой песни Джуди Коллинз: «Столько печали... Столько несчастий... Но если... как-то там... сложишь свои печали и мне отдашь... Я своею рукою... их успокою... Отдай их мне...» Я давно забыл про эту песню. Много лет назад, когда я впервые услышал нежный голос Джуди Коллинз, поющий: «Сложи свои печали и мне отдай», – я почувствовал сильное желание залезть прямо в радиоприемник, найти эту женщину и излить ей свои печали. Из забытья меня выдернул голос Розы: Мама и смысл жизни 35 – Доктор Ялом, вы вот спрашивали, почему я думаю, что другие люди в этой группе лучше меня. Теперь сами видите. Видите, какая Магнолия замечательная. И Мартин тоже. Они оба заботятся о других. Все – моя родня, мои сестры – всегда мне говорили, что я эгоистка. И были правы. Я никогда не стараюсь ничего ни для кого сделать. Мне нечего им предложить. Единственное, чего я хочу от людей, это чтоб меня оставили в покое. Магнолия наклонилась поближе ко мне. – Эта девочка такая искусная, – сказала она. «Искусная» – странное слово. Я подождал, желая узнать, что она имеет в виду. – Видели бы вы одеяло, которое она вышивает для мине на трудотерапии. В середине две розы, а вокруг них она пришивает масенькие фиалочки – должно быть, штук двадцать! – вдоль всего края. И сам край она сделала тонким красным узором. Милая, – Магнолия повернулась к Розе, – может, ты принесешь то одеяло завтра на группу? И ту картинку, которую ты рисовала? Роза покраснела, но кивнула в знак согласия. Время шло. Вдруг я понял, что не выяснил, как группа может помочь Магнолии. Я был очарован многообещающей щедростью ее души и всплывшим в памяти припевом: «Я своею рукою... их успокою... Отдай их мне». – Знаешь, Магнолия, ты должна тоже что-то получить от этой встречи. Вначале ты сказала, что хочешь сегодня научиться получше слушать. Но я поражен тем, насколько хорошо ты уже умеешь слушать – удивительно хорошо. К тому же ты наблюдательна: видишь, сколько всего ты запомнила про одеяло, которое вышивает Роза. Поэтому я не думаю, что тебе нужно от нас много помощи, чтобы научиться слушать. Как еще группа может тебе помочь? – Я не знаю, как эта группа мине поможет. – Я слышал, как сегодня люди говорили о тебе много хорошего. Что ты чувствовала при этом? – Ну... конечно, мине было приятно. – Но, Магнолия, мне почему-то кажется, что ты не в первый раз это слышишь – что люди всегда любили тебя за то, что ты им так много даешь. То же самое и медсестры говорили сегодня перед началом группы – что ты вырастила родного сына и пятнадцать приемных детей и продолжаешь дарить себя людям. – Уже нет. Теперь я ниче не могу дать. У мине ноги не ходят, и эти... ползают... – она внезапно вздрогнула, но мягкая улыбка не ушла с лица. – Я не хочу обратно домой. – Магнолия, я вот что хочу сказать: когда люди говорят тебе то, что ты и без них знаешь, это не очень полезно. Чтобы была польза, мы должны дать тебе что-то другое. Может, помочь тебе узнать что-то новое про себя, рассказать что-то такое, что мы видим со стороны, а ты не замечаешь – о чем ты, может быть, никогда и не знала. – Я ж вам сказала, мине ничего не надо – тока людям помогать. – Я знаю, и эта черта мне очень нравится. Но, ты знаешь, ведь всем людям приятно помогать другим. Видишь, как важно для Мартина, что он понял Розу и тем самым помог ей. – Да, Мартин – это что-то! У него ноги не ходят, зато есть голова на плечах, и она отлично варит. – Ты действительно помогаешь другим, и у тебя это хорошо получается. Ты – чудо, и Роза правильно говорит, больнице следовало бы взять тебя на работу. Но, Магнолия... – я сделал короткую паузу, чтобы усилить эффект следующих за этим слов, – другим будет полезно, если они смогут тебе помочь. Отдавая всю себя людям, ты лишаешь их возможности помочь тебе и тем самым получить пользу для себя. Когда Роза сказала, что хотела бы поселиться у тебя, я тоже подумал, как замечательно было бы все время ощущать твою поддержку. Мне бы этого тоже хотелось. Я был бы просто счастлив! Но подумав об этом побольше, я понял, что никогда не смог бы отплатить тебе за твою помощь, не смог бы помочь тебе, потому что ты никогда не жалуешься, ты никогда ни о чем не просишь. По правде говоря, – тут я опять сделал паузу, – я никогда не смогу получить удовольствие от того, что помог тебе. – Я никада не думала про это, – сказала Магнолия, задумчиво кивая головой. Улыбка ее исчезла. – Но это ведь правда? Верно? Может быть, наша задача в этой группе – помочь тебе научиться жаловаться. Может быть, тебе нужно испытать, каково это – когда слушают тебя. Мама и смысл жизни 36 – Моя мамка всегда говорила, я ставлю себя в конец. – Я не всегда согласен с матерями. Точнее говоря, обычно я с ними не соглашаюсь. Но в данном случае, мне кажется, твоя мама была права. Так почему бы тебе не поучиться жаловаться? Расскажи нам, что у тебя болит. Что бы ты хотела в себе изменить? – Ну... у мине здоровье уже не то... и эти... штуки по мине ползают. И ноги у мине никуда не годятся. Я ими шевельнуть не могу. – Для начала уже хорошо. Я знаю, что это твои реальные проблемы. Я бы очень хотел помочь тебе с ними, здесь, на группе, но группы этого делать не умеют. Попробуй пожаловаться на какие-нибудь вещи, с которыми мы можем тебе помочь. – Мой дом, он никуда не годится. Там грязно. Они не могут его как следует опрыскать, а может, не хотят. Я не хочу обратно туда. – Я знаю, что у тебя проблемы с домом, и с ногами, и с кожей. Но все это – не ты. Это вещи, которые имеют отношение к тебе, но не настоящая ты, не реальная ты. Загляни к себе в самую сердцевину. Что ты хочешь там изменить? – Ну... Я сильно недовольна моей жизнью. Мине есть о чем пожалеть. Вы про это, докта? – В точку, – энергично кивнул я. Она продолжала. – Я сама себя разочаровала. Я всегда хотела быть учительницей. Такая моя была мечта. Но мине так и не довелось. Иногда мине бывает плохо, и я думаю, у мине ничего не вышло. – Но, Магнолия, – взмолилась Роза, – посмотри, сколько всего ты сделала для Дарнелла и для своих приемных детей! Это, по-твоему, ничего? – Иногда я чувствую, что я совсем никчемная. У Дарнелла тоже ничего не выйдет с жизнью, он никуда не пойдет. Прям как евонный папка. Роза прервала их разговор. Явно встревоженная – зрачки у нее стали огромными, – она обратилась ко мне так, словно я был судьей, а она – адвокатом, защищающим Магнолию на суде. – Доктор Ялом, у нее никогда не было возможности учиться. Когда она была еще подростком, ее отец умер, а мать исчезла на пятнадцать лет. И тут вдруг вмешалась Кэрол, тоже обратившись ко мне: – Ей пришлось воспитывать семерых братьев и сестер, почти в одиночку. – Не в одиночку. Мине помогали – пастор, церковь, много хороших людей. Игнорируя возражения Магнолии, Роза продолжала: – Я познакомилась с Магнолией примерно год назад, когда мы обе лежали в больнице. И однажды, уже после выписки, я заехала за ней на машине, и мы катались целый день – по ПалоАльто, Стэнфорду, Менло-Парку, в горы. Магнолия провела для меня экскурсию. Она мне все рассказывала, не только про достопримечательности, но и про то, как раньше люди жили в округе, и про всякие вещи, которые случились в том или другом месте тридцать, сорок лет назад. Это была лучшая поездка в моей жизни. – Магнолия, что ты чувствуешь, слушая Розу? – спросил я. Магнолия снова смягчилась. – Это хорошо, хорошо. Детка знает, что я ее люблю. – Вот видишь, Магнолия, – сказал я, – похоже, несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, которые были против тебя, ты все-таки стала учительницей! И отличной учительницей. Кажется, группа заработала... щелк, щелк, щелк. Я гордо взглянул на ординаторовпсихиатров. Мой последний комментарий представлял собой дивный образец рефрейминга. Просто потрясающе! Я надеялся, что его услышали. Магнолия его услышала. Она, кажется, была глубоко тронута моими словами и несколько минут плакала. Мы почтили этот момент уважительным молчанием. Но следующая реплика Магнолии поставила меня в тупик. Очевидно, я плохо ее слушал. – Вы правы, докта. Правы, – сказала она. И добавила: – Правы, но и не правы. У мине была мечта. Я хотела быть взаправдашней учительницей, чтобы мине платили как белой учительнице, чтобы у мине были взаправдашние ученики, чтобы мине называли «миссис Клэй». Вот чего я хотела. – Но, Магнолия, – упорствовала Роза, – посмотри, чего ты добилась – подумай про Мама и смысл жизни 37 Дарнелла и про пятнадцать приемных детей, которые называют тебя мамой. – Это тут ни при чем, я совсем другого хотела, про другое мечтала, – сказала Магнолия резко и непоколебимо. – У мине тоже были мечты, как и у белых! У черных тоже бывают мечты. И еще я неудачно замуж вышла. Хотела выйти на всю жизнь, а получилось – на четырнадцать месяцев. Я была дура: выбрала неправильного человека. Он любил свой джин гораздо больше, чем миня. Как перед Богом, – продолжала она, повернувшись ко мне, – я никада – до сегодняшней группы – не ругала свово мужа. Не хотела, чтоб мой Дарнелл хоть слово плохое услышал про свово папу. Но, докта, вы правы. Правы. Мине есть на что пожаловаться. Стоко всего, что я хотела в жизни, я так и не получила. Не сбылись мои мечты. Мине порой так горько. Слезы струились по ее щекам, она тихо всхлипывала. Потом отвернулась от группы, уставилась в окно и принялась себя царапать, сначала легко, потом – с силой вонзая ногти в тело. – Так горько. Так горько... – повторяла она. Я совсем растерялся. И встревожился, как и Роза. Я хотел, чтобы вернулась прежняя Магнолия. А то, как она раздирала себя ногтями, просто обессиливало меня. Что она пытается там соскоблить – насекомых? Или черный цвет своей кожи? Мне хотелось схватить ее за руки и успокоить, пока она не растерзала себя до крови. После долгой паузы она произнесла: – Я бы еще много чего могла сказать, но это очень личное. Я видел, что Магнолия готова. Я не сомневался, что стоит ее лишь чуть-чуть подтолкнуть – и она расскажет все. Но она – по оценке остальных участников – уже и так очень далеко зашла. Слишком далеко. Расстроенные глаза Розы словно умоляли: «Пожалуйста, хватит! Остановите ее!» С меня тоже было достаточно. Я приподнял крышку, но в кои-то веки мне не хотелось заглядывать внутрь. Минуты через две или три Магнолия перестала плакать и расцарапывать себя. Понадобилось время, чтобы к ней вернулась улыбка и в голосе опять появилась мягкость. – Но я думаю так: у Господа свои причины давать каждому из нас свои тягости. А разве это не будет гордыня пытаться искать эти причины? Участники группы молчали. Очевидно, им было неловко, и все – даже Дороти – смотрели в окно. Я старательно напоминал себе, что это – качественная терапия: Магнолия взглянула в лицо своим демонам и теперь, кажется, стоит на пороге важной терапевтической работы. Но я чувствовал, что я оскверняю ее. Может быть, и другие участники группы тоже это почувствовали. Но промолчали. Воцарилась тяжелая тишина. Я по очереди поймал взгляд каждого участника группы и взглядом попросил их что-нибудь сказать. Может быть, я зря воображал себе Магнолию землею-матерью? Может быть, я был единственным из группы, кто лишился иконы? Я всячески пытался выразить мое ощущение «осквернения» словами, которые были бы полезны для группы. Но мозг отказывался работать. Я сдался и мрачно прибег к затертому, банальному комментарию, звучавшему уже бессчетное количество раз на бесчисленных группах: – Магнолия многое сказала. Какие чувства пробудили ее слова в каждом из вас? Я был сам себе противен, произнося эти слова, мне была неприятна их техническая банальность. Стыдясь самого себя, я сгорбился на стуле. Я дословно знал реакции участников группы и мрачно ждал их хрестоматийных ответов: – Магнолия, я чувствую, что сейчас по-настоящему узнал тебя. – Теперь я чувствую, что мы стали гораздо ближе. – Теперь я вижу в тебе реального человека. Даже один из ординаторов выпал из роли молчаливого наблюдателя и вставил: – Магнолия, я тоже. Я вижу в тебе цельную личность, с которой я могу контактировать. Я теперь воспринимаю тебя во всех трех измерениях. Наше время истекло. Мне нужно было как-то подвести итоги встречи, и я выдал тривиальную, обязательную интерпретацию: – Знаешь, Магнолия, это была нелегкая встреча, но очень плодотворная. Мы начали с того, что ты не умеешь жаловаться, и, может быть, чувствуешь, что у тебя нет права жаловаться. Твоя работа на группе хоть и доставляла тебе неудобства, но это – начало настоящего продвижения. Дело в том, что у тебя внутри много боли, и если ты научишься на нее жаловаться и разбираться с ней напрямую, как ты это делала сегодня, тебе не придется выражать ее окольным путем: Мама и смысл жизни 38 например, через проблемы с домом, или с ногами, и даже, возможно, через ощущение, что у тебя по коже ползают насекомые. Магнолия не ответила. Она только посмотрела прямо на меня – в ее глазах все еще стояли слезы. – Ты понимаешь, Магнолия, что я имею в виду? – Я понимаю, докта. По правде, хорошо понимаю. – Она вытерла глаза крохотным носовым платком. – Простите, что я так много реву. Я вам раньше не сказала, а может, надо было сказать, но завтра годовщина моей мамы. Будет год, как она померла. – Я знаю, Магнолия, каково тебе. Моя мама тоже умерла, еще и месяца не прошло. Я сам удивился своим словам. Обычно я не говорю о таких личных вещах с пациентами, которых едва знаю. Наверное, я хотел что-то дать Магнолии. Но она не признала моего дара. Группа начала расходиться. Двери открылись. Вошли медсестры, чтобы помочь пациентам выйти. Я смотрел, как Магнолия, которую увозят в кресле, чешется изо всех сил. В обсуждении, которое произошло после группы, я пожал плоды своих трудов. Ординаторы рассыпались в похвалах. Больше всего их потрясло зрелище, как я сотворил «нечто» из, казалось бы, «ничего». Несмотря на скудость материала и низкую мотивацию пациентов, члены группы достаточно успешно взаимодействовали: к концу встречи ее участники, большинство которых до этого не замечали в отделении других пациентов, заинтересовались друг другом и стали друг другу сочувствовать. Ординаторы были впечатлены мощью моей заключительной фразы, обращенной к Магнолии: если она сможет открыто попросить о помощи, то ее симптомы, которые являются замаскированными криками о помощи, станут не нужны. «Как вам это удалось? – удивлялись они. – В начале встречи Магнолия казалась такой непробиваемой». «Ничего сложного тут нет, – ответил я. – Нужно только найти правильный ключ – и он откроет дверь к страданию любого человека. Для Магнолии этим ключом оказалось обращение к одной из ее наиболее значимых ценностей – ее желанию служить другим. Я убедил ее, что она поможет другим, если позволит им помочь себе, и таким образом быстро обезоружил ее». Пока мы разговаривали, Сара, старшая медсестра, заглянула в комнату, чтобы поблагодарить меня. – Ирв, ты снова, как всегда, сотворил чудо. Хочешь порадоваться? Загляни в столовую, перед тем как уйти, посмотри на больных, как они сидят, склонив головы друг к другу. А что ты сделал с Дороти? Представь себе, она разговаривает с Мартином и Розой! Слова Сары звучали у меня в ушах, пока я ехал на велосипеде обратно на факультет. Я знал, что у меня есть все причины быть довольным своей утренней работой. Ординаторы правы: это была хорошая встреча, просто фантастическая, потому что она не только убедила участников, что им нужно улучшать свои отношения с другими людьми, но, судя по словам Сары, подвигла их к более активному участию в других терапевтических программах отделения. Самое главное, я показал ординаторам, что не бывает скучных или пустых пациентов – или групп. В каждом больном и в каждой клинической ситуации спрятано сокровище человеческой драмы, словно бабочка в коконе. И искусство психотерапии заключается в том, чтобы запустить эту драму. Но почему же от этой хорошо проделанной работы я получил так мало личного удовлетворения? Я чувствовал вину, как будто кого-то обманул. Похвала, которую я так часто старался заслужить, сегодня была мне не по нутру. Студенты (с моей же неявной подачи) наделили меня глубокой мудростью. В их глазах я предлагал «мощные» интерпретации, творил «чудеса», вел группу уверенно, заранее зная, что будет. Но я-то знал правду: на протяжении всей встречи я шел наугад и импровизировал. И студенты, и пациенты видели во мне кого-то, кем я на самом деле не был, видели не меня, а кого-то, кто больше того меня, кем я являюсь сейчас, и больше того меня, кем бы мог стать. Мне пришло в голову, что в этом отношении у меня и у Магнолии, этой архетипической матери-земли, есть много общего. Я опять напомнил себе: «Довольствуйся малым!» Моя работа – провести одну встречу группы так, чтобы она оказалась полезной как можно большему числу участников. А разве я не это сделал? Я посмотрел на группу с точки зрения каждого из пяти ее участников. Мартин и Роза? Да, отличная работа. Я в них не сомневался. Запланированная ими на эту Мама и смысл жизни 39 встречу работа была до некоторой степени выполнена. Мы бросили вызов упадку духа Мартина, его убежденности, что он не может предложить ничего ценного другим людям, нам удалось поколебать уверенность Розы в том, что любой человек, не похожий на нее – то есть не больной анорексией, – не сможет ее понять и попытается ею манипулировать. Дороти и Кэрол? Несмотря на свою пассивность, они все же вступали в контакт. Возможно, они получили пользу от наблюдательной терапии: пациентам часто бывает полезно посмотреть на чужую эффективную терапию, это готовит их самих к хорошей терапевтической работе в будущем. А Магнолия? Вот с ней была загвоздка. Помог ли я Магнолии? Можно ли ей вообще помочь? Перед встречей группы старшая медсестра сообщила мне, что Магнолии выписывали самые разные психотропные лекарства – но безуспешно, и что все, в том числе прикрепленная к ней много лет патронажная сестра, уже давно отчаялись уговорить ее на какую-нибудь психотерапию, нацеленную на понимание себя и своих отношений. Так почему же я все-таки решил попробовать еще раз? Помог ли я ей? В этом я сомневался. Пусть ординаторы и сочли мою заключительную интерпретацию «мощной» (да, когда я говорил, я и сам был в этом уверен) – в глубине души я знал, что все это фальшивка: не было никакой надежды, что моя интерпретация окажется полезной для Магнолии. Ее симптомы: необъяснимый паралич ног, галлюцинации о ползающих по ней насекомых, мания, что нашествие насекомых в ее доме – это заговор, – были очень серьезны, и их излечение находилось далеко за пределами возможностей психотерапии. Даже при самых благоприятных условиях – неограниченном запасе времени с умелым терапевтом – психотерапия мало помогла бы Магнолии. А здесь такие благоприятные возможности полностью отсутствовали: у Магнолии не было ни денег, ни страховки, и, без сомнения, ее выпишут в какой-нибудь совершенно нищий дом престарелых, где у нее не будет ни единого шанса приступить к психотерапии. Рассуждения, что моя интерпретация подготовит Магнолию к будущей работе, были чистым самообманом. Так насколько «мощной» в этих условиях была моя интерпретация? Мощная – для чего? Ее мощь – это плод воображения. На самом деле мое убедительное красноречие было направлено не на силы, сковавшие Магнолию, а на слушателей-студентов. Магнолия пала жертвой моего тщеславия. Вот теперь я был ближе к истине. И все же у меня на душе было неспокойно. Я спросил себя: почему же я так ошибся? Я нарушил фундаментальный принцип психотерапии: не разрушай зашиты пациента, если у тебя нет ничего лучшего взамен. А что двигало мною? Почему Магнолия стала для меня настолько важной? Я подозревал, что ответ на этот вопрос кроется в моей реакции на смерть матери. Я снова стал вспоминать ход встречи. Когда это стало затрагивать меня лично? Сразу, при первом взгляде на нее: ее улыбку, ее предплечья. Руки моей матери. Как же они притягивали меня к себе! Как я хотел, чтобы меня окружили, поддержали и успокоили эти мягкие, как тесто, руки. И эта песня Джуди Коллинз... Как там?.. Я начал припоминать слова... Но вместо слов песни мне вспомнился давно забытый день. Мы живем в Вашингтоне, мне восемь или девять лет. По субботам после обеда мы с приятелем по имени Роджер часто ездили на велосипедах в парк под названием «Дом Ветеранов» и там на поляне устраивали пикники. В тот день мы решили поджарить на костре не сосиски, как обычно, а курицу – и стащили ее со двора, стоявшего рядом с парком дома. Но сначала про убийство – мое столкновение со смертью, ставшее ритуалом инициации. Роджер взял инициативу на себя и со всей силы треснул жертвенную курицу огромным камнем. Курица, раздавленная и окровавленная, продолжала бороться за жизнь. Я был в ужасе. Не в силах смотреть на несчастное создание, я отвернулся. Дело зашло слишком далеко. Я хотел, чтобы все стало как раньше. В тот момент – там и тогда – я потерял интерес к нашему плану, я уже не хотел выглядеть взрослым. Я хотел к маме, хотел сесть на велосипед и поехать домой и чтобы мама крепко обняла меня. Я хотел обратить время вспять, стереть все. Начать день сначала. Но обратного пути не было – мне оставалось только смотреть, как Роджер схватил курицу за разбитую голову и начал вертеть в воздухе, как болас, пока она наконец не затихла. Должно быть, мы ощипали ее, выпотрошили, насадили на вертел. Должно быть, мы поджарили ее на костре и Мама и смысл жизни 40 съели. Я со странной ясностью помню, как хотел обратить всю катастрофу вспять, но что мы делали потом – начисто забыл. Освободиться от воспоминаний об этом дне я смог только тогда, когда задал себе вопрос: почему я вспомнил об этом именно сейчас, ведь до этого момента эти воспоминания много десятилетий пролежали в дальнем углу чулана моей памяти? Что связывало заставленную инвалидными колясками больничную палату и события, так давно разыгравшиеся во время пикника в парке «Дом Ветеранов»? Может быть, идея о том, что я зашел слишком далеко – как зашел слишком далеко с Магнолией. Может быть, какое-то интуитивное понимание необратимости времени. Может быть – ноющая боль, тоска по матери, которая защитила бы меня от жестоких фактов жизни и смерти. После группы у меня все еще оставался горький привкус, но я чувствовал, что подобрался к источнику этой горечи: ну конечно, это моя глубокая тоска по материнской поддержке, усиленная смертью матери, вошла в резонанс с образом земли-матери Магнолии. Быть может, в попытках справиться со своей собственной потребностью в покое и поддержке я сорвал с нее этот образ, разоблачил святыню, уничтожил ее силу? Слова той песни, песни матери-земли, строка за строкой начали возвращаться: «Сложи свои печали и мне отдай... Я своею рукою... их успокою...» Дурацкие, детские слова. Я лишь смутно мог вспомнить то комфортное, изобильное, теплое место, куда они меня когда-то приводили. Сейчас эти слова больше не работали. Так же, как глядя на картинки Эшера или Вазарелли, пытаешься стряхнуть иллюзию и вернуться к предыдущему образу, я пытался переключиться обратно – но тщетно. Смогу ли я жить без этой иллюзии? Всю жизнь я пытался найти покой и поддержку у многих земных матерей. Я выстроил их перед собою: моя умирающая мать, от которой я всегда чего-то хотел – не знаю, чего, – даже когда она испускала дух; многочисленные преданные черные домработницы, которые меня, ребенка, держали на руках, и чьи имена давно стерлись из моей памяти; моя сестра, которую никто не любил, предлагающая мне остатки еды со своей тарелки; измученные учительницы, которые своей похвалой выделяли меня; мой старый психоаналитик, который сидел преданно – и молча! – со мной три года. Сейчас я стал яснее понимать, что из-за всех этих чувств – назовем их «контрпереносом» – я почти наверняка не смог бы предложить Магнолии терапевтическую помощь, не замутненную моим личным конфликтом. Если бы я оставил ее в покое, просто купался бы в ее человеческом тепле, как Роза, если бы я довольствовался малым, я бы осудил себя за использование пациентов для собственного комфорта. В реальности я бросил вызов защитным структурам Магнолии и теперь осуждал себя за манию величия и за то, что принес Магнолию в жертву учебным целям. А вот что я не смог сделать – так это отложить в сторону все мои чувства и встретиться с реальной Магнолией – с человеком из плоти и крови, а не с образом, который я на нее нацепил. На следующий день после группы Магнолию выписали из больницы, и я случайно наткнулся на нее в больничном коридоре, в очереди к окну аптеки, выдающей лекарства амбулаторным пациентам. Если не считать крохотного кружевного чепца и вышитого синего одеяла (подарка Розы), покрывающего ее ноги в инвалидной коляске, Магнолия выглядела как обычно – усталая, пообносившаяся, она ничем не выделялась из длинной серой очереди просителей, растянувшейся впереди и позади нее. Я кивнул Магнолии, но она меня не заметила, и я поспешил дальше. Через пару минут я передумал и повернул обратно, чтобы найти ее. Она была у аптечного окна – прятала выданные лекарства в потертую вышитую сумочку, лежавшую у нее на коленях. Я смотрел, как она покатила коляску к выходу из больницы, остановилась, открыла сумочку, вытащила носовой платочек, сняла очки в толстой золотой оправе и элегантным движением вытерла слезы, льющиеся по щекам. Я подошел к ней. – Магнолия, здравствуй. Помнишь меня? – Голос-то ваш точно знакомый, – сказала она, снова надевая очки. – Ну-ка погодите-ка минутку, дайте на вас поглядеть. Она уставилась на меня, моргая, а потом расплылась в теплой улыбке. – Докта Ялом. Канешна, я вас помню. Приятно, что вы остановились и наведались. Я хотела с вами поговорить, с глазу на глаз, вроде как, – она указала на стул в конце коридора. – Вон там вы можете присесть, а мое кресло у мине всегда с собой. Не подкатите мине? Мы переместились туда, и я сел. Магнолия сказала: Мама и смысл жизни 41 – Вы, докта, не глядите на мои слезы. Я сегодня реву, никак не перестану. Пытаясь утихомирить мой нарастающий страх, что вчерашняя встреча действительно повредила Магнолии, я спросил: – Магнолия, ты плачешь из-за того, что случилось вчера на группе? – Группа? – она посмотрела на меня скептически. – Докта Ялом, разве ж вы не помните, чего я вам вчера сказала, под конец той группы. Сегодня годовщина моей мамы – год, как она померла. – Ох, конечно, Магнолия, прости. Я сейчас плоховато соображаю. Наверно, на меня тоже слишком много свалилось, – я с облегчением переключился на роль терапевта. – Ты по ней очень скучаешь, да? – Верно. И вы же помните, Роза сказала, что мамы не было при мине, когда я росла – пятнадцать лет не было, а потом она вдруг вернулась. – Но потом, когда она вернулась, она о тебе заботилась? Поддерживала, успокаивала тебя, как положено мамам? – Мама есть мама. Какая б ни была, она у человека одна. Но вы знаете, моя мама об мине не очень-то заботилась – наоборот... ей было девяносто лет, когда она померла. Так что дело совсем не в том... скорее, просто в том, что она была. Не знаю... наверное, она была что-то такое, что мне было нужно. Вы понимаете, о чем я? – Да, Магнолия, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Прекрасно понимаю. – Может, мине невместно так говорить, докта, но я думаю, вы, навроде мине, тоже скучаете за своей мамой. Докторам тоже нужны мамы, как и мамам нужны мамы. – Ты все правильно говоришь, Магнолия. У тебя хорошее шестое чувство, Роза была права. Но ты о чем-то хотела со мной поговорить? – Ну, дак я уже сказала – про то, что вы скучаете за мамой. Это одно. А потом насчет той группы. Я просто хотела спасибо сказать. Я от той группы много почерпнула. – А ты можешь мне сказать, что именно? – Я узнала кое-что важное. Узнала, что больше не буду растить детей. Я свое отработала – навсегда... Магнолия затихла и отвернулась, глядя в глубину коридора. Важное? Навсегда? Неожиданные слова Магнолии заинтриговали меня. Я хотел продолжить разговор и огорчился, услышав ее слова: – О, глядите, Клодия за мной идет. Клодия выкатила Магнолию через парадный вход к фургону, который должен был отвезти ее в дом престарелых, куда ее выписали. Я вышел за ней на тротуар и смотрел, как ее вместе с креслом загружают в заднюю дверь фургона. – До свидания, докта Ялом, – она помахала мне рукой. – Будьте здоровы! Как странно, задумался я, смотря, как фургон отъезжает, что я, посвятивший свою жизнь восприятию мира других людей, до встречи с Магнолией не понимал: те, кого мы превращаем в миф, сами отягощены мифами. Они отчаиваются; они оплакивают смерть матери; они ищут возвышенного; а еще они бунтуют против жизни, и порой им приходится калечить себя, чтобы покончить с самопожертвованием. Семь уроков повышенной сложности по терапии горя Однажды, давным-давно, мой старый друг Эрл сообщил мне по телефону, что у его лучшего друга Джека обнаружили злокачественную неоперабельную опухоль мозга. Не успел я посочувствовать, как он сказал: – Слушай, Ирв, я звоню не насчет себя, а насчет другого человека. Я тебя кое о чем попрошу. Для меня это очень важно. Слушай, ты бы не мог поработать с Айрин, женой Джека? Джек умирает ужасной смертью – может быть, самой тяжелой, какая только бывает. Айрин – хирург, и от этого ей, конечно, только тяжелее, она слишком хорошо знает, что ждет ее мужа, и для нее будет еще мучительней стоять и беспомощно смотреть, как рак выедает ему мозг. А потом она останется с маленькой дочкой и кучей больных, которых надо лечить. Ее будущее кошмарно. Мама и смысл жизни 42 Выслушав просьбу Эрла, я захотел помочь. Я хотел выполнить все, о чем он просит. Но была одна проблема. Хорошая терапия требует соблюдения четких границ, а я был знаком и с Джеком, и с Айрин. Правда, не близко, но мы несколько раз встречались в гостях у Эрла. И еще я однажды ходил с Джеком на игру Суперкубка, и несколько раз мы с ним играли в теннис. Я сказал об этом Эрлу и подытожил: – Если попытаешься лечить знакомых, рано или поздно вляпаешься в неприятности. Лучшее, что я могу сделать, – порекомендовать хорошего врача, незнакомого с этой семьей. – Я так и знал, что ты это скажешь, – ответил он. – Я предупредил Айрин, что ты именно так и ответишь. Мы с ней уже сто раз об этом говорили, но она и слышать не желает про другого врача. Она довольно упряма, и хотя в целом не очень уважает психиатров, но зациклилась на тебе. Она говорит, что следила за твоей работой и, бог знает почему, решила, что ты единственный психиатр, достаточно разумный для нее. – Утро вечера мудренее. Я позвоню тебе завтра. Что делать? С одной стороны, долг дружбы: мы с Эрлом никогда ни в чем друг другу не отказывали. Но меня беспокоила потенциальная утечка информации. Эрл и его жена Эмили были моими ближайшими доверенными лицами. А Эмили, в свою очередь, была близкой подругой Айрин. Я мог вообразить, как они с глазу на глаз перемывают мне косточки. Нет, даже и думать не о чем: я слышал, как во мне звучит сигнал тревоги. Но я вывернул регулятор громкости до нуля. Я вытяну из Айрин и Эмили обязательство, что они окружат терапию стеной молчания. Мудрено, ничего не скажешь. Но если я такой разумный, как она обо мне думает, я с этим справлюсь. Повесив трубку, я задумался, почему я с такой готовностью игнорирую сигналы тревоги. Я расценил просьбу Эрла, прозвучавшую именно в этот момент моей жизни, как знак судьбы. Дело в том, что мы с коллегой только что закончили трехлетнее эмпирическое исследование состояния тяжелой утраты после смерти супруга. Мы изучили восемьдесят мужчин и женщин, которые недавно стали вдовцами и вдовами. Я, не жалея времени, беседовал с каждым из них, а также некоторое время проводил групповую терапию в группах по восемь человек. Наша исследовательская команда отслеживала происходящие с ними изменения, собрала гору информации и опубликовала несколько трудов в профессиональных журналах. Я пришел к убеждению, что очень мало кто разбирается в этом вопросе лучше меня. И было бы бессовестно мне, такому крутому спецу по тяжелой утрате, отказаться от Айрин! Кроме того, она произнесла волшебные слова – я единственный, кто достаточно разумен, чтобы с ней работать. Идеально подходящий штепсель для розетки моего тщеславия. Урок 1. Первый сон Через несколько дней состоялся наш с Айрин первый сеанс психотерапии. Должен сразу сообщить, что она оказалась одной из самых интересных, умных, упрямых, страдающих, чувствительных, властных, элегантных, трудолюбивых, изобретательных, неуступчивых, отважных, привлекательных, гордых, ледяных, романтичных и приводящих меня в бешенство женщин, каких я когда-либо знал. В середине первого сеанса она рассказала мне сон, увиденный накануне. Я по-прежнему хирург, но одновременно с этим аспирантка факультета английского языка. Мне надо было прочитать два разных текста – древний и современный с одним и тем же названием. Я не прочитала ни одного, поэтому – не готова к семинару. Особенно волнуюсь, что не прочитала старый, первый текст, который бы подготовил меня к чтению второго. – Айрин, что вы еще помните? – спросил я, когда она замолчала. – Вы сказали, что тексты назывались одинаково. Вы помните, как именно? – Да, ясно помню. Обе книги, и старая и новая, назывались «Смерть невинности». Слушая Айрин, я погрузился в мечты. Этот ее сон был чистым золотом, амброзией для ума – просто даром богов. Воплощенная мечта психолога-детектива. Вознаграждение за терпение, за бесчисленные нудные часы терапевтических сеансов с заторможенными инженерами. Даже самый раздражительный, самый сварливый психотерапевт, выслушав такой сон, замурлыкал бы от наслаждения. Вот и я замурлыкал. Два текста – древний и новый. Мурр, мурр. Мама и смысл жизни 43 Древний нужен, чтобы понять новый. Мурр. Мурр. И название – «Смерть невинности». Мурр, мурр, мурр. Дело было не только в том, что сон Айрин обещал интеллектуальное приключение – поиски драгоценнейшего сокровища, но еще и в том, что это был первый сон. С 1911 года, когда Фрейд впервые написал об этом, инициальный сон – тот, о котором пациент рассказывает во время психоанализа, – окружен мистикой. Фрейд считал, что первый сон бесхитростен и прозрачен: он многое раскрывает, потому что начинающий пациент еще наивен и еще не успел выстроить систему защиты. Позднее, когда выясняется, что терапевт превосходно толкует сны, Тот-Кто-Плетет-Сны, проживающий в бессознательном пациента, становится все осторожней, обучается быть всегда настороже и в полной боевой готовности и всячески старается сплести более сложные и запутанные сны. Начитавшись Фрейда, я часто представлял себе Того-Кто-Плетет-Сны пухленьким, жизнерадостным гомункулусом, который живет себе припеваючи в лесу дендритов и аксонов. Днем он спит, а вот ночью, раскинувшись на постели из гудящих синапсов, пьет медовый нектар и лениво плетет сны для своего хозяина, один ряд за другим. В ночь перед первой встречей с терапевтом хозяин засыпает, полный противоречивых чувств по поводу грядущей психотерапии, а гомункулус, как обычно, начинает свою ночную работу, беззаботно сплетая эти страхи и надежды в простой, прозрачный сон. На следующий день гомункулус, узнав, что психотерапевт искусно истолковал этот сон, сильно настораживается. Он благосклонно снимает шляпу перед достойным соперником – терапевтом, который взломал код сна, – но с этого момента начинает прилагать все усилия, чтобы похоронить смысл сновидения все глубже и глубже в темноте подсознания. Дурацкая сказка. Типичный для девятнадцатого века антропоморфизм. Широко распространенная ошибка – превращать абстрактные ментальные структуры Фрейда в независимых духов, обладающих свободой воли. Если б только я сам в это не верил! В течение десятилетий многие считали первый сон бесценным документом, в котором все содержание невроза переведено на язык снов. Но Фрейд зашел так далеко, что предположил: полное истолкование первого сна совпадет с содержанием всего курса психоанализа. Мой первый сон во время моего собственного психоанализа живет и сейчас в моей памяти со всей свежестью, всеми деталями и ощущениями, как и в тот день, когда я его увидел – сорок лет назад, когда я только поступил в ординатуру. Я лежу на столе для обследования в кабинете врача. Простыня слишком маленькая и не закрывает меня как следует. Я вижу медсестру, она втыкает иглу мне в ногу – в голень. Вдруг раздается резкий звук, похожий на взрыв, шипящий и булькающий – ФФУУУУШШШ. Центральный образ сна – это громкое «ффуушш» – был мне понятен сразу. В детстве я страдал от хронического гайморита, и каждую зиму мать водила меня к доктору Дэвису делать проколы и промывать пазухи носа. Я ненавидел его желтые зубы и рыбий глаз, взиравший на меня через дырку в круглом зеркале, укрепленном на головном обруче, какие тогда носили врачиотоларингологи. Доктор вставлял мне полую иглу в отверстие носовой пазухи, я ощущал острую боль, потом раздавалось оглушительное «ффуушшшш» – это закачиваемый соляной раствор промывал пазуху. Глядя на дрожащую, омерзительную массу, вымываемую из моего носа в полукруглый хромированный лоток, я думал, что вместе с гноем и слизью туда смывают и немножко моих мозгов. Фрейд оказался прав: мой первый сон предвосхитил многие годы психоаналитических раскопок, слой за слоем: мой страх разоблачения, страх потерять рассудок, стать жертвой промывания мозгов, страх, что серьезно и болезненно пострадает (во сне – сдуется) некая длинная прочная часть моего тела (во сне – голень). Фрейд – и после него многие другие психоаналитики – предостерегал от слишком торопливого толкования первого сна: преждевременная интерпретация, столкновение лицом к лицу с бессознательным пугают пациента и полностью парализуют сплетающего сны гомункулуса. Мне всегда казалось, что эти предостережения направлены не столько на повышение эффективности терапии, сколько на защиту интересов ограниченного довольно узкими рамками психоанализа, – и я им никогда не верил. С сороковых по шестидесятые годы работа психотерапевта приравнивалась к хождению по Мама и смысл жизни 44 тонкой скорлупе. Аккуратность, точность и деликатность формулирования фраз и выражений во время интерпретации – вот что было предметом бесконечных, полных тайн дебатов между психоаналитическими обществами. Бомбардируемые пропагандой о том, что интерпретация должна быть безукоризненной по своевременности и формулировке, начинающие аналитики – полные страха и трепета – осторожно крались через терапию, удушая свою спонтанность, и тем самым – свою эффективность. Я считал, что такой формализм приводит к обратным результатам, поскольку препятствует достижению более глобальной цели – созданию эмпатических, подлинных отношений с пациентом. Я считаю, предостережение Фрейда «не работать со снами, пока не создан терапевтический альянс» странным образом вывернуто на изнанку: совместная работа над сном – прекрасный путь, чтобы создать терапевтический альянс. Поэтому я погрузился прямо в сон Айрин. – Значит, вы не прочитали ни одного текста, – начал я, – и особенно вас волнует старый. – Да, да, я предполагала, что вы об этом спросите. Конечно, это звучит полной чепухой, я знаю. Но это – именно то, что я видела во сне. Я не сделала домашнего задания – я не прочитала ни один, ни другой текст, но особенно волнуюсь, что не прочитала тот, древний. – Тот, который подготовил бы вас к новому тексту. Есть ли у вас какие-нибудь предположения, что могли бы означать эти два текста применительно к вашей жизни? – Едва ли это можно назвать предположениями, – ответила Айрин. – Я совершенно точно знаю, что они значат. Я ждал от нее продолжения, но она сидела молча, глядя в окно. Я еще не знал об этой ее привычке, так раздражающей меня, – добровольно не предлагать никаких выводов, пока я прямо не попрошу ее об этом. Раздосадованный, я выдержал молчание минуту или две. Потом сдался: – И эти два текста, Айрин, это... – Смерть моего брата, когда мне было двадцать. Это древний текст. Смерть моего мужа подходит все ближе – это современный текст. – Значит, этот сон ясно говорит, что вы не сможете справиться со смертью мужа, пока не примете смерть брата. – Правильно. Совершенно верно. Исследование этого инициального сна предвосхищало не только суть и содержание терапии, но и ход ее развития, процесс, то есть природу взаимоотношений психотерапевта и пациента. Во-первых, Айрин всегда была откровенна и вдумчива. На любой мой вопрос она давала оригинальный и всеобъемлющий ответ. Знала ли она названия этих двух текстов? Да, действительно знала. Догадывалась ли, почему нужно прочитать древний текст, чтобы понять современный? Конечно: она в точности знала, что это значит. Даже обычные вопросы – «Какой вы делаете из этого вывод?» или «А о чем вы сейчас подумали, Айрин?» – никогда не были напрасны за все пять лет терапии, принося богатый урожай. Часто ответы Айрин сбивали меня с толку: она отвечала слишком быстро и слишком точно. Это напоминало мне мою учительницу в пятом классе мисс Фернальд, которая часто говаривала: «Давай же, Ирвин», – засекала время и, нетерпеливо притопывая, ждала, пока я прекращу мечтать и справлюсь с заданием. Я выкинул из головы мисс Фернальд и продолжил: – А что для вас означают слова «Смерть невинности»? – Представьте себе, что значило для меня, двадцатилетней, потерять брата. Я ожидала, что мы пойдем по жизни вместе, но его у меня отняли – он погиб, попал под машину. А потом я нашла Джека. И представьте себе, что значит для меня теперь, в сорок пять лет, потерять его. Представьте, каково мне, когда мои родители, которым за семьдесят, живы, а брат – умер, и муж умирает. Распалась связь времен. Молодые умирают первыми. Айрин рассказывала мне о своих благословенных отношениях с братом Алленом, который был на два года старше ее. Пока она была подростком, он был ей защитником, наперсником, наставником, о каком мечтает любая девушка. Но – внезапный скрежет тормозов на бостонской улице, и Аллена не стало. Айрин рассказала мне, как раздался звонок полиции в небольшом доме, который Айрин делила с другими студентами, и как все подробности того дня навеки застыли у нее в памяти. – Я помню все: звонок телефона на первом этаже, свой банный халат из синели с бело- Мама и смысл жизни 45 розовыми махровыми полосками, шлепание фланелевых тапочек, когда я спускалась по лестнице к нише рядом с кухней, где телефон висел на стене... такие гладкие перила в моей руке. Помню, я подумала, что дерево перил было отполировано руками целого поколения моих предшественников, студентов Гарварда и Рэдклиффа. А потом – мужской голос, незнакомый, стараясь быть вежливым, сообщил, что Аллен мертв. Я просидела несколько часов, вглядываясь в игру стеклянных граней окна в нише. До сих пор помню радугу на кучах закопченного снега на заднем дворе. В ходе терапии нам предстояло еще бесчисленное число раз вернуться ко сну о двух текстах и значению слов «Смерть невинности». Потеря брата оставила неизгладимый след в жизни Айрин. Смерть навеки взорвала ее невинность. Развеялись мифы детства: что мир справедлив, предсказуем, Господь благосклонен, все идет своим чередом, родители – защитят, а дома безопасно. Одинокая и не защищенная от превратностей судьбы, Айрин боролась за безопасность. Она верила, что Аллен смог бы выжить, если бы ему оказали правильную и своевременную медицинскую помощь. Ей казалось, что медицина – единственная надежда победить смерть. Поэтому на похоронах Аллена она внезапно решила подать документы на медицинский факультет и стать хирургом. Другое решение, вызванное смертью брата, имело огромные последствия для нашей работы в терапии. – Я поняла, как избежать боли: если я не позволю никому быть столь важным для меня, то больше никогда не испытаю такой потери. – И как это решение отразилось на вашей жизни? – В следующие десять лет я ни к кому не привязывалась, не рисковала. Я встречалась с мужчинами, но рвала с ними быстро – до того, как для них это станет серьезным, и пока я сама не успела еще ничего почувствовать. – Но потом что-то изменилось. Вы вышли замуж. Как это получилось? – Я знала Джека с четвертого класса и почему-то всегда была уверена, что мы будем вместе. Даже когда он исчез из моей жизни и женился на другой, я знала, что он вернется. Мой брат знал Джека и уважал его. Я думаю, вы сказали бы, что мой брат благословил Джека. – Таким образом, одобрение Аллена позволило вам рискнуть выйти замуж? – Все было не так просто. Мы шли к этому очень, очень долго. И даже тогда я отказалась выйти за Джека, пока он не пообещал не умереть молодым у меня на руках. Я оценил иронию Айрин, усмехнулся и взглянул на нее, ожидая ответной улыбки. Но улыбки не было. Айрин и не думала иронизировать: она была абсолютно серьезна. Этот сценарий повторялся в нашей работе много раз. Мне была назначена роль голоса разума. Я часто заглатывал наживку: бросал вызов иррациональности Айрин, спорил с ней, взывал к ее разуму, пытался разбудить ее точный, воспитанный наукой ум. Порой я просто ждал. Но результат всегда был один и тот же: она ни разу не отступила ни на дюйм, никогда не сдала своей позиции. А я так и не привык к ее двойственной натуре: необыкновенной ясности ума в сочетании с нелепой иррациональностью. Урок 2. Стена трупов Если первый сон Айрин предвосхищал природу наших будущих отношений, то другой, увиденный ею на втором году терапии, напротив, как луч, направленный в прошлое, освещал тот путь, который мы уже прошли вместе. Я – в этом кабинете, на этом стуле. Но какая-то странная стена в середине комнаты между нами. Я вас не вижу. Но прежде всего я не могу как следует разглядеть эту стену: она корявая, вся в каких-то расщелинах и выступах. Я вижу клочок ткани – красной шотландки, потом различаю чью-то руку, потом ступню и колено. И я понимаю, что это за стена – она состоит из тел, наваленных друг на друга. – И что за чувства в этом сне, Айрин? – Почти всегда мой первый вопрос. Во сне чувство ведет зачастую в самый центр его смысла. – Неприятно, страшно. Самое сильное чувство было вначале – когда увидела стену и Мама и смысл жизни 46 поняла, что заблудилась. Одна – заблудилась – испугана. – Расскажите про стену. – Когда я сейчас ее описываю, это звучит ужасно – как груда трупов в Освенциме. И тот клочок красной шотландки – я знаю этот рисунок, это была та пижама, которая была на Джеке в ту ночь, когда он умер. Но почему-то эта стена не отвратительная – она просто есть, что-то, что я осматриваю и изучаю. Возможно, она даже подавляет часть моего страха. – Стена мертвых тел между нами – и что вы об этом думаете, Айрин? – Все ясно. Да и весь сон понятен. Именно это я все время и чувствую. Этот сон говорит, что вы не видите меня по-настоящему из-за всех этих трупов, из-за всех этих мертвых. Вы не можете себе представить. С вами никогда ничего не случалось! У вас в жизни не было трагедий. Потери в жизни Айрин громоздились одна на другую. Сначала брат. Потом муж, который умер в конце первого года нашей терапии. Через несколько месяцев у отца Айрин обнаружили запущенный рак простаты, а вскоре после этого ее мать погрузилась в болезнь Альцгеймера. А потом, когда казалось, что терапия идет ей на пользу, двадцатилетний крестник Айрин – единственный сын ее двоюродной сестры, близкой подруги всей ее жизни – утонул, катаясь на лодке. Переживая отчаяние и горечь этой последней потери, Айрин и увидела во сне гору трупов. – Продолжайте, Айрин. Я слушаю. – Я имею в виду – как вы можете меня понять? Вы живете ненастоящей жизнью – теплой, уютной, невинной. Как этот кабинет. – Она указала на заставленные книгами шкафы у себя за спиной и на алый японский клен, пламенеющий прямо за окном. – Не хватает только цветастых вульгарных подушек и камина с потрескивающими дровами. Вы – в кругу своей родни, все живете в одном городе. Нерушимый семейный круг. Да что вы на самом деле можете знать о потерях? Думаете, вы бы справились лучше? А если бы ваша жена или кто-то из детей должен был умереть прямо сейчас? Что бы вы сделали? Даже эта ваша щегольская рубашка в полоску – я ее ненавижу! Каждый раз, когда вы ее надеваете, я содрогаюсь. Я ненавижу то, что она сообщает. – Что же она сообщает? – Она говорит: «Я все свои проблемы решил. Расскажите мне о своих». – Вы рассказывали мне об этих чувствах раньше. Но сегодня они усилились. Почему именно сегодня? И этот сон, почему он приснился вам именно сегодня? – Я же вам рассказывала, что собиралась поговорить с Эриком. И вот вчера я встретилась с ним за ужином. – И? – подбодрил ее я после очередной раздражающей меня паузы, которой Айрин как бы намекала, что я мог бы и сам заметить связь между Эриком и ее сном. Айрин только один раз упомянула этого человека, сказав, что он овдовел десять лет назад и что познакомились они на лекции об утрате близких людей. – И он подтвердил все, что я говорила. Он сказал, что вы дико ошибаетесь, говоря о том, как я справляюсь со смертью Джека. Со смертью не справишься. Никак не сможешь прийти в себя после нее. Эрик снова женился, у него пятилетняя дочь, но рана до сих пор кровоточит. Он разговаривает со своей покойной женой каждый день. Он меня понимает. И я теперь убеждена, что понять это могут только люди, которые сами прошли через это. Это безмолвное тайное сообщество... – Тайное сообщество? – перебил я. – Людей, которые действительно знают – все они выжили, потеряв своих близких, лишившись их. Все это время вы убеждали меня отделиться от Джека, повернуться лицом к жизни, найти новую любовь – и все это было ошибкой. Это ошибка самодовольства, ошибка таких, как вы, которые никогда никого не теряли. – Значит, только потерявшие близких могут лечить потерявших близких? – Те, кто сам прошел через это. – Я слышу эту чепуху с тех пор, как начал работать терапевтом! – взорвался я. – Только алкоголики могут лечить алкоголиков? Или наркоманы – наркоманов? И нужно страдать расстройством пищевого поведения, чтобы лечить анорексию, или быть депрессивным или маниакальным, чтобы лечить аффективные расстройства? Может, нужно быть шизофреником, чтобы лечить шизофрению? Айрин прекрасно знала мое больное место. Она обладала сверхъестественным умением Мама и смысл жизни 47 определять мои главные раздражители и вести по ним прицельный огонь. – Ничего подобного! – парировала она. – Я была капитаном команды дискуссионного клуба в Рэдклиффском универе, и я знаю эту стратегию – сведение к абсурду! Но это не сработает. Признайтесь, вы знаете, что есть правда в том, что я говорю. – Нет, я не согласен. Вы совершенно упускаете из виду профессиональное обучение и специальную подготовку терапевтов! Обучение в моей области в том и состоит, чтобы приобрести чувствительность, эмпатию, способность войти в мир другого человека, испытать то, что испытывает пациент. Я был порядочно раздражен. И я уже научился не сдерживаться. Гораздо лучше мы работали тогда, когда я свободно выражал свои чувства. Бывало, Айрин приходила в мой кабинет настолько подавленная, что с трудом могла разговаривать. Но стоило нам поспорить о чемнибудь, и она неминуемо оживлялась. Я знал, что в этой ситуации беру на себя роль Джека. Он – единственный, кто умел противостоять Айрин. Ее ледяная манера себя вести просто отпугивала всех остальных (хирурги-ординаторы между собой называли ее «Королева»), но Джек никогда перед ней не пасовал. Она рассказала мне, что он никогда не старался скрыть свои чувства и часто выходил из комнаты, бормоча: «Я не желаю терять время на эту собачью чушь». Меня раздражало не только ее настойчивое утверждение, что лишь терапевты, которые сами кого-то потеряли, могут помочь пациентам, пережившим утрату. Я был зол и на Эрика, что он укрепил идею Айрин о том, что горевание по потерянным близким – нескончаемый процесс. Эта идея была частью постоянных дебатов между мной и Айрин. Я занимал твердую, хорошо обоснованную, здравую позицию: работа горя состоит в постепенном отделении от того, кто умер, и переадресации энергии на других людей. Фрейд в 1915 году первым детально разработал такое понимание горевания в своем труде «Печаль и меланхолия». С тех пор правильность этого подхода подтвердили многочисленные клинические наблюдения и эмпирические исследования. По результатам моего собственного исследования, законченного как раз перед началом работы с Айрин, все вдовы и все вдовцы, которых я наблюдал, постепенно отделялись от умерших супругов и потом возвращались в жизнь, к кому-то (или к чему-то) другому. Это произошло и с теми, чей брак был построен на искренней любви и нежности. Фактически, мы получили веские доказательства того, что у большинства вдов, которые были счастливы в браке, процессы горевания и отделения проходили легче, чем у тех, кто жил в глубоко конфликтном браке. (Мне кажется, что этот парадокс можно объяснить сожалением: для людей, проживших жизнь в браке с не подходящим им человеком, горевание осложняется, так как они оплакивают еще и себя, свои впустую потраченные годы.) Поскольку мне казалось, что брак Айрин был исключительно счастливым, что они с мужем поддерживали друг друга, я вначале предполагал, что этот процесс будет проходить без особых осложнений. Но Айрин резко отрицательно относилась к большинству традиционных воззрений на горе после тяжелой утраты. Она ненавидела мои комментарии об отделении от умершего и отмахивалась от результатов моих исследований: – Мы, потерявшие близких, научились отвечать так, как нужно исследователям. Мы научились: мир хочет, чтобы мы быстро оправились, и не любит тех, кто слишком долго цепляется за свои потери. Она крайне обижалась на мои советы отпустить Джека: прошло два года после его смерти, а его вещи все еще лежали в ящиках его письменного стола, его фотографии висели по всему дому, его любимые журналы и книги стояли на прежних местах, и Айрин по-прежнему каждый день вела с ним долгие беседы. Я беспокоился, что ее разговор с Эриком отбросит нашу терапию на много месяцев назад, укрепив ее идею о моей неправоте. Теперь мне еще труднее будет убедить Айрин, что со временем она оправится от горя и придет в себя. Что же до ее глупой веры в тайное безмолвное сообщество скорбящих единомышленников, это была еще одна из неисчислимого множества ее иррациональных заносчивых метафор. Бессмысленно даже как-то реагировать на эту ее точку зрения. Но, как всегда, некоторые замечания Айрин попали в цель. Я слышал историю про швейцарского скульптора Альберто Джакометти: он угодил в дорожное происшествие и сломал ногу. Лежа на улице в ожидании кареты «Скорой помощи», он произнес: «Наконец-то, наконец-то со мной что-то случилось!» Я прекрасно знал, что он имеет в виду. Айрин меня раскусила. Я Мама и смысл жизни 48 преподавал в Стэнфорде уже больше тридцати лет, все это время жил в одном и том же доме, смотрел, как мои дети ходят в одни и те же школы, и никогда не сталкивался лицом к лицу с тьмой. Никаких тяжелых преждевременных смертей: мои отец и мать умерли в преклонном возрасте, он – в семьдесят, она – после девяноста. Моя сестра, семью годами старше меня, здорова. Я не терял близких друзей, а мои четверо детей живут по соседству со мной и преуспевают. Мыслящий в экзистенциальной системе координат скажет, что такая благоприятная жизнь в тепличных условиях – это препятствие. Сколько раз я хотел рискнуть и вырваться из университета, этой башни из слоновой кости, на волю – к трудностям реального мира. Годами я представлял себе, как провожу свой творческий отпуск простым рабочим, «синим воротничком», а может быть – водителем «Скорой помощи» в Детройте, или поваром в буфете в Бауэри 8, или готовлю сэндвичи в манхэттенском гастрономе. Но так и не собрался: не мог сопротивляться сладкоголосому пению сирен – то освободившейся на время отпуска квартире коллеги в Венеции, то стипендии на научно-исследовательскую работу в городке Белладжо на озере Комо. Я, когда рос, не знал, что такое разрыв брачных отношений, и сам никогда не сталкивался с одиночеством в зрелом возрасте. Я встретил Мэрилин, свою жену, когда мне было пятнадцать лет, и тут же решил, что она – моя суженая. (Я даже поспорил со своим лучшим другом на 50 долларов, что женюсь на ней, и забрал эти деньги через восемь лет.) Наш брак не всегда был безмятежным – слава богу за Бурю и Натиск, – но на протяжении всей моей жизни жена была мне любящим другом, который всегда на моей стороне. Иногда я тайно завидовал своим пациентам, живущим «на грани»: у них хватало мужества радикально изменить свою жизнь, они переезжали, уходили с работы, меняли профессию, разводились и начинали все сначала. Меня беспокоила моя роль вуайериста, и я гадал, уж не поощряю ли я втайне своих пациентов совершать героические шаги вместо меня. Обо всем этом я сказал Айрин. Ничего не упуская. Сказал, что она права насчет моей жизни, – но не полностью. – Все же вы не правы, говоря, что я никогда не переживал трагедий. Я делаю все, что могу, чтобы быть ближе к трагедии. Я постоянно сосредоточен на своей смерти. Когда я с вами, я часто воображаю, каково было бы мне, если бы моя жена была смертельно больна, и каждый раз я испытываю неописуемое горе. Я осознаю, в полной мере осознаю, что иду вперед, что я перешел на другую стадию моей жизни. Уйти на пенсию из Стэнфорда раньше положенного срока – значит сделать необратимый шаг. Все признаки старости – мой порванный коленный хрящ, мое слабеющее зрение, боли в спине, все мои старческие болячки, седеющая борода и волосы, мои сны о моей собственной смерти – все говорит мне, что я приближаюсь к концу моей жизни. Десять лет, Айрин, я предпочитал работать с пациентами, умирающими от рака, надеясь, что они помогут мне приблизиться к трагической сердцевине жизни, ее сокровенной части. Это действительно произошло, и я вернулся в личную терапию – три года имел возможность видеть Ролло Мэя, чья книга «Экзистенциальная психология» была столь важна для меня, когда я учился психиатрии. Эта терапия была непохожа ни на какую другую личностную работу, которую мне приходилось проделывать ранее, и я с головой окунулся в опыт собственной смерти. Айрин кивнула. Я знал этот жест, эту характерную последовательность движений: сначала резко дергается подбородок, потом два-три плавных кивка – ее телесная азбука Морзе, обозначающая, что мой ответ удовлетворителен. Я выдержал испытание – на данный момент. Но я еще не закончил со сном. – Айрин, я думаю, есть еще много чего в вашем сне. Я сверился со своими записями (почти все записи, которые я делаю во время сессий, касаются именно снов, потому что они могут исчезнуть – пациенты часто тотчас же их подавляют или искажают) и прочитал вслух первую часть ее сна: Я – в этом кабинете, на этом стуле. Но какая-то странная стена в середине комнаты между нами. Я вас не вижу. – Что меня впечатлило, – продолжил я, – так это последнее предложение. Во сне вы не 8 Бедный район Манхэттена с высокой преступностью. Мама и смысл жизни 49 видите меня. Однако всю эту сессию мы обсуждали обратное – это я не вижу вас. Я хочу спросить вас вот о чем: несколько минут назад, когда я говорил о своем старении, операции на колене, глазах... – Да, да, я все это слышала, – воскликнула Айрин, подгоняя меня. – Вы слышали – но, как обычно, когда я упоминаю о своем здоровье, ваши глаза затуманиваются. Помните, мне делали операцию на глазах, и в течение нескольких недель после операции мне пришлось явно нелегко, я ходил в черных очках, но вы так и не спросили меня, как прошла операция, как я себя чувствую. – Мне незачем знать о вашем здоровье. Пациентка здесь – я. – О нет, тут кроется нечто большее, это не просто отсутствие интереса, и дело не в том, что вы – пациентка, а я доктор. Вы меня избегаете. Вы не желаете ничего про меня знать. Особенно вы закрываетесь от любых сведений, которые как-то снижают мой образ. С самого начала я вам сказал, что, поскольку мы встречались в обществе и у нас есть общие друзья, Эрл и Эмили, я не смогу от вас укрыться. Но вы ни разу не поинтересовались мной, не пожелали про меня что-либо узнать. Вам это не кажется странным? – Когда я начала ходить к вам, я не хотела снова идти на риск потерять близкого человека. Я не выдержала бы. Поэтому у меня оставались только две возможности... И тут Айрин, по своему обыкновению, замолчала, словно я должен был угадать конец фразы. Мне не хотелось ее поощрять, но сейчас важно было поддерживать поток ее речи. – И что же это были за возможности? – Первая – не допускать, чтобы вы стали для меня что-то значить. Но это, конечно, было невозможно. А вторая – не видеть в вас реального человека, со своей историей. – С историей? – Да, с историей жизни, которая начинается с начала и идет к концу. Я хочу сохранить вас вне времени. – Сегодня вы, как обычно, вошли ко мне в кабинет и направились прямо к своему стулу, не глядя на меня. Вы всегда избегаете смотреть мне в глаза. Вы это имеете в виду, когда говорите «сохранить вне времени»? Она кивнула. – Когда я смотрю на вас, вы становитесь слишком реальны. – А реальным людям приходится умирать. – Вот теперь вы все поняли. Урок 3. Гнев горевания – Айрин, я только что узнал, – начал я однажды сессию, – что умер муж моей сестры, несколько часов назад. Скоропостижно. Сердце. Я, понятно, потрясен и выбит из колеи, – тут мой голос дрогнул, – но сделаю все от меня зависящее, чтобы это нам сегодня не помешало. Мне было трудно говорить и трудно что-то делать, но я чувствовал, что у меня нет выбора. Мортон, муж моей единственной сестры, был мне дорогим другом и много значил в моей жизни с самой юности, с моих пятнадцати лет. Потрясенный звонком сестры, я тут же забронировал билет на ближайший рейс в Вашингтон, чтобы быть рядом с ней. После этого я стал отменять свои встречи с пациентами в ближайшие несколько дней и увидел, что через два часа должна прийти Айрин. Приняв ее, я еще успею на самолет. Отменять ли встречу? За три года нашей терапии Айрин никогда не опаздывала на сессии и ни одной не пропустила, даже в те жуткие дни, когда опухоль уничтожала мозг и личность Джека. Несмотря на кошмар безжалостного и неумолимого разрушения основ существования своего мужа, Айрин ни разу не отступилась от нашей работы. И я тоже. С нашей первой сессии, когда я пообещал: «Я не оставлю вас наедине с этим», – я всецело и искренно посвятил себя помощи ей. Значит, и в этот горестный день ясно, что мне делать: встретиться с ней и быть честным. Но Айрин ничего не ответила. Мы посидели в молчании пару минут, и я спросил: – Где блуждают ваши мысли? – Я хотела бы знать, сколько ему было лет. – Семьдесят. Он как раз собирался уйти на пенсию, оставить врачебную практику. Мама и смысл жизни 50 Я замолчал и стал ждать. Чего? Возможно, общепринятого краткого соболезнования. Может быть, даже благодарности за то, что я решил принять Айрин, несмотря на свое горе. Тишина. Айрин сидела молча, откровенно уставившись на выцветшее пятнышко от кофе на ковре. – Айрин, что происходит в пространстве между мной и вами сегодня? Я неизменно задавал этот вопрос на каждой сессии, так как был убежден, что не было ничего важнее, чем исследование наших отношений. – Ну, наверное, он был хороший человек, – сказала она, глядя все туда же. – Иначе вы бы не были таким печальным. – О, ну только этого не надо, Айрин. Давайте правду. Что происходит у вас в голове? Вдруг она взглянула на меня, глаза ее горели. – Мой муж умер в сорок пять лет, и если я после этого могу каждый день входить в операционную, оперировать, руководить практикой и учить студентов, то вы уж точно можете прийти сюда и меня принять, черт возьми! Меня потрясли не столько ее слова, сколько то, как они звучали. Хриплый, низкий тембр – это была не Айрин. Это был не ее голос. Это было похоже на сверхъестественный гортанный голос девочки из фильма «Экзорцист». Не успел я хоть что-то ответить, как Айрин наклонилась и взяла с пола свою сумку. – Я ухожу! – сказала она. У меня напряглись икры – наверное, я собирался удержать ее, если она ринется к двери. – Нет, никуда вы не уходите. Особенно после такого. Останетесь здесь и выговоритесь как следует. – Не могу. Не могу работать, не могу остаться здесь с вами. Я не гожусь на то, чтобы быть с кем-либо. – В этом кабинете есть только одно правило: полностью высказывать все, о чем вы думаете. Вы делаете свою работу. Хорошо как никогда. Бросив сумочку на пол, Айрин плюхнулась обратно в кресло. – Я рассказывала вам, что после смерти брата я всегда разрывала отношения с мужчинами одним и тем же способом. – Как? Расскажите еще. – У них что-нибудь случалось – какая-то неудача, проблема, может быть, болезнь, авария, и тогда я начинала вести себя по-свински и отсекала их от своей жизни. Быстрый хирургический разрез и все! Я режу чисто. Раз и навсегда. – Потому что вы сравнивали их проблемы с безмерностью потери Аллена? И это усиливало вашу горечь? Она признательно кивнула. – Да, я уверена, это в значительной степени все объясняет. И еще я не хотела, чтобы они для меня что-то значили. Не хотела слушать про их мелкие проблемы. – А сегодня со мной? – Все в красном цвете! Гнев! Я хотела в вас чем-нибудь запустить! – Потому что чувствовалось, как будто я сравнивал свою потерю с вашей? – Да. А потом я подумала, что, когда мы закончим сессию, вы пойдете по дорожке своего садика к жене, которая вас ждет, а с ней – вся ваша аккуратненькая, уютненькая жизнь. И тогда у меня глаза заволокло красным. Мой кабинет – всего лишь в паре сотен футов от моего дома, в удобном коттедже с красной черепичной крышей, укутанном зеленью и цветами люпина, глицинии, плюмерии и испанской лаванды. Айрин любила спокойствие моего кабинета, но часто саркастически говорила, что я живу словно на картинке в книжке. – Я не только на вас разозлилась, – продолжала она. – На всех, кто живет без горя и забот. Вы мне рассказывали про вдов, которые ненавидят, когда у них нет роли, которые ненавидят, когда они чувствуют себя никчемными на званых обедах. Но дело не в роли, не в чувстве собственной никчемности: дело в том, что ты ненавидишь всех остальных, потому что у них есть жизнь, дело в зависти, в том, что твоя жизнь наполнена горечью. Вы думаете, мне нравится чувствовать это? Мама и смысл жизни 51 – Минуту назад, когда вы были готовы уйти, вы сказали, что не годитесь на то, чтобы быть с кем-либо. – А что, гожусь? Вы хотите быть с кем-то, кто ненавидит вас за то, что ваша жена жива? Кто-нибудь хочет быть рядом с таким человеком? Черная липкая грязь – помните? Кому понравится, когда тебя марают? – Я ведь не дал вам уйти. Ответа не было. – Я подумал, как, должно быть, у вас голова идет кругом от того, что вы так злитесь на меня и одновременно чувствуете такую близость, такую благодарность. Она кивнула. – Погромче, пожалуйста, Айрин. Я вас почти не слышу. – Ну, мне стало дурно от мысли: почему вы сегодня рассказали мне о своем зяте. – У вас, кажется, какие-то подозрения. – Очень даже. – Было какое-то предчувствие? – Это больше, чем предчувствие. Думаю, вы пытались мной манипулировать. Хотели посмотреть, как я буду реагировать. Проверить меня. – Не удивительно, что вы взорвались. Может быть, вам поможет, если я расскажу, что именно происходило со мной сегодня, когда я узнал о смерти Мортона. Я рассказал ей, что отменил все остальные встречи с пациентами, но с ней решил встретиться и объяснил, почему. – Я не мог отменить встречу, ведь вы мужественно приходили сюда, несмотря ни на что. Но, – продолжал я, – передо мной все еще стоял вопрос: как быть с вами и в то же время справляться со своей потерей. Так скажите, Айрин, что я должен был сегодня сделать? Замкнуться в себе и закрыться от вас? Это было бы еще хуже, чем отменить прием. Постараться быть рядом с вами, быть честным с вами и не рассказать, что произошло? Невозможно, тогда беда неминуема: я давно узнал, что если между двумя людьми есть что-то важное, и они об этом не говорят, то они не будут говорить и ни о чем другом значимом тоже. Вот эту область, – я жестом обозначил воздушное пространство между нами, – мы должны держать чистой и свободной, и это такая же моя работа, как и ваша. Поэтому я искренне рассказал, что происходило со мной. Искренно, как мог – никаких манипуляций, никаких проверок, никаких скрытых мотивов. Айрин снова кивнула, показывая, что я дал в достаточной степени разумное объяснение. Позднее, уже ближе к концу сессии, Айрин извинилась за свое высказывание. На следующей неделе она рассказала мне, что рассказала об этом инциденте подруге, и та была поражена ее жестоким отношением ко мне, и Айрин извинилась еще раз. – Не надо никаких извинений, – уверил ее я и не покривил душой, я действительно имел это в виду. На самом деле ее слова – что я, черт возьми, могу прийти сюда и принять ее – меня какимто любопытным образом даже обрадовали: это было что-то живое, реальное, это приблизило меня к ней. Это была правда о чувствах Айрин ко мне. Или часть правды – и я надеялся, что рано или поздно услышу и остальное. Гнев Айрин, с которым я впервые столкнулся на втором месяце терапии, был глубоким и всеобъемлющим. Лишь изредка выплескиваясь на поверхность, он всегда тайно бурлил в глубине. Сначала меня это не очень беспокоило. По опыту я знал, что такой гнев опасен не более, чем хроническое чувство вины, или сожаления, или протеста, и вскоре должен рассеяться. Но в данном случае – как это часто бывало в моей работе с Айрин – опыт меня обманул. Снова и снова я обнаруживал, что «статистически достоверная» правда (при вычислении которой исключения – «аномальные значения» – часто не берутся в расчет) имеет мало отношения к уникальной правде моей встречи с сидящим передо мной человеком из плоти и крови. Как-то раз, на третьем году терапии, я спросил: – С какими чувствами вы ушли домой с прошлой сессии? Вы думали обо мне в течение недели? Я часто задаю вопросы такого типа в рамках моей терапевтической работы, чтобы сконцентрировать внимание на «здесь и сейчас», на том, что происходит между мной и пациентом. Мама и смысл жизни 52 Она посидела молча, потом спросила: – А вы думаете обо мне между сессиями? Несмотря на то что этот – так пугающий многих терапевтов – вопрос пациенты задают нередко, я почему-то не ожидал услышать его от Айрин. Может быть, я предполагал, что ей это безразлично, а если и не безразлично, то она в любом случае не признается. – Я... я... я... часто думаю о вашей ситуации, – ответил я, запинаясь. Неправильный ответ! Она посидела немного, потом встала. – Я ухожу, – сказала она и, громко топая, вышла вон из кабинета, не преминув хлопнуть за собой дверью. Я видел в окно, как она меряет шагами сад и курит. Я сидел и ждал, размышляя: как легко было бы терапевту, который работает в русле, не предполагающем тесной взаимосвязи с пациентом, изменить направление ее вопроса коварным приемом: «А почему вы спрашиваете?», или «А почему именно сейчас?», или «А каковы ваши фантазии или ваши мечты по этому поводу?» Но для терапевтов, кто, как я, является поборником равенства и прозрачных с обеих сторон отношений, это не так просто. Возможно, потому, что этот вопрос показывает пределы терапевтической подлинности9: каким бы естественным, каким бы честным и способным на глубокий контакт ни был психотерапевт, между ним и пациентом всегда остается непреодолимый зазор, фундаментальное различие. Я знал, что Айрин ненавидит мои суждения о ней как о «ситуации» и еще ненавидит то, что дозволила мне так много значить для нее. Я, конечно, мог бы быть более чувствительным и использовать более теплое и более относящееся к личности слово, чем «ситуация». Но я убежден: ни один из моих ответов не удовлетворил бы Айрин. Она очень хотела, чтобы у меня были другие мысли о ней: любовные, восхищенные, плотские или, быть может, безумно обожающие. Вот это, пожалуй, верное слово: безумно обожающие. Докурив сигарету, она с большим апломбом вернулась обратно в кабинет и села на место как ни в чем не бывало. Я продолжил сессию, обращаясь к ее чувству реальности. – Разумеется, – сухо заметил я, – пациенты чаще думают о своих терапевтах, чем терапевты – о пациентах. В конце концов, у терапевта много пациентов, а терапевт у пациента один. То же относилось и ко мне, когда я сам был пациентом у психотерапевта, и разве это не верно и для ваших собственных хирургических пациентов и для ваших студентов? Разве вы не выглядите для них более важной и внушительной, чем они для вас? На самом деле все не так просто. Я не стал говорить, что терапевты действительно думают о пациентах между сессиями – особенно о трудных пациентах, которые тем или иным способом действуют терапевту на нервы. Терапевты могут искать причины своей сильной эмоциональной реакции на пациента или обдумывать, какую технику лучше применить. (Терапевт, который позволяет себе запутаться в гневных, мстительных, любовных или эротических фантазиях о пациенте, должен обязательно обсудить это с коллегой-другом, профессиональным консультантом или своим личным терапевтом.) Конечно, я не сказал Айрин, что часто думаю о ней в промежутке между сессиями. Она ставила меня в тупик. Я беспокоился о ней. Почему ей не становится лучше? Подавляющему большинству вдов, с которыми я работал, после года терапии становилось лучше, а к концу второго года у всех наблюдалось значительное улучшение состояния. Но только не у Айрин. Отчаяние ее становилось все глубже, и она уже не надеялась найти выход. В ее жизни не было радости. Каждый вечер, уложив дочку спать, она рыдала. Она продолжала вести длительные беседы с покойным мужем. Она отвергала все приглашения встретиться с новыми людьми и отказывалась допустить даже возможность новых серьезных отношений с другим мужчиной. Я – терапевт нетерпеливый, и мое разочарование возрастало. Я все больше беспокоился за Айрин: размах ее страданий уже начал меня тревожить. Меня пугала вероятность самоубийства – я убежден, что, если бы не дочь, Айрин покончила бы с собой. Два раза я отправлял Айрин на 9 Терапевтическая подлинность (или конгруэнтность, если воспользоваться терминологией Роджерса) включает аутентичность, прозрачность и честность. Терапия – это реальные отношения; психотерапевт не играет роли, не сохраняет профессиональный фасад, не действует как объективный эксперт. Подлинность должна быть терапевтической. Без этого психотерапевты стали бы использовать ее как оправдание поведения, наносящего вред клиентам. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 53 прием к своим коллегам для консультации. Мне было трудно справляться с гневными вспышками горя Айрин, но еще труднее было работать с ее выражением гнева, не таким сильным, но зато всепроникающим. Ее список обид на меня все рос, и редкая сессия обходилась без злости и раздражения. Она злилась на меня, когда я пытался ей помочь отделиться от Джека и перенаправить энергию куда-то еще, когда уговаривал ее встречаться с другими мужчинами. Она злилась на меня за то, что я не Джек. Мы установили глубокий контакт друг с другом, общались на интимные темы, ссорились, заботились друг о друге – в итоге чувства Айрин ко мне больше всего напоминали чувства, которые она питала к мужу. А потом, когда наша встреча подходила к концу, ей невыносимо было возвращаться к жизни, где не было ни меня, ни Джека. Поэтому окончание сессии каждый раз было бурным и волнующим. Айрин ненавидела напоминание о формальных границах наших отношений и когда – неважно, каким способом – я давал ей понять, что наш час подошел к концу, она часто взрывалась: «И вы называете это подлинными отношениями? Это вообще не отношения! Вы смотрите на часы и просто выгоняете меня, отбрасываете!» Иногда она, когда наше время уже закончилось, продолжала сидеть на месте, свирепо сверкая глазами и отказываясь сдвинуться с места. Я взывал к ее здравому смыслу – напоминал о необходимости соблюдать график работы, о ее собственном графике приема пациентов, предлагал, чтобы она сама следила за временем и сообщала, когда оно подходит к концу, повторял, что, если я заканчиваю работу с ней, это не значит, что я отвергаю ее саму – все это она пропускала мимо ушей. Чаще всего она покидала мой кабинет рассерженная. Она сердилась на меня за то, что я стал для нее важен, и за то, что я отказывался брать на себя некоторые функции Джека: например, выказывать восхищение ее сильными сторонами – внешностью, изобретательностью, умом. Мы часто вели настоящие сражения по поводу комплиментов и любезностей. Я чувствовал, что перечисление комплиментов превращает ее в ребенка, но она так настаивала на них и придавала им такое значение, что я часто подчинялся. Я спрашивал, что она хочет от меня услышать, и практически дословно повторял ее слова, всегда стараясь прибавить какое-то свое свежее наблюдение. Это занятие – казавшееся мне эксцентричной пародией – почти всегда безотказно поднимало дух Айрин. Правда, лишь на время. Мои слова не задерживались у нее в голове, и в следующий раз она требовала повторить все сначала. Она сердилась на меня за то, что я предполагал, будто понимаю ее. Если я пытался бороться с ее пессимизмом напоминаниями, что она находится в процессе, у которого есть начало и конец, или ссылками на какие-нибудь результаты моих исследований, она со злостью отвечала: «Вы лишаете меня индивидуальности! Вам наплевать на уникальность моего опыта!» Стоило мне выразить оптимизм по поводу ее возвращения в нормальную жизнь, она неизменно обвиняла меня, что я хочу заставить ее забыть Джека. Любое упоминание, что она, может быть, встретит другого мужчину, превращало сессию в хождение по минному полю. Попадавшихся ей мужчин она, как правило, презирала и всегда сердилась в ответ на мое предложение поисследовать эту ее манеру критиковать всех и вся. Любые мои практические предложения провоцировали взрыв. – Если мне приспичит ходить на свидания, – говорила она в бешенстве, – я уж сама какнибудь соображу, как это делать! Я плачу вам хорошие деньги не для того, чтобы вы мне советовали, как знакомиться с мужчинами – такие советы я могу получить и от подруг! Она злилась на все мои конкретные предложения по какому бы то ни было поводу. – Прекратите свои попытки «исправить» что-то во мне! – говорила она. – Именно это всю жизнь пытался проделывать со мной отец. Она злилась на мое нетерпеливое ожидание прогресса в ее терапии и на то, что я не благодарил ее за те усилия, которые она предпринимала, чтобы себе помочь (и о которых она никогда мне не говорила). Айрин хотела, чтобы я был сильным и здоровым. Любое мое недомогание – растяжение мышцы спины, травма колена, после которой потребовалась операция на мениске, простуда, грипп – вызывали у нее сильное раздражение. Я знал, что она наряду с этим еще и тревожится, но хорошо это скрывает. Главное, за что она на меня сердилась – я был жив, а Джек мертв. Мама и смысл жизни 54 Мне приходилось нелегко. Я никогда не любил раздраженных стычек и – в моей личной жизни – всегда стараюсь избегать сердитых людей. Поскольку моя работа заключается в том, чтобы мыслить и писать, а конфронтация с другими людьми замедляет мой мыслительный процесс, я на протяжении своей карьеры никогда не участвовал в публичных дебатах, и мне всегда не хватало духа принять предложения занять пост заведующего кафедрой. Так как же я справлялся с гневом Айрин? Во-первых, следуя банальному терапевтическому принципу, я разделял человека и его роль. Часто гнев пациента, направленный на терапевта, адресован не ему, как человеку, а его роли. «Не принимайте близко к сердцу, – учат молодых терапевтов. – Или, по крайней мере, не принимайте все близко к сердцу. Постарайтесь различать то, что относится к вашей личности, и то, что относится к вашей роли». Мне казалось самоочевидным, что большая часть гнева Айрин относилась не ко мне, а к жизни, судьбе, Богу, равнодушию вселенной – просто Айрин изливала этот гнев на ближайший к ней объект, то есть на меня, своего терапевта. Айрин знала, что ее гнев угнетает меня, и всячески давала мне понять, что сердится. Например, как-то раз, когда моя секретарша позвонила ей, чтобы перенести встречу, так как мне надо было к зубному врачу, Айрин заметила: «Ну да, ему, наверное, так неприятно меня видеть, что визит к зубному по сравнению с этим – просто удовольствие». Но, наверное, главная причина, помогавшая мне выносить гнев Айрин, заключалась вот в чем: я всегда знал, что за ее гневом скрываются глубокая печаль, отчаяние и страх. Когда Айрин сердилась на меня, я иногда тоже раздражался в ответ, но чаще выражал свое сочувствие. Многие образы Айрин не давали мне покоя. Один из них особенно засел у меня в мозгу и неизменно помогал мне переносить ее яростный гнев горевания. Это был ее сон про аэропорт (в первые два года после смерти мужа она часто во сне бродила по аэропортам). Я мчусь по терминалу. Ищу Джека. Я не знаю авиалинию. Не знаю номера рейса. Я в отчаянии... вглядываюсь в табло вылетов... вдруг поможет... но ничего не могу понять... все пункты назначения – какая-то тарабарщина. Тут появляется надежда – мне удается прочитать надпись над выходом на вылет: «Микадо». Я спешу туда. Но поздно. Самолет только что улетел, и я просыпаюсь в слезах. – Пункт назначения – Микадо? Какие у вас ассоциации с «Микадо»? – спросил я. – Мне не нужны ассоциации, – сказала она, отмахиваясь от моего вопроса. – Я точно знаю, почему мне снился Микадо. Я любила напевать из этой оперетты, когда была маленькой. Там есть куплет, от которого я никак не могу избавиться: «И пусть ночь слишком близка, у нас еще годы и годы после полудня». Айрин замолчала и поглядела на меня, в глазах у нее блестели слезы. Слова бы сейчас были липшими. Для нее. Для меня. Она не нуждалась в утешении. С этого дня слова «у нас еще годы и годы после полудня» отдавались эхом у меня в голове. Айрин и Джек уже никогда не разделят друг с другом это послеполуденное время, и за это я мог простить Айрин что угодно. Мой третий урок повышенной сложности, урок гнева горевания, оказался очень ценным для моей работы с другими клиентами. Теперь я научился идти навстречу чужому гневу и погружаться в него, вместо того чтобы – как раньше – спешить увильнуть от него, стараясь его как можно быстрее понять и устранить. В чем был смысловой стержень этого урока? Здесь надо рассказать про черную липкую грязь. Урок 4. Черная липкая грязь Айрин в день смерти моего зятя упомянула про «черную липкую грязь», когда угрожала уйти и спрашивала, хочу ли я быть с человеком, ненавидящим меня за то, что моя жена жива. – Помните про черную липкую грязь? – спросила она тогда. – Кому понравится, когда тебя марают? Это была метафора, которую Айрин использовала почти на всех сессиях первых двух лет терапии. Что же собой представляла эта грязь? Снова и снова Айрин напряженно искала точные слова. – Это такая черная, отвратительная, едкая субстанция, которая сочится из меня и Мама и смысл жизни 55 растекается лужей вокруг меня. Эта грязь омерзительна и зловонна. Она отпугивает и отвращает любого, кто ко мне приближается. Она их марает, подвергает их большой опасности. Хотя у черной липкой грязи было много значений, но главным значением был гнев горевания. Отсюда ее ненависть ко мне, обладающему живой супругой. Дилемма Айрин была ужасна: она могла хранить молчание, давясь собственным гневом, и – чувствовать себя безнадежно одинокой. Или же она могла разражаться вспышками гнева, отпугивая всех окружающих, и – чувствовать себя безнадежно одинокой. Поскольку образ черной липкой грязи был вытравлен в мозгу Айрин очень глубоко и его не удавалось изгнать ни разумными доводами, ни риторикой, я использовал эту метафору в терапии как ориентир. Я мог растворить эту грязь не терапевтическим словом, а терапевтическим действием. Поэтому я старался быть поближе к Айрин в ее гневе, встать с этим гневом лицом к лицу – как это делал Джек. Мне приходилось вовлекать Айрин, биться с ее яростью, не позволять ей меня оттолкнуть. Ее злоба принимала множество обличий – Айрин вечно расставляла мне ловушки и устраивала испытания. Одна такая особенно коварная ловушка предоставила мне удобную возможность для терапевтического действия. После нескольких месяцев невыносимых потрясений и глубокой подавленности Айрин однажды пришла ко мне в кабинет загадочно тихая и удовлетворенная. – Я очень рад, что вы так спокойны, – заметил я. – Что случилось? – Я приняла важное поворотное решение, – сказала она. – Я выбросила за борт все ожидания личного счастья и самореализации. Больше никакой жажды любви, секса, дружеского общения, художественного творчества. Отныне я собираюсь полностью посвятить себя выполнению своих служебных обязанностей – быть матерью и хирургом. Все это она говорила очень хладнокровно, и было заметно, что она довольна собой. В предшествующие недели ее отчаяние не ослабевало и было настолько глубоким, что я был очень обеспокоен ее состоянием и размышлял, сколько еще она сможет продержаться. Так что, какой бы странной и резкой ни была перемена, я был признателен Айрин, что она нашла способ – все равно какой – уменьшить свою боль; и предпочел не выяснять, откуда он. Напротив, я воспринял его как благо – он напоминал умиротворение, которого достигают многие буддисты, когда с помощью медитативных практик облегчают свои страдания, систематически отделяя себя от всех своих страстей и устремлений. Честно говоря, я не ждал, что преображения Айрин хватит надолго, но надеялся, что временная передышка от непрестанной боли придаст ей сил, чтобы начать следующий, более позитивный цикл жизни. Если в состоянии покоя она прекратит изводить себя, начнет принимать решения, которые помогут ей адаптироваться и найти новых друзей, а может быть, даже встретить подходящего мужчину – тогда, думал я, более или менее все равно, как она достигла этого состояния: ей нужно просто выдвинуть лестницу и подняться по ней на следующий уровень. Однако на следующий день Айрин позвонила мне в бешенстве: – Вы понимаете, что натворили? Что вы за терапевт после этого? И еще говорите, что заботитесь обо мне! Это все притворство! Притворство! На самом деле вы готовы сидеть и спокойно смотреть, как я отвергаю все живое, что есть у меня в жизни, – всю любовь, радость, возбуждение – вообще все! И если б вы просто сидели и смотрели – так нет, вы хотели быть сообщником в убийстве моей личности! Она снова стала угрожать, что прервет терапию, но мне все-таки удалось уговорить ее прийти на следующую сессию. После этого я несколько дней постоянно возвращался к последовательности событий. Чем больше я думал о том, что произошло, тем больше злился. Я опять сыграл роль пустоголового Чарли Брауна, который пытается пнуть мяч, а Люси неизменно уводит у него этот мяч в последний момент10. Ко времени нашей очередной сессии моя злость достигла уровня злости Айрин. Эта сессия была больше похожа на соревнования по борьбе, чем на терапию. Это было нашим самым серьезным столкновением. Из Айрин извергался поток обвинений: 10 Ч а р л и Б р а у н , Л ю с и и с о б а ч к а С н у п и – герои всеамерикански любимого комикса Peanuts, который почти пятьдесят лет подряд рисовал Чарльз Шульц (1934-2000). Мама и смысл жизни 56 – Да вы просто сдались, опустили руки! Вы хотите, чтобы я пошла на компромисс, убив жизненно важные части своей личности! Я не стал притворяться, что сочувствую ей или что понимаю ее позицию. – Мне уже опротивело это хождение по минным полям, – заявил я. – Мне опротивели эти ловушки, которые вы мне расставляете и в которые я чаще всего попадаю. А это – самая мерзкая, самая предательская из всех ловушек. Айрин, у нас очень много работы, – закончил я и добавил, цитируя ее покойного мужа: – Я не желаю терять время на эту собачью чушь. Это была одна из наших лучших сессий. В конце (конечно же, не обошлось без еще одной стычки по поводу истекшего времени и без обвинений, что я вышвыриваю ее из кабинета) наш терапевтический союз был крепок, как никогда. Ни в моих книгах, ни на супервизиях, ни на лекциях – даже во сне – я бы не стал советовать своим студентам устраивать с пациентом такую перепалку, и все же эта сессия, без сомнения, продвинула Айрин вперед. И именно метафора черной липкой грязи способствовала этому продвижению. Входя в контакт с Айрин, в эмоциональный контакт, вступая с ней в борьбу (образно выражаясь – хотя были моменты, когда мне казалось, что вот-вот, и мы сцепимся в настоящей драке), я снова и снова доказывал, что эта грязь – вымысел, что меня она не очерняет, не отпугивает, не подвергает опасности. Но Айрин всегда так отчаянно цеплялась за эту метафору, что каждый раз, когда я подступался к ее гневу, она была убеждена, что я либо покину ее, либо умру. Наконец, желая раз и навсегда продемонстрировать, что злоба Айрин меня не уничтожит и не отгонит прочь, я установил новое терапевтическое правило: «Всякий раз, когда вы взрываетесь, мы автоматически на этой неделе назначаем дополнительную встречу». Это действие оказалось высоко эффективным: теперь, задним числом, я считаю, что тогда меня посетило настоящее вдохновение. Метафора черной липкой грязи была особенно мощной из-за того, что в ее основе лежало множество причин: этот образ соответствовал сразу нескольким разным бессознательным процессам и символизировал их. Гнев горевания был одним важным смыслом. Но были и другие: например, вера Айрин в то, что она была ядовитой, загрязненной, фатально приносящей несчастье. – Любой, кто ступит ногой в эту черную липкую грязь, – сказала она мне на одной из сессий, – подписывает себе смертный приговор. – Значит, вы не осмеливаетесь полюбить снова, поскольку можете любить только как Медуза горгона, уничтожая любого, кто к вам приблизится? – Все мужчины, которых я любила, умерли: мой муж, мой отец, мой брат, мой крестный сын и Сэнди, про которого я вам еще не рассказывала, – мы с ним встречались, он был душевнобольной и двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством. – Снова случайное совпадение обстоятельств! Вам придется отпустить это, – настаивал я. – Это просто несчастный случай, и это не означает, что в будущем вам опять не повезет. У игральных костей нет памяти. – Совпадение, совпадение! Это ваш любимый термин! – подняла она на смех мои слова. – Карма – вот правильный термин, и он мне ясно говорит, что я больше не должна любить других мужчин. Ее образ себя, приносящей несчастье другим, напомнил мне героя комиксов «Маленький Абнер» – Джо Ола, у которого над головой вечно висит зловещая черная туча. Как же мне подорвать веру Айрин в эту проклятую карму? В конце концов я решил поступить так же, как я поступил с ее гневом. Здесь нельзя было обойтись только словами: необходимы были терапевтические действия, и они заключались в том, чтобы игнорировать ее предупреждения, чтобы постоянно подходить ближе к ней, чтобы входить в ее приносящее несчастье, отравленное пространство и выходить оттуда живым и здоровым. Еще один смысл черной липкой грязи связывался в уме Айрин со сном, в котором она видела лежащую на диване красивую темноглазую женщину с розой в волосах. Подходя ближе, я понимаю, что эта женщина не такая, какой кажется: она лежит не на диване, а в гробу, и глаза у нее темны не от красоты, а от смерти, и темно-красная роза – не цветок, а кровавая смертельная рана. – Я знаю, что эта женщина – я, и любой, кто ко мне приблизится, будет тем самым обречен Мама и смысл жизни 57 на смерть – еще одна причина, чтобы держаться от меня подальше. Образ женщины с темно-красной розой в волосах напомнил мне сюжет романа «Человек в лабиринте», необыкновенного фантастического произведения Филипа Дика11, главного героя которого посылают на только что открытую планету, чтобы вступить в контакт с расой развитых разумных существ. Он использует все возможные средства коммуникации – геометрические символы, математические постоянные, музыкальные темы, приветствия, крики, жестикуляцию – но его надменно игнорируют. Своими действиями герой нарушает покой обитателей планеты: они не могут допустить, чтобы его заносчивость осталась ненаказанной. Перед отлетом героя на Землю они делают ему загадочную нейрохирургическую операцию. Только позднее он понимает суть наказания: после операции он утрачивает способность обуздывать свой экзистенциальный страх. Теперь он не только постоянно борется с ужасом перед абсолютно непредсказуемой случайностью и неизбежностью своей собственной смерти, но и обречен на изоляцию, так как каждый, кто приближается к нему на несколько сот футов, сразу же оказывается под ударом таких же испепеляющих взрывов экзистенциального ужаса. Как бы я ни убеждал Айрин, что черная липкая грязь – фикция, правда состоит в том, что я сам часто увязал в этой грязи. В работе с Айрин я часто претерпевал судьбу тех, кто подходил к главному герою романа Филипа Дика слишком близко: я сам начинал бороться с моей собственной экзистенциальной правдой. Снова и снова наши сессии ставили меня перед лицом моей смерти. Хотя я знал, что смерть всегда где-то рядом и ждет, тихонько жужжа прямо за тонкой пленкой моей жизни, мне обычно удавалось об этом не думать. Конечно, есть и благотворный эффект во внимательном отношении к смерти. Я понимаю, что хотя факт (физические характеристики) смерти нас уничтожает, идея смерти может нас спасти. Это древняя мудрость: именно поэтому монахи веками держали у себя в кельях человеческие черепа, а Монтень советовал жить в комнате с видом на кладбище. Мое осознавание смерти долго служило оживлению моей жизни, помогая не относиться серьезно к мелкому и незначительному и ценить то, что действительно дорого. Да, умом я все это понимал, но знал также, что не смогу жить под постоянной угрозой добела раскаленного ужаса смерти. Поэтому в прошлом я обычно задвигал мысли о смерти поглубже в топку сознания. Но моя работа с Айрин не позволяла мне и дальше это делать. Проведенные с ней часы снова и снова обостряли не только мою восприимчивость смерти и чувство драгоценности жизни, но и мою тревогу смерти. Много раз я ловил себя на размышлениях о том, что мужа Айрин смерть атаковала в сорок пять, а мне уже за шестьдесят. Я знал, что нахожусь в зоне умирания, в том периоде жизни, когда я могу погаснуть в любой момент. И кто это сказал, что психотерапевтам слишком много платят? Урок 5. Здравый смысл против измены Шел третий год нашей работы, и я падал духом все больше и больше. Терапия безнадежно увязла. Трясина депрессии утянула Айрин настолько глубоко, что я не мог ни сдвинуть ее с места, ни приблизиться к ней. Когда я спросил ее, как она себя чувствует на сессии – близко или далеко от меня, она ответила: «Вы за тридевять земель – я вас еле вижу». – Айрин, я знаю, вам уже надоело слушать это, но нам совершенно необходимо подумать о приеме антидепрессантов. Нужно разобраться и понять, почему вы так решительно этому сопротивляетесь. – Мы оба знаем, что означает этот прием лекарств. – И что же? – Это означает, что вы бросаете нашу терапию, отказываетесь от нее. Я не та, которую можно подправить на скорую руку. – На скорую руку, Айрин? Три года? – Я хочу сказать, даже если я после лекарств почувствую себя лучше, это не решение проблемы. Это только отсрочит то, что мне все равно придется и дальше жить со своей потерей. Какие бы аргументы я ни использовал, я не мог разубедить ее в этом, но в конце концов она 11 Автор допустил ошибку – роман «Человек в лабиринте» принадлежит Роберту Силвербергу. Мама и смысл жизни 58 заставила меня улыбнуться, разрешив выписать ей антидепрессанты. Результат был тот же, что и при первой попытке, два года назад. Три разных препарата оказались не только неэффективными, но вызвали неприятные побочные явления: сильную сонливость, чужеродные и страшные сны, полную потерю сексуальности и чувственности, пугающее чувство безразличия ко всему, отчуждение от самой себя и от того, что ее волнует. Когда я предложил Айрин посетить психофармаколога, она наотрез отказалась. Доведенный до отчаяния, я в конце концов выставил ей ультиматум: «Или вы идете к специалисту и следуете его рекомендациям, или я не буду с вами работать». Айрин смотрела на меня невозмутимо. Как обычно, строгая и сдержанная, она не выказала ничего особенного ни в словах, ни в движениях. – Я обдумаю это и отвечу вам на следующей сессии, – ответила она. Но на следующей встрече вместо прямого ответа на мой ультиматум она протянула мне журнал «Ньюйоркер», открытый на статье русского поэта Иосифа Бродского «О скорби и разуме». – Вот здесь, – сказала она, – вы найдете ключ к тому, что пошло не так в терапии. А если нет, если вы прочтете и не найдете ответа, тогда я пойду к вашему консультанту. Пациенты часто просят меня прочитать что-то, с их точки зрения, интересное – какуюнибудь книгу по самопомощи, статью о новой терапии или теории, фрагмент какой-то книги, поразивший их близостью с их собственной ситуацией. Не раз пациенты-писатели приносили мне свои объемные рукописи со словами: «Вы много обо мне узнаете, когда прочтете это». Но, как правило, оно того не стоит: гораздо быстрее получается, если пациент сообщает мне все нужное устно. Кроме того, пациентам ни к чему мое откровенное мнение – я обычно занимаю слишком грандиозное место у них в сознании и просто не могу себе позволить объективные отзывы. Очевидно, что пациенты ищут другого – моего одобрения и восхищения, – а терапевту гораздо быстрее разобраться с этими потребностями напрямую, чем проводить долгие часы за чтением рукописей. Обычно я под благовидным предлогом отказываю или, в крайнем случае, соглашаюсь бегло просмотреть рукопись. Я ценю свое личное время, отведенное на чтение, и охраняю его. Но, начав читать статью, рекомендованную Айрин, я не чувствовал, что это чтение меня обременяет. Я научился глубоко уважать не только вкус, но и ясный ум Айрин, и раз она верит, что в этой статье содержится ключ к выходу из нашего тупика, значит, мое время не будет потрачено даром. Конечно, я бы предпочел непосредственное общение, но я учился воспринимать манеру общения Айрин – непрямую и часто поэтическую – этому языку она научилась у своей матери. В отличие от отца, воплощения ясности и рациональности, преподавателя точных наук в старших классах маленькой школы на Среднем Западе, мать Айрин, художница, выражалась намеками. Айрин научилась узнавать о настроениях матери по косвенным признакам. Например, когда у матери было хорошее настроение, она могла сказать: «Я собираюсь поставить несколько ирисов в бело-синюю вазу». О своем настроении она сообщала и другим путем: каждое утро поразному размещая кукол на кровати Айрин. Статья Бродского начиналась с анализа первых двух четверостиший стихотворения Роберта Фроста «Войди!»: Подошел я к лесу, там дрозд Пел – да как! Если в поле был еще сумрак, В лесу был мрак. Мрак такой, что пичуге В нем не суметь Половчей усесться на ветке, Хоть может петь12. Я всегда считал, что «Войди!» – красивые, наивные стихи о природе. Я, подросток, учил их наизусть в школе и громко декламировал, катаясь на велосипеде по парку «Дом Ветеранов» в Вашингтоне. Но Бродский, блестяще разобрав стихотворение – строчку за строчкой, слово за словом, – продемонстрировал другой, мрачный смысл стихотворения. Например, в первом четверостишии: есть что-то зловещее в том, что дрозд (сам поэт, автор) приближается к опушке 12 Здесь и далее стихи Роберта Фроста приведены в переводе А. Сергеева. Мама и смысл жизни 59 леса и созерцает его сумрачность. А разве второе четверостишие – просто лирическая мелодия? И в самом деле, что имеет в виду поэт, говоря, что в лесу слишком темно, так что даже «не суметь половчей усесться на ветке, хоть может петь»? Может быть, под пением он подразумевает религиозный ритуал – соборование перед смертью? Может быть, это погребальная песнь Фроста о том, что уже слишком поздно, что он осужден на вечные муки? И действительно, следующие четверостишия подтверждают эту точку зрения. Короче говоря, Бродский убедительно доказывает и то, что стихотворение действительно мрачное, и то, что Фрост – гораздо более мрачный поэт, чем принято считать. Я был заворожен. Статья проливала свет на то, почему это стихотворение, как и многие другие обманчиво простые творения Фроста, так захватывали меня в юности. Но какая тут связь с Айрин? Где ключ к нашим проблемам в терапии, который она обещала? Я стал читать дальше. А дальше Бродский обращается к анализу длинного повествовательного стихотворения, зловещей пасторали под названием «Домашние похороны». Действие происходит в домике фермера, на лестнице с перилами, и это – разговор, последовательность движений, некий балет с участием фермера и его жены. (Я сразу же, конечно, подумал о родителях Айрин, которые жили на ферме на Среднем Западе, и о лестнице с перилами, по которой спустилась Айрин почти тридцать лет назад, чтобы услышать по телефону о смерти Аллена.) Стихотворение начинается словами: Он увидел ее снизу лестницы Прежде, чем она увидела его. Она из двери вышла наверху И оглянулась, точно бы на призрак. Спустилась на ступеньку вниз, вернулась И оглянулась снова. Фермер заговорил, двигаясь к жене: «Что ты там видишь сверху? Ибо я хочу знать». Жена в ужасе и отказывается отвечать. Она уверена, что муж никогда не увидит то, что видит она, и позволяет ему подняться по лестнице. Фермер, поднявшись по лестнице к окну второго этажа, внимательно смотрит наружу и понимает, на что смотрела его жена. Он удивлен, что никогда не замечал этого раньше. Родительское кладбище. Подумать – Все уместилось целиком в окне. Оно размером с нашу спальню, да? Плечистые, приземистые камни, Гранитных два и мраморный один, На солнышке стоят под косогором... Я знаю, знаю: дело не в камнях – Там детская могилка... – Нет! Не смей! – С этими словами жена проскальзывает мимо него, бежит вниз по лестнице, оглядываясь «с вызовом и злобой», и направляется к выходу. Удивленный фермер спрашивает: «Мужчина что, не смеет говорить/ О собственном умершем сыне – так?» – Не ты! – отвечает жена. – Не знаю точно, смеет ли мужчина, – добавляет она и начинает искать шляпу. Фермер хочет попросить, чтобы она впустила его в свое горе, и обращается к ней с неудачно выбранными словами: ...ты хватила через край. Как можно материнскую утрату, Хотя бы первенца, переживать Так безутешно – пред лицом любви. Слезами ты его не воскресишь... Жена остается так же холодна и безучастна, и он восклицает: «Вот дожили. Ну, женщина!../...скажи: / Мужчина что, не смеет говорить/ О собственном умершем сыне – так?» Мама и смысл жизни 60 Жена отвечает, что он не умеет говорить, что он бесчувственный. Она видела в окно, как он бодро копал могилу для сына. «Как высоко летел с лопаты гравий/ Летел туда, сюда, небрежно падал/ И скатывался с вырытой земли». И как, закончив копать, он пришел на кухню. Жена вспоминает: Ты там сидел – на башмаках сырая Земля с могилы нашего ребенка – И думать мог о будничных делах. Я видела, ты прислонил лопату К стене за дверью. Ты ее принес! Жена настаивает, что таким манером ее горе не лечится и что так ему ничуть не поможешь. ...Никто из ближних Не в силах подойти так близко к смерти, Чтобы помочь в несчастье: если ты Смертельно болен, значит, ты один И будешь умирать совсем один. Конечно, ближние придут к могиле, Но прежде, чем ее зароют, мысли Уже вернулись к жизни и живым, К обыденным делам. Как мир жесток! Я так не убивалась бы, когда бы Могла хоть что поправить. Если б! Если б! Муж заботливо отвечает, что теперь, когда она выговорилась, ей станет легче. Он говорит, что уже хватит горевать: «Зачем напрасно бередить себя?» В последних строках поэмы жена открывает дверь, чтобы уйти. Муж пытается не пустить ее. Куда ты собралась? Скажи! Постой! Я силой возвращу тебя. Силком! Очарованный, я прочитал статью целиком, а в конце мне пришлось напомнить самому себе, зачем я ее читал. Что за ключ к внутренней жизни Айрин она содержит? Сначала я подумал о ее инициальном сне, в котором она должна была прочитать старинный текст до того, как она прочтет современный. Очевидно, мы должны продолжать работу с ее потерей брата. Я уже понял, что его смерть повлекла множество других потерь, как одна костяшка домино, падая, увлекает за собой другие. Семья Айрин не оправилась от удара: мать так и не пришла в себя после смерти сына и погрузилась в хроническую депрессию, отношения между родителями никогда не смогли обрести прежней гармонии. Возможно, это стихотворение – суровое изображение того, что случилось в доме Айрин после смерти ее брата, особенно конфликта родителей, отца и матери, которые пытались пережить гибель сына, каждый по-своему, диаметрально противоположными способами. Такое часто бывает после смерти ребенка: муж и жена горюют по-разному (в соответствии с гендерными стереотипами женщина чаще всего переживает свое горе открыто, эмоционально, а мужчина подавляет его или отвлекает себя какими-то занятиями). У многих пар эти два способа приходят в противоречие друг с другом – именно поэтому так много браков распадается после потери ребенка. Я задумался о том, что роднит Айрин с другими образами из «Домашних похорон». Изменение размера кладбища при смене точки обзора – блестящая метафора Фроста: для фермера оно было размером со спальню, так мало, что целиком умещалось в окне; а для матери – столь огромно, что она ничего, кроме него, не видела. И еще окна. Окна всегда привлекали Айрин. «Я хотела бы всю жизнь прожить в высотном доме, глядя в окно», – как-то сказала она. Еще она представляла себе, как переедет в большой викторианский дом у моря: «И проведу остаток жизни, то созерцая океан через окно гостиной, то прогуливаясь по вдовьей дорожке13 на крыше». 13 В до в ья до р о ж ка – огражденная платформа на крыше прибрежного дома, где жены моряков ожидали своих мужей. Мама и смысл жизни 61 Горечь жены фермера по поводу друзей, которые ненадолго придут на могилу и немедленно вернутся в свою обычную жизнь, – постоянная тема в терапии Айрин. Однажды, чтобы сделать ее более отчетливой и наглядной, Айрин принесла мне репродукцию картины Брейгеля «Падение Икара». – Поглядите на этих крестьян, – сказала она. – Работают себе и даже не посмотрят туда, где мальчик падает с неба. Она даже принесла стихотворение Одена, описывающее эту картину: Рассмотрим «Икара» Брейгеля: с какой ленцой все вокруг Взирает мимо трагедии; пахарь, сжимавший плуг, Мог слышать вскрик и последний всплеск, Но падению вряд ли придал значенье; Солнца свет, Как и положено свету, выбелил ноги, в зеленке вод Тающие; а на роскошном паруснике народ, Глянув было, как мальчик упал с небес, Невозмутимо отбыл по назначенью. Что еще общего у Айрин с «Домашними похоронами» Фроста? Мать цепляется за свое горе, а приземленный отец не может дождаться, когда же жена успокоится: все это совпадало с тем, что Айрин рассказывала мне о своей семье. Но эти наблюдения, как бы ни были они наглядны и информативны, не объясняли в достаточной степени, почему Айрин так настаивала, чтобы я прочел эту статью. «Ключ к тому, что пошло не так в терапии», – так сказала она, так пообещала. Я почувствовал разочарование и подумал, что, может быть, переоценил ее, что в кои-то веки она не добилась своего. На следующей сессии Айрин вошла в кабинет и, как всегда, прошествовала к своему месту, не глядя на меня. Она уселась поудобнее, поставила сумочку на пол рядом с собой, а потом, вместо того, чтобы, как обычно в начале сессии, несколько секунд молча глядеть в окно, сразу повернулась ко мне и спросила: – Вы прочитали статью? – Да, прочитал. Изумительная статья. Спасибо, что посоветовали. – И? – Айрин подгоняла меня. – Это было захватывающе. Я слышал, как вы рассказывали мне о жизни ваших родителей после смерти Аллена, но, прочитав эти стихи, я словно увидел все своими глазами. Теперь я гораздо лучше понимаю, почему вы не смогли вернуться к родителям, насколько глубоко вы отождествляли себя со своей матерью, с ее способом жить, с тем, как она боролась с отцом... Я не мог продолжать. Выражение растущего неверия на лице Айрин осадило меня. Она вглядывалась в меня с таким изумлением, словно она была учительница, а я ученик, настолько тупой, что она вообще не понимала, как я попал к ней в класс. Наконец она прошипела сквозь стиснутые зубы: – Фермер с женой из этого стихотворения – это не мой отец и не моя мать. Это мы – вы и я. Она остановилась, взяла себя в руки и через пару минут прибавила более мягким голосом: – Я имею в виду, у них есть что-то общее с моими родителями, но по сути фермер и его жена – это вы и я в этой самой комнате. У меня закружилась голова. Ну конечно же! Конечно! Мгновенно каждая строчка «Домашних похорон» наполнилась новым смыслом. Я лихорадочно думал. Никогда в жизни, ни до, ни после того, мне не приходилось так быстро соображать. – Значит, это я – тот, кто притащил грязную лопату в дом? Айрин порывисто кивнула. – И это я пришел на кухню в ботинках, облепленных могильной землей? Айрин опять кивнула. На этот раз не так сурово. Может, благодаря моей быстрой реакции мне все же удастся реабилитировать себя в ее глазах. – И это я – тот, кто бранит вас за то, что вы цепляетесь за свое горе? Кто говорит, что вы хватили через край, и спрашивает, «зачем напрасно бередить себя»? Я – тот, кто копает могилу так размашисто, что гравий летит во все стороны? Я, чьи слова постоянно обижают вас? И это я – тот, Мама и смысл жизни 62 кто пытается протиснуться между вами и вашим горем? И, несомненно, я – тот, кто встает у вас на пути в дверях и пытается силой влить вам в горло лекарство от горя? Айрин кивнула, слезы заполняли ее глаза и стекали по щекам. Впервые за три года отчаяния она открыто плакала в моем присутствии. Я протянул ей бумажный носовой платок. И себе взял один. Она дотянулась до моей руки. Мы снова были вместе. Как же вышло, что мы оказались так далеко друг от друга? Оглядываясь, я понимаю, что произошло серьезное столкновение наших мироощущений: я – экзистенциальный рационалист, она – раненный горем романтик. Может быть, раскол был неизбежен? Может быть, наши способы совладать с трагическими событиями, в сущности, противоречат друг другу? Как наилучшим образом встретиться с жестокими экзистенциальными фактами жизни? Думаю, Айрин в глубине души чувствовала, что есть лишь две в равной степени неприятные стратегии: или принять в какой-то форме, что отрицаешь реальность, или жить в невыносимой тревоге ее осознавания. Не эту ли дилемму высказал Сервантес устами бессмертного Дон Кихота: «Что лучше для тебя: мудрое безумие или дурацкое здравомыслие?» У меня есть убеждение, которое оказывает большое влияние на мой терапевтический подход: никогда не поверю, что осознавание реальности ведет к безумию, а ее отрицание – к здравомыслию. Я всегда относился к отрицанию как к врагу и бросал ему вызов при каждом удобном случае – и в терапии, и в личной жизни. Я не только сам всегда старался избавиться от всех личных иллюзий, сужающих мое мировоззрение, делающих меня меньше и зависимее, но и своих пациентов поощряю делать то же самое. Я убежден: хотя прямая конфронтация с чьейнибудь экзистенциальной ситуацией может вызывать страх и дрожь, но в конечном счете она обогащает и исцеляет. Мой психотерапевтический подход можно выразить словами Томаса Харди: «...Лучшее в том, чтоб на худшее трезво взглянуть»14. И поэтому с самого начала терапии я разговаривал с Айрин голосом разума. Я поощрял ее по многу раз проигрывать со мной обстоятельства смерти мужа и последующие события: – Как ты узнаешь о его смерти? – Ты будешь с ним, когда он умрет? – Что ты будешь чувствовать? – Кому ты позвонишь? Точно также мы с ней репетировали и его похороны. Я сказал ей, что пойду на похороны, и если ее друзья не захотят задержаться у могилы, то уж я, во всяком случае, останусь. Если другие побоятся выслушать ее мрачные мысли, я, наоборот, потребую, чтобы она высказала их мне. Я пытался избавить ее сны от террора ночных кошмаров. Каждый раз, когда Айрин переходила в иррациональную сферу, я неизменно вставал у нее на пути. Например, она испытывала чувство вины из-за того, что ей было приятно проводить время с другим мужчиной. Она считала: получая удовольствие от жизни, она изменяет Джеку. Если Айрин шла с мужчиной на пляж или в ресторан, где прежде бывала с Джеком, она чувствовала, что предает его, оскверняя неповторимость их любви. С другой стороны, когда она шла куда-нибудь, где раньше не бывала, ее мучило чувство вины: «Как я могу жить и наслаждаться новыми впечатлениями, когда Джек мертв?» Еще она чувствовала вину за то, что была недостаточно хорошей женой. Психотерапия помогла ей во многом измениться: она стала мягче, внимательнее и нежнее к другим людям. – Как несправедливо по отношению к Джеку, – говорила она, – что теперь я могу дать другому мужчине гораздо больше, чем давала ему. Снова и снова я сражался с подобными заявлениями. – Где теперь Джек? – спрашивал я. – Нигде... только в памяти, – всегда отвечала она. В ее памяти и в памяти других людей. У Айрин не было никаких религиозных верований, и она никогда не предполагала, что после смерти сознание сохраняется или что существует какая-то другая жизнь. Поэтому я донимал ее рациональными доводами: «Если он не способен ощущать, чувствовать и сознавать и не наблюдает за вашими 14 Из стихотворения «В сумерках II», перевод А. Шараповой. Мама и смысл жизни 63 действиями, каким образом его может задевать и ранить то, что вы проводите время с другим?» «Кроме того, – напоминал я, – Джек перед тем, как умереть, недвусмысленно высказал свое желание, чтобы жена была счастлива и снова вышла замуж». «Разве он хотел бы, чтобы вы и дочь утонули в скорби? Так что, даже если его сознание до сих пор где-то существует, он не будет чувствовать, что его предали. Он будет рад, что вы оправились. И в любом случае, – подводил итог я, – сохранилось ли где-то сознание Джека или нет – такие понятия, как «несправедливость» и «предательство», не имеют смысла. Временами Айрин видела яркие сны, в которых Джек был жив – обычное явление у людей, переживших смерть близкого человека, – а когда просыпалась, ее как обухом по голове било осознание, что это лишь сон. Порой она горько плакала, что он «где-то там» страдает. Иногда, придя на кладбище, она плакала от «ужасной мысли», что он заперт в холодном гробу. Ей снилось, что она открывает морозилку и обнаруживает там уменьшенную копию Джека, который вглядывается в нее широко раскрытыми глазами. Я методично и безжалостно напоминал ей о ее же точке зрения, что «где-то там» его нет, что он, разумный и чувствующий, больше не существует. Напоминал я и о ее желании, чтобы он мог наблюдать за ней. По моему опыту, любой человек, потерявший жену или мужа, страдает от ощущения, что за его жизнью никто не наблюдает. Айрин хранила множество личных вещей Джека и, когда ей нужно было подобрать подарок дочери на день рождения, часто рылась в ящиках его письменного стола. Айрин была окружена таким количеством материальных напоминаний о Джеке, что я боялся, как бы она не превратилась в мисс Хэвишем из романа Диккенса «Большие надежды» – женщину, настолько завязшую в горе (жених бросил ее у алтаря), что она многие годы жила в паутине своей потери, не снимая подвенечного платья и не убирая со стола, когда-то накрытого для свадебного пира. Поэтому на протяжении всей терапии я подстегивал Айрин отвернуться от прошлого, вернуться в жизнь, ослабить узы, привязывающие ее к Джеку: – Уберите несколько его фотографий. Обновите обстановку в доме. Купите себе новую кровать. Вытащите все вещи из стола и выбросите их. Поезжайте куда-нибудь, где раньше не бывали. Сделайте что-нибудь, чего раньше никогда не делали. Перестаньте так помногу беседовать с Джеком. Но то, что я называл «здравым смыслом», Айрин называла «изменой». Что я называл «вернуться к жизни» для нее было «предательством любви». Что я называл «отделиться от умершего» она называла – «отказаться от своей любви». Я думал, мой рационализм – то, что нужно Айрин, а она считала, что я оскверняю чистоту ее горя. Я думал, что веду ее обратно к жизни, а она думала, что я пытаюсь силой заставить ее отвернуться от Джека. Я думал, что вдохновляю ее на проявления экзистенциального героизма, а она думала, что я самодовольный и ограниченный зритель, наблюдающий за ее страданиями из удобного кресла в партере. Меня ошеломляло ее упрямство. Как она не понимает, удивлялся я. Как она не понимает, что Джек на самом деле умер, что его сознание погасло? Что в этом нет ее ошибки и вины? Что она не приносит несчастье, что она не вызовет моей смерти или смерти мужчины, которого полюбит? Что она не обречена вечно претерпевать трагедию? Что она цепляется за извращенные верования, потому что страшно боится альтернативы: боится признать, что окружающей вселенной глубоко безразлично, счастлива Айрин или несчастна. А ее поражала моя тупость. Как Ирв не понимает? Как он не видит, что он стирает мою память о Джеке, оскорбляет мое горе, принося на подошвах могильную землю и оставляя лопату в кухне? Как он не может понять, что я всего лишь хочу смотреть в окно на могилу Джека? Что меня бесит, когда он пытается вырвать его из моего сердца? Что временами, как бы я ни нуждалась в нем, мне просто необходимо уйти от него подальше, проскользнуть мимо него на лестнице, глотнуть свежего воздуха? Что я тону, цепляясь за обломки своей прошлой жизни, а он пытается силой разжать мои пальцы? Как он не понимает, что Джек умер из-за моей отравленной любви? В тот вечер, анализируя прошедшую сессию, я вспомнил другую пациентку, с которой я Мама и смысл жизни 64 работал пару десятилетий назад. Всю юность она провела в долгой, изматывающей борьбе с всезапрещающим отцом. Когда она, впервые покидая дом, уезжала на учебу в колледж, отец повез ее на машине и испортил ей всю поездку, так как, будучи в своем репертуаре, не переставая говорил про безобразный, замусоренный придорожный ручей. Дочь же, со своей стороны, видела сельский пейзаж с прекрасной, чистой речушкой. Много лет спустя, уже после смерти отца, дочь случайно снова поехала по той же дороге и заметила, что ручьев, оказывается, два: по одному с каждой стороны. «Но на этот раз, – грустно рассказывала она, – я была за рулем, и ручей, который виднелся через окно со стороны водителя, был именно такой, как его описывал отец – безобразный и замусоренный». Все составные части этого урока: тупиковая ситуация с Айрин, ее настойчивое требование прочесть стихотворение Фроста, мое воспоминание о рассказе пациентки про автомобильную поездку – были крайне ценны и поучительны. С поразительной ясностью я вдруг осознал, что для меня настала пора слушать, отставить в сторону свое личное мировоззрение, не навязывать свой стиль и свои взгляды моим пациентам. Пришла пора мне посмотреть наружу через окно Айрин. Урок 6. Не посылайте узнать, по ком звонит колокол15 Однажды, на четвертом году терапии, Айрин принесла большую папку. Положила ее на пол, медленно расстегнула пряжку и вытащила большой холст, держа его оборотной стороной ко мне, так что я не видел изображения. – Я вам говорила, что беру уроки рисования? – спросила она в нехарактерной ей игривой манере. – Нет. Первый раз слышу. Я считаю, это замечательно. И я в самом деле так думал. Я не увидел ничего обидного в том, что она об этом упомянула между делом: как каждый психотерапевт, я привык к тому, что пациенты забывают упоминать о положительных изменениях в своей жизни. Возможно, это просто неправильное понимание, ошибочное предположение пациентов: поскольку терапия ориентирована на патологию, терапевтов интересуют только проблемы. Правда, те пациенты, у которых выработалась зависимость от терапии, намеренно скрывают положительные события и результаты: иначе терапевт может решить, что они больше не нуждаются в его помощи. И вот Айрин сделала вдох и перевернула холст. Мне открылся натюрморт: простая деревянная чаша, а в ней лимон, апельсин и авокадо. Впечатленный художественными талантами Айрин, я все же чувствовал разочарование: насколько содержание было поверхностным и бессмысленным, а я надеялся увидеть что-то более относящееся к нашей работе. Однако я притворился, что мне интересно, и похвалил Айрин с убедительной восторженностью. Но не так убедительно, как я думал, – и в скором времени я это понял. На следующей сессии Айрин объявила, что записывается на рисование еще на полгода. – Замечательно. К тому же преподавателю? – Да, тот же преподаватель, тот же курс. – То есть уроки натюрморта? – Вы как будто надеетесь, что нет. Вы явно что-то недоговариваете. – Например? – мне стало не по себе. – У вас какие-то подозрения? – Похоже, я угадала, – ухмыльнулась Айрин. – Вы обычно не опускаетесь до традиционной уловки психотерапевтов – отвечать вопросом на вопрос. – Айрин, от вас не укроется ни один мой прием. Ну хорошо, признаюсь. Я испытываю противоречивые чувства по поводу ваших художественных занятий. – Этому приему я всегда учу своих студентов: если два конфликтующих чувства ставят вас перед дилеммой, лучше всего выразить и оба эти чувства, и дилемму. – Во-первых, как я уже сказал, мне очень понравилась ваша картина. Я сам начисто лишен художественного дара и к творениям такого уровня отношусь с уважением. 15 Из проповеди Джона Донна («от каждой смерти мне убыток, ибо я – плоть от плоти человечества; так что не посылай узнать, по ком звонит колокол – он звонит по тебе»). Последние слова цитаты впоследствии были взяты Э. Хемингуэем как заглавие для романа. Мама и смысл жизни 65 Я запнулся в нерешительности, и Айрин подтолкнула меня: – Но... – Но... ну... да... я страшно доволен, что живопись доставляет вам радость, и потому боюсь показаться даже самую малость критичным. Но, наверное, я надеялся, что вы с помощью своего искусства будете делать что-то такое... более... как бы это сказать... э... созвучное нашей терапии. – Созвучное? – Мне вот что нравится в нашей с вами работе сейчас: на мой вопрос о ваших мыслях вы всегда отвечаете полно и обстоятельно. Иногда это мысль, размышление, но часто вы описываете какой-то внутренний образ. У вас превосходное визуальное мышление. И я надеялся, что вы объедините свое искусство и терапию каким-то синергетическим способом. Не знаю... может быть, я надеялся, что в вашей живописи будет больше экспрессионизма, или катарсиса, что она прольет свет на что-то. Может быть, вы даже смогли бы проработать на холсте какие-то свои болезненные проблемы. Но натюрморт... несмотря, что он технически безупречен, он такой... такой... безоблачный... безмятежный, так далек от конфликта и боли. Видя, что Айрин закатывает глаза, я добавил: – Вы поинтересовались, о чем я думаю, вот я и сказал. И я не защищаю свою точку зрения. Я на самом деле считаю, что было бы ошибкой критиковать какое-либо из занятий, если оно дает вам отдохновение. – Ирв, я не думаю, что вы хорошо разбираетесь в живописи. Вы знаете, что значит «натюрморт» по-французски? Я покачал головой. – Nature morte. – Мертвая природа? – Да. Рисовать натюрморт – значит медитировать о смерти и распаде. Рисуя фрукты, я не могу не видеть, как мои «натурщики» умирают и разлагаются день ото дня. Когда я рисую, я очень близка к нашей терапии, я ясно ощущаю, что Джек перешел из жизни в прах, остро ощущаю присутствие смерти и запах разложения во всем живом. – Во всем? – спросил я. Она кивнула. – В вас? Во мне? – Во всем, – ответила она. – Особенно во мне. Наконец-то! Это заявление, или что-то подобное, я выцарапывал из Айрин с самого начала нашей совместной работы. Оно возвещало переход на новую стадию терапии, о чем свидетельствовал необычайно сильный сон (Айрин принесла его недели через две). Я сижу за столом... за такими обычно заседают. Там и другие люди, а вы сидите во главе стола. Мы все работаем над чем-то: может быть, рассматриваем заявки на гранты. Вы просите меня принести вам какие-то бумаги. Комната маленькая, и, чтобы подойти к вам, мне приходится пройти совсем рядом с окнами, которые открыты и доходят до самого пола. Из них очень легко выпасть, и я просыпаюсь с пронзительной мыслью: как же вы могли подвергнуть меня такой опасности? Эта главная тема – она в опасности, а я не способен ее защитить – стала набирать силу. Несколько ночей спустя Айрин приснились два сна, один сразу после другого. (Сны, идущие подряд и дополняющие друг друга, часто передают одну и ту же мысль. Наш друг гомункулус, Тот, Кто Плетет Сны, забавляется, придумывая разные вариации особенно захватывающей темы.) Первый сон: Вы – руководитель группы. Вот-вот случится что-то опасное, не знаю, что именно, но вы уводите группу в лес, в безопасное место. Во всяком случае, должны увести. Но тропа, по которой вы нас ведете, становится все каменистее, все уже и темнее. Потом вообще пропадает. Вы исчезаете, и мы остаемся одни, потерянные и очень испуганные. Второй сон: Мы – та же группа – все в номере гостиницы. И снова какая-то опасность. Может, кто-то вломится, а может, торнадо. Вы снова уводите нас от опасности. Вы ведете нас вверх по пожарной лестнице с черными железными ступенями. Мы все лезем и лезем, но она никуда не ведет, просто Мама и смысл жизни 66 заканчивается у потолка, и нам приходится спускаться обратно. За этими снами последовали и другие. В одном сне я вместе с Айрин сдавал экзамен, и мы оба не знали ответов на вопросы. В другом – она смотрела на себя в зеркало и видела красные трупные пятна у себя на щеках. В третьем – она танцевала с гибким молодым человеком, а потом он вдруг бросил ее посреди танцплощадки. Айрин повернулась к зеркалу и отпрянула – ее лицо покрывала обвисшая красная кожа, усыпанная отвратительными чирьями и кровавыми волдырями. Послание этих снов было кристально ясным: опасности и разложения не избежать. И я не спаситель – напротив, я ненадежен и бессилен. Вскоре особенно сильный сон добавил и третий компонент. Вы – мой гид в безлюдном месте в какой-то чужой стране – может быть, в Греции или Турции. Вы ведете открытый джип, и мы ссоримся из-за того, что посетить. Я хочу увидеть красивые древние руины, а вы хотите отвезти меня в современный, занюханный городишко. Вы начинаете так гнать, что я пугаюсь. Потом джип застревает, и мы елозим взад-вперед над бездной. Я смотрю вниз и не вижу дна. Этот сон, содержащий противоречие между прекрасными древними руинами и вульгарным современным городом, отражает, конечно, наши постоянные дебаты об измене и здравомыслии. Какую дорогу выбрать? Древние прекрасные руины (первый текст) прежней жизни Айрин? Или достойную сожаления ужасную новую жизнь, которую она видит впереди? Но в этом сне был намек и на новый аспект нашей работы. В более ранних снах я никчемный: теряю тропу в лесу, веду Айрин вверх по пожарной лестнице, которая идет только до потолка, не готов к экзамену. А в этом сне я не просто никчемный и не могу защитить ее – я еще и опасен, я подвожу ее к грани гибели. Через пару ночей Айрин приснилось, что мы обнимаемся и нежно целуемся. Но это милое начало обращается в ужас, когда мой рот разевается все шире и шире и я начинаю заглатывать Айрин. – Я все боролась, боролась, – рассказывала она, – но не могла вырваться. «Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Таким образом, как почти четыреста лет назад заметил Джон Донн – теперь его слова знают все, – погребальный колокол звонит не только по умершим, но и по тебе, и по мне – продолжающим существовать, но лишь до срока. Это понимание старо, как сама история. Четыре тысячи лет назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш осознает, что смерть его друга Энкиду предвещает его собственную: Энкиду, Стал ты темен и меня не слышишь! И я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла, Смерти страшусь и бегу в пустыню 16. Чужая смерть ставит нас перед лицом собственной смерти. Хорошо ли это? Следует ли поощрять такое противостояние в психотерапии горя? Говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Вопрос: зачем раздувать пламя страха смерти в сердцах людей, потерявших близкого и без того придавленных к земле своей потерей? Ответ: потому что такое противостояние собственной смерти может дать толчок позитивным изменениям личности. Понимание терапевтического потенциала первого опыта столкновения со смертью при работе с людьми, потерявшими близких, пришло ко мне много лет назад, когда шестидесятилетний мужчина описал мне свой ужасный ночной кошмар. Сон приснился ему после того, как он узнал, что рак шейки матки у его жены дал метастазы и больше не поддается лечению. Во сне он бежит по старому разрушающемуся дому – разбитые окна, растрескавшийся пол, протекающая крыша, – спасаясь от чудовища Франкенштейна. Мужчина пытается защититься: он пинается, лягается, бьет кулаками, сбрасывает чудовище с крыши. Но – и это главное послание 16 Эпос о Гильгамеше. Перевод И.Дьяконова. Мама и смысл жизни 67 этого сна – чудовище нельзя остановить: оно тут же появляется снова и продолжает преследование. Это чудовище пришло не в первый раз, оно уже было знакомо моему пациенту: впервые оно проникло в его сны, когда он был десятилетним мальчиком, вскоре после похорон его отца. Чудовище терроризировало его несколько месяцев и со временем исчезло. Оно вернулось через пятьдесят лет, после известия о смертельной болезни жены. Когда я спросил, что он думает об этом сне, первое, что он ответил: «Я тоже намотал сто тысяч миль». Тогда я понял, что смерть других – сперва отца, а теперь неминуемая смерть жены – поставила моего пациента перед лицом его собственной смерти. Чудовище Франкенштейна было ее олицетворением, а разрушающийся дом символизировал старение и разрушение тела. После этого разговора я поверил, что сделал замечательное открытие, имеющее важные последствия для психотерапии горя. Вскоре я начал проверять эту концепцию на всех пациентах, потерявших близкого человека, и именно для проверки этой гипотезы мы с коллегой, Мортоном Либерманом, за несколько лет до моей встречи с Айрин начали проект по исследованию переживания тяжелой утраты. Из восьмидесяти вдов и вдовцов, с которыми мы работали, значительная часть – до трети – рассказали, что у них обострилось осознание собственной смертности, и это осознание, в свою очередь, было тесно связано с личностным ростом. Хотя возвращение к прежнему уровню функционирования, вообще говоря, рассматривается как конечный пункт горевания, наши данные наводили на мысль, что некоторые вдовы и вдовцы идут дальше: в результате экзистенциальной конфронтации они становятся взрослее, сознательнее, мудрее. Задолго до возникновения психологии как самостоятельной науки место великих психологов занимали великие писатели. Литература богата примерами того, как осознание смерти запускает процесс преобразования личности. Хорошим примером служит экзистенциальная шоковая терапия Эбенезера Скруджа в «Рождественской песне» Диккенса. Скрудж так разительно изменился не от святочного настроения, а оттого, что был поставлен лицом к лицу с собственной смертью. Диккенс посредством Духа Будущих Святок использует мощную экзистенциальную шоковую терапию: переносит Скруджа в будущее, где тот наблюдает за последними часами своей жизни: подслушивает, как легко другие относятся к его смерти, и видит, как посторонние люди ссорятся из-за его имущества. Скрудж преображается сразу после сцены на церковном кладбище, где он на коленях стоит перед собственной могилой и прикасается к надписи на надгробной плите. Или вспомним Пьера у Толстого: он, как потерянный, бесцельно блуждает по первым девятистам страницам «Войны и мира» до тех пор, пока его не берут в плен наполеоновские солдаты, пока на его глазах не расстреливают пятерых человек, стоявших рядом с ним, и пока сам он в последнюю минуту не получает помилование. Эта близость к смерти преобразует Пьера, и последние триста страниц романа он проходит целеустремленным, энергичным человеком, в полной мере чувствующим драгоценность жизни. Еще замечательнее у Толстого история Ивана Ильича, бюрократа и человеконенавистника, умирающего от рака в брюшной полости. Агония Ивана Ильича облегчается после ошеломляющей догадки: «Я так плохо умираю, оттого что так плохо жил»17. В немногие оставшиеся дни своей жизни Иван Ильич разительно изменяется внутренне, достигая такого уровня великодушия, сочувствия и цельности, какого никогда не знал раньше. Таким образом, столкновение с неминуемой смертью может подтолкнуть человека к мудрости и к новой глубине бытия. Я провел много групп с умирающими пациентами, которые с радостью допускали на наши встречи студентов-наблюдателей, потому что верили, что могут научить других жизненной мудрости. Я часто слышал, как пациенты говорят: «Как жаль, что я понастоящему научился жить только сейчас, когда мое тело изрешечено раком». В этой книге в главе «Странствия с Полой» я рассказываю о людях, встретившихся лицом к лицу с раком в терминальной стадии, которые становятся мудрее по мере того, как они сражаются со смертью. А что же обычные, физически здоровые наши пациенты – мужчины и женщины, не больные смертельной болезнью, не стоявшие под расстрелом? Как нам донести до них истину их экзистенциальной ситуации? Я стараюсь пользоваться определенными важными событиями, или, 17 Дословно у Толстого: «Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже». – Прим. ред. Мама и смысл жизни 68 как их часто называют «пограничными ситуациями»18, которые дают возможность заглянуть на более глубокий экзистенциальный уровень. Очевидно, ожидание собственной смерти – самая мощная пограничная ситуация, но есть много других – серьезная болезнь или травма, развод, неудача в карьере, такие жизненные вехи, как выход на пенсию, уход выросших детей из дома, кризис середины жизни, круглые даты и, конечно, неодолимый опыт – смерть значимого человека. Соответственно, в психотерапии Айрин моей изначальной стратегией было использование экзистенциальной конфронтации там, где только можно. Снова и снова я пытался перевести ее внимание со смерти Джека на ее собственную жизнь и смерть. Когда Айрин говорила, например, что живет только ради дочери, что была бы рада умереть, что всю оставшуюся жизнь проведет, глядя в окно на семейное кладбище, в ответ я отвечал что-то вроде: «Но не значит ли это, что вы сознательно транжирите свою жизнь? А ведь другой у вас не будет». После смерти Джека Айрин часто видела во сне, как вся ее семья погибает при какомнибудь стихийном бедствии – например, пожаре. Айрин считала, что эти сны отражают смерть Джека и разрушение их семьи. Я ей отвечал: – Нет, нет, вы кое-что проглядели. Этот сон не только о Джеке и вашей семье – он также и о вашей собственной смерти. В первые годы Айрин немедленно отвергала такие замечания: – Вы не понимаете. У меня было слишком много потерь, травм, слишком много смертей на меня навалилось. Айрин искала только отдохновения от боли, и смерть казалась ей решением проблем, а не угрозой. Это не так редко случается: многие отчаявшиеся люди рассматривают смерть как волшебное место умиротворения. Но смерть – не состояние покоя и не место, где жизнь продолжается без боли, смерть – это полное исчезновение сознания. Может быть, я выбрал неудачный момент. Как это со мной часто бывает, поторопился, забежал вперед пациентки. А может быть, Айрин просто не из тех, кому помогает осознание своей экзистенциальной ситуации. Во всяком случае, я понял, что этот прием ей не помогает, сменил курс и стал искать другие методы работы. Потом, много месяцев спустя, когда я этого меньше всего ожидал, произошел эпизод с натюрмортом, а за ним – обрушилась лавина образов и снов, пронизанных страхом смерти. Вот теперь момент был подходящий, и Айрин хорошо реагировала на мои интерпретации. Она увидела еще один сон, настолько захватывающий, что никак не могла выбросить его из головы. Я нахожусь на затянутой сеткой веранде шаткого летнего домика. Вижу большого, страшного зверя с огромной пастью – он ждет в нескольких футах у входной двери. Я в ужасе. Боюсь, что что-нибудь случится с моей дочерью. Решаю попытаться умилостивить зверя жертвой и выбрасываю в дверь игрушку, сшитую из красной шотландки. Зверь хватает наживку, но остается на месте. Его глаза горят. Они устремлены на меня. Его жертва – я. Айрин немедленно опознала сшитое из красной шотландки жертвенное животное. – Это Джек. Такой расцветки была его пижама в ночь, когда он умер. Сон был так силен, что не шел у Айрин из головы несколько недель, и постепенно она начала понимать, что, хотя сначала и заменила страх собственной смерти страхом смерти дочери, но на самом деле жертвой смерти была она сама. – Это за мной эта тварь так свирепо следит, и значит, что у сна есть только одно толкование. – Она запнулась в нерешительности. – Этот сон означает, что я бессознательно считала смерть Джека жертвой. Он умер, чтобы я могла продолжать жить. Айрин была шокирована этой мыслью, а еще больше – пониманием того, что смерть недалеко и ждет она не других людей, не дочь Айрин, а ее саму. С этой новой точки зрения мы шаг за шагом пересмотрели и переоценили наиболее стойкие и болезненные чувства Айрин. Мы начали с вины, которая мучила ее, как и большинство овдовевших людей. Однажды я лечил вдову, которая в течение многих недель не отходила от 18 Термин введен немецким философом и психиатром, одним из создателей экзистенциализма Карлом Ясперсом в работе «Разум и экзистенция» в 1935 г. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 69 мужа, лежавшего в больнице без сознания. И так случилось, что в те несколько минут, когда она отлучилась – в больничный киоск за газетой, – ее муж умер. Вина за то, что она покинула мужа, терзала женщину долгие месяцы. Айрин тоже проявляла неистощимую заботу о Джеке: она ухаживала за ним с невероятной преданностью и отвергала все мои советы – дать себе отдых, поместив Джека в больницу или наняв сиделку. Вместо этого Айрин поставила дома взятую в больнице напрокат кровать рядом со своей и спала рядом с мужем до дня его смерти. И все равно она не могла избавиться от мысли, что должна была сделать большее: – Я не имела права от него отходить. Должна была быть добрее, нежнее, ближе. – Может быть, вина – это способ отрицания смерти, – настаивал я. – Может быть, за «Я должна была делать больше» стоит «Если бы я сделала не так, как всегда, а по-другому, я бы предотвратила его смерть». Возможно, отрицание смерти лежало в основе и многих других иррациональных убеждений Айрин: она – единственная причина смерти всех тех, кто ее любил; она приносит несчастье; вокруг нее черная, токсичная, смертельная аура; она проклята; ее любовь смертоносна; она наказана кем-то (или чем-то) за какой-то непростительный проступок. Возможно, все эти убеждения служили ей для того, чтобы скрыть правду жестоких фактов жизни. Если бы Айрин в самом деле приносила несчастье или была ответственна за чужие смерти, это означало бы, что смерть – не что-то неизбежное, а что ее можно миновать; что существование – не капризно и не изменчиво; что каждый человек не выброшен одиноким в этот мир; что существуют всеобщие непостижимые космические принципы; и что вселенная наблюдает за нами и судит нас. Со временем Айрин смогла более открыто говорить об экзистенциальном страхе и переформулировать причины своего отказа строить новые отношения с людьми, особенно с мужчинами. Раньше она заявляла, что избегает контакта, в том числе и контакта со мной, чтобы избежать боли новых потерь. Но теперь она стала понимать, что боялась не потери других людей, а любого напоминания о скоротечности жизни. Я познакомил Айрин с воззрениями Отто Ранка на людей со страхом жизни. Ранк писал, что «некоторые люди отказываются брать жизнь взаймы, чтобы не оказаться в долгу у смерти». Ранк, последователь Фрейда с экзистенциальными взглядами, в точности описывал дилемму Айрин. – Посмотрите, как вы отказываетесь от жизни, – выговаривал я ей. – Бесконечно глядите в окно, избегаете сильных переживаний, избегаете контактов, окружаете себя вещами, напоминающими о Джеке. Никогда не отправляйтесь в океанский круиз! Стратегия, которой вы следуете, превратит путешествие в безрадостное времяпровождение. Зачем вкладывать во что-то душу, зачем заводить друзей, зачем кем-то интересоваться, если круиз все равно кончится? Готовность Айрин принять ограниченность своего существования предвещала много перемен. Когда-то она говорила о тайном обществе людей, потерявших своих любимых, а теперь стала говорить о другом (частично пересекающемся с первым) – обществе просвещенных, которые, как выразилась Айрин, «знают о своем пункте назначения». Из всех перемен, происшедших в Айрин, меня больше всего радовала ее готовность общаться со мной. Я был важен для Айрин. В этом я не сомневался: бывало, месяцами она говорила, что живет только ради наших встреч. И все же, как бы мы ни были близки, я всегда думал, что мы встречаемся лишь косвенно, что нам никогда не удалось достичь подлинной встречи «Я – Ты». Айрин пыталась, как она сама определила в начале нашей терапии, «сохранить меня вне времени», знать обо мне как можно меньше, притвориться, что у меня нет истории жизни с началом и концом. Теперь все изменилось. В начале терапии она, гостя у родителей, наткнулась на старую книжку с картинками, «Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума, которую читала в детстве. Вернувшись, она сказала мне, что внешне я поразительно похож на волшебника страны Оз. Теперь, после трех лет терапии, Айрин снова просмотрела иллюстрации и нашла, что сходство не такое уж и большое. Я почувствовал, что происходит что-то важное, когда она стала размышлять вслух. – Может быть, вы не волшебник. Может быть, – продолжала она, словно разговаривая сама с собой, – мне просто нужно принять вашу идею, что мы лишь попутчики в этой жизни, и оба слушаем, как звонит колокол. И у меня не осталось никаких сомнений, что наша терапия вступает в новую фазу, когда Мама и смысл жизни 70 однажды днем на четвертом году наших встреч Айрин вошла ко мне в кабинет, посмотрела прямо на меня, села, опять посмотрела на меня и произнесла: – Очень странно, Ирв, но мне кажется, что вы как-то уменьшились. Урок 7. Отпуская Наша последняя встреча была ничем не примечательна, за исключением двух деталей. Вопервых, Айрин позвонила, чтобы уточнить, когда мы встречаемся. Из-за расписания операций Айрин время наших встреч часто менялось, но никогда – ни разу за пять лет! – она его не забывала. Во-вторых, прямо перед встречей у меня страшно заболела голова. Поскольку у меня очень редко бывают головные боли, я заподозрил, что это каким-то образом связано с опухолью мозга у Джека та впервые дала о себе знать именно жестокими головными болями. – Мне всю неделю не давала покоя одна мысль, – начала сессию Айрин. – Вы собираетесь что-нибудь писать о нашей совместной работе? В то время я ушел с головой в планирование нового романа и совсем не думал писать об Айрин. Я сказал ей об этом и добавил: – В любом случае, я никогда не пишу о терапии по таким свежим следам. Работая над «Палачом любви»19, я, прежде чем написать о случае, как правило, ждал годы, а иногда десять и больше лет после окончания терапии каждого пациента. И, поверьте мне, если даже я когданибудь соберусь о вас написать, я попрошу у вас разрешения еще до начала... – Нет, нет, Ирв, – перебила она меня, – я не боюсь, что вы напишете. Я боюсь, что вы не напишете. Я хочу, чтобы о моей истории рассказали. Есть очень много того, о чем психотерапевты, работающие с людьми, потерявшими близких, не знают. Я хочу, чтобы вы рассказали другим терапевтам не только о том, чему я научилась, но и о том, чему научились вы. Проходили недели после окончания терапии, а я не только скучал по Айрин, но снова и снова ловил себя на желании написать о ней. Скоро мой интерес к другим писательским проектам ослабел, и я начал делать наброски нового текста – сначала беспорядочно, – потом все более целеустремленно. Пару недель спустя у нас с Айрин была завершающая сессия. Айрин сначала тяжело переживала прекращение наших отношений. Например, ей снилось, что мы продолжаем встречаться, она вела со мной воображаемые беседы, мое лицо мерещилось ей в толпе, ей чудилось, что мой голос ее окликает. Но ко времени нашей встречи горе, вызванное окончанием терапии, уже прошло, и Айрин наслаждалась жизнью, принимая себя и других. Особенно ее поражали перемены в зрительном восприятии: все то вокруг, что несколько лет подряд казалось ей набором плоских декораций, опять стало объемным. Более того, отношения Айрин с мужчиной, Кевином, которого она встретила за несколько месяцев до окончания терапии, не только продолжались, но и процветали. Когда я упомянул, что передумал и теперь хочу написать о ее истории, Айрин обрадовалась и согласилась читать черновики в процессе моей работы. Через несколько недель я послал Айрин черновик первых тридцати страниц и предложил встретиться в одном из кафе в Сан-Франциско, чтобы обсудить их. Входя в кафе и оглядываясь в поисках Айрин, я напрягся, совершенно непонятно, почему. Я заметил Айрин раньше, чем она меня, но не торопился подходить к ней – оттягивал время: я хотел насладиться ее видом издалека – ее светлым свитером и брюками, тем, как непринужденно она сидела, потягивая капуччино и просматривая местную газету. Я подошел. Увидев меня, Айрин встала, мы обнялись и расцеловали друг друга в щеки, совсем как старые добрые друзья – какими мы, по сути, и были. Я тоже заказал капуччино. Когда я отхлебнул первый глоток, Айрин улыбнулась и потянулась ко мне с салфеткой, чтобы промокнуть белую пену с моих усов. Мне была приятна такая забота, и я чуть подался вперед, чтобы получше ощутить давление салфетки у себя на лице. – Ну вот, – сказала Айрин, – так-то лучше. Никаких белых усов – я не хочу, чтобы вы преждевременно состарились. Она вытащила из портфеля мой черновик и сказала: – Мне понравилось. Я на что-то в этом роде и надеялась. 19 Другая книга Ялома, в оригинале «Love’s Executioner», в русском переводе выходила под заголовком «Лечение от любви». Мама и смысл жизни 71 – А я надеялся, что вы так скажете. Но, может быть, сначала поговорим о проекте в целом? Я сказал, что потом перепишу все так, чтобы знакомые Айрин ее не узнали. – Хотите, я сделаю вас мужчиной – торговцем произведениями искусства? Она покачала головой. – Я хочу остаться собой, реальной. Мне нечего скрывать, нечего стыдиться. Мы оба знаем, что я была не сумасшедшая – я страдала. И все-таки проект вызывал у меня опасения, и я решил сбросить с себя этот груз: – Айрин, я вам расскажу одну историю. И я рассказал ей про Мэри, мою хорошую знакомую, психиатра, человека честного и сострадающего, и ее пациента, Говарда, которого Мэри лечила десять лет. В детстве с Говардом крайне жестоко обращались, и Мэри совершила Геркулесовы подвиги, чтобы его вылечить методом репарентинга20. В первые годы терапии Говард попадал в больницу больше десяти раз – из-за попыток самоубийства, злоупотребления алкоголем и наркотиками, тяжелой анорексии. Мэри всегда была рядом, своей работой творила чудеса и каким-то образом вытянула его, в том числе помогла закончить школу, колледж и факультет журналистики. – Ее преданность была невероятна, – рассказывал я. – Иногда она встречалась с Говардом семь раз в неделю, да еще за гроши, с огромной скидкой. По правде сказать, я часто предупреждал ее, что она чересчур выкладывается, что ей необходимо строже ограждать свою частную жизнь. Мэри принимала пациентов в кабинете у себя дома, и ее муж был против того, что Говард вторгается в их дом по воскресеньям и поглощает кучу времени и энергии Мэри. Случай Говарда был прекрасным материалом для обучения, и Мэри несколько лет подряд беседовала с ним в присутствии студентов в рамках курса «Основы психиатрии». Очень долго, может быть – пять лет, Мэри трудилась над руководством по психотерапии, в котором ее работа с Говардом играла значительную роль. В основе каждой главы лежал один из аспектов (разумеется, сильно замаскированный) истории терапии Говарда. И все эти годы Говард был благодарен Мэри и передал ей все полномочия представлять его случай студентам и ординаторам и писать о нем. Наконец книга Мэри была закончена и готова к публикации. И вдруг Говард (который теперь был журналистом, работал за границей, был женат и имел двоих детей) отозвал свое разрешение. В коротком письме он объяснил свой шаг только тем, что хочет навсегда забыть эту часть своей жизни. Мэри просила у него дальнейших разъяснений, но он отказался вдаваться в детали и в конце концов полностью разорвал с ней отношения. Мэри была в отчаянии – она столько лет посвятила этой книге, – и в итоге у нее не было другого выбора, как только похоронить свой труд. Даже спустя много лет Мэри все еще была ожесточена и подавлена. – Ирв, Ирв, достаточно, – сказала Айрин, похлопав меня по руке, чтобы остановить. – Я понимаю, вы не хотите, чтобы с вами случилось то же самое. Но я вас уверяю: я не просто разрешаю вам написать мою историю, я прошу вас ее написать. И буду разочарована, если вы этого не сделаете. – Сильно сказано. – Я сказала то, что думаю. Я действительно считаю, что очень много терапевтов не имеют понятия, как обращаться с болью потери. Вы ведь многому научились в нашей совместной работе, очень многому, и я не хочу, чтобы это умерло вместе с вами. Заметив, что я вскинул брови, Айрин добавила: – Да, да, я поняла. До меня наконец дошло. Вы не вечны. – Ну, хорошо, – сказал я, вытаскивая блокнот. – Я согласен, что очень многому научился, работая с вами, и изложил свою версию нашей работы на этих страницах. Но я хочу, чтобы и ваш голос был слышен. Может быть, вы попробуете сформулировать основные моменты, те, о которых я должен написать обязательно? Айрин заколебалась: – Вы же их знаете не хуже меня. – Мне нужен ваш голос. Как я уже говорил, я бы предпочел, чтобы мы писали вместе, но, 20 R e p a r e n t i n g – буквально: «переродительствование» или «повторное родительство» – это ориентированный на транзактный анализ метод лечения, разработанный Джеки Шифф (Jacqui Schiff, 1975). Особенно полезен тем пациентам, кому в одном из состояний Я приходится сталкиваться с сильным пренебрежением, например пациентам с шизофренией. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 72 раз это невозможно, давайте попробуем хотя бы так. Метод свободных ассоциаций – что в голову придет. Скажите мне, что, с вашей точки зрения, было настоящим центром, сутью нашей работы? – Вовлеченность, – не раздумывая, ответила она. – Вы всегда был здесь, со мной – подавшись вперед, приближаясь. Как минуту назад, когда вытирала пену у вас с усов... – Хотите сказать, что я подставляю лицо? Подставляюсь? – Точно! Но в хорошем смысле этого слова. А не в каком-то там придуманном метафизическом. Мне нужно было только одно: чтобы вы были со мной и добровольно подвергали себя смертоносному излучению, которое от меня исходило. В этом и состояла ваша задача. Терапевты этого обычно не понимают, – продолжала она. – Никому кроме вас, это не удалось бы. Мои друзья не могли быть со мной. Они был слишком заняты – кто сам горевал по Джеку, кто сторонился моей черной липкой грязи, кто зарывал поглубже страх своей собственной смерти ил требовал – именно требовал! – чтобы я уже через год оправилась и хорошо себя чувствовала. Именно это у вас получалось действительно лучше всего, – продолжал Айрин. Она говорила быстро и гладко, останавливаясь только для того, чтобы отхлебнуть капуччино. – Вы проявили незаурядную выдержку. Вы держались рядом со мной. И вы не просто пребывали рядом – вы продолжал напирать все больше и больше, заставляя меня говорить обо всем, все равно насколько это относится к смерти. А если я не говорила, вы сами догадывались, что я чувствую, и – надо отдать вам должное – довольно точно. И ваши действия были очень важны – одних слов было бы недостаточна Вот поэтому из всех ваших действий самым сильным было то, что вы тог; сказали – каждый раз, как я на вас понастоящему разозлюсь, мы будем назначать дополнительную сессию. Она замолчала, и я поднял голову от моих записей. – А еще были полезные вам интервенции? – То, что вы пришли на похороны Джека. То, что вы звонили из дальних поездок, чтобы узнать, как я себя чувствую. То, что вы держали меня за руку, когда мне это было нужно. Это было особенно ценно тогда, когда Джек бы при смерти. Иногда мне казалось, что если бы не эта рука, держащая мен как якорь, меня унесло бы прочь от берега жизни, в небытие. Забавно, но большую часть времени я видела в вас мудрого волшебника – такого, который заранее точно знает, что случится. Этот образ начал уходить лишь несколько месяцев назад, когда вы стали уменьшаться. Но все это время у меня было и противоположное, антиволшебное, ощущение – что у вас нет ни сценария, ни правил, ни запланированных процедур. Как будто вы импровизировали прямо на месте. – И как вы воспринимали эту импровизацию? – спросил я, быстро записывая. – Иногда мне было очень страшно. Я хотела, чтобы вы были волшебником страны Оз. Я потерялась и хотела, чтобы вы мне указали дорогу домой, в Канзас. Иногда мне была подозрительна ваша неуверенность. Я гадала, действительно ли вы импровизируете или только притворяетесь – может быть, это был такой волшебный приемчик... И еще: вы знали, как я всегда настаиваю на том, чтобы самой все уладить. Поэтому я думала, что ваша импровизация – это план, хорошо продуманный план, чтобы меня разоружить... И еще одно... Ирв, вы хотите, чтобы я просто вот так металась от одной темы к другой? – Именно так. Продолжайте. – Когда вы говорили мне про других вдов или про результаты своих исследований, я знала, что вы пытаетесь меня ободрить, и порой мне помогало осознание того, что я – в процессе, что я буду проходить через определенные состояния психики точно так же, как это делали до меня другие женщины. Но обычно я чувствовала, что такие комментарии меня принижают. Как будто вы делали меня заурядной. Но я никогда не чувствовала себя заурядной, когда мы импровизировали. Тогда я становилась особенной, уникальной. Мы искали путь вместе. – А что еще помогало? – Опять же простые вещи. Может быть, вы этого даже не помните, но на одной из первых встреч, когда я уходила, вы положили мне руку на плечо и сказали: «Я вас не оставлю». Я не забывала этих слов – они стали для меня мощнейшей опорой. – Я помню, Айрин. Мама и смысл жизни 73 – И мне очень помогало, когда вы иногда прекращали приводить меня в порядок или анализировать, или интерпретировать, и говорили что-нибудь искренное и простое, например: «Айрин, вы проходите через кошмар – худшего я не могу себе и представить». А лучше всего было, когда вы добавляли – правда, недостаточно часто, – что уважаете меня, восхищаетесь тем, как я стойко и мужественно держусь. Я и сейчас хотел сказать что-нибудь про мужество Айрин, поднял глаза и увидел, что она смотрит на часы, говоря: – О боже, мне надо бежать. Значит, на этот раз она сама заканчивает встречу. Как низко пали сильные мира сего! На миг у меня появилось желание созорничать – закатить поддельную истерику и обвинить Айрин в том, что она меня выгоняет, но я решил не быть ребенком. – Я знаю, о чем вы думаете, Ирв. – О чем же? – Вас наверняка забавляет то, что мы поменялись ролями – что на этот раз я – а не вы! – заканчиваю сессию. – В точку, Айрин. Как обычно. – Вы тут еще побудете несколько минут? Я встречаюсь с Кевином недалеко отсюда, могу привести его сюда и познакомить вас. Мне будет приятно. Ожидая возвращения Айрин в компании Кевина, я пытался сопоставить ее мнение о терапии со своим собственным. По словам Айрин, я больше всего помог ей своей вовлеченностью и тем, что не шарахался ни от каких ее слов и поступков. А еще – тем, что держал ее за руку, импровизировал, подтверждал то, что она проходит через кошмар, что обещал не оставлять ее. Меня возмутило такое упрощение. Конечно же, мое понимание терапии гораздо сложнее и утонченнее! Но чем больше я об этом думал, тем лучше понимал, что Айрин совершенно права. Несомненно, она была права насчет «вовлеченности» – ключевого понятия моей работы. Я с самого начала решил, что вовлеченность – самое эффективное, что я могу предложить Айрин. И это значило не просто хорошо слушать, или способствовать катарсису, или сопереживать ей, а скорее, что я приближался к ней так близко, как мог, что я сосредотачивался на «пространстве между нами» (эту фразу я использовал практически на каждой встрече), на «Здесь и Сейчас»: то есть на отношениях между нею и мною здесь (в этом кабинете) и сейчас (в данный момент). Но одно дело – фокусироваться на «Здесь и Сейчас» с пациентами, которые обратились к психотерапевту из-за проблем в отношениях, и совсем другое дело для меня – попросить Айрин исследовать это «Здесь и Сейчас». Подумайте, ведь это не только абсурдно, но и просто грубо – требовать от женщины в экстремальной ситуации (женщины, чей муж умирает от опухоли мозга, женщины, которая одновременно оплакивает мать, брата, отца и крестного сына) обратить свое внимание на тонкости отношений с профессиональным консультантом, которого она едва знает. Однако это было именно то, что я делал. Я начал это делать на первых же встречах и никогда не сдавался. На каждой сессии я непременно спрашивал о каком-нибудь аспекте наших отношений: «Насколько одиноко вы себя чувствуете, находясь в этой комнате вместе со мной? Насколько далеко или близко, по вашим ощущениям, вы от меня сегодня?» Если, как это часто бывало, она отвечала: «Я чувствую, что вы за тридевять земель», – я обращался непосредственно к этому ее ощущению. «В какой именно момент сессии вы впервые это заметили?» Или: «После каких моих слов или действий эта дистанция увеличилась?» А чаще всего: «Что мы можем сделать, чтобы ее уменьшить?» Я старался уважать ответы Айрин. Если она говорила: «Нас больше всего сблизит, если вы назовете мне хороший роман, который я могла бы почитать», – я обязательно советовал какуюнибудь книгу. Если она говорила, что ее отчаяние слишком сильное, чтобы выразить его словами, и лучшее, что я могу сделать – просто подержать ее за руку, я придвигал свой стул поближе и держал ее за руку, иногда минуту или две, а иногда десять или пятнадцать минут. Бывало, я испытывал неловкость за это держание за руки, но вовсе не из-за всех этих серьезных юридических последствий для терапевта, когда-либо прикоснувшегося к пациенту: сдать свои профессиональные и творческие позиции ради таких соображений в высшей степени аморально. Наоборот, мне было не по себе оттого, что держание за руку было неизменно эффективным: и я Мама и смысл жизни 74 действительно чувствовал себя волшебником, обладающим сверхъестественными силами, которых сам не понимал. В конце концов, спустя несколько месяцев после похорон мужа Айрин перестала нуждаться в том, чтобы ее держали за руку, и больше не просила об этом. Все время всей нашей терапии я считал вовлеченность важнейшим моментом. И был упорен в этом своем убеждении. Я не позволял себя отталкивать. Если Айрин говорила: «Я оцепенела. Я не хочу говорить. Не знаю, зачем я сегодня здесь», – я отвечал чем-нибудь вроде: «Но вы здесь. Значит, какая-то часть вас хочет быть здесь, вот с этой частью я и хочу поговорить сегодня». Всегда, когда это было возможно, я переводил события в их эквиваленты «Здесь и Сейчас». Например, делал предметом обсуждения начало и окончание сессии. Часто Айрин входила в мой кабинет и быстро, не глядя на меня, проходила к своему стулу. Я редко оставлял это без внимания. Я мог, например, сказать: «О, сегодня одна из таких сессий», – и перевести фокус на ее сопротивление смотреть на меня. Иногда она отвечала: «Если я на вас смотрю, вы становитесь реальным, а это значит, что вы скоро умрете». Или: «Если я на вас посмотрю, я стану беспомощной, а у вас будет слишком много власти надо мной». Или: «Если я на вас посмотрю, вдруг мне захочется вас поцеловать?» Или: «Если я на вас посмотрю, то увижу ваши глаза – а в них требование, чтобы я немедленно поправилась». Окончание сессии каждый раз становилось проблемой: Айрин с ненавистью относилась к факту, что контроль полностью у меня в руках, и отказывалась уходить из кабинета. Окончание каждой нашей встречи было похоже на смерть. Во время своих самых тяжелых периодов Айрин была не в состоянии удерживать в уме образы и боялась, что как только я исчезну из поля ее зрения, я перестану существовать. Она также воспринимала окончание сессии как символ того, насколько мало она значит для меня, насколько мало я забочусь о ней, насколько быстро я могу отделаться от нее. Мои отпуска и рабочие поездки постоянно превращались в такую острую проблему, что несколько раз я решал позвонить Айрин, чтобы сохранить контакт между нами. Все шло на мельницу «Здесь и Сейчас»: желание Айрин, чтобы я делал ей комплименты, чтобы я говорил ей, что думаю о ней больше, чем о других пациентах, чтобы я признался, что если бы мы не были терапевтом и пациенткой, я бы желал ее как женщину. Обычно в психотерапии фокусирование на «Здесь и Сейчас» дает много преимуществ. Оно привносит в сессию ощущение непосредственности. Оно дает более точные данные, чем в случаях, когда терапевт полагается на неполные, постоянно изменяющиеся воспоминания пациентов о прошлом. То, как человек устанавливает отношения «Здесь и Сейчас», представляет собой некий социальный микрокосм его отношений с другими людьми – как в прошлом, так и в настоящем, – и поэтому по мере развития его взаимоотношений с психотерапевтом все проблемы пациента в отношениях с людьми немедленно раскрываются в полный рост. К тому же терапия становится более глубокой, более наэлектризованной – ни на индивидуальной, ни на групповой сессии никогда не бывает скучно. Более того, «Здесь и Сейчас» предоставляет то рабочее пространство, то безопасное место действия, где пациент может экспериментировать с новым поведением, прежде чем применить его во внешнем мире. Но важнее всех этих преимуществ было то, что фокус на «Здесь и Сейчас» ускорил развитие глубокой близости между нами. Айрин – холодная, отталкивающая своей неприступностью, в высшей степени компетентная и самонадеянная – своей манерой поведения не давала другим людям приблизиться к ней. Именно это и случилось в шестимесячной терапевтической группе, куда я поместил Айрин в то время, когда умирал ее муж. Айрин быстро завоевала уважение участников группы, оказывала им существенную поддержку, но мало что получала взамен. Она излучала столько самодостаточности, что другие участники чувствовали: ей от них ничего не нужно. Только ее мужу удалось пробиться сквозь ее жуткую манеру поведения, только он смог бросить Айрин вызов и потребовать глубокого личного контакта. И только с ним она могла рыдать и давать высказаться той потерявшейся юной девушке, которая жила внутри нее. А со смертью Джека Айрин потеряла этот пробный камень близости. Пусть это и было самонадеянно с моей стороны, но я хотел стать таким камнем для нее. Пытался ли я заменить ей мужа? Это бестолковый шокирующий вопрос. Нет, я никогда и не помышлял об этом. Но я стремился восстановить для нее – хотя бы на час или два в неделю – Мама и смысл жизни 75 тот островок близости, то место, где она могла бы сбросить свою маску всемогущего сверххирурга и стать открыто уязвимой и неполноценной. Постепенно, очень постепенно Айрин научилась признавать чувство беспомощности и обращаться ко мне за поддержкой. Когда вскоре после мужа умер ее отец, ей было страшно подумать о том, чтобы лететь домой на похороны. Мысль о том, что ей придется увидеть пораженную Альцгеймером мать и еще не зарытую могилу отца рядом с надгробным камнем брата, была просто невыносима. Я согласился с этим и настоятельно посоветовал не ехать. Взамен я назначил Айрин встречу ровно на время похорон, попросил ее принести фотографии отца, и мы посвятили этот час ее воспоминаниям о нем. Это был ценный сильный опыт, и позже Айрин поблагодарила меня за него. Где же грань между близостью и совращением? Станет ли Айрин слишком зависимой от меня? Будет ли она в состоянии когда-нибудь отделиться? Останется ли этот сильнейший перенос на меня ее чувств к мужу неразрешимым? Эти мысли изводили меня. Но я решил, что начну беспокоиться, когда до этого дойдет дело. Поддерживать фокус на «Здесь и Сейчас» в работе с Айрин никогда не было сложностью для меня. Она была необыкновенно трудолюбива и предана делу. Никогда, ни разу за все время ее терапии я не сталкивался с сопротивлением и никогда не ожидал комментариев вроде: «Это бессмысленно... Это не имеет отношения к делу... Дело не в этом... Вы не имеете отношения к моей жизни – я вас вижу только два часа в неделю... У меня только две недели назад умер муж, почему вы ко мне пристаете с вопросом – как я отношусь к вам? Это безумие какое-то... Все эти вопросы о том, как я на вас смотрю, как я вхожу в ваш кабинет, – это мелочи, недостойные внимания... У меня в жизни происходит слишком много всего важного». Напротив, Айрин сразу поняла, что я пытаюсь делать, и все время нашей работы была явно благодарна мне за все мои попытки втянуть ее в терапию. Замечания Айрин о моей «импровизационной» терапии были мне ужасно интересны. В последнее время я ловил себя на том, что провозглашаю: «Хороший психотерапевт создает новую терапию для каждого пациента». Эта экстремальная позиция гораздо радикальнее той, которую занимал много лет назад Юнг, предлагая создавать для каждого пациента новый, особый терапевтический язык. Но наше радикальное время требует радикальных позиций. Современные тенденции «управляемого здравоохранения» смертельно опасны для психотерапии. Вот чего они требуют: 1) терапия должна быть нереалистично краткой и сосредоточенной на внешних симптомах, а не на породивших их глубинных конфликтах, 2) терапия должна быть нереалистично дешевой (а от этого страдают как профессиональные психотерапевты, вложившие многие годы в обучение и наработку опыта, так и пациенты, вынужденные лечиться у плохо обученных терапевтов), 3) психотерапевты должны имитировать медицинскую модель21, ломать голову над формулированием четких медициноподобных целей и еженедельно проводить их оценку и 4) терапевты должны использовать только «продемонстрировавшие свою эффективность на практике и утвержденные вследствие этого высшими инстанциями» методы терапии22, то есть отдавать предпочтение кратким, якобы точным когнитивно-бихевиоральным методикам, которые показывают облегчение симптоматики. Но из всех этих тупоголовых и катастрофических нападок, оскорбляющих психотерапию, больше всего опасна тенденция к терапии по протоколам. Так, некоторые виды медицинских страховок и медицинские страховые компании требуют, чтобы психотерапевт следовал предписанному плану, и часто даже диктуют расписание, т.е. указывают, на какой из дозволенных сессий какие темы следует прорабатывать. Жадные до прибыли руководители здравоохранения и их заблуждающиеся консультанты предполагают, что успех терапии зависит только от информации (получена ли она добровольным признанием или выпытана – неважно), что этот успех никак не может быть результатом отношений между пациентом и терапевтом. Это крайне В медицинской модели психотерапии (в отличие от психологической) основной упор делается на знание нозологии, синдромологии, клинической картины расстройств. Основная мишень этой модели – симптом. Психотерапевт в такой модели занимает позицию эксперта, который лучше знает, лучше понимает «наивного» пациента, чья активность сводится к минимуму – к вере во врача и проводимое лечение. – Прим. ред. 22 EVT (Empirically Validated Therapies) – список терапевтических методов, утвержденных Американской психологической ассоциацией. 21 Мама и смысл жизни 76 прискорбная ошибка. Из восьмидесяти овдовевших мужчин и женщин, которых я исследовал до начала работы с Айрин, никто не походил на нее. Никто не страдал от такой совокупности свежих (и усиливающих друг друга) потерь – мужа, отца, матери, друга, крестника. Никто не был травмирован так, как она, ранней потерей любимого брата (или сестры). Ни у кого не было таких взаимозависимых отношений, как у Айрин с Джеком. Никто не наблюдал распада супруга, которого постепенно, часть за частью, безжалостно пожирала опухоль мозга. Никто не был врачом и не понимал так хорошо природы болезни мужа и того, что его ждет. Да, Айрин была уникальна и нуждалась в уникальной терапии, той, которую мы с ней построили вместе. И не то чтобы мы сначала создали терапию, а потом начали ее применять – нет, наоборот: процесс построения новой, уникальной терапии и был этой терапией. Я посмотрел на часы. Где же Айрин? Я подошел к двери кафе и выглянул на улицу. Вон она, у следующего перекрестка, идет с мужчиной (надо полагать, Кевином), держась за его руку. Айрин и мужчина, рука в руке. Возможно ли это? Я подумал о бесконечных часах, которые провел, пытаясь убедить Айрин, что она не обречена на одиночество, что рано или поздно в ее жизни появится другой мужчина. Боже, как она упиралась! А ведь у нее была масса благоприятных возможностей: не успела она овдоветь, как к ней выстроилась длинная очередь привлекательных, подходящих поклонников. Она быстро забраковала каждого по одной или нескольким причинам из бесконечного списка: «Я не смею полюбить снова, потому что не смогу перенести еще одной потери» (исходя именно из этой позиции – всегда стоявшей первой в ее списке – Айрин с ходу отвергала любого мужчину, который был хоть чуть-чуть старше ее или был не в идеальной физической форме), «Я не хочу своей любовью обречь еще одного мужчину на смерть», «Я отказываюсь предать Джека». Любого мужчину она сравнивала с Джеком, и всегда не в пользу первого. Джек был для Айрин идеальным спутником жизни, предназначенным ей самой судьбой: он знал ее семью, его кандидатура была одобрена братом, Джек был последним связующим звеном с ее покойным братом, отцом и умирающей матерью. Более того, Айрин была убеждена, что никакой другой мужчина никогда ее так не поймет, что никогда не найдется мужчины, который, в отличие от фермера у Фроста, не принесет лопату в кухню. Кроме разве что членов общества потерявших своих любимых, тех, кто остро осознает пункт своего назначения и драгоценность жизни. Она была невероятно разборчива и требовательна. Идеальное здоровье. Спортивный. Стройный. Моложе ее. Недавно овдовевший. В высшей степени чувствительный к искусству, литературе и экзистенциальным вопросам. Я становился все более нетерпимым к Айрин и к тем невозможным критериям, которые она выставляла. Я думал обо всех остальных вдовах, с которыми работал, – они отдали бы все что угодно за любой знак внимания со стороны любого из поклонников Айрин, огульно ею отвергнутых. Я изо всех сил старался держать эти чувства при себе, но от Айрин ничто не укрывалось, даже невысказанные мною мысли, и она злилась на то, что я желал для нее связи с мужчиной. «Вы пытаетесь заставить меня пойти на компромисс!» – обвиняла меня она. Может быть, она чувствовала мою растущую тревогу по поводу того, что она меня никогда не отпустит. Я предполагал, что ее привязанность ко мне – решающий фактор в ее отказе устанавливать отношения с мужчиной. Господи, неужели я буду вечно нести это бремя? Может быть, это наказание за то, что я добился своего и стал для Айрин так важен?.. А потом в ее жизнь вошел Кевин. С самого начала она знала: он именно тот, кого она ищет. Я восхищался ее уверенностью – ее предвиденью. Я думал обо всех невозможных, нелепых стандартах, заданных ею. Ну, так вот: он отвечал абсолютно всем, и даже больше. Молодость, идеальное здоровье, чувствительность. Он даже принадлежал к тайному обществу потерявших своих любимых. Его жена умерла годом раньше, и Кевин с Айрин хорошо друг друга понимали и сочувствовали горю друг друга. Симпатия между ними возникла мгновенно, и я безумно радовался за Айрин, а также – своему собственному освобождению. До встречи с Кевином она полностью восстановила свой прежний высокий уровень функционирования во внешнем мире, но в ней все еще оставалась глубокая, почти невыразимая печаль и смирение. Теперь и они быстро растворились. Стало ли Айрин лучше оттого, что она встретила Кевина? Или она смогла открыться ему благодаря тому, что ей стало лучше? Или и то и другое? Наверное, этого я так Мама и смысл жизни 77 никогда и не узнаю. А теперь она ведет Кевина на встречу со мной. Вот они входят в дверь кафе. Идут ко мне. Почему я нервничаю? Вы только поглядите на этого человека: он великолепен – высокий, сильный, выглядит так, словно каждое утро до завтрака участвует в триатлоне, а этот нос... невероятно... где люди берут такие носы?.. Так, хватит, Кевин, отпусти ее руку. Хватит уже! Ну должна же у него быть хоть одна неприятная черта. Ох, мне же придется пожать ему руку... Почему у меня так потеют ладони? Вдруг он заметит? И кого волнует, что он заметит? – Ирв, – услышал я голос Айрин, – это Кевин. Кевин, это Ирв. Я улыбнулся, протянул руку и поприветствовал его, стиснув челюсти. «Будь ты проклят, – думал я, – если не будешь хорошо заботиться об Айрин! И, черт возьми, не вздумай умереть!» Двойная экспозиция – Понимаете, доктор Лэш, из-за всего этого я уже отчаялась. Ну, нету мужчин. Если ему под сорок и он до сих пор не женат, значит, с ним точно что-нибудь не так – мерзкий тип, бракованный, больной – какая-то другая женщина его уже за ненадобностью выбросила. И, конечно же, обчистила. У последних трех мужиков, с кем я встречалась, даже пенсионного фонда не было. Ноль. Разве их можно уважать? Вот вы бы стали такого уважать? Держу пари, у вас очень прилично отложено на старость! Нет? Ах, не волнуйтесь, я знаю, что вы не скажете. Мне тридцать пять. Просыпаюсь утром с мыслью: большие такие цифры «три» и «пять». Полпути прошла. Чем больше я думаю про своего бывшего, тем больше понимаю – он меня убил. Убил десять лет моей жизни – самые важные десять лет. Десять лет! Просто в голове не укладывается. Это страшный сон, муж уходит, я просыпаюсь, оглядываюсь кругом, мне тридцать пять, моя жизнь закончена – всех стоящих мужиков уже разобрали. [Несколько секунд молчания] – Мерна, о чем ты думаешь? – О том, что я в ловушке... о том, не поехать ли на Аляску, там мужчин больше, чем женщин. Или пойти в бизнес-школу... там тоже больше. – Мерна, оставайся здесь, в этом кабинете. Каково тебе быть здесь, сегодня? – Что вы имеете в виду? – То же, что всегда. Пытаюсь говорить о том, что происходит здесь, между нами. – Разочарование! Еще сто пятьдесят долларов – пшик! – а лучше я себя не чувствую. – Значит, я снова подкачал. Взял с тебя деньги и не помог. Мерна, попробуй... Мерна ударила по тормозам и вильнула, чтобы не столкнуться с подрезавшим ее грузовиком. Она прибавила скорость, обогнала его и крикнула: «Козел!» Выключила магнитофон и сделала несколько глубоких вдохов. Несколько месяцев назад, после первых сессий, новый психотерапевт Мерны доктор Эрнест Лэш начал записывать их встречи на магнитофон и отдавать кассету Мерне, чтобы она послушала запись на следующей неделе в машине, по дороге на очередную сессию. Еженедельно Мерна возвращала кассету доктору, и он перезаписывал новую сессию поверх старой. Доктор говорил, что это хороший способ использовать время, которое она тратит на дорогу из Лос-Альтоса в Сан-Франциско. Мерна в этом сомневалась. Часы, проведенные в кабинете доктора, в первую очередь вызывали у нее разочарование, а слушать их во второй раз – только еще больше расстраиваться. Грузовик догнал ее и мигнул фарами, чтобы она его пропустила. Мерна перестроилась и грубо обругала водителя, а он показал ей средний палец. А вдруг она попадет в аварию, потому что отвлекается, слушая кассету? Можно будет подать иск на своего психотерапевта? Приволочь этого осла в суд? Мерна улыбнулась этой идее. Она протянула руку, прижала на несколько секунд кнопку перемотки, а потом включила воспроизведение. – Мерна, будь здесь, со мной, в этом кабинете. Каково тебе быть здесь, сегодня? – Что вы имеете в виду? – То же, что всегда. Пытаюсь говорить о том, что происходит здесь, между нами. – Разочарование! Еще сто пятьдесят долларов – пшик! – а лучше я себя не чувствую. Мама и смысл жизни 78 – Значит, я снова подкачал. Взял с тебя деньги и не помог. Мерна, попробуй сделать вот что: окинь мысленным взором всю нашу сегодняшнюю сессию и скажи, что я мог бы сделать для тебя сегодня? – Откуда я знаю? Вам за это платят, так? Причем неплохо платят. – Я знаю, что ты не знаешь, Мерна. Но я хочу, чтобы ты пофантазировала. Как бы я мог помочь тебе сегодня? – Вы могли бы меня познакомить с кем-нибудь из своих богатых и одиноких пациентов. – На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»? – Ну ты и ублюдок, – пробормотала она, ударив по кнопке «стоп». – Я плачу тебе полторы сотни в час за что? За это наглое дерьмо? Она нажала перемотку и снова запустила диалог. – ...мог помочь тебе сегодня? – Вы могли бы меня познакомить с кем-нибудь из своих богатых и одиноких пациентов. – На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»?» – Не смешно, доктор. – Да, ты права. Извини. Я должен был сказать – ты так отдалена от меня, от того, чтобы сказать что-нибудь о своих чувствах ко мне. – Вы, вы, вы. Почему всегда мои чувства к вам? Вы тут ни при чем, доктор Лэш? Я не собираюсь ходить к вам на свидания... Хотя, может, было бы куда больше толку, чем от того, чем мы сейчас занимаемся. – Мерна, еще раз с самого начала. Ты пришла ко мне в первую очередь потому, что хотела сделать что-нибудь со своими взаимоотношениями с мужчинами. На самой первой встрече я тебе сказал: лучше всего я могу помочь тебе исследовать твои отношения с другими людьми, фокусируясь на наших с тобой отношениях прямо здесь, в этом кабинете. Он для тебя – безопасное место, или, по крайней мере, должен стать безопасным местом, где, я надеюсь, ты сможешь говорить свободней, чем в других местах. И в этом безопасном месте мы можем рассмотреть, каким образом мы строим, устанавливаем отношения друг с другом. Неужели это так трудно понять? Так что давай еще раз посмотрим на твои чувства ко мне здесь. – Я же уже сказала. Разочарование. – Постарайся найти что-то более личное, Мерна. – Разочарование – это личное. – Ну да, в каком-то смысле – личное, говорит мне о твоем внутреннем состоянии. Твои мысли ходят по кругу, я знаю. И когда ты здесь – они тоже ходят по кругу. И у меня тоже начинает кружиться голова. И я чувствую твое разочарование. Но слово «разочарование» ничего не говорит мне о нас. Подумай вот об этом пространстве здесь между нами. Постарайся пробыть в нем хотя бы пару минут. Как выглядит это пространство сегодня? Что значит твой комментарий несколько минут назад, что от свиданий со мной тебе было бы больше пользы, чем от терапии? – Я же уже сказала, ничего. Между нами – пустота. Одно разочарование. – Вот это – то, что происходит сейчас, в эту самую минуту – именно это я имею в виду, когда говорю, что ты избегаешь настоящего контакта со мной. – Я сбита с толку, ничего не понимаю. – Наш час почти кончился, Мерна. Еще есть время на одно упражнение, такое, как ты уже делала пару недель назад. Представь себе на минуту, что мы с тобой вместе проводим время. Закрой глаза. Придумай какую-нибудь сцену, ситуацию, что угодно. И рассказывай, что происходит. [Молчание] – Что ты видишь? – Ничего. – Заставь себя. Сделай так, чтобы что-нибудь произошло. – Ладно, ладно. Я вижу, что мы идем по улице. Разговариваем. Приятно проводим время. Какая-то улица в Сан-Франциско – может быть, Честнат. Я беру вас за руку и веду в бар знакомств. Вы хоть и поневоле, но все же идете со мной. Я хочу, чтобы вы сами посмотрели... на эту сцену... чтобы увидели своими глазами, что подходящих мужчин нет. Либо бары для одиноких, либо интернет-знакомства, которые вы упоминали на прошлой неделе. А Интернет – Мама и смысл жизни 79 это еще хуже, чем бары. Там все такое обезличенное! Просто не верится, что вы мне могли такое предложить. Вы надеетесь, что я завяжу отношения на экране монитора, даже не видя другого человека... даже не... – Вернись к своей фантазии. Что ты еще видишь? – Затемнение. Конец фильма. – Уже? Что тебе помешало остаться? – Не знаю. Стало холодно и одиноко. – Ты была со мной. Взяла меня за руку. Что ты почувствовала? – Все равно мне было одиноко. – Мерна, пора заканчивать. Только один вопрос. Последние несколько минут чем-то отличались от всего остального часа? – Нет. Все то же. Разочарование. – А я почувствовал себя более вовлеченным – пространство между нами меньше. Тебе так не показалось? – Может. Не знаю. И все равно я не вижу смысла в том, чем мы занимаемся. – Почему же я все еще ощущаю, что в тебе что-то противится и не дает увидеть этот смысл? В то же время в следующий четверг? Мерна услышала звук передвигаемых стульев, свои шаги через комнату, звук закрываемой двери. Мерна свернула на шоссе I-280. «Выброшенные деньги и время, – подумала она. – Докторишки. И он такой же, как все остальные. Ну, не совсем. Он хотя бы со мной разговаривает». На миг она представила себе его лицо: он улыбается, протягивает к ней руки, зовет подойти поближе. «Правду сказать, доктор Лэш мне нравится. Он со мной – по крайней мере ему не все равно, что со мной происходит. И он активен – старается все время двигаться вперед – готов пройти свою половину пути, не оставляет меня сидеть и молчать, как два предыдущих докторишки». Она торопливо отмахнулась от этих образов. Он вечно изводит ее требованиями запоминать свои фантазии, особенно те, что приходят в голову за рулем по пути на терапию и обратно, но не пересказывать же ему все эти банальности. Вдруг она снова услышала на пленке его голос: – Алло. Это Эрнест Лэш. Вы просили перезвонить. Жаль, что опять не застал вас, Десмонд. Пожалуйста, позвоните мне сегодня по телефону 767-1735 между восемью и десятью часами вечера или завтра с утра на рабочий телефон. «Что такое?» – удивилась она. И вдруг вспомнила: в прошлый раз, выйдя после сессии из кабинета и проехав полквартала, она сообразила, что доктор не отдал ей запись, и вернулась. Припарковалась во второй ряд перед домом викторианской эпохи, где был кабинет доктора, и взбежала по длинной лестнице на второй этаж. Поскольку Мерна в тот день была последней на приеме, она не боялась помешать другому пациенту. Дверь кабинета была приоткрыта, Мерна вошла и увидела доктора Лэша, который что-то говорил в диктофон. Когда она сказала, зачем пришла, доктор вытащил кассету из магнитофона, стоявшего на столике рядом с креслом для пациентов, и отдал ей. «До следующей недели», – сказал он. Он явно забыл выключить магнитофон, когда Мерна уходила в первый раз, и тот какое-то время работал на запись, пока не кончилась пленка. Мерна вывернула до отказа ручку громкости и услышала слабые шумы: похоже, это звякали кофейные чашки, которые доктор убирал со стола. Опять послышался голос доктора – он договаривался с кем-то по телефону насчет игры в теннис. Шаги, звук отодвигаемого стула. А потом что-то более интересное. Намного более интересное. – Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. О Мерне. Четверг, двадцать восьмое марта. «Заметки обо мне? Не может быть!» – напрягая слух, она подалась вперед, ближе к динамику, наполняясь тревогой и любопытством одновременно. Машина внезапно вильнула, и Мерна чуть не потеряла управление. Она съехала на обочину, быстро вытащила кассету, вынула из бардачка плеер, вставила кассету в него, перемотала, надела наушники, вернулась на шоссе и включила максимальную громкость. Мама и смысл жизни 80 – Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. О Мерне. Четверг, двадцать восьмое марта. Обычный, предсказуемый час, одно разочарование. Она как обычно потратила большую часть сессии на нытье, что не хватает подходящих одиноких мужчин. Я все больше и больше теряю терпение... раздражаюсь – в какой-то момент не сдержался и сказал что-то совершенно неуместное: «На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»?» Это очень враждебно с моей стороны – совсем не похоже на меня, – я даже не помню, когда в последний раз так хамил пациенту. Может быть, я пытаюсь ее оттолкнуть? Я никогда не говорю ей ничего позитивного, что бы ее поддерживало. Я стараюсь, но с ней это очень трудно. Она меня достает... такая скучная, резкая, приземленная, ограниченная. Думает только о том, как бы заработать два миллиона на акциях своей фирмы да мужика найти. Больше ни о чем... ужасная, ужасная ограниченность... ни мечты, ни фантазии, ни воображения. Никакой глубины. Читала ли она хоть раз хороший роман? Сказала ли хоть раз что-то красивое? Или интересное... Хоть одну интересную мысль? Господи, хотел бы я посмотреть, как она пишет или хотя бы пытается написать стихи... Да, это и было бы терапевтическим изменением. Она меня высасывает. Я чувствую себя как большая титька. Снова и снова одно и то же. Снова и снова она сверлит мне мозги из-за моих гонораров. Неделю за неделей я прихожу к одному и тому же – я осточертел сам себе. Сегодня я, как обычно, попросил ее исследовать свою роль в той неприятной ситуации, в которой она находится, посмотреть на свой вклад в свою же собственную изоляцию. Кажется, не так сложно, но я с тем же успехом мог бы говорить на арамейском языке. До нее просто не доходит. В ответ она обвинила меня в том, что я не верю, будто в барах для одиноких ситуация не в пользу женщин. А потом, как она это часто делает, тут же подколола меня насчет свиданий со мной. Но когда я пытаюсь сфокусироваться на этом, на ее чувствах ко мне или на том, как она загоняет себя в одиночество прямо здесь, в кабинете рядом со мной, все становится еще хуже. Она отказывается понимать. Она не хочет реагировать на меня, контактировать со мной, и даже не хочет признавать это – упорно настаивает, что это не имеет никакого отношения к делу. Но она не может быть дурой. Окончила Уэлсли, делает высококачественную графику, зарабатывает кучу денег, куда больше меня, половина компьютерных компаний в Силиконовой долине за нее передрались – но у меня такое ощущение, что я разговариваю с тупицей. Ну сколько раз я должен объяснять, почему важно рассматривать наши с ней отношения? И все эти ее подколы насчет того, что она зря платит деньги, – я чувствую себя униженным. Она вульгарна. Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо. Она дергает меня за все ни... Гудок обгоняющей машины вернул Мерну в реальность – ее машина выписывала зигзаги на дороге. Сердце Мерны колотилось вовсю. Это было опасно. Она выключила плеер и проехала несколько минут до своего поворота. Свернула на боковую улочку, остановила машину, перемотала кассету назад и стала слушать дальше: ...я чувствую, что меня не ценят. Она вульгарна. Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо. Она дергает меня за все ниточки – в этом есть что-то от моей матери. Каждый раз, как я спрашиваю ее про наши терапевтические отношения, она смотрит на меня так настороженно, как будто я пытаюсь ее закадрить. Неужели? Я прислушался к себе – ни намека ни на что такое. А если бы она не была моей пациенткой? Она вполне ничего себе – мне нравятся ее волосы – блестят... осанка красивая... роскошная грудь, аж пуговицы трещат... это, конечно, большой плюс. Уж не пялюсь ли я во время сессии на ее грудь... наверное, все-таки нет – спасибо Алисе! Однажды, еще старшеклассником, я болтал с девочкой по имени Алиса, и мне в голову не приходило, что я пялюсь на ее сиськи, пока она не взяла меня за подбородок, подняв мое лицо, и не сказала: «Эге-гей! Я тут!» Я этого никогда не забуду. Эта Алиса оказала мне большую услугу. У Мерны кисти рук слишком большие, это отталкивает. Но мне нравится этот шикарный заводящий посвист ее колготок, когда она закидывает ногу на ногу. Да, кажется, есть в этом что-то сексуальное. Если б я столкнулся с ней, когда еще был один, стал бы я с ней заигрывать? Наверное, да. Меня бы тянуло к ней физически, пока она не открыла бы рот и не начала ныть или чего-нибудь требовать. Тогда мне захотелось бы быстренько убраться подальше. В ней нет никакой нежности, мягкости. Она слишком сосредоточена на себе и вся из острых углов – локти, Мама и смысл жизни 81 колени, упрямая... [Щелчок – кассета кончилась] Ошеломленная, Мерна завела машину, проехала несколько минут и свернула направо на Сакраменто-стрит. До кабинета доктора Лэша оставалось всего лишь пара кварталов. Мерна с удивлением заметила, что дрожит мелкой дрожью. Что делать? Что ему сказать? Быстрей, быстрей – через несколько минут его чертовы часы начнут отсчитывать ее сто пятьдесят долларов. «Одно я точно знаю, – сказала она себе, – я не отдам ему кассету, как обычно. Я должна послушать это еще раз. Совру, скажу, что забыла дома. Потом перепишу все на другую кассету, а эту верну ему в следующий раз. А может, просто сказать, что потеряла? Если ему не понравится – его проблема!» Чем больше Мерна думала, тем больше уверялась, что не скажет доктору про подслушанную диктовку. «Зачем отдавать козырную карту? Может, и скажу – но потом когданибудь. А может, и никогда... Вот же скотина!» Мерна подъехала к офису доктора. Четыре часа. Настало время для разговоров. – Мерна, заходи, пожалуйста. – Эрнест всегда звал ее Мерной, а она его – «доктор Лэш», хотя он часто указывал ей на эту асимметрию и просил звать его по имени. В этот день он, как всегда, был в своем темно-синем пиджаке и белой водолазке. «У него что, другой одежды нет? – удивилась Мерна. – И эти потертые туфли. Одно дело – одеваться удобно, совсем другое – небрежно. Он вообще слышал о том, что нужно чистить обувь? А пиджак совсем не скрывает слой жира вокруг талии. Если бы я с тобой играла в теннис, я бы тебя до смерти загоняла. Согнала бы жир с твоих ляжек!» – Ничего страшного, – добродушно сказал он, когда Мерна призналась, что забыла кассету. – Принесешь на следующей неделе. Я пока свежую вставлю. Он содрал обертку с новой кассеты и вставил ее в магнитофон. Воцарилось обычное молчание. Мерна вздохнула. – Ты выглядишь встревоженной, – заметил Эрнест. – Нет-нет, – откликнулась Мерна. «Обманщик, подумала она, какой же обманщик! Прикидываешься таким заинтересованным. Можно подумать, тебе не все равно, что я беспокоюсь. Да тебе плевать. Я знаю, как ты на самом деле ко мне относишься». Опять молчание. – Я чувствую между нами большую дистанцию, – заметил Эрнест. – Ты тоже? – Не знаю, – пожала плечами Мерна. – Мерна, я все размышляю о нашей прошлой сессии. У тебя были дома после нее какие-то сильные переживания? – Ничего необычного, – ответила Мерна и подумала: «У меня преимущество, и сегодня он у меня отработает свои деньги как миленький. Пусть попотеет. Хочу на это посмотреть». Она выдержала длинную паузу и спросила: – А должны были? – Что? – Я должна была сильно переживать по поводу прошлой сессии? На лице Эрнеста отразилось удивление. Он посмотрел на Мерну. Она гляцела на него в упор, не мигая. – Ну... – сказал он, – я просто хотел узнать, переживала ли ты что-нибудь. Может быть, мое замечание про футболку и службу знакомств у тебя вызвало какие-то чувства? – А у вас есть какие-то чувства по поводу этого замечания, доктор Лэш? Эрнест выпрямился в кресле – сегодняшняя прямота Мерны была очень странной и необычной. – Да, я много чего по этому поводу чувствую, – сказал он, запинаясь. – И в основном ничего хорошего. Я чувствую, что нагрубил тебе. И могу себе представить, как здорово ты на меня рассердилась. – Нуда, я рассердилась. – И обиделась? – Да, и обиделась тоже. Мама и смысл жизни 82 – Подумай об этом чувстве обиды. Оно переносит тебя в какое-то другое место? Другое время? «Ах ты, червяк! – подумала Мерна. – Ну, уж нет, я тебе не дам уползти. И все эти недели ты мне тут рассказывал, как важно оставаться в настоящем!» – Может быть, нам с вами, доктор Лэш, лучше остаться здесь, в этом кабинете? – сказала она со своей новообретенной прямотой. – Я бы хотела знать, зачем вы это сказали – зачем вы, как вы сами выразились, мне нагрубили. Эрнест опять посмотрел на Мерну. На этот раз он смотрел на нее дольше. И раздумывал, как ему поступить. Уважать пациента – первое дело. Сегодня, наконец-то, Мерна, кажется, готова контактировать с ним. Столько месяцев Эрнест побуждал, уговаривал, умолял ее оставаться в «Здесь и Сейчас». Итак, поощрять ее усилия, сказал он себе. И быть честным. Честность прежде всего. Убежденный скептик во всем остальном, Эрнест с пылом религиозного фанатика верил в целительную силу честности. Его катехизис призывал к честности – но умеренной, избирательной. И ответственной, заботливой честности: честности на службе у заботы. Например, он никогда не проявит по отношению к Мерне грубые, негативные – но честные – чувства, которые выражал двумя днями раньше, представляя ее случай на семинаре по контрпереносу. Семинар начался год назад, когда группа из десяти психотерапевтов стала встречаться раз в две недели, чтобы работать над пониманием своих личных реакций на пациентов. На каждой встрече один из участников рассказывал про своего пациента, всецело концентрируясь на чувствах, которые этот пациент вызывает у него в процессе терапии. Каковы бы ни были чувства к пациентам – иррациональные, примитивные, полные любви или ненависти, сексуальные, агрессивные – участники семинара обязались выражать их откровенно и исследовать их смысл и корни. Среди многих целей этого семинара не было более важной, чем давать его участникам ощущение принадлежности к группе. Изоляция – основной профессиональный риск психотерапевтов, ведущих частную практику, и они борются с ней, вступая в различные организации: учебные группы вроде этого семинара по контрпереносу, институты повышения квалификации, ассоциации сотрудников больниц и самые разные местные и общенациональные профессиональные организации. Семинар по контрпереносу был страшно важен в жизни Эрнеста, и он с нетерпением ждал занятий, происходивших раз в две недели, – не только, чтобы насладиться ощущением братства, но и чтобы получить консультацию. В прошлом году он завершил длительный опыт супервизии у традиционного психоаналитика Маршала Страйдера, и семинар теперь остался единственным местом, где Эрнест мог обсудить с коллегами своих пациентов. Хотя официально группа фокусировалась больше на исследовании внутренней жизни терапевта, чем на терапии, такие обсуждения неизменно влияли на ход терапии. Само знание, что ты будешь рассказывать о пациенте на семинаре, не могло не влиять на то, как ты проводишь терапию с этим пациентом. А сегодня, во время сессии с Мерной, Эрнест, обдумывая объяснения своей давешней грубости, представил себе, как участники семинара молча сидят и смотрят на него. Эрнест очень старался не сказать ничего такого, чего не мог бы потом повторить группе. – Я не уверен, что знаю все причины, почему, но знаю, Мерна, что я был раздражен на прошлой встрече, когда я сказал это. Мне казалось, что ты упрямишься. У меня было ощущение, что я стучу в твою дверь, стучу и стучу, а ты отказываешься открывать. – Я делала все, что могла. – Наверное, до меня это не дошло. Мне казалось, что ты знаешь, почему важно сосредоточиться на «Здесь и Сейчас», на отношениях между нами, но все равно притворяешься, что не знаешь. Видит Бог, я тебе уже столько раз пытался это объяснить. Помнишь, на первой встрече ты говорила про твоих предыдущих терапевтов? Ты сказала, они были слишком далекие, отстраненные, невнимательные. А я тебе сказал, что буду рядом с тобой, что заинтересован в том, чтобы контактировать с тобой, и что нашей главной задачей будет исследование нашего контакта. И ты сказала, что тебя это очень радует. – В этом нет никакого смысла. Вы думаете, я нарочно вам сопротивляюсь? Тогда зачем, повашему, я сюда езжу, каждую неделю, не ближний свет, да еще плачу полторы сотни в час? Сто Мама и смысл жизни 83 пятьдесят долларов – может, для вас это мелочь, а для меня – нет. – На каком-то уровне это не имеет смысла, Мерна, а на другом – имеет. Вот как я это вижу. В своей жизни ты несчастна, одинока, чувствуешь, что тебя никто не любит, что тебя вообще нельзя любить. Ты приходишь ко мне за помощью – прилагаешь усилия, ездишь действительно издалека. И тратишь много денег, да-да, я слышу, когда ты об этом говоришь, Мерна. Но что-то странное случается здесь – я думаю, дело в страхе. Я думаю, что приближение к другому человеку для тебя связано с неловкостью, стеснением, и ты сдаешь назад, закрываешься, выискиваешь у меня недостатки, высмеиваешь то, чем мы занимаемся. Я не говорю, что ты это нарочно делаешь. – Если вы меня так хорошо понимаете, почему тогда сказали про футболку? Вы так и не ответили. – Ответил, когда сказал, что был раздражен на тебя. – Не похоже на ответ. Эрнест опять принялся рассматривать свою пациентку и подумал: «Да знаю ли я ее на самом деле? Откуда этот порыв прямоты? Но это долгожданный, бодрящий ветер – и уж всяко лучше того, чем мы до сих пор занимались. Я постараюсь поймать его в свои паруса и проплыть как можно больше». – Ты права, Мерна. Моя острота насчет футболки ни в какие ворота не лезет. Это глупое замечание. И грубое. Мне очень жаль. Не знаю, что меня толкнуло. Я бы очень хотел знать причины. – Я помню по записи... – А я думал, ты ее не слушала. – Я этого не говорила. Я сказала, что забыла ее принести, но я ее слушала дома. Замечание про футболку последовало сразу после того, как я предложила вам познакомить меня с одним из ваших богатых и неженатых пациентов. – Верно, верно, я вспомнил. Мерна, я поражен. Почему-то у меня было ощущение, что наши сессии для тебя не слишком много значат, чтобы их хорошо запоминать. Давай вернемся к моим чувствам на прошлой встрече. Одно я точно помню – то замечание насчет богатых пациентов меня действительно доконало! Кажется, как раз перед этим я спросил, чем бы мог тебе помочь, а это был твой ответ. Я почувствовал себя подавленным. Твое замечание меня обидело. Я должен быть выше этого, но и у меня есть свои больные места... и слепые пятна тоже. – Обидело? Ах, какие мы нежные! Я просто пошутила. – Может быть. А может быть, не просто. Может быть, ты таким образом дала голос своему ощущению, что от меня никакого толку – что в лучшем случае я гожусь на то, чтобы тебя с кем-то познакомить. Поэтому я почувствовал себя невидимым. Обесцененным. И, наверное, именно поэтому я набросился на тебя. – Бедняжка! – пробормотала Мерна. – Что? – Ничего, ничего... еще одна шутка. – Тебе не удастся сбить меня такого рода замечаниями. По правде сказать, я тут раздумываю, не стоит ли нам начать встречаться чаще, чем один раз в неделю. На сегодня – все. Мы уже заехали в следующий час. Давай начнем с этого места через неделю. Эрнест был рад, когда Мернин час кончился. Но не как всегда, а по иным причинам: ему не было скучно, она его не раздражала – он был обессилен. Как боксер после боя. Истощен. Оглушен. Его шатало. Он висел на канатах. Но Мерна продолжала наносить удары. – Я вам не очень симпатична, а? – заметила она, беря сумочку и начиная подниматься со стула. – Наоборот, – ответил Эрнест, наполняясь решимостью продолжать работу. – Я чувствовал особенную близость к тебе на этой сессии. Сегодня было жутко и трудно, но мы отлично поработали. – Я совсем не об этом спросила. – Но я сказал то, что я чувствую. Иногда я чувствую себя дальше от тебя, а иногда – ближе. – Но я вам на самом деле не симпатична? – Симпатия – это не какое-то всеобъемлющее чувство. Бывает, ты делаешь что-то такое, Мама и смысл жизни 84 что мне не нравится. А бывает, мне многое в тебе очень нравится. «Ага, ага. Например, мои большие сиськи и посвист колготок», – подумала Мерна, доставая ключи от машины. В дверях Эрнест, как обычно, протянул ей руку. Мерне стало неприятно. Физический контакт с ним – вот уж это было самым последним, чего бы она сейчас хотела, но отказаться она не могла. Она легко пожала его руку, быстро высвободилась и вышла не оглядываясь. Той ночью Мерна никак не могла заснуть. Она лежала без сна, не в силах выкинуть из головы то, что доктор Лэш наговорил о ней на пленке. «Ноет», «нудная», «острые углы», «ограниченная», «вульгарна» – его слова без устали крутились у нее в голове. Ужасные слова, но больнее всего было замечание о том, что она никогда не сказала ничего интересного или красивого. Его надежда, что она могла бы написать стихотворение, обжигала – слезы наворачивались на глаза. Она вспомнила давно забытый случай. Лет в десять или одиннадцать она писала стихи, но втайне ото всех, особенно от своего грубого, вечно всем недовольного отца. Еще до рождения дочери его выгнали из ординатуры, где он учился на хирурга, из-за алкоголизма, и он влачил остаток жизни разочарованным, пьющим доктором в мелком городишке. Он принимал больных у себя дома и все вечера проводил перед телевизором, прихлебывая бурбон из фирменного стаканчика от виски «Олд Гранд Дэд»23. Мерне никогда так и не удалось пробудить в нем интерес к себе. Никогда, ни разу в жизни, отец открыто не выразил своего теплого отношения к дочери. В детстве Мерна совала свой нос во все щели. Как-то раз, когда отец был на вызовах, она перерыла тщательно осмотрела верхние отделения и ящики отцовского стола-бюро, орехового, с убирающейся крышкой, и нашла – под стопкой медкарт пациентов – пачку пожелтевших любовных писем. Одни были от ее матери, другие – от женщины по имени Кристина. А глубоко под письмами Мерна с удивлением обнаружила некоторые свои стихи. Бумага, на которой они были написаны, на ощупь была странно влажной. Мерна забрала их, повинуясь внезапному импульсу, и заодно стянула письма Кристины. А несколько дней спустя, в облачный осенний ранний вечер, она запихала их вместе со всеми остальными своими стихами в кучу сухих платановых листьев в саду и подожгла. Весь вечер она сидела и смотрела, как ветер забавляется пеплом ее стихов. С тех пор между нею и отцом опустилась завеса молчания. Непроницаемая. Отец так никогда и не признал, что нарушил ее личные границы. Мерна тоже никогда не созналась в том, что нарушила – его. Он никогда не упомянул о пропавших письмах, и она не произнесла ни слова о пропавших стихах. Мерна никогда больше не писала стихов, но не переставала гадать, почему он хранил ее стихи и почему страницы были мокрые. Иногда она представляла себе, как отец читает ее стихи и проливает слезы над их красотой. Несколько лет назад Мерне позвонила мать и сказала, что у отца удар. Мерна бросилась в аэропорт, успела на первый самолет, но по прибытии в больницу увидела только пустую палату и голый матрас под прозрачным полиэтиленом. Санитары унесли тело всего несколько минут назад. В свою первую встречу с доктором Лэшем Мерна вздрогнула, увидев, что у него в кабинете стоит антикварный стол-бюро с убирающейся крышкой. Точно такой же, как у ее отца. И потом очень часто во время долгих пауз Мерна ловила себя на том, что разглядывает стол. Она никогда так и не рассказала доктору Лэшу ни о столе с его тайнами, ни о своих стихах, ни о долгом молчании между ней и отцом. Эрнест той ночью тоже плохо спал. Снова и снова он прокручивал в голове свое выступление про Мерну на семинаре. Группа по контрпереносу встречалась два дня назад в комнате для групповой терапии при кабинете одного из участников, расположенном в «Ряду Кушеток», как прозвали верхнюю часть Сакраменто-стрит. Вначале у семинара не было руководителя, но дискуссии стали такими жаркими и такими угрожающими личной безопасности участников, что пару месяцев назад группа все же пригласила консультанта, доктора Фрица Вернера, почтенного психоаналитика, который своими многочисленными проницательными статьями внес достойный вклад в психоаналитическую литературу по контрпереносу. Рассказ 23 Виски «Old Grand Dad» («Старый дед»), рекламный лозунг которого: «Время, налитое в бутылку»; известен своей тонкостью и элегантностью вкуса. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 85 Эрнеста про Мерну вызвал чрезвычайно оживленную дискуссию. Доктор Вернер, хотя и похвалил Эрнеста за готовность открыться перед группой, тем не менее очень жестко раскритиковал его терапию, особенно замечание насчет футболки. – Откуда такое раздражение? – спросил доктор Вернер, выскребая пепел из трубки и набивая ее резко пахнущим балканским табаком «Собрание». (Когда его приглашали, он специально оговорил свое право на курение трубки.) – Что с того, что она повторяется? – продолжил он, закурив. – Что с того, что она ноет? Требует от вас невозможного? Критикует вас и ведет себя не так, как положено добропорядочной, благодарной пациентке? Господи, юноша, она к вам ходит только четыре месяца! Это сколько – четырнадцать или шестнадцать сессий? А вот ко мне сейчас ходит пациентка, которая весь первый год – и это четыре раза в неделю, двести часов – говорила одно и то же. Снова и снова одни и те же стенания, одни и те же жалобы – почему у нее не такие родители, не такие друзья, не такое лицо, не такое тело, – одно и то же бесконечное изнывание по тому, чего никогда не будет. В конце концов ей надоело себя слушать, надоело повторяться. Она сама осознала, что разбазаривает не только свое время у психотерапевта, но и всю свою жизнь. Вы не можете швырнуть правду в лицо пациенту: единственная настоящая правда – та, которую мы сами для себя открываем... – Беспристрастное, взвешенное внимание, юноша, – сказал он твердо. – Вот что вы должны давать пациенту. Беспристрастное, взвешенное внимание. Эти слова по сей день так же истинны, как в тот день, когда Фрейд произнес их впервые. Вот что от нас требуется – быть внимательным к словам пациента, без предопределенности, без предвзятости, не позволяя личным реакциям сужать наш угол зрения. В этом – сердце и душа всего психоаналитического предприятия. Уберите это – и весь процесс окажется несостоятельным. В этот момент группа взорвалась – все участники заговорили разом. Критика доктора Вернера в адрес Эрнеста сработала как громоотвод, притянув к себе все накопившееся в группе за эти месяцы напряжение. Участников, собравшихся сюда с горячим желанием повысить свою квалификацию, рассердила явная, надменная элитарность пожилого консультанта. Они были заляпанными грязью и дерьмом солдатами в траншеях. Каждый день им приходилось сталкиваться лицом к лицу с крайне рискованными клиническими условиями, выдвигаемыми неумолимой НМО24, этой колесницей Джаганнатхи25. И они просто рассвирепели от явного равнодушия доктора Вернера к реальности их психотерапевтической практики. Он был одним из немногих счастливчиков, не пострадавших от этой чумы – управляемого здравоохранения: он не работал со страховками, он по-прежнему вел состоятельных пациентов, встречаясь с ними по четыре раза в неделю, и мог себе позволить не торопясь ожидать, пока сопротивление пациента выдохнется. Участники семинара пришли в ярость от его бескомпромиссного понимания психоанализа как жесткой и неизменной дисциплины. И еще – от его уверенности, самодовольства, его слепого принятия догм. Это тоже возмутило собравшихся, наполнило их желчной завистью, которую испытывают беспокойные скептики к жизнерадостным поборникам веры. – Как вы можете говорить, что Эрнест видел ее только четырнадцать раз? – спросил один участник. – Да я счастлив, если НМО дает мне разрешение на восемь сессий! И только если я смогу выудить из пациента одно из магических слов – самоубийство, месть, поджог или убийство, – только тогда я получу шанс вымолить еще несколько сессий. Вымолить у какого-нибудь ничего не смыслящего в клинической практике клерка, который чем больше прошений отклонит, тем НМО ( H e a l t h M a i n t e n a n c e O r g a n i z a t i о n ) —система обеспечения регулируемого медицинского обслуживания в США, направлена на снижение расходов системы здравоохранения, покрываемых страховыми компаниями, благодаря планам управляемого медицинского обеспечения, которые жестко регламентируют качество и количество оплачиваемых услуг. – Прим. ред. 25 Санскр. jagannatha, д ж а г а н н а т х а – «владыка мира» – безрукий и безногий бог, который, согласно одному из мифов, был создан из пепла, оставшегося после кремации Кришны. В переносном смысле «Джаганнатхи» означает «тот, кто неудержимо идет напролом, не обращая внимания на любые препятствия и причиняемый вред». Культ Джаганнатхи включал в себя ритуальные самоистязания и самоубийства верующих, бросавшихся под колесницу, на которой возили его изображение. Отсюда пошло известное выражение «колесница Джаганнатхи (или Джаггернаута)», которым обозначают проявления слепой непреклонной силы. – Прим. науч. ред. 24 Мама и смысл жизни 86 больше получит. Другой сказал: – Я не уверен – настолько, как вы, доктор Вернер, – что Эрнест поступил так уж неправильно. Может быть, его острота насчет футболки и не была грубой ошибкой. Может быть, именно это и нужно было услышать пациентке. Мы же говорили о том, что час у психотерапевта – это микрокосм всей жизни пациента. Если эта пациентка наводит на Эрнеста тоску и обманывает его надежды, то, несомненно, она точно так же действует на всех окружающих. Может быть, Эрнест оказывает ей услугу тем, что режет правду-матку. Может быть, он просто не может ждать двести часов, пока она сама себе надоест. И еще один: – Порой эти тончайшие аналитические процедуры – явный перебор, доктор Вернер. Они стоят слишком много и слишком далеки от реальности. Ваша реклама, что эмпатическое бессознательное пациента всегда занимается тем, что улавливает чувства терапевта, меня не убеждает. Мои пациенты находятся, как правило, в критическом состоянии. Они приходят раз в неделю – а не четыре, как ваши – и так задыхаются от своего собственного процесса, что им не до моих настроений. Бессознательное улавливание чувств терапевта... да у моих пациентов нет на это ни времени, ни желания! Доктор Вернер не мог этого оставить без ответа. – Я знаю, что этот семинар посвящен контрпереносу, а не терапевтическим техникам, но эти вещи нельзя разделить. Раз в неделю, семь раз в неделю – какая разница! Контрперенос всегда влияет на терапию. На каком-то уровне чувства терапевта неизбежно передаются пациенту. Я никогда не видел, чтобы это не действовало! – и он взмахнул трубкой для выразительности. – И поэтому мы обязаны понять, проработать и ослабить свои невротические реакции на пациентов. Но здесь, в этой ситуации с... футболкой, – продолжал доктор Вернер, – речь идет даже не о нюансах. Мы имеем дело совсем не с утонченностью восприятия пациентом чувств терапевта: доктор Лэш открыто оскорбил пациентку – никаких тонкостей, никаких догадок не потребовалось. Я не могу уклониться от ответственности и не квалифицировать это как вопиющую терапевтическую ошибку – ошибку, угрожающую основам терапевтического альянса. Не позволяйте калифорнийскому духу «все сойдет, все позволено» отравлять вашу терапию. Анархия и терапия несовместимы. Какой ваш первый шаг в терапии? Вы должны установить безопасные рамки. Я вас спрашиваю – как после этого инцидента пациентка доктора Лэша будет заниматься свободными ассоциациями? Разве она может быть уверена, что терапевт примет ее слова с беспристрастным, взвешенным вниманием? – Разве любой терапевт способен на беспристрастное, взвешенное внимание? – спросил Рон, эмоциональный терапевт с окладистой бородой, один из близких друзей Эрнеста. Еще со студенческих лет оба они были иконоборцами. – Фрейд, например, не был способен. Посмотрите на истории его пациентов – Доры, человека-крысы, маленького Ганса. Фрейд всегда входил в жизнь своих пациентов. Я считаю, что занимать полностью нейтральную позицию – не в человеческих силах. Именно это утверждается в новой книге Дональда Спенса. Вы никогда на самом деле не поймете то, что реально переживает пациент. – Тем не менее вы должны стараться слушать, не позволяя вашим личным чувствам замутнить то, что происходит, – ответил доктор Вернер. – Чем более вы нейтральны, тем ближе вы к оригинальному смыслу пациента. – Оригинальному смыслу? Да обнаружить оригинальный смысл опыта другого человека – это иллюзия, – выстрелил в ответ Рон. – Посмотрите, сколько утечек происходит в процессе общения. Сначала некоторые чувства пациента трансформируются в его же собственные образы, а потом – в наиболее предпочитаемый им набор слов... – Почему «некоторые»? – прервал его доктор Вернер. – Потому что множество чувств просто невыразимо. Но позвольте мне закончить. Я говорил о превращении образов пациентов в слова. Даже этот процесс не безупречен – выбор человеком слов сильно зависит от существующего в его воображении отношения к тому, кто его слушает. И это только передаточное звено. Потом происходит обратное: если терапевт хочет постичь смысл слов пациента, он должен перевести эти слова в свои собственные, личные образы, а потом уже – в свои собственные чувства. К концу этого процесса может ли сохраниться хоть Мама и смысл жизни 87 какое-то сопоставление? Есть ли шанс, что один человек может действительно понять то, что другой переживает? Или скажу по-другому: что двое, слушая третьего, поймут его одинаково? – Это как детская игра в испорченный телефон, – встрял Эрнест. – Один шепчет фразу на ухо другому, другой третьему, и так по кругу. Когда фраза возвращается к тому, кто ее послал, у нее слабое родство с оригиналом. – А это означает, что слушать – не значит фиксировать. – Рон выделял голосом каждое слово. – Слушать – творческий процесс. Вот поэтому, когда аналитики претендуют на то, что психоанализ – это наука, я всегда злюсь. Он не может быть наукой, потому что наука требует точного измерения достоверных внешних данных. В терапии это невозможно, потому что слушание – это творчество. Мозг терапевта, измеряя – искажает. – Мы все знаем, что можем ошибаться, – ликовал Эрнест, – если мы не настолько глупы, чтобы верить в существование безупречного восприятия. Эту фразу Эрнест где-то вычитал несколько недель назад, и ему не терпелось ввернуть ее в разговоре. Доктор Вернер был не из тех, кто старается избежать дискуссий. Его не смутил такой отпор учеников, и он невозмутимо ответил: – Не следует слепо стремиться к ложной цели – абсолютной идентичности между мыслями говорящего и восприятием слушающего. В лучшем случае можно надеяться всего лишь на приблизительное соответствие. Но скажите, кто-нибудь из присутствующих здесь – включая этот дуэт юных иконоборцев, – он кивнул на Эрнеста и Рона, – сомневается, что интегрированный человек точнее воспримет намерения говорящего, чем, скажем, параноидальный, который в каждой фразе собеседника видит предвестники личной опасности? Лично я считаю, что мы себя недооцениваем, когда безоглядно утверждаем, что неспособны подлинно понять другого человека или воссоздать его прошлое. Такое смирение привело вас, доктор Лэш, к сомнительной практике – вы фокусируетесь только на «Здесь и Сейчас». – Как это? – хладнокровно спросил Эрнест. – Потому что вы наиболее скептически из всех участников семинара относитесь и к возможности точно вспомнить, и ко всему процессу реконструкции того, что происходило с пациентом. И я думаю, у вас это зашло так далеко, что вы и пациента сбили с толку. Да, прошлое, несомненно, неуловимо и, несомненно, изменчиво в зависимости от настроения пациента, и, несомненно, наши теоретические представления влияют на то, что активизируется в памяти. Но я все равно верю, что в основе всего лежит веский подтекст, правдивый ответ на вопрос: «Бил ли меня мой брат, когда мне было три года?» – Веский подтекст – это старомодная иллюзия, – возразил Эрнест. – Нет обоснованного ответа на этот вопрос. Бил ли вас брат намеренно или в игре, или всего лишь шлепнул, или ударил так, что сшиб с ног, – этот контекст навсегда утерян. – Верно, – вклинился Рон. – Или он дал сдачи, потому что вы его ударили за секунду до того? Или он защищал сестру? Или просто потому, что ваша мама наказала его за что-то, что он натворил? – Действительного, имеющего силу подтекста не существует, – повторил Эрнест. – Это все – интерпретация. Ницше это знал уже сто лет назад. – По-моему, мы далеко ушли от цели нашего собрания, – вмешалась Барбара, одна из двух женщин – участниц группы. – Насколько я помню, оно задумывалось как семинар по контрпереносу. Она посмотрела на доктора Вернера. – У меня замечание по происходящему процессу. Эрнест делает именно то, для чего мы здесь собрались, – рассказывает о своих самых сокровенных чувствах к пациенту, – а его за это сравнивают с землей. Что это вдруг? – Верно, верно! – отозвался доктор Вернер. Его серо-голубые глаза блестели, он явно наслаждался этим бунтом, этим зрелищем, когда его подросшие дети, отложив соперничество, дружно объединяются в отцеубийственном походе. По правде сказать, доктор Вернер был счастлив. «Боже мой, – думал он, – только представьте себе! Да это же прямо по Фрейду – Мама и смысл жизни 88 первобытная орда26 буянит здесь на Сакраменто-стрит! – На мгновение он поколебался, не предложить ли группе эту интерпретацию, но передумал. – Дети к этому еще не готовы. Может быть, позже». Вместо этого он ответил: – Но не забывайте: я не критиковал чувства доктора Лэша к Мерне. Какой терапевт не переживал такого по отношению к раздражающему его пациенту! Нет, я не критикую его мысли. Я критикую только его несдержанность, его неспособность держать свои чувства при себе. Это спровоцировало еще один залп протестов. Некоторые защищали решение Эрнеста – открыто выразить свои чувства. Другие критиковали доктора Вернера за то, что он не создает доверительную среду на семинаре, говорили, что хотят чувствовать себя здесь в безопасности, а не уворачиваться от ударов брани и упреков в адрес их терапевтических приемов – особенно если в основе критики лежит традиционный психоаналитический подход, неуместный в нынешних клинических условиях проведения терапии. Наконец сам Эрнест заявил, что дискуссия стала непродуктивной, и предложил группе вернуться к теме его контрпереносных отношений. Несколько участников рассказали о похожих пациентах, которые изматывают и истощают их, но самым интересным Эрнесту показалось замечание Барбары. – Это не похоже на обычное сопротивление пациента, – сказала она. – Ты говоришь, что она достает тебя как никто другой и ты раньше никогда так не грубил пациенту. – Да, это правда, а почему так – я не знаю, – ответил Эрнест. – Некоторые вещи в ней просто выводят меня из себя. Я прихожу в ярость из-за ее беспрестанных напоминаний о том, что она мне платит. Она постоянно превращает наш процесс в куплю-продажу. – А что, это не купля-продажа? – встрял доктор Вернер. – С каких это пор? Вы оказываете ей услугу, взамен она дает вам чек. По мне, чем не торговля? – Ну, прихожане платят десятину, но это не делает церковную службу актом куплипродажи, – ответил Эрнест. – Именно что делает! – не отступил доктор Вернер. – Только эти обстоятельства еще более рафинированные и замаскированные. Почитайте изящный мелкий шрифт в конце молитвенника: нет десятины – в итоге нет службы. – Типичный аналитический редукционизм – все сводится к базисному уровню, – сказал Эрнест. – Я на него не покупаюсь. Терапия – не коммерция, а я не купец. Я не потому выбрал эту профессию. Если бы дело было в деньгах, я бы пошел куда-нибудь еще – в юристы, в инвестиционные банкиры или в одну из богатых медицинских специальностей типа офтальмологии или радиологии. Я вижу в терапии нечто иное – можете называть ее проявлением caritas27. Я записался в армию пожизненно. И моя служба, волей случая, оплачивается. Но моя пациентка все время бьет меня этими деньгами по лицу. – Вы все даете и даете, – промурлыкал доктор Вернер своим самым профессионально звучным голосом, по-видимому, смягчаясь. – А она ничего не дает в ответ. Эрнест кивнул. – Точно! Она ничего не дает в ответ. – Вы даете и даете, – повторил доктор Вернер. – Вы даете ей самое лучшее, что у вас есть, а она все повторяет: «Дай же мне хоть что-то, что имеет смысл». – Именно это я и ощущаю, – уже мягче сказал Эрнест. Этот обмен репликами прошел так гладко, что никто из присутствующих, за исключением, может быть, самого доктора Вернера, не осознал ни его перехода на завораживающий профессиональный тембр голоса, ни, кажется, желания Эрнеста уютно укутаться в предлагаемое теплое терапевтическое одеяльце. «Первобытная орда» – так Фрейд в своей работе «Психология масс и анализ человеческого «Я» назвал то общество, которое, по Дарвину, было первой структурой человеческого общества вообще. Это была группа, состоявшая из мужчины-вожака (первобытного отца), нескольких женщин (которых он сохранял для себя) и нескольких мужчин (которых он держал в подчинении). Фрейд использовал эту гипотезу, в частности, для объяснения происхождения вины: сыновья объединились, убили отца и поделили женщин между собой, но почувствовали и передали по наследству вину за совершенное отцеубийство и инцест. – Прим. науч. ред. 27 Христианской любви (лат.). 26 Мама и смысл жизни 89 – Ты сказал, в ней есть что-то от твоей матери, – заметила Барбара. – И от нее я никогда не получал много. – Ее призрак влияет на твои чувства к Мерне? – С матерью было по-другому. Это я избегал ее. Я ее стеснялся. Мне не нравилось думать, что это она меня родила. Когда я был маленький – в восемь или девять лет, – мне казалось, что я задыхаюсь, стоило матери подойти поближе. Помню, я как-то сказал своему психоаналитику, что моя мать «высасывает из комнаты весь кислород». Мой аналитик все время возвращался к этой фразе. Она стала девизом, главным мотивом моего анализа. Я обычно смотрел на мать и думал: я должен ее любить, потому что она моя мать, но если бы она была посторонней женщиной, мне все в ней было бы неприятно. – Итак, – сказал доктор Вернер, – мы выяснили кое-что важное о вашем контрпереносе. Вы уговариваете пациентку подойти поближе, но одновременно непреднамеренно подаете ей сигнал «не приближайся». Если она подойдет слишком близко, то высосет весь кислород. И, без сомнения, она воспринимает второй сигнал и примиряется с ним. И позвольте мне еще раз повторить: мы не можем скрыть эти свои чувства от пациента. Скажу еще раз: мы не можем скрыть эти чувства от пациента. Это урок на сегодня. Сколько бы раз я это ни повторял, все равно будет мало. Опытный терапевт не сомневается в том, что существует бессознательная эмпатия. – И амбивалентность тоже, – сказала Барбара, – в твоем сексуальном чувстве к ней много амбивалентности. Меня поразила твоя реакция на ее грудь – и сильное желание, и отвращение. Тебе нравится то, что у нее блузка на груди трещит, но это вызывает и неприятные воспоминания о матери. – Да, – добавил Том, еще один близкий друг Эрнеста, – а потом тебе становится не по себе, и ты начинаешь задумываться: «Уж не пялишься ли ты случайно на ее грудь?» Со мной такое часто случается. – А твое сексуальное влечение к ней и одновременное желание убежать? Это ты можешь как-нибудь объяснить? – спросила Барбара. – Это во мне какая-то невидимая примитивная фантазия о vagina dentata28, скорее всего, – ответил Эрнест. – Но именно в этой пациентке есть что-то такое, что особенно разжигает этот страх. Перед тем как провалиться в сон, Эрнест опять подумал, что надо бы перестать работать с Мерной. Может быть, ей нужна терапевт-женщина. Может быть, мои негативные чувства к ней стали слишком глубокими, слишком укрепились. Но когда Эрнест задал этот вопрос на семинаре, все, включая доктора Вернера, ответили: «Нет, завершите курс». Самые серьезные проблемы Мерны, чувствовали они, – были в отношениях с мужчинами, и было бы лучше, чтобы ими занялся терапевт-мужчина. Очень жаль, подумал Эрнест: он действительно хотел закончить работу с Мерной. «Но все же что за странная сессия сегодня?» – подумал он. Мерна была такой же несносной во всех отношениях, как и в другие дни, и не преминула напомнить о деньгах, но, по крайней мере, признала, что он находится в комнате рядом с ней. Она держалась вызывающе, спрашивала, нравится ли ему, хорошенько пропесочила за саркастическую реплику насчет футболки. Он истошен – но, по крайней мере, происходит что-то другое, что-то реальное. По дороге на следующую сессию Мерна снова послушала ненавистную диктовку доктора Лэша, а потом и запись последней сессии. Неплохо, подумала она – ей нравилось, как она твердо держалась, не сдавая позиций. Она получала удовольствие от того, что заставила этого придурка отработать свои деньги. Как приятно, что его выбивают из колеи ее колкости насчет гонорара. «Я теперь обязательно буду добивать его этими денежными ударами каждую сессию», – решила она. Время в пути пронеслось незаметно. 28 Латинский термин, отражающий представление о том, что влагалище наделено зубами и способно укусить и повредить пенис во время полового акта. (Легенду о vagina dentata можно услышать в самых различных частях света.) Фантазия о зубастой вагине одновременно и возбуждает и пугает человека, порождая смутное чувство желания, смешанного со страхом: не только страхом кастрации, страхом полового акта, но также и страхом перед женщиной, сомнением в своих возможностях достойно нести новую социальную роль. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 90 – Вчера на работе, – начала Мерна сессию, – я в туалете случайно подслушала, как девушки возле раковин говорили про меня. – Да? Что же ты услышала? – Эрнеста всегда интересовала драма, происходящая с человеком, который подслушал разговор о себе. – Неприятные вещи. Что я помешалась на зарабатывании денег. Что я ни о чем другом не разговариваю. Что у меня нет других интересов. Что со мной скучно и трудно общаться. – Какой ужас! Как больно это должно было быть. – Да. Я почувствовала, что меня предали люди, которые, как я думала, обо мне заботились. Это как удар в живот. – Предали? А какие у тебя были отношения с этими девушками? – Ну, они делали вид, что я им нравлюсь, что я им не безразлична, что мы друзья. – А другие сотрудники? Как они к тебе относятся? – Если вы не возражаете, доктор Лэш, я бы хотела придерживаться принципа, о котором вы говорите – оставаться здесь, в этом кабинете. Ну, вы знаете, фокусироваться на наших отношениях. Я бы хотела попробовать. – Ну конечно. – По лицу Эрнеста было видно, как он ошеломлен. Он не верил своим ушам. – Тогда позвольте, я вас спрошу, – сказала Мерна и закинула ногу на ногу (послышался громкий свистящий звук ее колготок), – вы меня тоже так воспринимаете? – Как именно? – замялся Эрнест. – Как я только что сказала. Вы считаете, что я ограниченная? Скучная? Что со мной трудно общаться? – Я никогда не отношусь каким-то определенным образом ни к тебе, ни к кому другому. Отношение всегда меняется. – Ну, скажем, в общем, – сказала Мерна, не давая сбить себя с курса. Эрнест почувствовал, что у него пересохло во рту. Он попытался незаметно сглотнуть слюну. – Ну, тогда так. Когда ты меня избегаешь, когда повторяешься, говоришь одно и то же на одни и те же темы – например, про пакет акций своей компании или про твои постоянные конфликты с генеральным директором – я чувствую, что связь с тобой слабеет. Становлюсь менее вовлеченным – это более точная формулировка. – Менее вовлеченным? Это такое условное обозначение для слова «скучно»? – Да... нет... то есть я хочу сказать, «скучно» в ситуации общения не имеет никакого отношения к ситуации терапии. Пациент – то есть ты – здесь не для того, чтобы развлекать меня. Я фокусируюсь на том, как мой пациент взаимодействует со мной и с другими, чтобы... – Но ведь, – перебила она, – наверняка некоторые пациенты наводят на вас скуку. – Ну, – сказал Эрнест, вытягивая бумажный носовой платок из коробочки на боковом столике и сжимая между ладонями, – я все время исследую свои чувства, и если я чувствую, что я... э-э-э... менее вовлечен... – То есть если вам скучно? – Ну... в некотором смысле. Если я чувствую, что... э-э-э... отдаляюсь от пациента, я не думаю об этом с осуждением. Я думаю об этом чувстве как об информации и пытаюсь выяснить, что происходит между нами. От Мерны не укрылась попытка Эрнеста вытереть ладони. «Отлично! – подумала она. – Пот ценой сто пятьдесят долларов за час!» – А сегодня? Сегодня вам со мной скучно? – Сейчас? Нет, я совершенно точно могу сказать, что с тобой сегодня не скучно и не трудно. Я чувствую, что вовлечен. Но что-то мне угрожает. Я пытаюсь оставаться открытым и не защищаться. А теперь ты мне скажи, что ты испытываешь. – Ну... сегодня... все в порядке. – В порядке? А чуть более расплывчато нельзя? – Что? – Извини, Мерна. Дурацкая попытка пошутить. Я хотел сказать, что чувствую, ты уворачиваешься и сдерживаешь свои переживания. Час закончился, и, уже поднявшись, чтобы уйти, Мерна вдруг сказала: Мама и смысл жизни 91 – Я могу вам сказать про одно свое ощущение. – Да? – Меня слегка беспокоит, не слишком ли я на вас давлю. Не заставляю ли слишком тяжело работать. – Да? И что в этом плохого? – Я боюсь, что вы поднимете расценки. – Увидимся через неделю, Мерна. Вечер Эрнест провел за чтением, но чувствовал себя усталым. Он был погружен в мысли о Мерне. Хотя в этот день он принял восьмерых пациентов, о ней он думал больше, чем обо всех остальных вместе взятых. А Мерна в тот вечер ощутила прилив энергии. Походила по сайтам службы знакомств, проглядела чат для одиноких, а потом позвонила сестре, с которой уже много месяцев не общалась, и долго, с удовольствием с ней разговаривала. Когда она наконец уснула, ей приснилось: она держит в руке чемодан и вглядывается в окно. Подъезжает странное такси – веселый, подпрыгивающий мячиком автомобиль из мультфильма. На дверце написано: «The Freud Taxi Company». Мгновение – и буквы меняются, теперь надпись гласит «The Fraud Taxi Company»29. Несмотря на чувства обиды и недоверия к Эрнесту, терапия стала для Мерны много интереснее. Даже находясь на работе, Мерна предвкушала наступление следующей сессии. «Хитрый прием насчет подслушанного в туалете разговора удался на славу, – думала она. – Теперь можно продолжить изобретать способы, которые позволили бы использовать цитаты из диктовки доктора на каждой из сессий». На следующей неделе Мерна собиралась заняться его словечком «нытье». – Мне на днях сестра по телефону сказала, – извернулась на этот раз она, – что, когда я была маленькая, родители часто звали меня «мисс Нытик». Это задело меня за живое. Вы сказали, что ваш кабинет – безопасное место, и я могу его использовать, чтобы исследовать вещи, о которых больше нигде не могу говорить. Эрнест энергично закивал. – Так вот, я хотела вас спросить – вы тоже считаете, что я все время ною? – Что ты имеешь в виду под словом «ныть», Мерна? – Ну, вы же знаете – жаловаться, говорить скулящим голосом, так, что людям хочется от меня убежать. Так это правда? – А ты сама что думаешь? – Я думаю, что нет. А на ваш взгляд? Возможности мешкать, соврать или сказать правду не было, и Эрнест заюлил: – Если под «нытьем» ты подразумеваешь эти свои однообразные и непродуктивные жалобы на жизнь – тогда да, действительно, я слышал, как ты это делаешь. – Приведите пример, пожалуйста. – Я обещаю тебе ответить, – сказал Эрнест, решив, что пора прокомментировать процесс, – но сначала я должен кое-что сказать. Мерна, я совершенно поражен тем, как ты изменилась за последние недели. И как быстро. Ты сама это заметила? – Как именно изменилась? – Как? Да почти во всех отношениях. Посмотри на себя – ты сосредоточена, откровенна, требовательна. Как ты сказала, ты остаешься в этой комнате. Ты говоришь о том, что происходит между нами. – И это хорошо? – Это великолепно, Мерна! Я наслаждаюсь этим. Если честно, было время, когда я чувствовал, что ты едва ли замечаешь, что я в этой комнате вместе с тобой. Когда я говорю «великолепно», я имею в виду, что ты движешься в правильном направлении. Но ты по-прежнему кажешься такой... как бы это сказать? Едкой, словно ты постоянно на меня сердишься. Я не прав? – Я на вас не сержусь, просто вся моя жизнь меня уже достала. Но вы обещали привести 29 Игра слов (англ.): «Таксомоторная компания Freud» (Фрейд) меняется на «Таксомоторная компания Fraud» (Мошенничество). Мама и смысл жизни 92 примеры моего нытья. «Неожиданно эта женщина, когда-то чудовищно медлительная, начала двигаться едва ли не слишком быстро», – подумал Эрнест, ему приходилось напрягать все свое внимание, ведя этот серьезный разговор. – Не так быстро. Я не согласен с этим словом, Мерна. Я чувствую, что ты пытаешься заклеймить меня им. Я сказал «ты повторяешься» и могу привести пример: твои чувства к вашему генеральному директору. Что он неэффективен, что ему следует выбросить за борт все лишнее, что ему надо бы уволить некомпетентных работников, что из-за его мягкотелости ты теряешь большие деньги на стоимости акций, и все в таком духе. Ты смакуешь это снова и снова, сессию за сессией... Или твои замечания про ситуацию на рынке знакомств – ты знаешь, о чем я. Оказывалось, что во время этих сессий я чувствовал себя менее вовлеченным и менее полезным для тебя. – Но это то, что меня захватывает. Вы же говорите, что я должна делиться с вами своими мыслями. – Мерна, ты совершенно права. Я знаю, что это дилемма, но дело не в том, что ты говоришь, а в том, как ты это говоришь. Но я не хочу умалять свою прежнюю точку зрения на это. Уже сам факт, что мы разговариваем так открыто, подтверждает то, что я сказал чуть раньше – что ты стала другой, стала лучше и упорнее работать в терапии. На сегодня наше время истекло, но давай попробуем начать с этого места на следующей неделе. А, да, вот счет за последний месяц. – Хм, – сказала Мерна, убрала ногу с ноги, не упустив возможности издать колготками призывный посвист и, прежде чем бросить счет в сумочку, внимательно изучила его. – Какое разочарование! – Что такое? – Все те же сто пятьдесят долларов в час. И никакой скидки за то, что я была примерной пациенткой? Через неделю, снова слушая диктовку Эрнеста по пути на терапию, Мерна решила сегодня направить разговор на сессии в сторону комментариев доктора по поводу ее внешности и сексуальной привлекательности. И это оказалось нетрудно. – На прошлой неделе, – начала она, – вы сказали, что мы сегодня начнем с того места, где остановились. – Хорошо. С чего же мы начнем? – В конце прошлой встречи мы говорили про мое «нытье», о том, в каком положении находятся одинокие... – Обожди! Ты говоришь так, как будто цитируешь меня. Это не мое слово «нытье» – повторяю, не мое слово. Я сказал что-то о том, что ты ходишь кругами или повторяешься. Мерна, конечно, знала правду. «Нытье» – определенно его термин: она слышала в записи. Но ей хотелось продолжать разговор, и она оставила без внимания эту мелкую ложь. – Вы говорили, что вы скучаете, когда я рассказываю о положении одиноких. Как же мне с этим быть, если мне нельзя об этом говорить? – Конечно, ты должна говорить о том, что тебя больше всего беспокоит в твоей жизни. Я уже сказал, дело в том, как ты о них говоришь. – Что значит «как»? – Понимаешь, ты как будто не со мной разговаривала. Я чувствовал себя выключенным из общения. Ты мне каждый раз рассказывала один в один одно и то же – про несправедливое соотношение мужчин и женщин, про то, что тебя оценивают, как будто ты кусок мяса на прилавке, про десятисекундный визуальный осмотр в барах для одиноких, про безличность интернет- служб. И каждый раз ты говорила это так, как будто ты делишься со мной этим в первый раз, как будто тебе никогда даже в голову не приходило задуматься: не говорила ли ты это раньше? Или – как я отношусь к тому, что ты так часто все это повторяешь? Тишина. Мерна уставилась в пол. – Какие чувства у тебя по поводу того, что я только что сказал? – Я перевариваю ваши слова. Они горчат. Жаль, что мне не хватило такта. – Мерна, я тебя не сужу. Хорошо, что всплыл этот вопрос, и хорошо, что я дал тебе обратную связь. Так мы и учимся. Мама и смысл жизни 93 – Очень тяжело думать о других, когда чувствуешь, что попал в ловушку, чувствуешь, что вертишься в порочном кругу. – Ты так и останешься в этом порочном кругу, пока будешь думать, что всегда виноват ктото другой. Или твой некомпетентный директор, или закон джунглей на рынке знакомств, или придурки из отдела маркетинга. Я не говорю, что это неправда. Я говорю, – в следующие слова Эрнест вложил всю силу убеждения, какая у него была, – что с этим я тебе помочь не могу. Единственное, чем я могу тебе помочь разорвать этот порочный круг – сосредоточиться на том, что такое в тебе есть, что могло бы вызывать или усугублять эти явления. – Я прихожу на вечер знакомств, а там по десять женщин на каждого парня, – в словах Мерны слышалось все больше нерешительности и сомнения, словно из них вышел весь пар. – И вы хотите, чтобы я сосредоточилась на моей ответственности за это? – Стоп! Мерна, остановись! Мы здесь, вернись в это пространство! Слушай меня. Я тебе не перечу – сама обстановка свидания очень суровая. Слышишь: я тебе не перечу. Но наша работа – это помочь тебе измениться, что позволит улучшить твою ситуацию. Смотри, я буду говорить прямо. Ты умная и привлекательная женщина. Очень привлекательная. Если бы ты не была занята разрушающими чувствами – такими как негодование, гнев, страх, соперничество, – ты бы без труда познакомилась с подходящим мужчиной. Мерну потрясла прямота доктора Лэша. Она знала, что нужно остановиться и отреагировать на его слова. Но несмотря на это, упорно продолжала гнуть намеченную линию. – Вы раньше никогда не говорили, что я привлекательная. – А ты не считаешь себя привлекательной? – Иногда да, иногда нет. Но от мужчин я как-то не получаю подтверждения своей привлекательности. Я бы с удовольствием получила обратную связь от вас. Эрнест медлил в нерешительности. Что именно сказать? Не спешить с ответом его заставляло то обстоятельство, что через пару недель ему придется повторить свои слова на семинаре по контрпереносу. – У меня есть подозрение, что если мужчины не реагируют на тебя, то дело не в твоей внешности. – Если бы вы были одиноки, вы бы среагировали на мою внешность? – Ты это уже спрашивала, и я тебе ответил. Я только что сказал, что ты привлекательная женщина. Так что скажи: о чем ты сейчас на самом деле спрашиваешь? – Нет, я задавала другой вопрос. Вы сказали, что я привлекательна, но не сказали, как вы реагируете на мою привлекательность. – Реагирую? – Доктор Лэш, вы уходите от прямого ответа. Я думаю, что вы знаете, что я имею в виду. Если бы вы встретили меня не как пациентку, а, скажем, в какой-то другой ситуации, что тогда? Вы бы оценили меня за десять секунд и ушли? Или начали бы флиртовать со мной, или, может быть, переспали бы со мной разок, чтобы потом уйти? – Мы можем посмотреть, что сегодня между нами происходит? Ты действительно поставила меня в тупик. Почему? Что ты с этого имеешь? Что происходит у тебя внутри, Мерна? – Разве я делаю не то, что вы мне сказали делать, доктор Лэш? Я говорю о наших отношениях, о «Здесь и Сейчас». – Я согласен. Спору нет, теперь все изменилось – и притом к лучшему. Мне все больше нравится то, как мы сейчас работаем – надеюсь, тебе тоже. Молчание. Мерна старалась не смотреть на Эрнеста. – Надеюсь, тебе тоже, – еще раз попробовал Эрнест. Мерна едва заметно кивнула. – Видишь? Ты кивнула – микроскопический, зачаточный кивок! От силы три миллиметра. Вот об этом я и говорю. Я его едва заметил. Как будто ты хочешь дать мне так мало, как только возможно. Вот это-то меня и ставит в тупик. Мне кажется, что ты главным образом спрашиваешь – а не говоришь – о наших отношениях. – Но вы говорили, и не раз, что первая стадия изменений – это получение обратной связи. – Получать и усваивать обратную связь. Верно. Но за последние несколько сессий ты только собирала обратную связь – это больше походило на вечер вопросов и ответов. То есть я Мама и смысл жизни 94 даю тебе обратную связь, и ты переходишь к следующему вопросу. – Вместо того чтобы... – Вместо кучи разных вещей. Например, вместо того, чтобы обратить взгляд внутрь, в себя, рассмотреть, обсудить, переварить смысл обратной связи от меня. Что ты почувствовала? Звучало ли это как правда или нет? Насколько глубоко это задело твои чувства? Как ты относишься к тому, что я тебе об этом говорю? – Ну, хорошо. Если честно, я и правда удивилась, когда услышала, что вы считаете меня привлекательной. По тому, что вы делаете, этого не скажешь. – Я считаю тебя привлекательной. Но здесь, в этом кабинете, я заинтересован в более глубокой встрече с тобой – с твоей сущностью, с твоей... я знаю, это звучит банально... но с твоей душой. – Возможно, мне не стоит настаивать, – Мерна чувствовала, что энергия уходит из ее слов, – но для меня важно быть физически привлекательной. И мне все еще любопытно, как вы меня воспринимаете – какие мои черты вас привлекают. И еще тот, другой вопрос: что могло бы случиться, если бы мы встретились просто так, а не в вашем кабинете. «Меня распинают», – пожаловался Эрнест самому себе. Его наихудший кошмар о «Здесь и Сейчас» сбылся. Он исчерпал все свои возможности. Он всегда боялся, что в один прекрасный день его вот так загонят в угол. Типичный терапевт, конечно, не ответил бы на такой вопрос, а отразил бы его пациенту и проанализировал подтекст: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Почему именно сейчас? Какие фантазии лежат в его основе? Что бы вы хотели услышать в ответ?» Но для Эрнеста этот выход был неприемлем. Основополагающим принципом всей его терапии было подлинное вовлечение, и он не мог сейчас отказаться от него и вернуться к общепринятому. Делать было нечего, кроме как вцепиться в свою честность и нырнуть в холодную воду правды. – Физически ты для меня очень привлекательна во всех отношениях – симпатичное лицо, восхитительные блестящие волосы, отличная фигура... – Под «фигурой» вы имеете в виду мою грудь? – прервала Мерна, слегка выгнув спину. – Ну, да, все вместе: твоя осанка, ухоженность, стройность, все. – Иногда мне кажется, что вы пялитесь на мою грудь – ну или, во всяком случае, на пуговицы моей блузки. – Мерна почувствовала внезапный прилив жалости и добавила: – Как многие мужчины. – Если и так, то я это не сознательно делаю, – сказал Эрнест. Он был слишком взволнован, чтобы сделать то, что должен был сделать, а именно – всячески способствовать тому, чтобы Мерна выразила до конца свои чувства по поводу собственной внешности, в том числе и груди. Он попытался выкарабкаться на твердую почву. – Но, как я уже сказал, я считаю тебя привлекательной женщиной. – Значит ли это, что вы попытались бы за мной ухаживать... я имею в виду, в той гипотетической ситуации? – Ну, я не одинок, хотя было такое время поиска партнерши и достаточно долгое... но если мысленно вернуться в те годы, я думаю, что твоя внешность меня бы полностью устроила. А вот некоторые другие вещи, из того, что мы здесь обсуждали, отпугнули бы. – Например? – Например, то, что происходит прямо здесь, прямо сейчас, Мерна. Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь. Ты накапливаешь информацию, которую я тебе даю, но ничего не даешь взамен! Я знаю, что ты пытаешься сейчас строить со мной отношения иначе, чем раньше, но у меня нет впечатления, что ты вовлечена. Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности – скорее похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию. – Вы хотите сказать, что я не строю с вами отношения, потому что я ною? – Нет, это не то, что я сказал. Ну ладно, Мерна, на сегодня время истекло, и нам пора заканчивать, но, когда ты будешь слушать сегодняшнюю запись, я бы хотел, чтобы ты внимательно прослушала мои последние слова, о том, как ты строишь отношения со мной. Я думаю, это самое важное из всего, что я тебе когда-либо говорил. Мама и смысл жизни 95 После сессии Мерна, не тратя время понапрасну, поставила кассету и последовала инструкции Эрнеста: со слов «я думаю, что твоя внешность меня бы полностью устроила» она стала слушать очень внимательно. А вот некоторые другие вещи, из того, что мы здесь обсуждали, отпугнули бы. ...Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь. Ты накапливаешь информацию... но ничего не даешь взамен! ...Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности – скорее похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию ...когда ты будешь слушать сегодняшнюю запись, я бы хотел, чтобы ты внимательно прослушала мои последние слова, о том, как ты строишь отношения со мной. ...Я думаю, это самое важное из всего, что я тебе когда-либо говорил. Мерна поменяла кассеты и снова стала слушать заметки к семинару. Некоторые фразы попадали в самую точку: Она не хочет контактировать со мной, и даже не хочет признавать это – упорно настаивает, что это не имеет никакого отношения к делу... сколько раз я должен объяснять, почему важно рассматривать наши с ней отношения?.. Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо... нет никакой нежности... слишком сосредоточена на себе... упрямая. «Может, доктор Лэш и прав, – подумала она. – Я ведь на самом деле никогда не думала про него, про его жизнь, про его жизненный опыт. Но это можно изменить. Сегодня. Прямо сейчас, по дороге домой». Но через минуту-другую она почувствовала, что ее внимание рассеивается. Чтобы сосредоточиться, она использовала хороший прием для обретения умственного равновесия, которому обучилась несколько лет назад на медитационных выходных в Биг Сур (во всех остальных отношениях это мероприятие было натуральным грабежом). Частично удерживая внимание на дороге, остальной частью сознания она вообразила метлу, выметающую все бессвязные, случайно забредшие мысли. Совершив это, она сконцентрировалась только на своем дыхании: только на том, как она вдыхает прохладный, а выдыхает – чуть потеплевший в недрах ее легких воздух. Хорошо. Мысли в голове успокоились, и Мерна позволила лицу доктора Лэша всплыть перед собой – сначала он улыбался и внимательно смотрел, затем насупился и отвернулся. За последние несколько недель, с тех самых пор, как Мерна подслушала его диктовку, ее чувства к нему быстро вращались по кругу. «Одно надо сказать в его оправдание, – подумала она, – он упорный. Бедный парень, висит у меня на канатах уже несколько недель. Я его гоняю до пота. Снова и снова хлещу его его же собственными словами. Но он не сдается. Держится. Не признает поражения. Не бросает полотенце на ринг. И не увиливает – не выворачивается, не кривит душой, не пытается соврать – как я бы сделала на его месте. Ну, разве что самую малость привирает – например, отрицает, что говорил про нытье. Но, может быть, он просто жалел свои усилия». Мерна вышла из задумчивости как раз вовремя – надо было перейти на шоссе 380, – а потом снова легко соскользнула в фантазии. Интересно, что делает доктор Лэш сейчас? Диктует? Заметки про нашу сегодняшнюю сессию? Складывает их в ящик стола? Или вот в эту самую минуту просто сидит за столом и думает про меня. За этим столом. Папиным столом. А папа думает обо мне сейчас? Может быть, он все еще где-то есть, и, может быть, смотрит на меня сейчас. Нет, папа стал прахом. Голый отполированный череп. Кучка праха. И все его мысли обо мне – тоже прах. Нет, меньше чем прах – это просто электромагнитные всплески, которые давно исчезли без следа. Я знаю, папа, наверное, меня любил – он об этом всем говорил: тете Эйлин, тете Марии, дяде Джо, – только мне так и не сказал. Если бы только я могла слышать его слова. Съехав с шоссе, Мерна остановила машину на площадке обозрения, откуда открывался вид на всю долину, от Сан-Хосе до Сан-Франциско. Она бросила взгляд вверх сквозь лобовое стекло машины. «Что за небо сегодня! – замечталась она. – Огромное небо. Эти слова – какими словами можно его описать? Распростертое – величественное – покрытое слоями облаков. Прозрачные ленты облаков. Нет, просвечивающие. Это лучше. Мне нравится это слово. Просвечивающие – просвечивающие ленты облаков. Или, может быть, завеса волнистых облаков. Ветер взбивает белое масло облаков, что зыблются нежными волнами как белый песчаный пляж. Удачно! Удачно! Мне нравится». Мама и смысл жизни 96 Мерна достала ручку и быстро записала эти строки на обороте найденной в бардачке розовой квитанции из химчистки. Она завела машину и хотела было ехать, но заглушила мотор и снова задумалась. «А если бы папа сказал эти слова? «Мерна, я люблю тебя... Мерна, я тобой горжусь... люблю тебя... люблю тебя... Мерна, ты лучше всех... лучшая дочь, лучше не бывает». Что тогда? Все равно прах. Слова истлевают даже быстрей мозгов. Так что же с того, что он никогда не сказал это? А кто-нибудь когда-нибудь говорил это ему? Его родители? Никогда. Истории, что я о них слышала – его отец хлестал бурбон и умер желтушный и молчаливый, а его мать после этого еще два раза выходила замуж за других алкоголиков. А я? Я когда-нибудь ему это говорила? Я вообще когда-нибудь говорила это комунибудь?» Мерна, вся дрожа, вырвала себя из задумчивости. Как это непохоже на нее: такие мысли, такой язык, поиски красивых слов. А эти воспоминания об отце? Это тоже странно: она редко возвращалась к нему в своих мыслях. И где же ее решимость сосредоточиться на докторе Лэше? Она попробовала снова. На миг она представила доктора, сидящим за своим бюро, но его заслонил другой образ из прошлого... Поздняя ночь. Мерне уже давно пора уснуть. Она крадется по коридору. Из-под двери родителей пробивается свет. Тихие, интимные голоса. Шепчут ее имя. «Мерна». Они, должно быть, лежат под толстым пуховым одеялом. Постельные разговоры. Разговоры о ней. Она распростерлась на полу, вжалась щекой в ледяной свекольно-красный линолеум, силясь заглянуть под дверь, подслушать тайные слова родителей о ней... «А теперь, – подумала она, бросив взгляд на свой плеер, – я овладела этой тайной. Я владею этими словами. То, что он сказал в конце сессии... как это там?» Она вставила кассету, перемотала в течение нескольких секунд и стала слушать: «Мерна. Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь. Ты накапливаешь информацию, которую я тебе даю, но ничего не даешь взамен! Я знаю, что ты пытаешься сейчас строить со мной отношения иначе, но у меня нет впечатления, что ты вовлечена. Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности – скорее похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию». «Извлекаю информацию из банка данных, – она кивнула. – Может, он и прав». Завела машину и вернулась на 101-е шоссе, идущее в южном направлении. В начале следующей встречи Мерна сидела молча. Нетерпеливый, как всегда, Эрнест попытался ее подтолкнуть: – О чем ты думала последние несколько минут? – Наверное, гадала, с чего вы начнете сессию. – А что бы ты предпочла, Мерна? Если бы явился джинн и исполнил твое желание, как бы ты хотела, чтобы я начал? Какое высказывание или вопрос были бы безупречны? – Вы могли бы сказать: «Привет, Мерна, я действительно рад тебя видеть». – Привет, Мерна. Я действительно рад тебя видеть сегодня, – немедленно повторил Эрнест, скрывая свое изумление ответом Мерны. Такие остроумные гамбиты неизменно терпели неудачу, и сейчас он сделал ход почти без надежды на успех. Какое чудо, что она стала такой дерзкой! А то, что он и в самом деле рад ее видеть, было еще большим чудом. – Спасибо. Очень мило с вашей стороны, хотя и не совсем точно. – Что? – Вы вставили лишнее слово, – объяснила Мерна. – Слово «сегодня». – И этим подразумевается... – Помните, доктор Лэш, как вы мне всегда говорили: вопрос – не вопрос, если ты знаешь ответ. – Ты права, но удовлетвори мою блажь. Помнишь, Мерна, иногда у терапевта во время беседы есть особые привилегии. – Ну хорошо. Из этого «сегодня» мне понятно, что вы часто не рады были меня видеть. «А ведь совсем недавно, – подумал Эрнест, – я считал Мерну тормозом в межличностных отношениях». – Продолжай, – сказал он, улыбаясь. – Почему же я мог не хотеть видеть тебя? Мама и смысл жизни 97 Она медлила. Это было совсем не то направление, в каком она хотела бы двигаться на этой сессии. – Попробуй. Попробуй ответить на этот вопрос, Мерна. Как ты думаешь, почему я не всегда рад тебя видеть? Только свободные ассоциации. Говори все, что угодно, что в голову приходит. Молчание. Она чувствовала, как слова шевелятся в ней, вскипают ключом. Она попыталась отсортировать и выбрать нужные слова, удержать их, но слов было слишком много, и они лились внутри нее слишком быстрым потоком. – Почему вы не рады меня видеть? – прорвало ее. – Почему? Я знаю, почему! Потому что я неделикатная, вульгарная, и у меня плохой вкус... «...Я не хочу этого делать», – думала она, но уже не могла остановиться, не могла не вскрыть этот нарыв, чтобы очистить пространство между ними... – ... и потому что я негибкая, и ограниченная и никогда не говорю ничего красивого и поэтичного! «Хватит, хватит!» – говорила она себе, пытаясь сжать зубы, запереть челюсти на замок. Но слова прорывались с такой силой, которой она не могла противостоять, и она изрыгнула их: – И я не мягкая, и мужчины хотят от меня убежать – слишком много острых углов, локти, колени, и я неблагодарная, и я оскверняю наши отношения разговорами о деньгах, и еще... и еще... – Мерна на миг остановилась и закончила на юмористической ноте: – И еще мои сиськи слишком большие! Обессилев, она откинулась на спинку кресла. Все было сказано. Эрнест был ошеломлен. Теперь уже он лишился дара речи. Это же его слова! Откуда они взялись? Он посмотрел на Мерну, которая изогнулась в кресле, обхватив голову руками. Как ответить? У него кружилась голова. Он хотел было поддаться импульсу и созорничать, сказав: «Твои сиськи не слишком большие». Но, слава богу, промолчал. Подшучивание было неуместно. Он знал, что должен воспринять слова Мерны с самым, каким возможно, величайшим уважением и серьезностью. Он схватился за спасательный круг, который в самый сильный шторм всегда под рукой у терапевта: комментирование процесса. То есть нужно высказать свое мнение о процессе терапии, о вовлеченности в отношения, о том, что, как пациент говорит, важнее и точнее того, что он говорит. – Твои слова очень эмоциональны, Мерна, – спокойно сказал Эрнест. – Как будто ты их носила в себе очень долго. – Так и есть, – Мерна сделала пару глубоких вдохов. – У слов своя жизнь. Они хотели освободиться. – Бочка гнева на мою голову – а может быть, на наши обе. – Обе? Вашу и мою? Да, возможно. Но уже не в той степени. Может, потому я сегодня и смогла все это сказать. – Это хорошо, что ты мне теперь больше доверяешь. – На самом деле я хотела сегодня поговорить совсем о другом. – О чем? – Эрнест ухватился за эту идею: что угодно, лишь бы сменить тему. Пока Мерна переводила дух, он размышлял о ее необъяснимой интуиции, ее пугающем словесном взрыве. «Поразительно, как она меня раскусила! Откуда она знает? Только одно объяснение – бессознательная эмпатия. Точно, как говорил доктор Вернер. Так, значит, Вернер был прав все это время, – подумал Эрнест. – Почему я не позволил себе поучиться у него? Каким же болваном, идиотом я был. Как там Вернер сказал? Дуэт юных иконоборцев? Ну что ж, может быть, мне пора умерить свое юношеское стремление разоблачать старших и подвергать сомнению их слова. Не все, что они говорят, – чушь. Больше никогда не буду сомневаться в силе бессознательной эмпатии. Может быть, именно такой опыт заставил Фрейда воспринимать всерьез идею телепатического общения». – О чем ты думаешь, Мерна? – наконец спросил он. – Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать. Вот сон, который я видела прошлой ночью. – Она показала блокнот на пружинке. – Видите, я его записала – это впервые со мной. – Ты и вправду стала серьезней относиться к нашей работе. – Должна же я что-то получить за свои полторы сотни... Ой! – Она прикрыла рот рукой. – Я Мама и смысл жизни 98 не то хотела сказать, извините. Пожалуйста, нажмите клавишу «Удалить». – Клавиша «Удалить» нажата. Ты сама себя остановила, и это замечательно. Может быть, ты просто взволновалась от того, что я сделал тебе комплимент. Мерна кивнула, но заторопилась прочитать сон из блокнота. Мне сделали пластическую операцию носа. Снимают повязки. С носом все в порядке, но кожа сморщилась или стянулась, рот не закрывается, зияет, как огромная дыра в пол-лица. Видны миндалины – огромные, разбухшие, воспаленные. Кровавые. Потом заходит доктор с нимбом. У меня вдруг получается закрыть рот. Доктор задает мне вопросы, но я не отвечаю. Я не хочу открывать рот и показывать ему огромную зияющую дыру. – С нимбом? – спросил Эрнест, когда она замолчала. – Нуда, знаете – сияние, свет святости, ореол. – А, да. Нимб. И, Мерна, что ты скажешь про этот сон? – Думаю, я знаю, что вы скажете про него. – Давай остановимся на твоем впечатлении. Попробуй свободные ассоциации. Что приходит тебе сразу, как только ты думаешь про этот сон? – Большая дыра на лице. – Что приходит на ум, когда ты думаешь о ней? – Похожа на пещеру, глубинная, бездонная, чернильно-черная. Еще? – Продолжай. – Гигантская, огромная, громадная, чудовищная, Тартар. – Тартар? – Ну, знаете – ад, или бездна под царством Аида, куда заточили титанов. – А, точно. Интересное слово. Хм... Но вернемся к твоему сну. Ты говоришь, что не хотела, чтобы доктор что-то увидел, и я полагаю, доктор – это я? – Да, тут не поспоришь. Не хотела, чтобы вы видели огромную зияющую дыру, пустоту. – А если бы ты открыла рот, я бы ее увидел. Поэтому ты следила за собой, следила за своими словами. Ты все еще видишь этот сон? Он все еще ярок? Она кивнула. – Продолжай его смотреть. Какая часть сна теперь привлекает твое внимание? – Миндалины – в них скопление энергии. – Посмотри на них. Что ты видишь? Что приходит тебе в голову? – Они горячие, обжигающие. – Продолжай. – Вот-вот прорвутся, набухшие, синюшные, разрыхленные, тургор... – Тургор? А до этого был Тартар. Откуда эти слова? – Я просматривала энциклопедический словарь на неделе. – Хм, мне интересно услышать об этом побольше, но пока давай останемся в твоем сне. Эти миндалины: если ты откроешь рот, они становятся видны, как та пустота. И они вот-вот прорвутся. Что же вырвется наружу? – Гной, гадость, что-то омерзительное, ужасное, тошнотворное, отвратительное, презренное, гнусное, мерзкое... – Опять энциклопедический словарь? Мерна кивнула. – Значит, во сне ты пришла к доктору – ко мне – и наша работа выводит на свет что-то такое, что ты хотела бы скрыть, или по крайней мере не хочешь, чтобы я это увидел – огромную пустоту и миндалины, которые вот- вот прорвутся и извергнут наружу что-то мерзкое. Почему-то эти обжигающе-красные миндалины напоминают мне о тех словах, которые вырвались у тебя несколько минут назад. Она опять кивнула. – Я очень тронут, что ты принесла этот сон, – сказал Эрнест. – Это знак твоего доверия ко мне и тому, что мы делаем вместе. Это хорошая работа, по-настоящему хорошая работа. Он помолчал. – Может, теперь поговорим об энциклопедическом словаре? Мерна рассказала о том, как погибла в огне ее поэтическая карьера, когда она была Мама и смысл жизни 99 маленькой девочкой, и о своем большом желании написать стихотворение. – В то утро, когда я записывала свой сон, я знала, что вы спросите про дыру и миндалины, поэтому поискала в словаре интересные слова. – Похоже, ты чего-то от меня хотела. – Думаю, интереса. Я больше не хочу быть скучной. – Твое слово, а не мое. Я никогда не говорил такого. – Тем не менее я уверена, что вы так обо мне думаете. – Я хочу к этому вернуться, но давай сначала посмотрим на кое-что еще из твоего сна – свечение вокруг головы доктора. – Нимб. Да, это любопытно. Наверное, вы у меня теперь в ряду положительных героев. – Так, значит, ты обо мне теперь лучшего мнения и, возможно, хочешь быть ко мне ближе, но дилемма в том, что если мы сблизимся, я узнаю о тебе что-то постыдное: может, про чувство пустоты внутри, может быть, что-то еще – взрывную ярость, отвращение к себе, – он посмотрел на часы. – Мне жаль, мы заканчиваем. Время пролетело. Сегодня мы опять отлично поработали. С тобой было приятно работать! Трудная работа продолжалась, насыщенные часы терапии следовали один за другим. Неделю за неделей Эрнест и Мерна переходили на новые уровни доверия. Она раньше никогда не рисковала так раскрываться. Он ощущал привилегию быть свидетелем ее преображения. Именно чтобы приобрести такой опыт, Эрнест и выбрал работу психотерапевта. Через четырнадцать недель после того семинара по контрпереносу, где он рассказывал о Мерне, доктор Лэш опять сидел за своим столом с микрофоном в руке и готовил очередной доклад. «Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. За прошедшие четырнадцать недель и моя пациентка, и терапевтический процесс претерпели поразительные изменения. Так что я разделил бы эту терапию на две стадии: до и после моего опрометчивого замечания о футболке. Всего несколько минут назад Мерна вышла из моего кабинета, и я осознал, что удивлен тому, что час пролетел так быстро. И мне было жаль, что она уходит. Поразительно. Раньше мне было с ней скучно. Теперь она живой и притягательный человек. Я уже несколько недель не слышал от нее нытья. Мы много подшучиваем друг над другом – она так остроумна, что мне трудно за ней угнаться. Она открыта, занимается самоанализом, приносит интересные сны, даже интересуется новыми словами. Монологов больше нет: она остро ощущает мое присутствие, и наш процесс превратился в гармоничный диалог. Я жду встречи с ней с таким же нетерпением, как и с любым другим пациентом – а может, и с большим. Вопрос-на-шестьдесят-четыре-доллара: каким образом мой комментарий насчет футболки запустил такое превращение? Каким образом восстановить и объяснить то, что случилось за эти четырнадцать недель? Доктор Вернер был убежден, что комментарий насчет футболки был вопиющей ошибкой, что он должен был разрушить наш терапевтический альянс. На этот счет он в корне ошибался. Моя бездумная небрежная острота стала кардинальным событием, перевернувшим весь ход нашей терапии! Но доктор Вернер был прав – и еще как прав! – насчет способности пациентов настраиваться на контрпереносные чувства терапевта. Мерна интуитивно восприняла фактически все мои контрпереносные чувства, которые я описал в своем докладе на прошлом семинаре. И со сверхъестественной точностью. Уже этого достаточно, чтобы сделать из меня последователя Кляйн. Мерна ничего не пропустила. Она раскусила меня во всем. Все комментарии, что я делал, представляя ее группе, я открыто признал и при ней. Может быть, парапсихология все же действительно существует? Что с того, что исследователи не смогли воспроизвести эти явления? Такой выдающийся случай, как этот, буквально демонстрирует неадекватность эмпирических исследований. Отчего ей стало лучше? От чего же еще, как не от пробуждающего сигнала в моем комментарии о футболке? Этот случай продемонстрировал мне, что в терапии есть место для Мама и смысл жизни 100 беспощадной честности – для того, что в практике Синанон30 называется «суровой любовью». Но терапевт должен поддержать эту честность делом, быть рядом, быть честным с пациентом. Для этого нужны хорошо установившиеся терапевтические отношения, которые позволят терапевту и пациенту пережить предстоящую бурю. А в наше время повальных судебных исков это требует особой отваги. Последний раз, когда я делал доклад о Мерне, кто-то – по-моему, Барбара – назвал комментарий про футболку «шоковой терапией». Я согласен: именно так и есть. Он радикально изменил Мерну, и в послешоковый период она мне стала нравиться больше. Я восхищаюсь тем, как она держится и как настойчиво требует честной обратной связи. Она мужественный человек. Должно быть, она почувствовала, что я ею восхищаюсь. Люди любят себя, когда видят свой образ, любовно отражающийся в глазах человека, который им небезразличен». Пока Эрнест диктовал эти заметки, Мерна ехала домой, тоже размышляя про последние терапевтические сессии. «Хорошая серьезная работа», – сказал доктор Лэш, и так оно и было. Мерна была довольна собой. За последние несколько недель она открылась как никогда раньше. Она шла на огромный риск: она вытащила на свет и обсудила с доктором Лэшем каждый из аспектов их отношений. Разумеется, кроме одного: она так и не рассказала ему, что подслушала его диктовку. Почему? Сначала просто чтобы насладиться возможностью помучить доктора его же собственными словами. Честно говоря, ей доставляло удовольствие наносить ему удары своим тайным знанием. Иногда – особенно когда он, казалось, был так «полон сам собой», так самодоволен и уверен в своем высшем знании – она развлекалась, представляя себе его лицо, когда она наконец расскажет ему правду. Но все изменилось. В прошедшие несколько недель они сблизились, и все веселье кончилось. Тайна стала обузой, раздражала ее, как заноза, которую хочется выдернуть, и Мерна даже репетировала признание. Несколько раз она входила в кабинет доктора, делала глубокий вдох, собираясь рассказать все... Но так и не рассказала. Отчасти потому, что ей было стыдно за то, что она так долго скрывала эту историю. Отчасти потому, что на самом деле не хотела огорчать доктора. Он играл с ней честно, не отрицал ничего из тех вещей, которыми она приперла его к стенке, – почти ничего. Он же старался для ее блага. Зачем теперь огорчать старого, бедного человека? Причинять ему боль? Эти соображения были продиктованы заботой. Но была и совсем другая причина молчать: ей нравилось ощущать себя волшебницей, нравилось эмоциональное возбуждение от обладания тайным знанием. Ее любовь к секретам выразилась совершенно непредсказуемым образом. С энциклопедическим словарем в руках она все свои вечера посвящала написанию стихов. Стихи были переполнены темами обмана и секретов, столами-бюро и потайными ящиками. Интернет стал идеальной отдушиной, и Мерна опубликовала множество стихов на сайте singlepoet31.соm. Голову задрав, гляжу в соты запечатанных ящичков, набухшие нектаром тайн. А вырасту, и будут у меня свои палаты, я тоже их наполню взрослыми секретами. Тайна, которую она так и не раскрыла отцу, приняла угрожающие размеры. Мерна как никогда чувствовала присутствие отца. Его худая, сгорбленная фигура, его медицинские инструменты, его стол со всеми своими секретами таили в себе особую притягательность, и Мерна попыталась выразить это в стихах. Г р у п п ы С и н а н о н – первоначально созданные для лечения наркотической зависимости, а впоследствии предлагающие помощь «в формировании нового стиля жизни» людям, оказавшимся в трудных ситуациях, – действуют в совершенно особенном стиле, проводя так называемые «игры»: под руководством ведущего (он не получает профессионального образования, а «вырастает» из рядов организации как самый стойкий участник «игр») делают тотальный акцент на агрессивной устной критике каждого участника. Цель группы – заставить ее членов изменить антисоциальное поведение и выработать толерантность к негативным психологическим воздействиям. – Прим. ред. 31 «Одинокий поэт» (англ.). 30 Мама и смысл жизни 101 Сутулое его присутствие исчезло навсегда, и стетоскоп весь в паутине, рубин сафьяна кресла в кракелюрах, его бюро, исполненное тайнами и ароматом тех милых, мертвых пациентов, переговаривающихся в темноте, пока их не заглушат солнечные копья утра, что пыль пронзают и освещают деревянный стол, который, как луг, где прежде танцевали феи, теперь не нужен никому, зеленый, но вспоминает все еще людские времена. Мерна не делилась этими стихами с доктором Лэшем. Ей и без того было о чем с ним поговорить на сессиях, и ей казалось, что стихи тут неуместны. Кроме того, стихи могли бы вызвать вопрос, откуда взялась тема тайны, и ненароком привести к разоблачению насчет кассеты. Иногда Мерна беспокоилась, что подобное утаивание вобьет клин между ней и доктором. Но убеждала себя, что справится. Кроме того, она не нуждалась в том, чтобы доктор Лэш одобрил ее стихи. Она получала достаточную поддержку в другом месте. Форум сайта singlepoet.com был битком набит одинокими поэтами мужского пола. Жизнь была захватывающей. Мерна больше не задерживалась после рабочего дня в своем офисе в Силиконовой долине. Она неслась домой и открывала электронный почтовый ящик, набитый хвалебными отзывами о ее стихах и ее живительной прямоте. Может быть, она слишком поспешила с утверждением, что сетевые отношения слишком обезличенные. А может быть, как раз наоборот. Может быть, сетевая дружба – более подлинная, более сложная, так как не зависит от чисто внешних, физических атрибутов человека. Электронные поклонники, хвалившие стихи Мерны, никогда не забывали приложить личные данные и номера телефонов. Уровень самоуважения Мерны взмыл вверх. Мерна читала и перечитывала письма поклонников. Она коллекционировала хвалебные отзывы, личные данные, телефонные номера, информацию. Она смутно помнила, что доктор Лэш упрекал ее за «изъятие информации из банка данных». Но ей нравилось коллекционировать. Она разработала основательную шкалу оценки поклонников, которая учитывала потенциал карьерного роста, влиятельность в компании, поэтический талант, а также личные характеристики – открытость, щедрость и экспрессивность. Кое-кто из одиноких поэтов с форума, поклонников Мерны, уже просил о встрече с ней tet-a-tet – выпить кофе в одном из кафе Силиконовой долины, прогуляться, пообедать, поужинать. Не сейчас – ей требовалось больше информации. Но уже скоро. Проклятие венгерского кота – Скажите, Хэлстон, почему вы хотите прервать терапию? Мне кажется, мы только начали. Мы встречались – что, всего три раза? – Эрнест Лэш пролистал страницы журнала, куда записывал пациентов. – Да, правильно. Это наша четвертая встреча. Терпеливо ожидая ответа, Эрнест разглядывал серый галстук пациента, разрисованный какими-то инфузориями-туфельками, его серый жилет с шестью пуговицами и пытался вспомнить, когда же последний раз видел пациента в деловом костюме-тройке или в галстуке с «огурцами». – Доктор, я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно, – сказал Хэлстон. – Дело не в вас, просто много всякого неожиданного навалилось. Мне сложно выкраивать время, чтобы приезжать к вам в середине дня... сложнее, чем я думал... это лишний стресс... парадокс, ведь я и начал к вам ходить, чтобы избавиться от стресса... И деньги, не буду отрицать, тоже играют роль... У меня сейчас не очень хорошо с деньгами. Алименты... три тысячи в месяц... а старший сын осенью начинает учиться в Принстоне... тридцать тысяч в год... ну, сами понимаете. Я думал уже сегодня не прийти, но решил, что ради приличия я обязан прийти на последнюю сессию. Мама и смысл жизни 102 Вдруг из каких-то глубин памяти Эрнеста всплыло одно из выражений его матери, и он произнес про себя на идиш: «Geh Gesunter heit» («иди в добром здравии»). Похоже на пожелание здоровья человеку, который чихнул. Но мать произносила эту фразу с издевкой, у нее она звучала скорее как оскорбление – «уйди и больше не возвращайся», или «даст Бог, я тебя еще не скоро увижу». «Ну что ж, это правда, – мысленно признался Эрнест сам себе. – Я буду не против, если Хэлстон уйдет и больше не вернется. Я никак не могу заинтересоваться этим человеком». Эрнест хорошенько рассмотрел пациента – но лишь только в профиль, потому что Хэлстон все время избегал его взгляда. Длинное унылое лицо, грифельно-черная кожа – он с Тринидада, праправнук беглых рабов. Если в Хэлстоне и была когда-то какая искорка, она давно уже погасла. Он был весь тусклый – коллекция оттенков серого: седеющие волосы, идеально ухоженная эспаньолка с проседью, глаза цвета кремня, серый костюм, темные носки. И серый, застегнутый на все пуговицы ум. Ни единый проблеск цвета или жизни не озарял ни дух, ни тело Хэлстона. Geh Gesunter heit – уйди и больше не возвращайся. Но ведь Эрнест на это и надеялся? «Последняя сессия», – сказал Хэлстон. «Хм, звучит неплохо, – подумал Эрнест. – Я ничего не имею против». Эрнест был сильно перегружен, просто завален работой. Мегэн, его бывшая пациентка, вернулась после перерыва в несколько лет. Две недели назад она пыталась убить себя и теперь претендовала на огромную часть его времени. Чтобы она не причинила себе вреда и не попала в больницу, Эрнесту приходилось встречаться с ней как минимум три раза в неделю. «Эй, очнись! – подтолкнул он сам себя. – Ты терапевт. Этот человек пришел к тебе за помощью, и у тебя есть перед ним обязательства. Он тебе не очень нравится? Он тебя не забавляет? Он скучный, держится на расстоянии? Скованный, словно аршин проглотил? Отлично! Это замечательные данные. Используй их! Если он вызывает такие чувства у тебя, то, скорее всего, и у всех остальных тоже. Вспомни, почему он вообще пришел на терапию – из-за всепроникающего чувства отчужденности. Очевидно, что Хэлстон страдает из-за диссонанса культур. С девяти лет он жил в Великобритании и лишь недавно приехал в США, в Калифорнию, как менеджер британского банка». Но Эрнест считал, что культурный диссонанс лишь часть проблемы – в этом человеке была какая-то отдаленность. «Ну, хорошо, хорошо, – послушался Эрнест собственного совета, – я не буду говорить и даже думать «Geh Gesunter heit». Он вернулся к работе, тщательно подбирая слова, чтобы вовлечь Хэлстона в процесс. – Ну, хорошо. Я, конечно, могу вас понять: вы хотите ослабить стресс, а не усилить его нехваткой времени и денег. Вполне понятно. Но все-таки, знаете, один момент в вашем решении меня озадачивает. – Да. А именно? – Ну, я ведь еще до начала наших сессий достаточно подробно рассказал, сколько понадобится времени, и про расценки тоже. Никаких сюрпризов не было. Верно? Хэлстон кивнул. – Не могу пожаловаться, доктор. Вы совершенно правы. – Значит, логично предположить, что в этом есть что-то еще помимо нехватки времени и денег. Что-то насчет нас с вами? Может быть, вам было бы легче работать с чернокожим терапевтом? – Нет, доктор, совсем не то. Лаете не на то дерево, как вы, американцы, говорите. Цвет кожи ни при чем. Ведь я провел столько лет в Итоне, и еще шесть в Лондонской школе экономики. Там очень мало чернокожих. Я бы не чувствовал себя по-другому, уверяю вас, если бы консультировался у чернокожего терапевта. «Сделаю последнюю попытку, – решил Эрнест, – чтобы потом не обвинять себя, что не справился с выполнением профессионального долга». – Хорошо, Хэлстон, позвольте мне сформулировать по-другому. Я понимаю ваши мотивы. Они логичны. Спору нет. Допустим, это достаточно веские причины, чтобы прекратить терапию. Я уважаю ваше решение. Но прежде чем мы окончательно расстанемся, я бы попросил вас ответить еще на один вопрос. Хэлстон осторожно поднял голову и едва заметным кивком попросил Эрнеста продолжать. Мама и смысл жизни 103 – Вот мой вопрос. Есть ли у вас какие-то дополнительные причины? Я знал много пациентов, которые отказывались от терапии по не совсем рациональным причинам – любому терапевту такие встречались. Если и в вашем случае это так, то, может быть, вы назовете хоть одну? Он остановился. Хэлстон закрыл глаза. Эрнест почти слышал, как скрипит серое вещество в мозгу его пациента. Использует ли Хэлстон свой шанс? «Бьюсь об заклад, – подумал Эрнест, – пятьдесят на пятьдесят». Он наблюдал, как Хэлстон приоткрыл рот, едва-едва, словно хотел заговорить, но никакие слова не вышли. – Я не имею в виду ничего значительного, Хэлстон. Но, может быть, какая-нибудь капелька, намек на другие причины? – Может быть, – рискнул Хэлстон, – я не подхожу ни для терапии, ни для Калифорнии. Терапевт и пациент сидели, разглядывая друг друга: Эрнест – идеально отполированные ногти пациента и его серый жилет на шести пуговицах, Хэлстон же, по-видимому, – неряшливые усы и белую водолазку терапевта. Эрнест решился высказать предположение. – Калифорния слишком раскрепощенная? Вам больше по душе лондонский формализм? Ура! В точку! Кивок Хэлстона был почти энергичным. – А здесь, в этом кабинете? – Да, и здесь тоже. – Например? – Не обижайтесь, доктор, но я привык к большему профессионализму, придя к врачу. – Профессионализму? – Эрнест почувствовал прилив энергии. Наконец что-то происходит. – Я предпочитаю консультироваться у врача, который выдвигает четкий диагноз и назначает лечение. – А что вы здесь испытали? – Мне не хочется вас обижать, доктор Лэш. – Я не обижусь, Хэлстон. Ваша единственная задача здесь – свободно говорить то, что вы думаете. – Здесь все... – как бы это сказать? – слишком неформально, слишком... слишком фамильярно. Ваша просьба, чтобы мы звали друг друга по именам, к примеру. – Вы видите в такой неформальности отказ от профессиональных отношений? – Совершенно верно. Меня это сковывает. У меня такое чувство, как будто мы тратим время зря, как будто мы каким-то образом должны вместе наткнуться на ответ. Эрнест нарушал правила игры. Терять все равно нечего. Хэлстон, скорее всего, в любом случае уйдет. «А кроме того, – думал Эрнест, – это может дать ему что-то, что он сможет использовать в своей следующей терапии». – Я понимаю, что вы предпочитаете более формальные роли, – сказал Эрнест, – и очень высоко ценю вашу готовность выразить свои чувства по поводу работы со мной. Позвольте и мне сделать то же самое и поделиться моим опытом работы с вами. Эрнест полностью завладел вниманием Хэлстона. Редкий пациент останется равнодушным к шансу получить обратную связь от своего терапевта. – Одно из моих основных чувств – это некое разочарование. Думаю, это оттого, что вы несколько скупы. – Скуп? – Скупы. На слова. Вы даете мне очень мало. Я задаю вам вопрос, а вы в ответ посылаете мне короткую телеграмму. То есть вы мне даете так мало слов, так мало деталей и так мало личных откровений, как только можете. И именно поэтому я пытался установить между нами более близкие отношения. Мой терапевтический подход обусловлен тем, что мои пациенты делятся своими самыми глубокими чувствами. По моему опыту, формальные роли затормаживают этот процесс, и это та причина, единственная причина, по которой я сбрасываю их как шелуху. Поэтому же я часто прошу вас рассмотреть свои чувства ко мне. – Все, что вы говорите, вполне разумно. Я верю, вы знаете, что делаете. Но что я могу поделать – меня корежит от этой калифорнийской культуры с ее повышенной эмоциональностью. Такой уж я человек. Мама и смысл жизни 104 – Один вопрос по этому поводу. Вы удовлетворены тем, какой вы человек? – Удовлетворен? – Хэлстон выглядел сбитым с толку. – Ну, когда вы говорите, что такой уж вы человек, я полагаю, вы говорите и о том, что быть таким – это ваш выбор. Вот я и спрашиваю: вы удовлетворены этим выбором? Так дистанцироваться от людей, оставаться таким отчужденным? – Я не уверен, что это выбор, доктор. Такой уж я человек, – повторил он, – таково мое внутреннее устройство. Эрнест рассматривал два пути. Он мог либо попытаться убедить Хэлстона, что только он сам ответственен за свою отстраненность, либо запустить самое последнее показательное исследование какого-нибудь ключевого эпизода, характеризующего сдержанность Хэлстона. Эрнест выбрал последнее. – Ну, хорошо, давайте еще раз вернемся к самому началу – к той ночи, когда вы попали в отделение больницы «Скорой помощи». Я расскажу свою часть истории. Как-то утром мне позвонил врач этого отделения и описал пациента в состоянии острой паники, вызванной кошмарным сном. Я велел врачу начать курс успокаивающих препаратов и договорился встретиться с вами через два часа – в шесть. Когда мы встретились, вы не смогли вспомнить ни самого кошмара, ни событий предшествующего вечера. Иными словами, у меня не было никакой информации, не с чем было работать. – Верно, так и было. Все, что связано с тем вечером, – сплошная черная дыра. – Поэтому я и пытался найти другие способы решить проблему, и я с вами согласен – мы почти не продвинулись. Но за те три часа, что мы провели вместе, меня поразила ваша общая отчужденность от других людей, от меня, а может быть, и от себя самого. Я считаю, что эта отчужденность и ваш дискомфорт по поводу моих попыток работать с ней – это тот основной фактор, что стимулирует вас бросить терапию. Позвольте мне поделиться с вами еще одним наблюдением: меня поражает, как вы нелюбопытны к самому себе. Я чувствую, что во время нашей работы восполняю эту любознательность за нас обоих, – что я в одиночку должен нести все бремя нашей работы. – Я ничего от вас, доктор, преднамеренно не скрываю. Зачем я стал бы это делать умышленно? Просто такой уж я человек, – повторил Хэлстон обычным деревянным тоном. – Хэлстон, давайте попробуем в последний раз. Порадуйте меня. Я хочу, чтобы вы снова пересмотрели все события накануне той ночи, когда вам приснился кошмар. Давайте прочешем их частым гребнем. – Я уже говорил – обычный день в банке, а ночью – ужасный кошмар, который я забыл... потом меня повезли в «Скорую»... – Нет-нет, это мы уже пробовали. Теперь давайте по-другому. Достаньте свой еженедельник. Смотрите, – Эрнест проверил свой календарь, – наша первая встреча была 9 мая. Посмотрите, что у вас было назначено накануне. Начните с утра 8 мая. Хэлстон вынул еженедельник, открыл на странице, где было 8 мая, и прищурился. – Милл Вэлли, – произнес он, – что такое мне понадобилось в Милл Вэлли? А, да – это изза сестры. Теперь я вспоминаю. Я в то утро вообще не был в банке. Я изучал Милл Вэлли. – Что значит «изучал»? – Моя сестра живет в Майами, и ее по работе переводят в район Сан-Франциско. Она хочет купить дом в Милл Вэлли, и я предложил ей разведать местность – ну, знаете, утренние пробки, парковки, магазины, лучшие жилые районы. – Отлично. Прекрасное начало. Расскажите, что было дальше в тот день. – Все в странном тумане... даже жутко. Я не могу ничего вспомнить. – Вы живете в Сан-Франциско – вы помните, как ехали в Милл Вэлли через мост Золотых ворот? Во сколько это было? – Рано, я думаю. До пробок. Часов в семь. – А что было потом? Вы завтракали дома? Или в Милл Вэлли? Попробуйте представить эту картинку. Пусть ваши мысли свободно плывут в направлении того утра. Закройте глаза, если вам так удобнее. Хэлстон закрыл глаза. Через три или четыре минуты молчания Эрнест подумал – уж не уснул ли его пациент, и тихо позвал: Мама и смысл жизни 105 – Хэлстон? Хэлстон? Не двигайтесь, оставайтесь там, где вы сейчас, и попробуйте думать вслух. Что вы видите в своих мыслях? – Доктор, – Хэлстон медленно открыл глаза, – я вам вообще рассказывал об Артемиде? – Артемиде? Греческой богине? Нет, ни слова. – Доктор, – сказал Хэлстон, моргая и тряся головой, словно пытался прочистить мозги, – я несколько потрясен. Я только что пережил нечто очень странное. У меня в мозгу словно образовалась прореха, и в нее хлынули все невероятные события того дня. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я сознательно все это скрывал от вас. – Хэлстон, не сомневайтесь, я с вами. Вы начали рассказывать об Артемиде. – Да, я просто начал приводить мысли в порядок... я лучше начну с самого начала того проклятого дня, накануне того, как я попал в «Скорую»... Эрнест обожал слушать истории, и, предвкушая, он уселся поудобнее. У него было стойкое чувство, что этот человек, с которым он провел три часа в полном замешательстве, сейчас найдет ключ к тайне. – Ну, доктор, вы знаете, что я разведен уже года три и немного осторожен – больше, чем немного – в отношении новых... э... связей. Я рассказывал вам, что понес большой ущерб – и моральный, и материальный – от бывшей жены? Эрнест кивнул. Мельком посмотрел на часы. Черт, всего пятнадцать минут осталось. Придется поторопить Хэлстона, иначе он так и не услышит конца этой истории. – И что же Артемида? – Ну да, спасибо, вернемся к делу. Забавно, но ваш вопрос насчет завтрака в то утро что-то запустил. Теперь пришла ясность – я зашел позавтракать в кафе в центре Милл Вэлли и сел за большой пустой стол на четверых. Потом в кафе стало людно, и одна женщина спросила разрешения подсесть ко мне. Я посмотрел на нее, и, надо сказать, мне понравилось то, что я увидел. – Что именно? – Необыкновенной внешности женщина. Красивая. Идеальные черты лица, очаровательная улыбка. Моего возраста, должно быть – около сорока, но тело стройное, как у подростка. Как говорят в голливудских фильмах – тело, за которое можно умереть. Эрнест во все глаза смотрел на Хэлстона – совершенно другого, оживленного Хэлстона, и чувствовал, что теплеет к нему душой. – Расскажите. – На десять баллов. Похожа на Бо Дерек. Тонкая талия и более чем впечатляющая грудь. Многие мои друзья-британцы предпочитают женщин, похожих на мальчиков. Но я лично, признаюсь, виновен – фетишист: неравнодушен к большой груди... Но, нет, доктор, я не хочу этого исправлять. Эрнест обнадеживающе улыбнулся. Коррекция пристрастия Хэлстона – или свое собственное – к женской груди не входила в его планы. – И? – Ну, я с ней заговорил. Имя у нее было странное, Артемида, и она выглядела... как бы это сказать? Ну... не такой, как все. Тип «нью-эйдж». К нам в банк такие не ходят. Представьте себе, она намазала авокадо на рогалик, а потом растянула шнурок своей дамской сумочки, вытащила пластиковые пакетики с приправами и посыпала его морской солью и тыквенными семечками. Одета будто прямо с Кингз Роуд32 – цветастая крестьянская блуза, длинная цветастая фиолетовая юбка, подпоясанная шнуром, куча золотых цепочек и бус. Казалось, словно она выросла из поколения «детей-цветов». Но, – продолжал Хэлстон, и рассказ полился из него с удвоенной силой, ведь он так долго был запружен плотиной, – на самом деле она оказалась практичной, хорошо образованной и очень здравомыслящей. Мы немедленно подружились и проболтали несколько часов, пока официантка не пришла накрывать стол для обеда. Я был очарован этой женщиной и пригласил ее на обед, несмотря на то, что у меня была назначена деловая встреча. Думаю, излишне говорить, доктор, что это совсем непохоже на меня. По правде сказать, в тот день я вообще не очень был на себя похож. 32 Улица в Лондоне, ранее крупный центр контр культуры. Мама и смысл жизни 106 Чудно. – О чем вы, Хэлстон? – У меня странное чувство, когда я это говорю, потому что я рассматриваю этот кабинет как бастион рационального мышления, но в Артемиде было что-то очень странное – внеземное, и это не преувеличение, – меня словно заколдовали... Продолжу. Когда она сказала, что не может со мной пообедать, так как у нее важные дела, я предложил ей поужинать, снова даже не поглядев в ежедневник. Она сказала «конечно» и пригласила меня на ужин к себе домой. Сказала, что живет одна, и собиралась приготовить грибное рагу из лисичек, которые она собрала накануне в лесу на склонах горы Тамальпаис. – И вы к ней пошли? – Пошел ли я к ней? Еще бы, конечно, пошел. Это был один из лучших вечеров моей жизни – во всяком случае, до определенного момента. Хэлстон прервался, качая головой, как тогда, когда к нему впервые вернулась память. Затем продолжил: – С ней было невероятно. Все текло естественно. Незабываемый обед – она изумительно готовит. А я принес бутылку первоклассного калифорнийского вина, каберне Stag’s Leap33. А потом после десерта, отличного английского трайфла34 – первого, который я увидел в этой стране, – Артемида принесла марихуану. Я засомневался, но решил – раз уж я в Калифорнии, надо жить как местные жители – и сделал первую затяжку в своей жизни. С одурманенным выражением на лице Хэлстон замолчал. – И? – подтолкнул его Эрнест. – Потом, к тому времени, как мы убрали со стола, я ощутил, как наполняюсь приятным теплом. И опять пауза и качание головой. – И? – И тут случилась совершенно сверхъестественная вещь – Артемида спросила меня, не хочу ли я пойти с ней в постель. Прямо вот так. Очень прозаично. Она была такая естественная, такая грациозная, такая... такая... я не знаю... взрослая. Никакой этой типичной американской мелодрамы «даст – не даст», которую я ненавижу. «Боже мой! – подумал Эрнест. – Вот это женщина! Вот это вечер! Везунчик Хэлстон!» Потом, снова посмотрев на часы, он поторопил Хэлстона: – Вы сказали, что это был один из лучших вечеров вашей жизни – но только до определенного момента? – Да, секс был полным экстазом. Невероятно. Не похоже ни на что, что я когда-либо мог себе вообразить. – А как это – невероятно? – Все еще слегка в тумане, но я помню, как она вылизала меня – как котенка, каждый квадратный сантиметр, от головы до пяток, пока каждая пора моего тела не раскрылась широко, моля «Еще, еще!», дрожа от наслаждения, воспринимая ее прикосновения, ее язык, впитывая ее аромат и тепло. Он остановился. – Я немного смущаюсь рассказывать все это, доктор. – Хэлстон, вы делаете именно то, что должны делать здесь. Постарайтесь продолжить. – Ну вот, удовольствие все набирало обороты. Это было неописуемо, говорю вам. Головка моего... моего... как это сказать?., органа... накалилась, все жарче и жарче, и все кончилось невероятно пылким оргазмом. А потом я, думаю, потерял сознание. Эрнест был изумлен. Неужели это тот же скучный, зажатый человек, с которым он провел те нудные часы? – Хэлстон, а что случилось потом? – А, вот это и была поворотная точка. В тот момент все изменилось. Я пришел в себя где-то в другом месте. Теперь я понимаю, что это, конечно, был сон, но тогда все было так реально – я 33 34 Каберне этой фирмы как раз называется «Артемида». – Прим. ред. Традиционный британский десерт из бисквита, желе, молочного крема и взбитых сливок. Мама и смысл жизни 107 мог коснуться всего вокруг, пощупать, понюхать. Сейчас все уже несколько померкло, но помню, как меня преследует огромный страшенный кот – домашний кот размером с рысь, но совершенно черный, не считая белой маски вокруг красных сверкающих глаз, с толстенным мощным хвостом, огромными клыками, когтями как бритвы! Ну и гнался же он за мной! Я заметил вдали обнаженную женщину, стоящую в озере. Она выглядела как Артемида, поэтому я прыгнул в озеро и пошел к ней вброд, за помощью. Подойдя поближе, я увидел, что это вовсе не Артемида, а робот с чудовищной величины грудями, из которых бьют струи молока. Подойдя еще ближе, я увидел, что это не молоко, а какая-то светящаяся радиоактивная жидкость. И тут я с ужасом понял, что стою по колено в этом едком веществе, которое уже начало разъедать мои ноги. Я яростно пробирался обратно к берегу, но там меня, шипя, поджидал этот проклятый кот, теперь он стал еще больше – со льва. Тут я вылетел пулей из кровати и помчался, спасая свою жизнь. Я натянул одежду, пока бежал вниз по лестнице и, босой, завел машину. Я не мог дышать. Я позвонил своему врачу по телефону, который у меня в машине. Врач велел мне ехать в отделение неотложной помощи – а оттуда меня направили к вам. – А что Артемида? – Артемида? Без понятия. Я к ней теперь и близко не подойду. Она – отрава, яд. Даже сейчас, когда я о ней рассказываю, ко мне возвращается то ощущение паники. Я думаю, потому я и закопал все, что с ней связано, так глубоко в своем мозгу. Хэлстон торопливо проверил пульс. – Видите, я и сейчас словно бегу – двадцать восемь ударов за пятнадцать секунд, примерно сто двенадцать в минуту. – Но как же Артемида отнеслась к тому, что вы вдруг убежали? – Не знаю. Мне все равно. Она спала и не проснулась. – Значит, она заснула рядом с вами, а когда проснулась – вас уже не было, и она так и не узнала, почему. – Пускай и дальше не знает! Доктор, я вам говорю – этот сон был из другого мира, из другой реальности – из ада. – Хэлстон, нам пора заканчивать. Мы уже и так задержались, но ясно, что тут есть над чем поработать. Совершенно очевидно: над вашими чувствами к женщинам – вы занимаетесь любовью с женщиной, потом сталкиваетесь с этим котом – воплощением опасности и наказания, а потом бросаете женщину, не сказав ей ни слова. И потом – эти груди, которые сулят нежную заботу, но вместо этого бьют струей яда. Скажите, вы по-прежнему хотите прекратить терапию? – Нет, доктор, даже мне ясно, что здесь есть над чем работать. В это же время на следующей неделе? – Да. И мы сегодня хорошо поработали. Я рад, Хэлстон, мне была оказана честь тем, что вы доверились мне настолько, что вспомнили и рассказали целиком этот поразительный и страшный случай. Через два часа Эрнест шел в «Жасмин», вьетнамский ресторанчик на Клеменс-стрит, где часто обедал. У него было время обдумать сессию с Хэлстоном. В целом Эрнест был доволен тем, как он справился с желанием Хэлстона завершить терапию. Несмотря на всю свою загруженность, Эрнест не простил бы себе, если бы позволил пациенту просто так взять и уйти. Хэлстон старался изо всех сил прорваться к чему-то важному, и Эрнест знал, что его заинтересованная, методичная и не слишком агрессивная тактика спасла положение. Поразительно, думал Эрнест, что по мере того, как я набираюсь опыта, все меньше и меньше пациентов преждевременно завершают терапию. Как же он этого боялся, когда только начинал работать! Он все принимал близко к сердцу и каждый раз, когда пациент переставал к нему ходить, видел в этом свое личное поражение, клеймо неэффективности, публичный позор. Эрнест был благодарен Маршалу, своему бывшему супервизору, за то, что тот научил его: как раз такая реакция и гарантирует неэффективность. Если эго терапевта слишком зависит от решения пациента, если терапевту нужно, чтобы пациент продолжал терапию, вот именно тогда-то терапевт и теряет свою эффективность: он начинает обхаживать пациента, пытается обольстить, дать пациенту все, что тот пожелает – все, что угодно, лишь бы тот пришел на очередную сессию. Эрнест был доволен и тем, что поддержал Хэлстона и высказал ему свое восхищение, Мама и смысл жизни 108 вместо того, чтобы озвучить свои сомнения в достоверности его драматического воспоминания о вечере с Артемидой. Эрнест не был уверен, как оценивать то, что он только что услышал. Он знал, конечно, о внезапных возвращениях подавленных воспоминаний, но в своей клинической практике почти никогда не сталкивался с этим феноменом. Несмотря на относительную распространенность этого явления в клинике посттравматических стрессовых расстройств, и не говоря уже о голливудском представлении о терапии, в повседневной практике Эрнеста это было редкостью. Но все импульсы самодовольства Эрнеста быстро прошли, как и все его благосклонные мысли о Хэлстоне. На самом деле все его внимание было захвачено Артемидой. Чем больше Эрнест думал об этом, тем больше его ужасало то, как Хэлстон поступил с этой женщиной. Каким чудовищем надо быть, чтобы заниматься любовью, совершенно фантастической любовью, с женщиной, а потом бросить ее без объяснений, без записки, без звонка? Это невероятно. Эрнест ужасно сочувствовал Артемиде. Он точно знал, каково ей. Однажды, пятнадцать лет назад, он устроил романтический уик-энд в нью-йоркском отеле со своей давнишней подругой Мерной. Они провели замечательную ночь вдвоем – во всяком случае, так казалось Эрнесту. Утром он ушел на короткую встречу и вернулся с огромным букетом цветов – знаком благодарности. Но Мерны не было. Она исчезла без следа. Собрала вещи и сбежала, без записки, без ответа на все последующие звонки и письма Эрнеста. Никаких объяснений, никогда. Он был опустошен. Психотерапия не смогла полностью затушить боль, и даже сейчас, столько лет спустя, воспоминания все еще обжигали. Не знать – это то, что Эрнест ненавидел больше всего. Бедная Артемида: она столько отдала Хэлстону, пошла на такой риск, и в конце с ней так подло обошлись. В следующие несколько дней Эрнест лишь изредка вспоминал о Хэлстоне, но часто и подолгу думал об Артемиде. В его фантазии она стала богиней – прекрасной, щедрой, вскармливающей и воспитывающей, но жестоко раненой. Артемида была женщиной, которой поклоняются, почитают, ценят и берегут: сама мысль об унижении такой женщины казалась Эрнесту бесчеловечной. Как ей, должно быть, больно не понимать, что случилось! Сколько раз она оживляла в памяти ту ночь, пытаясь понять, каким словом или поступком оттолкнула Хэлстона. И Эрнест знал, что находится в привилегированной позиции, чтобы помочь ей. «За исключением Хэлстона только я один знаю правду о той ночи», – подумал он. Эрнест часто погружался в грандиозные фантазии спасения несчастных девиц. Он знал за собой такое. Как он мог не знать? Сколько раз его психоаналитик Олив Смит и его супервизор Маршал Страйдер тыкали его в это носом. Фантазии спасения играли большую роль как в его личных отношениях, где он зачастую не замечал предостерегающих сигналов очевидной несовместимости, так и в психотерапевтической практике, когда его контрперенос иногда бурно разрастался и Эрнест чрезмерно вкладывался в лечение своих пациентов женского пола. Как и следовало ожидать, пока Эрнест обдумывал спасение Артемиды, у него в мозгу зазвучали голоса его психоаналитика и супервизора. Эрнест выслушал и принял к сведению их критику – но до определенной степени. В глубине души он верил, что, чрезмерно вкладываясь в лечение, он становится лучше и как терапевт, и как человек. Несомненно, женщин нужно спасать. Это трюизм эволюции, стратегия выживания вида, встроенная в наши гены. В какой ужас пришел Эрнест, когда много лет назад в курсе сравнительной анатомии обнаружил, что кошка, которую он препарировал, беременна, что у нее в матке пять крохотных плодиков размером со стеклянный шарик. Более того, Эрнест питал отвращение к икре, которую получали, убивая беременных стерлядей и вспарывая им брюхо. Самой ужасающей была для него нацистская политика истребления женщин, носительниц «семени Сарры». Поэтому Эрнест без тени сомнения решил убедить Хэлстона исправить свой проступок. – Подумайте, что она, должно быть, чувствовала, – повторял он раз за разом на следующих сессиях, на что Хэлстон раздраженно отвечал: – Доктор, ваш пациент я, а не она. Или же Эрнест начинал вдохновлять Хэлстона мудростью восьмого и девятого шагов в Мама и смысл жизни 109 двенадцатишаговой системе35: «Составь в порядке приоритетности список всех людей, кому ты причинил вред, и постарайся в явном виде загладить свои прегрешения во всех случаях, где это возможно». Но все его аргументы, как бы искусно они ни были сформулированы, разбивались о сопротивление Хэлстона, который казался невообразимо сосредоточенным на себе и бесчувственным. Однажды он укорил Эрнеста за мягкосердечие: – Вы, кажется, слишком романтизируете эту случайную связь. Это же ее способ жизни. Я не первый мужчина, к которому она пристала, и, скорее всего – не последний. Доктор, я вас уверяю, эта дама может о себе позаботиться. Эрнест задумывался, почему артачится Хэлстон – может, просто назло. Может быть, Хэлстон почувствовал, что его доктор слишком увлекся Артемидой, и мстил, автоматически отвергая все его советы. Но как бы то ни было, до Эрнеста постепенно дошло, что Хэлстон никогда не исправит то, что натворил в тот вечер с Артемидой, и что ему, Эрнесту, придется взять этот труд на себя. Любопытно, что он, несмотря на свое загруженное расписание, ничего не имел против. Ему казалось, что это моральный императив, и постепенно он стал рассматривать эту задачу не как бремя, а как священную обязанность. Еще любопытно было то, что Эрнест, обычно анализирующий все мельчайшие детали своего поведения – подвергающий каждую причуду, каждое решение скрупулезному разбору, – в этот раз не задался ни единым вопросом по поводу своих мотивов. Тем не менее он понимал, что собирается выполнить необычную и недозволенную миссию – какой еще терапевт занялся бы самокоррекцией вследствие прегрешений своего пациента? Несмотря на то что Эрнест понимал, что необходимо действовать тайно и деликатно, его первые шаги были неуклюжи и незатейливо откровенны: – Хэлстон, давайте в последний раз о вашей встрече с Артемидой и взаимоотношениях с ней. – Что, опять? Я же рассказал, я был в кафе, когда... – Нет, постарайтесь обрисовать эту сцену как можно ярче и точнее. Опишите кафе. Время? Где находится? – Это было в Милл Вэлли, около восьми утра, в одном из этих причудливых новомодных калифорнийских заведений – кафе, совмещенном с книжным магазином. – Как оно называется? – не отступил Эрнест, когда Хэлстон замолчал. – Опишите все, что связано с вашей встречей. – Доктор, я не понимаю. К чему все эти вопросы? – Сделайте мне одолжение. Если вы обрисуете эту сцену как можно живее, вам легче будет вспомнить все чувства, которые вы испытывали. В ответ на протест Хэлстона, что ему совершенно не интересно вспоминать эти чувства, Эрнест напомнил ему, что развитие эмпатии – первый шаг на пути улучшения его отношений с женщинами. Следовательно, если Хэлстон вспомнит свои переживания и то, что могла чувствовать Артемида, это будет для него очень полезным упражнением. «Обоснование неубедительное, – понял Эрнест, – но правдоподобное». Эрнест слушал изо всех сил, как Хэлстон послушно перечислял все детали того богатого событиями дня, но узнал лишь несколько новых подробностей. Кафе называлось «Книжное депо», а Артемида была любительницей литературы – это, чувствовал Эрнест, может оказаться полезной информацией. Она сказала Хэлстону, что сейчас в разгаре перечитывания всех великих немецких писателей-романистов – Манна, Клейста, Белля – и в тот самый день приобрела экземпляр нового перевода «Человека без свойств» Музиля. Подозрительность Хэлстона росла, и Эрнесту пришлось притормозить – в любой момент его пациент мог сказать: «Может, вам сразу дать ее адрес и номер телефона?» Конечно, именно этого Эрнесту хотелось больше всего. Сэкономило бы ему кучу времени. Но у него уже было достаточно информации для начала. Речь идет об одной из действенных методик достижения цели – 12-шаговой системе достижения цели Брайана Трейси, который вот уже несколько десятилетий занимается изучением проблем успеха и личных достижений. – Прим. науч. ред. 35 Мама и смысл жизни 110 Несколько дней спустя, ясным солнечным утром Эрнест поехал в Милл Вэлли, припарковался и вошел в «Книжное депо». Он осмотрел длинное, узкое помещение, некогда – железнодорожное депо, а теперь – веселенькое кафе с магазином и дюжиной столиков снаружи, нагревающихся на утреннем солнце. Не найдя женщины, которая походила бы на Артемиду, Эрнест подошел к стойке и заказал густо усыпанный семечками рогалик. – А что к рогалику? – спросила официантка, нос и губы которой были щедро увешаны кольцами. Эрнест проглядел меню. Никакого авокадо. Может быть, Хэлстон все выдумал? В конце концов Эрнест решил воспользоваться случаем и заказал двойную порцию огурцов, ростки фасоли и сливочный сыр с зеленым луком и травами. Усаживаясь за столик, он увидел, как она вошла. Пышная цветастая блузка, длинная юбка цвета сливы – его любимый цвет, – бусы, цепочки и все прочее: конечно же, это Артемида. Еще красивее, чем он представлял. Хэлстон не упомянул, а возможно, просто не заметил, о ее блестящих золотых волосах, уложенных в прическу в европейском стиле – в узел на затылке, закрепленный черепаховой заколкой. Эрнест растаял: все его прекрасные венские тетушки, первые объекты его подростковых эротических влечений, носили именно такую прическу. Он быстро оглядел Артемиду, пока она делала заказ и расплачивалась у стойки. Что за женщина – прекрасная во всех отношениях, проницательные бирюзово-синие глаза, полные губы, подбородок с изящной ямочкой, в сандалиях на плоской подошве, ростом примерно пять футов четыре дюйма 36, пульсирующее, идеально пропорциональное тело. Настал этап, всегда повергающий Эрнеста в растерянность, – как завязать разговор с женщиной? Он вытащил «Избранника» Манна, купленного накануне, и положил на стол так, чтобы заглавие было на виду. Может быть, это даст возможность провести открывающий гамбит – если она выберет столик по соседству. Эрнест нервно оглядел полупустое кафе. Множество свободных столов. Он кивнул, когда Артемида проходила мимо, и она кивнула в ответ, направляясь к незанятому столику. Но – mirabile dictu37 – через несколько секунд она вернулась. – О, «Избранник»! – заметила она. – Надо же, как удивительно! Клюет! Клюет! Но Эрнест не знал, как подсечь, чтобы не упустить добычу. – Я... э... прошу прощения, – начал заикаться он. Он был шокирован, как неудачливый рыбак, который, уже не надеясь на улов, вдруг поражается – за леску кто-то дернул! Эрнест многократно многие годы использовал книгу в качестве наживки, но у него ни разу не клюнуло. – Я про вашу книгу, – объяснила она. – Подумать только, я прочитала «Избранника» много лет назад, но с тех пор не видела никого, кто бы ее тоже прочел. – О, мне она очень нравится. Я ее перечитываю каждые несколько лет. И некоторые новеллы Манна мне тоже нравятся. Я только что начал перечитывать все его книги. Это – первая. – А я только что прочла «Обменные головы», – сказала Артемида. – Что у вас дальше на очереди? – Я начну с самых любимых. После этой будет «Иосиф и его братья». А потом, наверное, «Феликс Круль». Но, – он привстал, – может быть, вы присядете? – А последняя? – спросила Артемида, пристраивая свой рогалик и кофе на столик и садясь наискосок от Эрнеста. – «Волшебная гора», – без запинки ответил Эрнест, не показывая ни своего удивления, ни растерянности – как теперь вываживать такую крупную рыбу? – Она просто пережила свое время – бесконечные лекции Сеттембрини мне теперь кажутся утомительными. Да, а самое последнее место в списке у «Доктора Фаустуса». Все эти музыковедческие проблемы – слишком много специальных подробностей и, к сожалению, скучно. – Абсолютно с вами согласна, – сказала Артемида. Она полезла в сумку и достала спелое черное авокадо и несколько пакетиков с семечками. – Правда, меня всегда завораживала параллель между Ницше и Леверкюном. – О, простите, я не представился – так увлекся нашим разговором. Я – Эрнест Лэш. 36 37 Около 160 см. Странно сказать (лат.). Мама и смысл жизни 111 – А я – Артемида, – сказала она, очистила авокадо, намазала половинку на свой бублик и посыпала разнообразными семечками. – Артемида. Какое прекрасное имя! Кстати, снаружи потеплело. Может быть, захватим столик и присоединимся к вашему близнецу? Эрнест старательно подготовил домашнее задание. – Моему близнецу? – недоумевала Артемида, пока они перебирались на солнце. – Моему близнецу? А, Аполлону! Золотые стрелы братца Аполлона. Вы необычный человек – я всю жизнь живу с этим именем, и вы первый, кто вспомнил об Аполлоне. – Но, знаете, – продолжал Эрнест, – я должен признаться, что, может быть, ненадолго отложу Манна ради нового перевода Уилкинс – «Человека без свойств» Музиля. – Какое совпадение, – у Артемиды округлились глаза. – Я как раз сейчас его читаю. Она опять полезла в сумку и достала книгу. – Славная вещь. С этого момента Артемида не сводила глаз с Эрнеста. По правде сказать, она так пристально смотрела на его губы, что Эрнест каждые пару минут на всякий случай смущенно смахивал с усов возможные крошки. – Мне очень нравится жить в округе Марин, но здесь иногда не с кем поговорить на серьезные темы, – сказала она, протягивая Эрнесту ломтик авокадо. – Последний раз, когда я говорила об этой книге, оказалось, мой собеседник даже не слышал про Музиля. – Ну, Музиль – это не для всех. «Как жалко, – подумал Эрнест, – что душе Артемиды пришлось какое- то время быть в компании зажатого Хэлстона». Следующие три часа они счастливо блуждали среди трудов Генриха Белля, Гюнтера Грасса и Генриха фон Клейста. Эрнест посмотрел на часы. Почти полдень! Какая невероятная женщина, подумал он. Утреннее расписание он расчистил, но с часу дня у него шли пять часовых сессий подряд. Время шло, и Эрнест вернулся к делу. – Мне нужно скоро уходить, – сказал он, – хотя и страшно не хочется, но меня ждут пациенты. Мне было так приятно с вами разговаривать – просто не передать словами. Мне этот разговор открыл что-то новое в себе самом. Как раз то, что мне сейчас нужно. – Как это? – Мне было плохо, – вздохнул Эрнест, надеясь, что эти слова, тщательно отрепетированные накануне ночью, прозвучат естественно. – Недели две назад я навещал свою старую подругу. Я ее не видел несколько лет, и мы замечательно провели целые сутки вместе. По крайней мере, я так думал. Когда я проснулся утром, ее уже не было. Исчезла. Без следа. С тех пор мне очень худо. Очень худо! – Это ужасно, – Артемида проявила даже больше участия, чем надеялся Эрнест. – Она была дорога вам? Вы надеялись, что будете снова вместе? – Ну, нет, – Эрнест подумал о Хэлстоне и о том, что Артемида могла чувствовать к нему. – Не совсем. Она была... ну... как это сказать... скорее приятельницей, подружкой для постели. В общем, я не очень расстроен, что ее потерял. Главное, что меня расстраивает, – незнание. Почему она сбежала? Из-за меня? Я каким-то образом сделал ей больно? Что-то сказал? Был нечутким любовником? Во мне есть что-то совершенно неприемлемое? Вы понимаете, о чем я. Остается крайне неприятный осадок. – Я вас очень хорошо понимаю, – сказала Артемида, сочувственно качая головой. – Сама через это прошла, и не так давно. – Правда? Удивительно, сколько у нас общего. Может, попробуем исцелить друг друга? Продолжим этот разговор в другой раз – может быть, поужинаем сегодня вместе? – Да, но не в ресторане. Мне хочется что-нибудь приготовить. Вчера я набрала прекрасных лисичек, и сегодня сделаю венгерское грибное рагу. Присоединитесь? Никогда еще часы терапии не тянулись так медленно. Эрнест не мог думать ни о чем, кроме Артемиды. Он был очарован ею. Снова и снова он подталкивал себя: «Сосредоточься! Сфокусируйся! Отрабатывай свой гонорар! Выкинь эту женщину из головы!» Но Артемида не давала себя выкинуть. Она уютно, как у себя дома, устроилась у него в лобной коре и оставалась Мама и смысл жизни 112 там. В Артемиде было что-то потустороннее и притягательное, что заставило его вспомнить образ бессмертной, неотразимой африканской царицы из романа Райдера Хаггарда «Она». Не ускользнуло от него и то, что он думает больше о привлекательности Артемиды, нежели об облегчении ее страданий. «Эрнест, – отчитывал он сам себя, – не забывай о приоритетах. Что ты делаешь? Вся эта затея и так крайне сомнительна, даже без сексуальных приключений. Ты уже и так ходишь по краю – выдоил из Хэлстона сведения о том, как найти Артемиду, превратился в незваного странствующего психотерапевта, наносящего домашний визит привлекательной незнакомке. У тебя мания величия, – предостерегал он самого себя, – ты ведешь себя неэтично и непрофессионально. Осторожность превыше всего!» «Ваша честь, – Эрнест представил себе звучный голос своего супервизора, доносящийся с места для дачи свидетельских показаний, – доктор Лэш – тонкий и этичный клиницист, кроме тех случаев, когда он начинает думать головкой, а не головой». «Нет, нет, нет! – запротестовал Эрнест. – Я не делаю ничего неэтичного. Я намереваюсь совершить высокоморальный акт, акт милосердия. Хэлстон, мой пациент, необдуманно причинил другому человеку сильную боль, и маловероятно, что он захочет когда-либо добровольно это исправить. Я и только я могу компенсировать эту травму, быстро и эффективно». Домик Артемиды, словно вышедший из сказки про Гензеля и Гретель – маленький, островерхий, весь в узорах пряничной глазури и окруженный плотными рядами можжевельника с подстриженными верхушками – органичнее смотрелся бы в немецком Шварцвальде38, чем в округе Марин. Сразу предложив Эрнесту стакан свежевыжатого гранатового сока, Артемида извинилась, что в доме нет алкоголя. «Это зона, свободная от наркотиков», – сказала она. И потом добавила: «Кроме ганжубаса, святой травы». Усевшись на диван – имитацию канапе времен Людовика XVI, на изящных бело-серых ножках и обитое гобеленом в мелкий рисунок, – Эрнест вернулся к теме покинутых любовников. Но несмотря на то, что он использовал все свои практические навыки, чтобы «разговорить» ее, он вскоре вынужден был признать, что преувеличивал душевные страдания Артемиды. Да, она подтвердила, что прошла через то же самое, что и Эрнест, и что ей пришлось нелегко. Но все же это было менее болезненно, чем показалось сначала по ее словам: она созналась, что сказала так только из вежливости. Только из желания помочь Эрнесту поделиться своими трудностями, она упомянула, что недавно ее тоже бросил мужчина. Хотя тот и ушел без каких-либо объяснений, она была не слишком обеспокоена этим событием. Эти отношения не были так значимы для нее, и она была убеждена, что это в какой большей степени его, а не ее проблема. Эрнест глядел на нее в изумлении: эта женщина сконцентрирована в такой степени, какой он сам едва ли сможет когда-нибудь достичь. Расслабившись, он официально снял с себя обязанности терапевта и стал просто получать наслаждение от остального вечера. Жаркий рассказ Хэлстона подготовил Эрнеста к тому, что будет дальше. Но скоро стало ясно, что Хэлстон недооценил, а возможно, просто не смог по достоинству оценить все происходящее. Общение с Артемидой было чистым наслаждением, рагу из лисичек – маленьким чудом, а то, что было потом – гораздо большим чудом. Подозревая, что все то, что испытал Хэлстон, могло быть вызвано наркотиком, Эрнест отказался от марихуаны, предложенной Артемидой после ужина. Но и без марихуаны с ним, кажется, происходило что-то необычное, почти нереальное. Во время ужина Эрнеста с головы до ног словно залила теплая волна. Приятные чувства из прошлого – каждое из которых проникало через свои особые ворота – затопили его разум. Запах kichel, печенья, которое пекла мать по утрам каждое воскресенье; тепло в первые несколько секунд после того, как обмочился в постели; его первый поцелуй; первый оргазм, подобный пистолетному выстрелу, когда он мастурбировал в ванной, представляя раздевающуюся тетю Хэрриет; поедание пирожных из мороженого под горячей глазурью в «Хот шоп» на Джорджия-авеню; невесомость во время катания на американских горках в парке аттракционов Глен Эко; его ход королевой под прикрытием коварного слона и возглас «Shah той!» (шах и мат), обращенный к отцу. Ощущение heimlichkeit – теплого и влажного домашнего уюта – было так сильно, так окутывало со всех сторон, что Эрнест 38 Буквально «Черный лес» – область в Германии, живописная и с богатой историей. Здесь, в частности, происходит действие сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Мама и смысл жизни 113 на миг забыл, где находится. – Хочешь пойти наверх, в спальню? – мягкий голос Артемиды вывел его из забытья. Куда он провалился? «Неужели она что-то добавила в грибы? – удивился Эрнест. – Хочу ли я пойти в спальню? Да я последую за этой женщиной куда угодно. Я хочу ее так, как никогда никого не хотел. Может быть, это не трава и не грибы, а какой-то необычный феромон? Моя обонятельная луковица заигрывает с ее мускусным ароматом?» Как только они оказались в постели, Артемида принялась его лизать. Каждый дюйм его кожи трепетал, наливался жаром, пока все тело не раскалилось докрасна. С каждым прикосновением ее языка он улетал все выше и выше, пока не взорвался – не с резким треском юного пистолетного выстрела, но с ревом могучей гаубицы. В краткий момент просвета он вдруг заметил дремавшую рядом Артемиду. Он был так захвачен собственным наслаждением, что едва не забыл о ней, не позаботился о том, чтобы ей тоже было хорошо. Он протянул руку и коснулся ее лица – щека была мокрой от струящихся слез. А потом он провалился в глубочайший в его жизни сон. Через некоторое время Эрнеста разбудил царапающий звук. Сначала он ничего не видел в непроглядной темноте комнаты. Но знал: что-то было не так, совсем не так. Постепенно темнота отступила, и призрачный зеленоватый свет осветил комнату. Стало жутко. Сердце его колотилось, он выскользнул из кровати, натянул брюки и побежал к окну – посмотреть, что это там царапается. Но все, что он увидел, вглядываясь в окно, это отражение своего собственного лица. Он хотел разбудить Артемиду – но она исчезла. Царапание и скрежет усиливались. Потом – неземное «уаааааооооуууу», словно орала тысяча мартовских котов. Комната затряслась, сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. Скрежет становился все громче и резче. Эрнест услышал звук падающих на землю камней – сперва гальки, потом булыжников, потом целого камнепада. Шум, казалось, шел из-за стены спальни. Осторожно подойдя туда, Эрнест увидел, что в стене образовывались трещины; штукатурка осыпалась на ковер. Скоро показалась каменная кладка; потом, чуть позже, обнажились драночные рейки на каркасе дома. Кррахх! Гигантская лапа с растопыренными когтями проломилась сквозь них. Эрнест не выдержал. Это слишком! Схватив рубашку, он бросился к лестнице. Но не было ни лестницы, ни стен, ни дома. Перед Эрнестом лежало черное пространство, залитое светом звезд. Он побежал и вскоре оказался в лесу, среди вздымающихся елей. Послышался громоподобный рык, Эрнест обернулся и увидел чудовищного кота с огненно-красными глазами – похож на льва, но черно-белый и гораздо крупнее. Размером с медведя. С саблезубого тигра. Эрнест побежал изо всех сил, он практически летел, но все громче и все ближе раздавался глухой звук удара мягких лап зверя об усыпанную иглами лесную почву. Эрнест увидел озеро и помчался к нему. Кошки не любят воду, подумал он, и зашел в озеро. Издалека, из смутного, покрытого туманом центра озера, донесся звук льющейся воды. Потом он увидел ее: Артемида неподвижно стояла посреди озера. Одну руку она подняла над головой, как статуя Свободы, а в другой, словно в чаше, держала одну из громадных грудей, из которой прямо на Эрнеста захлестала могучая струя воды или молока. Нет – подойдя ближе, Эрнест увидел, что это было не молоко, а флуоресцирующая зеленая жидкость. И фигура не была Артемидой: это был металлический робот. И в озере была не вода, а кислота – она уже начинала разъедать ему ноги. Эрнест открыл рот и изо всех сил попытался крикнуть: «Мама! Мама! Помоги мне, мама!» Но не смог издать ни звука. Эрнест помнит, что пришел в себя в машине, полуодетый. Он изо всех сил давил на газ, уносясь по Марин-драйв подальше от шварцвальдского дома Артемиды. Он попытался сосредоточиться на том, что с ним случилось, но страх пересилил. Сколько раз Эрнест проповедовал пациентам и студентам, что кризис – это не только опасность, но и благоприятная возможность? Сколько раз проповедовал, что тревога – это путь, ведущий к самопознанию и к мудрости? Что из всех снов кошмар – самый поучительный? Но, доехав до своей квартиры на Русской Горке, Эрнест прямо от двери бросился не к письменному столу – записать свой сон, – а в свой медицинский кабинет к аптечке, где лежала рекламная упаковка двухмиллиграммового ативана, сильнодействующего успокаивающего средства. Но в ту ночь лекарство не принесло Эрнесту ни успокоения, ни сна. Утром он отменил все назначенные на тот день встречи с пациентами и с трудом распихал наиболее неотложные сессии по дырам расписания следующего вечера. Мама и смысл жизни 114 Раннее утро он провел на телефоне, проговаривая свои переживания близким друзьям, и примерно через сутки ужасно щемящий, тревожный гнет в груди начал утихать. Помогал сам процесс разговора с друзьями, сам акт исповеди, хотя никто из друзей, кажется, не мог взять в толк, что случилось. Даже Пол, самый близкий и старый друг, который делил с Эрнестом комнату еще во времена ординатуры, ничего не понял: он пытался убедить Эрнеста, что кошмар – это благословение, предостережение, обучающее Эрнеста уважать профессиональные границы. Эрнест активно защищался: – Пол, ты забыл, Артемида не подружка моего пациента. И я не использовал умышленно своего пациента в качестве поставщика женщин. И у меня были только благородные намерения. Я искал Артемиду не затем, чтобы с ней переспать, а затем, чтобы возместить урон, нанесенный моим пациентом. Я к ней пришел не на любовное свидание, просто так случилось, и уже ничего нельзя было остановить. – Прокурор посмотрит на это по-другому, – мрачно сказал Пол. – Он из тебя котлету сделает. Бывший супервизор Эрнеста, Маршал, предложил его вниманию фрагмент лекции, которую регулярно читал руководимому им кружку юных моряков: – Даже если ты не делаешь ничего плохого, избегай любой ситуации, фотография которой может навести на мысль, что ты делаешь что-то плохое. Эрнест пожалел, что позвонил Маршалу. Нотация про фотографию его не впечатлила; наоборот, Эрнест решил, что это отвратительно – советовать детям соблюдать осторожность только потому, что кто-то может извратить их поступки в печати. В конце концов Эрнест проигнорировал советы друзей. Они все были малодушны, озабочены только тем, как бы соблюсти внешние приличия и избежать юридических осложнений. В душе – а это единственное, что имеет значение, – Эрнест был совершенно убежден, что поступил честно. Придя в себя через сутки, Эрнест вернулся к работе и через четыре дня встретился с Хэлстоном, который объявил о своем решении все же завершить терапию. Эрнест знал, что подвел Хэлстона, который, несомненно, почувствовал, что Эрнест его не одобряет. Однако чувство вины из-за неудавшейся терапии недолго мучило Эрнеста. Вскоре после прощания с Хэлстоном он сделал ошеломительное открытие: за прошедшие трое суток, со времени телефонных разговоров с Полом и Маршалом, он начисто забыл о существовании Артемиды! О завтраке с ней и обо всем, что было потом! Он ни разу о ней не вспомнил! Боже мой, подумал он, я вел себя так же отвратительно, как и Хэлстон, бросил ее без объяснений и не позаботился ни позвонить, ни повидаться с ней. До конца дня и весь следующий день с Эрнестом творилось что-то очень странное: он снова и снова пытался думать об Артемиде, но не мог сосредоточиться, через несколько секунд его мысли переходили на что-то совершенно другое. Поздно вечером он решил ей позвонить, с огромным усилием – Эрнесту казалось, что он выжимает восьмидесятифунтовую гирю – он набрал ее номер. – Эрнест! Это действительно ты? – Конечно, я. Хоть и с опозданием. На несколько дней. Но все-таки я. Эрнест замолчал. Он ждал гнева и был сражен радостным тоном Артемиды. – Ты, кажется, удивилась, – добавил он. – Очень удивилась. Я думала, что уже никогда не услышу твой голос. – Мне нужно тебя увидеть. Все крутом кажется нереальным, но твой голос заставляет меня проснуться. У нас много дел: мне придется долго извиняться и объяснять, а тебе – прощать. – Конечно, мы увидимся. Но при одном условии. Никаких объяснений и никаких прошений. Это лишнее. – Поужинаем завтра? В восемь? – Хорошо. Я готовлю. – Нет, – Эрнест вспомнил о своих подозрениях насчет тушеных лисичек. – Моя очередь. Я беру ужин на себя. Он прибыл к Артемиде, нагруженный едой из «Нанкина» – забегаловки на улице Кирни, с самым ужасным в Сан-Франциско интерьером, но самой лучшей китайской кухней. Эрнест, Мама и смысл жизни 115 обожающий кормить людей, с удовольствием раскладывал коробочки и пакеты на столе, называя Артемиде их содержимое. Он совершенно сник, когда она сказала ему, что она веганка 39, и ей придется отказаться от большинства блюд, в том числе роскошных куриных роллов с латуком и говядины с пятью сортами грибов. Эрнест молча возблагодарил Бога, что взял рис, сваренные на пару ростки гороха и вегетарианские клецки. – Я должен тебе кое-что рассказать, а я, как начну, уж не остановлюсь. Друзья говорят, что у меня словесное недержание, так что я тебя предупредил... – Только не забудь мои условия. – Артемида положила руку на руку Эрнеста. – Никаких извинений и объяснений. – Я не уверен, что смогу их выполнить, Артемида. Как я говорил тебе в ту ночь, я очень серьезно отношусь к своей работе целителя. Это я, это моя жизнь, и я не могу это включать и выключать по желанию. Поэтому я абсолютно подавлен тем, что так ужасно обошелся с тобой. Я поступил бесчеловечно. Мы занимались любовью – это было прекрасно, невероятно, я даже представить себе не мог такого, – а потом я бросил тебя, не сказав ни слова. Мне нет оправдания. Я не могу сказать по-другому – я поступил бесчеловечно. Наверно, тебя ранила моя черствость. Ты, наверное, снова и снова пыталась понять, что я за человек и почему обошелся с тобой так подло. – Я же сказала, меня такие вещи не заботят. Я, конечно, была разочарована, но я тебя прекрасно понимаю... Эрнест, – серьезно добавила она, – я знаю, почему ты сбежал той ночью. – Да неужели? – игриво сказал Эрнест, очарованный ее наивностью. – Я полагаю, ты знаешь о той ночи меньше, чем тебе кажется. – Уверена, – твердо сказала она, – я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. – Артемида, ты даже вообразить не можешь, что случилось со мной той ночью. Откуда тебе знать? Я сбежал, потому что увидел сон – ужасный, очень личный кошмар. Как ты можешь об этом знать? – Эрнест, я знаю об этом все. Знаю и про кота, и про ядовитое озеро, и про статую, которая стоит в середине. – Артемида! У меня кровь стынет в жилах! – воскликнул Эрнест. – Это был мой сон. Сны – это личное, это самое личное, суверенное убежище каждого человека. Откуда ты знаешь мой сон? Артемида молчала, склонив голову. – У меня есть так много других вопросов. Сила моих ощущений в тот вечер – это волшебное тепло, это непреодолимое желание. Я не хочу умалять ни тебя, ни твое очарование, но то желание было уж слишком сильным. Какая-то химия? Может быть, лисички? Артемида еще ниже склонила голову. – А потом, уже в постели, я дотронулся до твоей щеки. Почему ты плакала? Мне было невероятно хорошо. Я думал, что это взаимно. Почему эти слезы? Тебе было плохо? – Я не о себе плакала, Эрнест, а о тебе. И не из-за того, что произошло между нами, – мне тоже было очень хорошо с тобой. Нет, я плакала из-за того, что должно было случиться с тобой. – Должно было случиться? Я что, с ума схожу? Чем дальше, тем хуже. Артемида, скажи мне правду! – Боюсь, что правда тебя не обрадует. – Испытай меня. Доверься мне. Артемида встала, ненадолго вышла и вернулась с веленевой папкой, из которой она вытащила пачку бумаги, старой и пожелтевшей. – Правда? Правда вот здесь, – сказала Артемида, протягивая Эрнесту бумагу. – Это письмо моя бабушка давным-давно написала моей матери, Магде. Оно датировано тринадцатым июня 1931 года. Прочитать тебе? Он кивнул. И при свете трех свечей, заливающем благоухающую ресторанную еду, так и оставшуюся в коробочках, Эрнест выслушал историю Артемидиной бабушки, историю, стоящую за его кошмаром. 39 В е г а н ы (англ. vegan) – строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Веганы не используют мех и кожу животных, шелк, выступают против убийства животных ради опытов и развлечений. – Прим. науч. ред. Мама и смысл жизни 116 Магде, моей дорогой дочери, в ее семнадцатый день рождения, в надежде, что для этого письма уже не слишком рано и еще не слишком поздно. Тебе пора узнать ответы на важные вопросы твоей жизни. Откуда мы приехали? Почему столько раз все бросали и срывались с насиженных мест? Кто твой отец и где он? Почему я тебя отослала прочь, а не оставила при себе? Ты должна знать семейную историю, о которой я пишу здесь, и передать ее своим дочерям. Я выросла в Уйпеште, в нескольких милях от Будапешта. Мой отец Янош, твой дед, работал механиком на большом автобусном заводе. Когда мне исполнилось семнадцать, я переехала в Будапешт. По нескольким причинам. Во-первых, в Будапеште молодой женщине было легче найти хорошую службу. Но главная причина, и мне стыдно говорить тебе такое о твоей семье, в том, что мой отец вел себя со своим собственным ребенком как хищный зверь. Он постоянно посягал на меня, когда я была еще слишком мала, чтобы за себя постоять, и окончательно овладел мною, когда мне было тринадцать лет. Моя мать об этом знала, но притворялась, что не знает, и отказывалась меня защищать. В Будапешт я переехала вместе с дядей Ласло, братом моего отца, и тетей Юлишкой, которая устроила меня своей помощницей в том доме, где работала кухаркой. Я научилась готовить и печь и несколько лет спустя заняла место тети Юлишки, когда она слегла в чахотке. На следующий год тетя Юлишка умерла, и дядя Ласло повел себя как мой отец – потребовал, чтобы я заняла ее место в его постели. Я не могла этого вынести, съехала и поселилась отдельно. Мужчины повсюду были хищными – как звери. Все – другие слуги, мальчишкарассыльный, мясник – отпускали сальные шуточки, пялились на меня и пытались лапать, когда я проходила мимо. Даже хозяин пытался залезть ко мне под юбки. Я переехала на бульвар Ваци, дом 23, в центр Будапешта, рядом с Дунаем, и жила там следующие десять лет одна. Куда бы я ни пошла, мужчины глазели на меня и пытались пощупать, когда я проходила мимо, и я защищалась, стягивая мир вокруг себя, делая его все меньше и меньше. Я не вышла замуж и жила своей маленькой и тихой жизнью с кошечкой Цикой. А потом в квартиру этажом выше въехало чудовище – некий Ковач, и с ним его кот Мергеш. Мергеш повенгерски означает «свирепый» (Артемида произнесла это имя с венгерским акцентом – Марегеш40), и этому чудовищу такое имя полностью подходило. Это был злобный, омерзительный черно-белый кот, исчадие ада, он терроризировал мою бедную Цику. Каждый раз она возвращалась домой израненная, вся в крови. Она потеряла один глаз из-за инфекции; одно ухо у нее было наполовину оторвано. А Ковач терроризировал меня. На ночь я баррикадировала двери и закрывала ставни, потому что он бродил вокруг дома и заглядывал во все щели. Когда мы сталкивались в коридоре, он пытался взять меня силой, так что я старалась не попадаться ему на пути. Но я была беспомощна, жаловаться было некому – Ковач был полицейским сержантом. Вульгарный, хищный человек. Я расскажу тебе, что он был за человек. Однажды я отложила на время свою гордость и стала умолять его держать Мергеша взаперти хотя бы час в сутки, чтобы Цика могла спокойно погулять. «С Мергешем все в порядке, – сказал он с презрительной ухмылкой. – Мы с ним похожи: мы оба хотим одного – сладких венгерских кисок!» Да, он согласился удерживать Мергеша дома – за определенную цену. И этой ценой была я! Все было плохо, но когда у Цики начиналась течка, все становилось еще хуже. Не только Ковач, как обычно, рыскал под моими окнами и стучал ко мне в дверь, но еще и Мергеш приходил в бешенство: всю ночь пронзительно орал, выл, царапал мою стену и бросался прямо на мои окна. И как будто Мергеш и Ковач были недостаточным бедствием, Будапешт в то время наводняли огромные дунайские речные крысы. Они оккупировали все окрестности, грабили картофельные и морковные закрома в погребах, забивали кур на задних дворах. Однажды домовладелец помог мне поставить в погребе крысоловку, и в ту же ночь я услышала безбожный вопль. Я взяла свечу и спустилась в погреб. Мне было очень страшно. Что делать с пойманной крысой или крысами? В мерцающем свете свечи я увидела клетку – из-за прутьев выглядывала крыса, огромней и омерзительней которой я не видала даже в страшных снах. Я помчалась обратно вверх по лестнице и решила позвать на помощь чуть позже, когда проснется 40 Одно из значений англ. слова mare – злой дух, вызывающий кошмары. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 117 домовладелец. Но часом позже, когда рассвело, я отважилась вернуться в погреб и посмотреть еще раз. Это была не крыса. Это было гораздо хуже – это был Мергеш! Увидев меня, он зашипел, зафыркал и пытался схватить меня когтями через прутья клетки. Боже, какое чудовище! Я точно знала, что делать, и с огромным удовольствием вылила на него целую бадью воды. Он изошелся шипением, а я подобрала юбки и на радостях трижды прогарцевала вокруг клетки. Но что потом? Что мне было делать с Мергешем, который теперь выл адским голосом? Что-то внутри меня приняло решение независимо от моего сознания. Впервые в жизни я постою за себя. За себя! За всех женщин! Я нанесу ответный удар. Я накрыла клетку старым одеялом, подняла ее за ручку и вышла из дому – улицы были еще пусты, люди спали – и двинулась на вокзал. Я купила билет до Эстергома, это примерно час езды, но потом решила, что это недостаточно далеко, и проехала до самого Сегеда – километров двести41. Сойдя с поезда, я прошла несколько кварталов, остановилась, сняла одеяло с клетки и приготовилась выпустить Мергеша. Я посмотрела на него, и он в ответ полоснул меня острым, как бритва, взглядом. Я вздрогнула. В его диком взгляде было что-то такое – такая ненависть, такая безжалостность, – что я с жуткой уверенностью поняла: мы с Цикой не избавимся от него никогда. Известны случаи, когда животные, увезенные за полконтинента, возвращались домой. Как бы далеко я ни увезла Мергеша, он вернется. Он выследит нас даже с края Земли. Я подняла клетку и прошла еще несколько кварталов, пока не дошла до Дуная. Прошла до середины моста, дождалась, пока никого не будет рядом, и швырнула клетку в воду. Она недолго поплавала, потом стала тонуть. Пока клетка погружалась в воду, Мергеш не сводил с меня глаз и шипел. Наконец Дунай угомонил его, и я подождала, пока не перестали идти пузырьки, пока Мергеш не достиг своей могилы в русле реки, пока я уверилась, что навсегда избавилась от этого адского кота. Потом я села на поезд и поехала домой. На обратном пути я думала про Ковача, про его месть и наполнялась ужасом. Но когда я вернулась, его окна были все еще закрыты ставнями. Он тогда работал по ночам и проспал исход Мергеша, так никогда и не узнав о моем акте неповиновения. Впервые в жизни я ощутила, что свободна... Но ненадолго. В ту ночь я заснула, но через час или два проснулась, услышав вой Мергеша на улице. Это был, конечно, сон, но такой живой и такой отчетливый, что он был реальней моей яви. Я услышала скрежет когтей Мергеша и увидела, что он процарапал дыру в стене моей спальни. Уставившись на крошащуюся стену, я увидела, как в дыру просунулась лапа. Мергеш ворвался ко мне в спальню – он и раньше был большой, но теперь, несомненно, вырос, и стал вдвое, а то и втрое больше прежнего. Насквозь мокрый – с него еще капала грязная дунайская вода – он заговорил. Слова этого чудовища навеки отпечатались у меня в памяти: – Я стар, сволочная ты убийца, – прошипел он, – и уже прожил восемь своих жизней. У меня осталась только одна, и я клянусь здесь и сейчас, что посвящу ее мести. Я буду жить в измерении снов, я хочу не давать покоя ни тебе, ни всем твоим потомкам женского пола. Ты навсегда разлучила меня с Цикой, очаровательной Цикой, великой любовью моей жизни, и уж я позабочусь навсегда разлучить тебя с любым мужчиной, который тобой заинтересуется. Я буду навещать их, когда они будут с тобой, – здесь он зашипел со страшной силой, – и заставлять их бежать от тебя в таком ужасе, что, убежав, они никогда не захотят вернуться – они забудут о самом твоем существовании. Сначала я возликовала. Глупый кот! Коты ведь туповаты, у этих животных мозг с булавочную головку. Мергеш меня вообще не понимал. Его месть замечательна – я никогда не смогу быть с мужчиной дважды! Это не месть, а благословение, превыше которого могло быть только одно – если бы мне вообще запретили быть с мужчинами. Никогда больше не касаться и даже не видеть ни одного мужчины – это был бы просто рай. Автор намеренно или случайно допустил несоответствие «географических точек»: г. Эстергом расположен примерно в 50 километрах к северо-западу от Будапешта на берегу Дуная, а г. Сегед расположен в диаметрально другом конце Венгрии – в 160 километрах к юго-востоку от Будапешта и не на Дунае, как в рассказе, а на берегах р. Тисы. – Прим. ред. 41 Мама и смысл жизни 118 Но скоро я поняла, что Мергеш не тупой, далеко не тупой. Он умел читать мысли, я в этом уверена. Он сел на задние лапы, поглаживая усы, и долго всматривался в меня неестественно огромными красными глазами. Потом провозгласил странным человеческим голосом, словно судья или пророк: – Твои чувства к мужчинам изменятся навечно. С этих пор ты познаешь страсть. Ты уподобишься кошке, и раз в месяц, во время течки, твое желание станет неодолимым. Но ты никогда не утолишь его. Ты будешь удовлетворять мужчин, но сама не получишь удовлетворения, и каждый мужчина, которого ты удовлетворишь, тебя покинет и никогда не вернется, даже не вспомнит о тебе. Ты родишь дочь, и она, и ее дочь, и дочь ее дочери испытают то же, что пережил я и Ковач. И так будет вечно. – Вечно? – спросила я. – Такой долгий приговор? – Вечно, – ответил он. – Что может быть тяжелее преступления, чем разъединить меня навсегда с любовью всей моей жизни? Внезапно осмелев, я, вся дрожа, стала умолять его за тебя, мою еще не рожденную дочь. – Пожалуйста, Мергеш, накажи меня. Тем, что я сделала с тобой, я это заслужила. Я заслужила безрадостную жизнь. Но я молю тебя за моих дочерей и дочерей дочерей. И я низко склонилась перед ним в земном поклоне. – Есть только один выход для твоих потомков. Для тебя выхода нет. – Выход? Какой? – спросила я. – Загладить причиненное зло, – ответил Мергеш, который теперь облизывал языком – огромным, больше моей ладони – свои чудовищные лапы и умывал безобразную морду. – Загладить зло? Как? Что им нужно сделать? – я приблизилась к нему в мольбе. Но Мергеш зашипел и взмахнул когтистой лапой. Я отступила, и он растворился в воздухе. Последнее, что я увидела, были его ужасные когти. Таким, Магда, было мое проклятие. Наше проклятие. Оно меня погубило. Я теряла голову от желания и бежала за мужчинами. Я потеряла работу. Никто не хотел меня нанимать. Домовладелец отказал мне от квартиры. Чтобы выжить, мне пришлось продавать свое тело. И – спасибо Мергешу! – ни один клиент не приходил ко мне дважды. Мужчины, побыв со мной один раз, больше никогда ко мне не приближались: они ничего не помнили про меня, лишь смутно припоминали что-то ужасное, связанное с нашей встречей. Вскоре весь Будапешт меня презирал. Ни один врач мне не верил. Даже знаменитый психиатр Шандор Ференци42 не мог мне помочь. Он сказал, что у меня воспаленное воображение. Я клялась, что говорю правду. Он потребовал доказательств, свидетелей, улик. Но откуда мне было взять доказательства? Ни один мужчина, переспавший со мной, не помнил ни меня, ни сон. Я сказала Ференци, что он получит доказательство, если проведет со мной вечер и увидит все своими глазами. Я обратилась к нему за помощью, потому что он, по слухам, практиковал «поцелуй-терапию»43, но он не пожелал воспользоваться моим приглашением. В конце концов я в отчаянии эмигрировала в Америку, в Нью-Йорк, надеясь – вопреки всякой надежде! – что Мергеш не сможет пересечь океан. Остальное ты знаешь. Через год я зачала тебя. Я не знала, кто твой отец. Теперь ты знаешь, почему. И еще ты теперь знаешь, почему я не держала тебя при себе, почему отослала в интернат. Зная все это, Магда, ты должна решить, что будешь делать, когда закончишь учебу. Конечно, ты всегда можешь приехать ко мне в Нью-Йорк. Что бы ты ни решила, я буду по-прежнему ежемесячно посылать тебе деньги. Больше я никак не могу тебе помочь. Я и себе не могу помочь. Твоя мать Клара Ша н д о р Ф е р е н ц и – известный венгерский психоаналитик (1873 – 1933). Был – наряду с К. Г. Юнгом – членом внутреннего психоаналитического круга 3. Фрейда. В своих исследованиях, в частности, пришел к выводу, что свидетельства пациентов о пережитом в детские годы насилии в семье правдивы, после проверки их при работе с другими пациентами из той же семьи. – Прим. ред. 43 Когда в 1931 году Ференци изменил методики Фрейда, предложив создать аналитическую ситуацию, в которой аффективное состояние пациента могло бы выражаться более свободно, Фрейд саркастически откликнулся: «Вы не делаете секрета из того факта, что целуете своих пациентов и позволяете им целовать вас... вследствие опубликования вашей методики... еще более радикальные революционеры... зададут себе вопрос: зачем ограничиваться только поцелуями?» – Прим. ред. 42 Мама и смысл жизни 119 Артемида бережно сложила письмо, сунула обратно в папку и посмотрела на Эрнеста. – Теперь ты знаешь про мою бабушку. И про меня. Эрнеста потрясла эта невероятная история, которую ему только что рассказали, но одновременно его отвлекал доносившийся до него со стола дурманящий запах пикантных китайских блюд. Все это время, пока Артемида читала, Эрнест украдкой поглядывал на пар, идущий от остывающих контейнеров, но, хоть и умирал с голоду, выдержал приличия и не стал есть. Теперь уже можно. Он передал Артемиде пророщенный горох и вонзил палочки в говядину с грибами. – А что было с твоей матерью, Артемида? – спросил он, громко и с удовольствием жуя чуть хрустящий, но удивительно мясистый китайский гриб. – Она ушла в монастырь, но через несколько лет ее выгнали за ночные блуждания. Тогда она занялась тем же промыслом, что и бабушка. Она отослала меня в школу, а когда мне было пятнадцать лет, покончила с собой. Это письмо отдала мне бабушка. Она пережила мою мать на двадцать лет. – А способ снять проклятие, о котором говорил Мергеш, – исправить это зло – вы выяснили, что он имел в виду? – Мать и бабушка ломали над этим голову много лет, но так и не разгадали эту тайну. Бабушка консультировалась у другого врача, доктора Брилла44, известного нью-йоркского психиатра. Но он расценил, что у нее утрачена связь с реальностью, поставил ей диагноз «истерический психоз» и посоветовал лечиться покоем по методу Вейра 45, провести год-два в абсолютном покое в санатории. Если принять во внимание состояние финансов моей бабушки и природу проклятия Мергеша, то становится очевидным, что это у доктора Брилла была утрачена связь с реальностью. Когда Артемида начала убирать со стола, Эрнест остановил ее: – Успеем еще. – Может быть, – голос Артемиды был напряженным и зажатым, – Эрнест, теперь, когда мы поужинали, ты захочешь пойти со мной наверх. Она помолчала и добавила: – Ты теперь знаешь, что я не могу удержаться, чтобы не попросить об этом. – Извини, – сказал Эрнест, поднимаясь и направляясь к двери. – Тогда до свидания, – крикнула ему в спину Артемида. – Я знаю. И все понимаю. Не надо извинений. Ты не виноват. – Что ты понимаешь? – спросил Эрнест, оборачиваясь в дверях. – Куда я, по-твоему, иду? – Ты намерен убраться как можно дальше. И разве можно тебя осуждать? Я знаю, почему ты уходишь. И я понимаю, Эрнест. – Ну вот, видишь, Артемида, я же тебе говорил, что ты знаешь меньше, чем думаешь. Я ухожу лишь на двадцать футов – к машине, за сумкой, хочу принести свои ночные принадлежности. Когда он вернулся, Артемида наверху принимала душ. Эрнест убрал со стола, упаковал оставшуюся еду, взял сумку и пошел наверх. Следующий час в спальне доказал одно: тушеные лисички ни при чем. Все было так же, как и в прошлый раз. Жаркое упоенное желание, кошачье вылизывание, чувственный язык, оргазм, который постепенно – как салют в День независимости – нарастал, пока не достиг своего пиротехнического апогея, раскаленные добела римские свечи, рев гаубицы. На несколько секунд Эрнеста посетили сверхъестественно яркие воспоминания: все прошлые оргазмы его жизни изверглись со свистом из него – многолетние выплескивания в елозящую ладонь, в полотенца, в А б р а х а м А р д е н Б р и л л ( 1 8 7 4 – 1948), американский психоаналитик австрийского происхождения, был хорошо знаком с Фрейдом и работал под его руководством. В 1908 – 1910 гг. был единственным врачом-психоаналитиком в США. Изданная в 1909 г. на английском языке книга Фрейда «Исследования истерии» стала первым из десяти переводов Бриллом трудов основоположника психоанализа. – Прим. ред. 45 С а й л а с В е й р М и т ч е л л ( 1 8 2 9 — 1914) – врач, один из основоположников невропатологии в США. Его именем назван ряд описанных им синдромов, а также разработанный им в 1877 году метод лечения неврозов (полный покой, специальная диета, массаж). Кроме того, был писателем: в его поэмах, повестях, рассказах нашел отражение его медицинский опыт. – Прим. ред. 44 Мама и смысл жизни 120 раковины, потом – череда пышногрудых любовниц, прекрасных утешительных сосудов, в которые он выплескивал заботы своей жизни. Благодарность! Благодарность! А потом чернота – он провалился в мертвый сон. Эрнест проснулся от воя Мергеша. Он снова почувствовал, как трясется комната; снова – скрежет и царапание в стену дома. Забрезжил страх, но Эрнест быстро встал с кровати, энергично встряхнул головой и глубоко вдохнул – хладнокровно открыл окно, выглянул и крикнул: «Сюда, сюда, Мергеш. Побереги когти. Окно открыто». Внезапная тишина. Потом в комнату впрыгнул Мергеш, раскромсав на полосы тонкие льняные занавески. Он шипел, его голова вздымалась, красные его глаза пылали, сверкающие когти выдвигались, он кружил вокруг Эрнеста. – Я ждал тебя, Мергеш. Может быть, присядешь? Эрнест уселся в массивное кресло из капа красного дерева рядом с ночным столиком, за пределами которого простиралась темнота. Кровать, Артемида и остальная часть комнаты исчезли. Мергеш перестал шипеть. Он смотрел на Эрнеста – слюна стекает с клыков, мышцы напряжены. Эрнест полез в свою сумку. – Может, съешь чего-нибудь, Мергеш? – спросил он, открывая принесенные наверх контейнеры, оставшиеся с ужина. Мергеш осторожно заглянул в первый контейнер. – Говядина с грибами! Ненавижу грибы. Потому она их всегда и готовит. Рагу из лисичек! – Эти последние слова он произнес повышенным тоном, передразнивая Артемиду, потом повторил: – Рагу из лисичек! Рагу из лисичек! – Ну, ну, ну, – сказал Эрнест успокаивающе и монотонно, как иногда говорил на терапевтических сессиях. – Давай я выберу для тебя кусочки мяса. О боже, мне так жаль! Я мог взять целую запеченную треску. Или утку по-пекински. Даже фрикадельки по-хунаньски. А может, свинину «Шу мей». Или курицу со свининой. Или говядину «Минь». Или... – Ладно, ладно, – рыкнул Мергеш. Он набросился на кусочки говядины и проглотил их одним махом. Эрнест продолжал на той же ноте: – Или я мог бы взять ассорти из даров моря, или соленые креветки, или целого жареного краба, или... – Мог бы, мог бы, мог бы, но ведь не взял же! А если бы и взял, так что? Что ты думаешь? Что загладишь зло затхлыми объедками? Что я довольствуюсь остатками с ужина? Что я не что иное, как звериный аппетит? Мергеш и Эрнест с минуту молча вглядывались друг в друга. Потом Мергеш кивнул на контейнер с куриными рулетиками и кинзой в салатных розетках. – А это что? – Называется – куриные рулетики. Очень вкусно. Давай я тебе выберу курицу. – Не надо, оставь, – сказал Мергеш, выбивая контейнер из рук у Эрнеста. – Я люблю зелень. Я из семьи баварских травоедов. Тяжело найти хорошую траву, не пропитанную собачьей мочой. Он сожрал курицу с кинзой и дочиста вылизал салатные розетки. – Неплохо. Так значит, ты мог взять жареного краба? – Жаль, что не взял, но я и так набрал слишком много мяса. А оказалось, что Артемида – веганка. – Веганка? – Да. Это вегетарианцы, которые вообще не едят животных продуктов, даже молочных. – Значит, она не только сволочная убийца, но еще и дура. И напоминаю тебе – ты тоже дурак, если думаешь устранить проклятье, ублажая мой желудок. – Нет, Мергеш, я так не думаю. Но я прекрасно понимаю, почему ты подозрительно относишься ко мне и к любому человеку, который подходит к тебе по-дружески. С тобой плохо обращались всю жизнь. Мама и смысл жизни 121 – Все жизни, а не всю жизнь. Я прожил восемь, и все они, без исключения, кончились одинаково – ужасным зверством и убийством. Погляди на последнюю! Артемида меня убила! Посадила в клетку и невозмутимо швырнула в реку, и смотрела, как я медленно погружаюсь, пока грязная дунайская вода не залила мне ноздри. Последнее, что я видел в той жизни – ее торжествующий взгляд, в то время как мой последний выдох поднимался пузырьками на поверхность. А ты знаешь, в чем было мое преступление? Эрнест покачал головой. – Мое преступление было в том, что я был котом. – Мергеш, ты не обычный кот. Ты необыкновенно умный кот. Надеюсь, я могу говорить с тобой откровенно. Мергеш, вылизывавший контейнер из-под куриных рулетиков, прорычал в знак согласия. – Я должен сказать тебе две вещи. Во-первых, конечно же, ты понимаешь, что тебя утопила не Артемида. Это была ее бабушка Клара, которая уже давно умерла. Во-вторых... – Для меня они пахнут одинаково. Артемида – это Клара в следующей жизни. Разве ты не знал? Эрнеста застигли врасплох. Ему нужно было время, чтобы подумать, и он просто продолжил свою мысль: – Во-вторых, Клара не ненавидела кошек. На самом деле она даже любила кошку. Она не убийца: она пыталась спасти жизнь Цики, своей дорогой кошки, и потому так поступила с тобой. Ответа не было. Эрнест слышал дыхание Мергеша. Может быть, подумал он, я слишком сильно ему противоречу, не проявляю достаточно эмпатии? – Но, – осторожно сказал он, – может быть, все это не важно. Я думаю, нам следует сосредоточиться на том, что ты сказал минуту назад – твое единственное преступление в том, что ты кот. – Точно! Я делал то, что делал, потому что я кот. Коты защищают свою территорию, нападают на других кошек, которые им угрожают, а лучшие коты – те, которых распирает кошачья природа, – ничему, ничему не позволят встать у них на пути, когда учуют сладкий мускусный запах кошки в течке. Я лишь следовал своей кошачьей природе. Эрнест задумался над словами Мергеша. Ведь это же, по сути, любимая Эрнестом максима Ницше: «Стань тем, кто ты есть». Разве Мергеш не прав? Ведь он просто реализовывал свой кошачий потенциал? – Был один знаменитый философ, – начал Эрнест, – то есть мудрый человек, мыслитель... – Я знаю, что такое философ, – сердито перебил кот. – В одной из своих первых жизней я жил во Фрайбурге и по ночам захаживал в дом Мартина Хайдеггера. – Ты знал Хайдеггера? – изумился Эрнест. – Нет, нет. Его кошку, Ксантиппу. Вот это была штучка! Цика, конечно, тоже горяча, но с Ксантиппой ей не сравниться. Это было много жизней назад, но я до сих пор помню армию тевтонских забияк-тяжеловесов, с которыми мне пришлось биться за Ксантиппу. Когда у Ксантиппы начиналась течка, коты приходили аж из самого Марбурга! Вот это были деньки! – Мергеш, позволь мне закончить, – Эрнест пытался не дать себя отвлечь. – Тот знаменитый философ, про которого я думаю – тоже немец, – он часто говорил, что человек должен стать тем, кто он есть, исполнить предназначенное судьбой, реализовать свой потенциал. Ведь ты же именно это и делал? Ты следовал главному зову своей кошачьей природы. Разве это преступление? При первых словах Эрнеста Мергеш открыл пасть, чтобы возразить, но медленно закрыл, когда сообразил, что Эрнест с ним соглашается. Кот начал с силой вылизывать себя широкими мазками. – Тем не менее, – продолжал Эрнест, – здесь есть сомнительный парадокс – фундаментальный конфликт интересов. Он в том, что Клара делала ровно то же, что и ты, – становилась собой. Она по природе своей вскармливала, воспитывала, защищала, заботилась, и не было в целом мире никого для нее важнее, чем эта кошка. Клара хотела только защитить Цику и обеспечить ей безопасность. Поэтому все, что делала Клара, она делала, повинуясь велению своей основополагающей любящей сущности. – Хмммф! – презрительно усмехнулся Мергеш. – Ты знаешь, что Клара отказалась Мама и смысл жизни 122 спариться с моим хозяином, Ковачем? А ведь он был очень сильный мужчина! Только потому, что Клара ненавидела мужчин, она решила, что Цика ненавидит котов. Поэтому никакого парадокса нет. Клара действовала не в интересах Цики, а под влиянием своих заблуждений насчет того, чего хочет Цика. Поверь мне, когда у Цики была течка, ей так хотелось ко мне! Клара была неописуемо жестока, не пуская нас друг к другу. – Но Клара боялась за жизнь своей кошки. У Цики было много тяжелых ран. – Ран? Ран? Это просто царапины. У нас мужчины запугивают и подчиняют себе женщин. Коты задирают насмерть других котов. Так мы ухаживаем. Это – кошачья сущность. Мы – коты. Кто такая Клара, и кто такой ты, чтобы оценивать и осуждать кошачью природу? Эрнест сдал позиции. Здесь уже ничего не сделаешь, решил он. И попробовал другую кнопку. – Мергеш, ты пару минут назад сказал, что Артемида и Клара – одно и то же, и поэтому ты продолжал преследовать Клару. – Мой нос не лжет. – Когда в одной из своих предыдущих жизней ты умирал, ты некоторое время оставался мертвым, прежде чем входил в другую, правильно? – Лишь на миг. Потом рождался уже в новой жизни. Не спрашивай, как. Есть вещи, о которых даже коты не знают. – Ну, даже если так, все равно, ты уверен, что ты – в одной жизни, потом прекращаешь жить, потом переходишь в другую. Верно? – Да, да, не тяни! – прорычал Мергеш. Как всем, кто проживает уже девятую жизнь, ему быстро надоедало обсуждение семантических тонкостей. – Но Артемида и ее бабушка Клара были живы одновременно в течение нескольких лет и часто разговаривали друг с другом. Как же тогда Артемида и Клара могут быть одним и тем же человеком в разных жизнях? Это невозможно. Я не сомневаюсь в твоем нюхе, но, может быть, они для тебя одинаково пахнут, потому что они родственницы? Мергеш молча обдумывал замечание Эрнеста, продолжая чистить себя. Он лизал массивную лапу и протирал ею морду. – Я просто думал, Мергеш, может быть, ты не знаешь, что у нас, людей, только одна жизнь? – Отчего ты в этом так уверен? – Ну, по крайней мере, мы так считаем. А разве это не главное? – Может быть, у вас тоже много жизней, только вы об этом не знаете. – Ты говоришь, что помнишь свои другие жизни. Мы – не помним. Если мы входим в новую жизнь и не помним старую, все равно это значит, что эта жизнь – моя нынешняя жизнь, осознание, которое во мне прямо сейчас, – возьмет и исчезнет. – К делу! К делу! – прорычал зверь. – Давай. А то ты все говоришь и говоришь. – Дело в том, что твоя месть оказалась чрезвычайно эффективной. Это была хорошая месть. Она погубила остаток жизни Клары, одной и единственной жизни. Клара жила в горе и страдании. А ее преступление лишь в том, что она взяла одну из твоих девяти жизней. Ее единственная жизнь за одну из твоих девяти. Мне кажется, она многократно расплатилась. Твоя месть завершена. Доска вытерта. Зло искуплено. Довольный такой убедительной формулировкой, Эрнест торжествующе откинулся на спинку стула. – Нет, – прошипел Мергеш, сверкая глазами от злости и ударяя по полу мощным хвостом. – Нет, месть не завершена! Не завершена! Зло не было искуплено! Я буду мстить дальше и дальше! Кроме того, меня устраивает такая жизнь. Эрнест не позволил себе вздрогнуть. Он отдохнул несколько секунд, поймал второе дыхание и начал снова – с другого угла. – Ты говоришь, тебя устраивает такая жизнь. Может быть, ты мне расскажешь, как ты живешь? Как обычно проходит твой день? Спокойствие Эрнеста, кажется, передалось и Мергешу. Он расслабился, перестал сверкать глазами, сел на задние лапы и невозмутимо ответил: – Мой день? Без особых происшествий. Я не слишком запоминаю свою жизнь. – Что же ты делаешь весь день? Мама и смысл жизни 123 – Я жду. Жду, пока меня не позовет сон. – А между снами? – Я же говорю тебе. Я жду. – И это все? – Я жду. – Это и есть твоя жизнь, Мергеш? И она тебя устраивает? Мергеш кивнул. – Если принять во внимание альтернативу, – сказал он, грациозно перевернулся на спину и принялся вылизывать брюхо. – Альтернативу? Ты имеешь в виду – не жить? – Девятая жизнь – последняя. – И ты хочешь, чтобы эта последняя жизнь продолжалась и не кончалась. – А ты разве не хочешь? Есть такой, кто не хочет? – Мергеш, меня поражает противоречивость в том, что ты говоришь. – Коты – чрезвычайно логичные существа. Иногда это трудно оценить, из-за того, что мы способны молниеносно принимать решения. – Твоя противоречивость вот в чем. Ты говоришь, что хочешь, чтобы твоя девятая жизнь продолжалась вечно. Но, по сути, ты не живешь эту девятую жизнь. Ты просто существуешь в каком-то бесчувствии, спячке. – Не живу девятую жизнь? – Ты же сам сказал: ты ждешь. Я тебе скажу, что пришло мне в голову. Один знаменитый психолог однажды сказал: «Некоторые люди отказываются брать жизнь взаймы, чтобы не оказаться в долгу у смерти»46. – О чем ты? Говори понятно, – сказал Мергеш, который к этому времени перестал вылизывать брюхо и снова сел на задние лапы. – Это значит, что ты так боишься смерти, что не позволяешь себе войти в жизнь. Как будто боишься ее израсходовать. Помнишь, чему ты меня учил несколько минут назад – о сути кошачьей природы? Скажи мне, Мергеш, какую территорию ты сейчас защищаешь? Где те коты, с которыми ты борешься? Где похотливые, воющие самки, которых ты покоряешь? И почему, – Эрнест выделял голосом каждое слово, – ты позволяешь драгоценному семени Мергеша пропадать втуне? Пока Эрнест говорил, Мергеш все ниже склонял голову. Потом угрюмо спросил: – А у тебя только одна жизнь? Сколько ты уже прожил? – Примерно половину. – Как ты это выносишь? Вдруг Эрнест почувствовал острый приступ печали. Он достал салфетку, оставшуюся от китайского ужина, и вытер глаза. – Мне жаль, – неожиданно мягко сказал Мергеш. – Я причинил тебе боль. – Вовсе нет. Я был готов к этому. Мы неизбежно должны были свернуть на эту тему, – сказал Эрнест. – Ты спрашиваешь, как я это выношу? Прежде всего, стараюсь об этом не думать. И действительно, порой получается даже забывать. В моем возрасте это не очень трудно. – В твоем возрасте? Что это значит? – Мы, люди, проходим жизнь в несколько стадий. В раннем детстве мы много думаем о смерти. У некоторых она даже становится навязчивой идеей. Обнаружить существование смерти нетрудно. Мы просто оглядываемся вокруг и видим мертвое: сухие листья, увядшие лилии, дохлых мух и жуков. Домашние животные умирают. Мы едим мертвых животных. Иногда мы оказываемся посвящены в смерть близкого человека. И вскоре мы понимаем, что смерть настигнет всех – бабушку, маму и папу, даже нас. Мы размышляем над этим наедине с собой. Наши родители и учителя, думая, что детям вредно думать о смерти, молчат о ней или рассказывают нам сказочки про рай и ангелов, бессмертные души, вечное воссоединение на небесах. Эрнест остановился, надеясь, что Мергеш его хорошо понимает. – А потом? – Да, Мергеш все правильно понимал. – Мы соблюдаем правила этикета. Мы выталкиваем смерть из сознания или открыто 46 Это высказывание Отто Ранка. – Прим. ред. Мама и смысл жизни 124 игнорируем ее, совершая безрассудные подвиги. А потом, перед тем как стать взрослыми, мы опять начинаем много думать о смерти. Некоторые не могут этого перенести и отказываются жить дальше, но большинство заслоняет свое осознавание смерти погружением во взрослые дела – строит карьеру и семью, занимается личностным ростом, приобретает имущество, пользуется своим влиянием, выигрывает гонку. Я сейчас как раз в этой точке. После этого – стадия, на которой мы вступаем в последний период жизни, где осознавание смерти опять выходит на поверхность, но теперь угроза смерти уже отчетлива и бесспорна – по сути, неизбежна. В этот момент у нас есть выбор – или много думать о смерти и пытаться получить максимум от жизни, которая нам еще осталась, или различными способами притворяться, что смерть никогда не придет. – А лично ты? Притворяешься, что смерть не придет? – Нет, правда, у меня не получится. Я психиатр, я разговариваю с людьми, которые страшно боятся жизни и смерти, и я вынужден все время смотреть правде в лицо. – Тогда позволь мне снова спросить, – голос Мергеша теперь был тихим и усталым, в нем больше не было угрозы, – как ты это выносишь? Как ты можешь получать удовольствие от чего бы то ни было в жизни, от любых действий, когда впереди маячит смерть и у тебя только одна жизнь? – Я поставлю этот вопрос по-другому. Может быть, именно смерть делает жизнь более живой, более драгоценной. Факт смерти дарует делам жизни особую остроту, качество горькой радости. Да, может, это и правда, что ты, живя в измерении снов, становишься бессмертным, но твоя жизнь, мне кажется, насквозь пропитана тоской. Когда я попросил тебя описать свою жизнь, ты ответил одной фразой: «Я жду». И это жизнь? Разве ждать – значит жить? Мергеш, у тебя еще осталась одна жизнь. Почему не прожить ее сполна? – Не могу! Не могу! – сказал Мергеш, склоняя голову еще ниже. – Мысль о том, что не будешь больше существовать, не будешь среди живых, о том, что жизнь пойдет без меня – это... это... просто слишком ужасно. – Значит, суть проклятия не в вечной мести, так? Ты используешь проклятие для того, чтобы растянуть свою последнюю жизнь навсегда. – Это просто слишком ужасно – взять и кончиться. Не быть. – Я знаю по опыту своей работы, – сказал Эрнест, протягивая руку и поглаживая огромную лапу Мергеша, – что больше всего страшатся смерти те, кто подходит к ней с большим запасом непрожитой жизни. Лучше использовать всю жизнь. Не оставить смерти ничего, кроме отбросов, ничего, кроме выжженного изнутри замка. – Нет, нет, – стонал Мергеш, мотая головой. – Это просто слишком ужасно. – Почему так ужасно? Давай проанализируем. Что именно настолько страшно в смерти? Ты ее уже испытал не один раз. Ты сказал, что время каждой из твоих жизней заканчивалось, и был короткий интервал, прежде чем начиналась следующая. – Да, это верно. – Что ты помнишь об этих кратких моментах? – Совершенно ничего. – Но разве не в этом дело, Мергеш? Твой страх смерти вызван в основном представлениями о том, каково быть мертвым и знать, что тебе никогда больше не суждено быть среди живых. Но когда ты мертв, у тебя нет сознания. Смерть гасит сознание. – Это ты меня так утешаешь? – прорычал Мергеш. – Ты спросил, как я это выношу. Это один из моих ответов. Еще мне всегда помогала максима другого философа, который жил очень, очень давно: «Когда есть смерть, меня нет. Когда я есть, смерти нет». – Это чем-нибудь отличается от «уж раз ты мертв, ты мертв»? – Да, очень большая разница. В смерти нет «тебя». «Ты» и «смерть» не могут сосуществовать. – Тяжело, тяжело, – едва слышно сказал Мергеш, склонив голову почти до полу. – Позволь, я расскажу тебе еще об одной точке зрения, которая мне помогает. Я это вычитал у русского писателя... – Эти русские... ничего веселого они не скажут. Мама и смысл жизни 125 – Слушай. Г оды, века, тысячелетия прошли до того, как я родился. Верно? – Не возразишь, – устало кивнул Мергеш. – И после моей смерти пройдут тысячелетия. Правильно? Мергеш опять кивнул. – Поэтому я представляю свою жизнь искрой, промелькнувшей меж двух бескрайних и одинаковых омутов тьмы – тьмы, существовавшей до моего рождения, и тьмы, последующей после моей смерти. Это, кажется, попало в точку. Мергеш слушал изо всех сил, навострив уши. – А разве тебя, Мергеш, не поражает то, как мы боимся последней тьмы и насколько мы равнодушны к первой? Вдруг Мергеш встал и разинул пасть в чудовищном зевке, его клыки слабо блеснули в лунном свете, струящемся из окна. – Я, пожалуй, свалю отсюда, – объявил он и тяжелой, некошачьей походкой побрел к окну. – Стой, Мергеш, это еще не все! – На сегодня хватит. Много, над чем подумать, – даже для кота много. В следующий раз, Эрнест, жареный краб. И побольше этой курицы с травой. – В следующий раз? О чем ты, Мергеш? Следующий раз... Разве я не искупил причиненное тебе зло? – Может, да, а может, и нет. Я же тебе сказал, слишком много всего надо обдумать. Все, я ушел! Эрнест плюхнулся обратно в кресло. Он был исчерпан до дна, его терпение закончилось. Никогда еще он не проводил такой нервораздирающей и изнурительной сессии. И теперь оказывается, что все зря! Глядя, как Мергеш плетется прочь, Эрнест пробормотал про себя: «Идииди!» А потом добавил: «Geh Gesunter Heit» – ту презрительную фразу матери на идиш. Тут Мергеш остановился как вкопанный и повернул обратно. – Я слышал. Я умею читать мысли. «Ой-е-ей», – подумал Эрнест. Но держал голову высоко и смотрел на приближающегося Мергеша. – Да, я тебя слышал. Ты сказал «Geh Gesunter Ней». И я знаю, что это значит, – разве ты не знал, что я хорошо говорю по-немецки? Ты меня благословил. Хотя ты и не думал, что я услышу, ты пожелал мне уйти в добром здравии. И я тронут твоим благословением. Очень тронут. Я знаю, что тебе пришлось из-за меня пережить. Я знаю, как сильно ты хочешь освободить эту женщину – не только ради нее, но и ради себя самого. И даже после всех жутких усилий, даже не зная, удалось ли тебе искупить причиненное зло, тебе все равно хватило благосклонности и чуткого уважения пожелать мне здоровья. Это, может быть, самый щедрый дар в моей жизни. Прощай, друг. – Прощай, Мергеш, – сказал Эрнест, глядя, как кот удаляется, уже бодрее, грациозной кошачьей походкой. «Это мне кажется, – подумал Эрнест, – или действительно он сильно уменьшился?» – Может, еще встретимся, – сказал Мергеш, не сбиваясь с шага. – Я подумываю осесть в Калифорнии. – Даю слово, Мергеш, – крикнул Эрнест ему вслед. – Буду тебя хорошо кормить. Жареный краб и кинза каждую ночь. Опять – темнота. Следующее, что увидел Эрнест, было розовое свечение восхода. «Теперь я знаю, что такое «ночь после трудного дня», – подумал он, сел в кровати, потянулся и стал любоваться спящей Артемидой. Он был уверен, что Мергеш покинет измерение снов. А остальная часть кошачьего проклятия? Они про это не говорили. Несколько минут Эрнест обдумывал перспективы – связь с женщиной, которая так часто бывает сексуально дикой и ненасытной. Он тихо выскользнул из кровати, оделся и пошел вниз. Артемида, услышав его шаги, крикнула: – Эрнест, нет! Что-то изменилось. Я свободна. Я знаю. Я чувствую. Не уходи, пожалуйста. Теперь это не нужно! – Я вернусь с завтраком. Десять минут, – крикнул Эрнест от парадной двери. – Мне срочно нужен рогалик, обсыпанный семечками, и сливочный сыр. Вчера я видел тут поблизости магазин. Мама и смысл жизни 126 Он как раз открывал дверь машины, когда распахнулось окно спальни и послышался голос Артемиды. – Эрнест, Эрнест, не забудь, я веганка. Никакого сливочного сыра. Возьми мне... – Я знаю. Авокадо. Я запомнил. От автора В этой книге я пытался быть одновременно рассказчиком и учителем. В случаях, когда эти две роли противоречили друг другу и мне приходилось выбирать: или вставить сочный педагогический комментарий, или поддержать драматический ход рассказа, – я почти всегда решал в пользу рассказа и пытался выполнять свою учительскую миссию косвенным образом, через беседу. Читатели, заинтересованные в дальнейшем обсуждении, могут обратиться к моему вебсайту: www.yalom.com. Там я привожу нужные ссылки на профессиональную литературу и обсуждаю ряд технических аспектов этих шести историй: конфиденциальность информации о пациентах, грань между художественной и документальной литературой, терапевтические отношения, внеисторичный подход «здесь и сейчас», терапевтическую прозрачность, экзистенциальные подходы к терапии и динамику переживания тяжелой утраты. Благодарим Вас за интерес, проявленный к проекту! Другие материалы всегда доступы на сайте. Развивайтесь в поле мысли и речи..