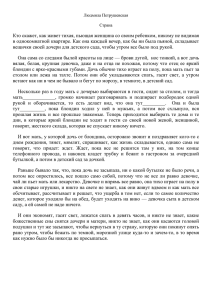И – Можно начинать - Женщины. Память. Война.
advertisement
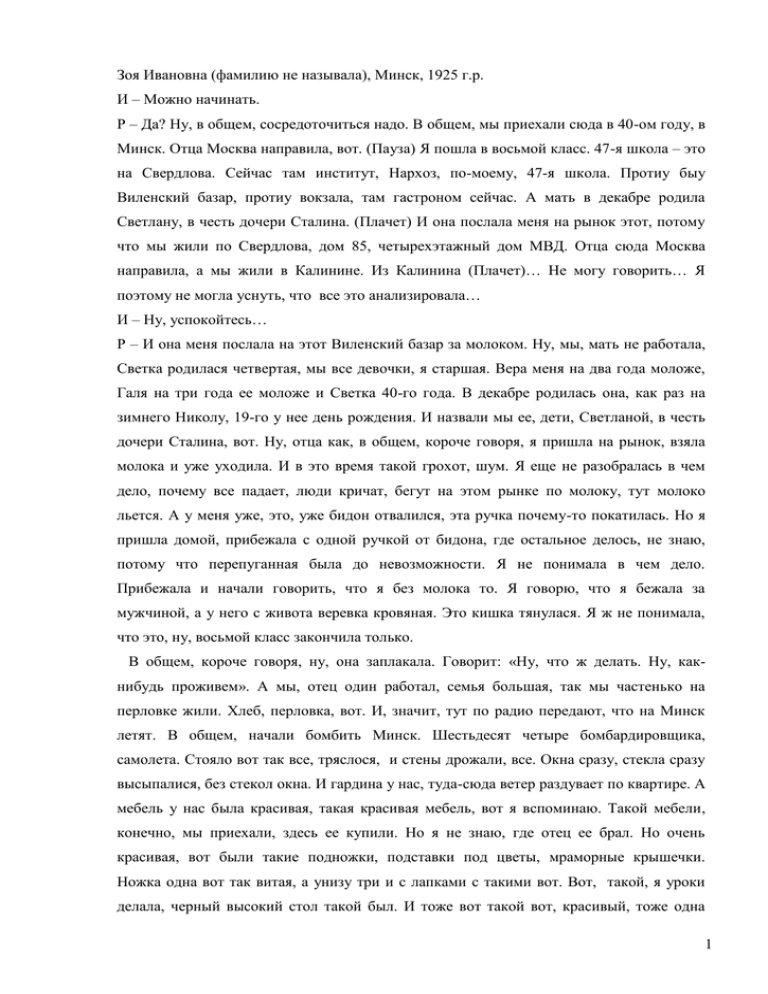
Зоя Ивановна (фамилию не называла), Минск, 1925 г.р. И – Можно начинать. Р – Да? Ну, в общем, сосредоточиться надо. В общем, мы приехали сюда в 40-ом году, в Минск. Отца Москва направила, вот. (Пауза) Я пошла в восьмой класс. 47-я школа – это на Свердлова. Сейчас там институт, Нархоз, по-моему, 47-я школа. Протиу быу Виленский базар, протиу вокзала, там гастроном сейчас. А мать в декабре родила Светлану, в честь дочери Сталина. (Плачет) И она послала меня на рынок этот, потому что мы жили по Свердлова, дом 85, четырехэтажный дом МВД. Отца сюда Москва направила, а мы жили в Калинине. Из Калинина (Плачет)… Не могу говорить… Я поэтому не могла уснуть, что все это анализировала… И – Ну, успокойтесь… Р – И она меня послала на этот Виленский базар за молоком. Ну, мы, мать не работала, Светка родилася четвертая, мы все девочки, я старшая. Вера меня на два года моложе, Галя на три года ее моложе и Светка 40-го года. В декабре родилась она, как раз на зимнего Николу, 19-го у нее день рождения. И назвали мы ее, дети, Светланой, в честь дочери Сталина, вот. Ну, отца как, в общем, короче говоря, я пришла на рынок, взяла молока и уже уходила. И в это время такой грохот, шум. Я еще не разобралась в чем дело, почему все падает, люди кричат, бегут на этом рынке по молоку, тут молоко льется. А у меня уже, это, уже бидон отвалился, эта ручка почему-то покатилась. Но я пришла домой, прибежала с одной ручкой от бидона, где остальное делось, не знаю, потому что перепуганная была до невозможности. Я не понимала в чем дело. Прибежала и начали говорить, что я без молока то. Я говорю, что я бежала за мужчиной, а у него с живота веревка кровяная. Это кишка тянулася. Я ж не понимала, что это, ну, восьмой класс закончила только. В общем, короче говоря, ну, она заплакала. Говорит: «Ну, что ж делать. Ну, какнибудь проживем». А мы, отец один работал, семья большая, так мы частенько на перловке жили. Хлеб, перловка, вот. И, значит, тут по радио передают, что на Минск летят. В общем, начали бомбить Минск. Шестьдесят четыре бомбардировщика, самолета. Стояло вот так все, тряслося, и стены дрожали, все. Окна сразу, стекла сразу высыпалися, без стекол окна. И гардина у нас, туда-сюда ветер раздувает по квартире. А мебель у нас была красивая, такая красивая мебель, вот я вспоминаю. Такой мебели, конечно, мы приехали, здесь ее купили. Но я не знаю, где отец ее брал. Но очень красивая, вот были такие подножки, подставки под цветы, мраморные крышечки. Ножка одна вот так витая, а унизу три и с лапками с такими вот. Вот, такой, я уроки делала, черный высокий стол такой был. И тоже вот такой вот, красивый, тоже одна 1 ножка толстая только и опять здесь такие лапочки. Черный лакированный, смотришь и себя видишь, вот такой. Очень красивая мебель. Шкафы были, два шкафа, диван был красивый, кровати красивые. У нас была очень красивая мебель. Ну, нашу мебель, мы уже после, когда вернулися, так узнали. Соседка вывезла нашу мебель в Негорелое. Она сама с Негорелова, Мария Воропай. Я знаю ее имя и фамилию, и детей ее. Ну, вот заходила к ним, и маленький сидит на окне мальчик. Я не знаю, сколько ему, я не вникала. Но уже немножко говорил, значит, так немцы отбомбили и улетели. Но все это разбито, но крыша еще была. И мы еще и ночевали ночь. А этот маленький сидит на окне и кричит: «Хауманцы пришли, хауманцы!» Так интересно, маленький, «хауманцы», говорить не может, вот. Мы ночь переночевали, и назавтра пришла машина, начали нас грузить, нашу семью, там, еще. В общем, машины три пришло. И вывезли нас на правительственные дачи, в Дрозды. Отец домой не пришел, мы его и не видели, вот как ушел на работу – и все. Вот, а его уже сразу. И он все время пробыл у разведке, у армии, у разведке. Ну, а почему его Москва сюда из Калинина прислали вот, в Минск, почему – не знаю. Этого он не рассказывал, потому что все там с матерью пошушукаются, ну, чтоб мы не слышали. Он очень хороший был разведчик, следователь какой-то там. Ну, в общем, ну, пробыли мы в этих Дроздах неделю. Есть то нечего, спали на полу без подушек, без всего. Какие там постели, там пустые стены и все, ничего ж там не было, вот. И мать говорит: «Надо уходить, уходите, а то здесь все погибнем». Там же река рядом, речка, вот, ходили мыться на нее, на эту. Но Минск горел. Минск горел, вот как теперь вот такой вот был свет, там вот, в Дроздах. Хоть иголки собирай, такое пламя страшное, такое пламя страшное! Выйдешь – вот так вот трясет тебя от испугу, то этой, страшно увидеть такое. Вот и нас она повела назад. Ну, видимо, я не знаю, мать не знала, где на Москву дорога, не знаю. Почему-то она нас повела на Могилев. Мы прошли через парк Горького, мы ж на Свердлова там, пересечь речку, и наш дом виден на горке. И мы хотели зайти, но мать стала и говорит: «Нет. Назад дороги нет». Уже наш дом стоит без крыши, весь черный. Уже крыша сгорела уже, все это рухнуло. И мы так и пошли по речке. По речке пошли вон туда, на Ворошилова этой там и по этой улице, где трамвай ходил и пошли на Могилевку. Вышли и пошли на Могилевку, значит. Сколько мы прошли, я не знаю. Где мы ночевали – не помню. Мы ночевали обычно в лесу, под елочками где-нибудь там, поломаем лапок, постелем и спим. А ночи то холодные, вот. А у нас же Светка, ей полгодика. И я эту Светку, сестру, все несла на себе, на своем животе. Ну, восемь классов кончила, уже барышня, ну, уже шестнадцать 2 лет. Мать говорит: «Несите Светку». А она уже несет узлы там. И Светкины пеленки, и Светкину одежду, и Светкино это все. И мы уже тут с Верой, Вера на два года меня моложе, но она худенькая такая, маленькая. Я покажу фотокарточки кое-какие, тут сохранила. И – Да, конечно. Р – А мой муж весь альбом уничтожил, вот наше детство, наше, вот мое детство – все поуничтожил. И свое, он был больной, у него сахарный диабет и псориаз, и он был очень агрессивный такой. И он все уничтожал, все разбивал, все отдавал кому-то. Вот соседи могут подтвердить, они все время бегали под балконом – что-нибудь да выкинет, что-нибудь да выкинет. Так я приду с работы – нету, того нету. Стану спрашивать – он ничего не знает, а выкидывать - выкидывает. Вот и умер же от сахарного диабета, вот пять лет. Девятого октября исполнилось пять лет, как он умер, почти восемь, вот два года. Он на девять лет меня старше. Ну, в общем, дошли мы до Смилович. И тут женщина идет и говорит: «Не идите туда. Вас там живьем закопают. Там немцы закапывают живьем людей. Заставляют большие ямы рыть, а потом всех сгоняют, а другие закапывают живьем. Эти ямы, вон, еще шевелются. Не ходите!». Ну, мы сразу повернули на деревню. А она сказала: «По деревне тоже не идите. Идите, вот, через болото. Может быть, уцелеете». Ну, видит, женщина с четырьмя детьми, с узлами. И мы не пошли туда, повернули в обратную сторону от этих ям. Ну, мать, значит, дошли, лес начался, она узел достала, и все документы закопали там, под сосной. Она говорит: «Если сохранятся, то война кончится, придем, заберем». Но мы уже туда не ездили, за этими документами. Там фотографии все отцовские военные эти, в общем, и вообще, вот, квартиры, вот угол, красивая мебель, вот фотографировались сидя за столом там. Ну, не мы, конечно, а взрослые. И – А зачем фотографии закопали? Р – Чтобы, это ж немцы ж кругом. Закапывали, чтоб не знали, кто и что. Отец то военный. И – Ааа. Р – Ну, вот, из-за него только, из-за отца, вот. И вот, я помню, что мы, когда вышли из деревни, обошли деревню, конец деревни, свинья идет, тащит человеческую голову, длинные, волосы черные. Вот, тянет это, держит за бороду вот так вот зубами и волосы эти тянутся сзади. Так мы вот так вот, ну, видно, что людей уже тут уничтожали, всех евреев. А я похожа на еврейку. А документов у меня нет, я не успела получить. Мне в июле шестнадцать лет, мы даже еще не думали получать. Сразу, если б знал, что будет 3 так, так может быть раньше дали паспорт, вот. Поэтому были только вот метрические свидетельства, церковные. Я же крещеная, я православная. Так вот выродилась в деда, в поляка. Дедушка у меня поляк и знаменитый род. Это отцов отец, но все это было в тайне, даже нигде не отражалося. Отец писал автобиографию: бедняк, крестьянинбедняк, из семьи крестьянина-бедняка. Даже у меня вот где-то есть, я писала тоже, когда приехали сюда, в автоинспекцию оформлялася, секретарем. Так тоже писала, из семьи бедняка-крестьянина (Смеется), вот. А фамилия, в общем, предков - поляк Шиманский, фамилия. И, по-моему, даже я слышала, передача была, что графиня Шиманская в Англии живет, вот, самолично слышала. Так что это вот какая-то родственница уже, вот. Так что про дедушку сказать, так он, ну, работал. Он, получилось так, он незаконнорожденный сын Шиманского, дедушка Никита. И – Ага. Р - А фамилии у него нету, он же не писался Шиманский, и никому не говорил. А вот так вот он женился, привезли ее в общем. В общем, сам граф ездил куда-то, то ли в Казахстан, где лошадей там покупают. И вот он ездил и взял дедушку с собой. И привезли оттуда, то ли казашка молоденькая, то ли туркменка такая молоденькая. Глазки маленькие, носик маленький, значит, и вот ее назвали Аня. Но имя ее было, это уже по-русски Аня, там я не знаю. Привезли эту девчонку, и дедушка, вот, родился мой отец от ее, и дядя Вася, еще брат, и дядя Арсений, в Калинине он остался. И две дочки, значит, Мария. Мария меня крестила, это моя крестная мать и Федосья, вот Федосья. Там же рядом деревня, деревня Тупики, жила она. В общем, ну, все писалися Никитины дети – Никитины, Никитины. Вот дядя Вася Никитин, дядя Арсений Никитин, вот. А мой отец вырос. Он окончил там церковно-приходскую школу, четыре класса. Но он очень был озорной. Мать умерла вот эта, мать евоная, в общем, ему было четырнадцать лет, моему отцу. Он самый младший в семье, завершающий. Иваном его звали, моего отца. И взял себе фамилию, его буян звали. Он буянил очень, в общем, хулиганил, вот. Учился отлично, все схватывал отлично. Еще учитель начинает говорить, а он уже знает уже, в общем, способный очень. И поэтому ему кличку дали буян. И он стал писаться Буян. И вот мы все, уже наша семьябыла Буянова. Значит, по нас стала писаться, вот дяди Арсения дочка. Она жила, вот город Талдом под Москвой, Женя. Она тоже Буянова писалась, вот, хотя отец у нее Никитин, ага. Все вот, нет фамилии, не было у нас. И так вот ничего, ну, никто этого не докапывался. Жили мы спокойно, никто нас не беспокоил с этим родством. Потому что эта уже бабушка умерла. Ну, по бабушке 4 выродилась, вот я по дедушке пошла, по Никиты, вот, значит, очень похожа на него. Что-то есть вот такое вот, польское. А Шура, моя двоюродная сестра, она в Харькове живет, вот от дяди Арсения дочка. Я ее взяла с собой, уже, когда вернулась из деревни, я ее взяла с собой. Она меня просила: «Забери меня с собой в Минск». Там нашего Минска никто не знал, такие отсталые люди какие-то были. (Усмехается) Мы пришли из Минска, не знали, где Минск находится, вот. И я ее взяла, и она проработала, вот, всю жизнь. Так я в ГАИ работала, а ее отец тоже, привел в милицию, в отдел кадров. Там у него друг был. И он ее в паспортный стол городской, городского управления. И она проработала, вот, как пошла работать, секретарем, тоже, так и на пенсию пошла оттуда. Живет вот она на Харьковской улице, вот. И, в общем, ну, в общем, я вернусь, как здесь война, что мы пошли дальше, пошли. Мы прошли неделю по Могилевскому шоссе, и в лесу ночевали. Мы дошли до Орши, уже к Орше подходили. И вот, видимо, из леса выехали всадники какие-то. И – Ага. Р – Ну, мать говорит, что это, видимо, не немцы, а наши, может быть, партизаны. Ну, боимся идти в лес, а черт их знает, кто там, в лесу этом, вот. Может быть банды какиенибудь, я не знаю, может быть. Люди же разные, а мы ж беззащитные. Я Светку эту несу на животе вот так. У меня перегиб позвоночника, поэтому еле-еле хожу сейчас, сейчас у меня все болит, вот. А мать с узлами все тягается, вот. И покормить же надо, всех накормить надо. Шли через деревню, просили милостыню, кто даст. Вот Галя, она ходила во дворец пионеров в кружок танцев. Она такая развитая у нас была, одиннадцать лет дитенку. Так это, плясала хорошо. Вот, придем в деревню, просим, дайте хлебушка – нету хлеба. Ну, дайте картошенки, а они тоже не дают. А она – а я Вам спляшу, это не даром. И пойдет под язык плясать, и гопака там, и всякие танцы, вот. (Смеется) И тогда уже разжалобятся и что-нибудь дадут нам. Там что, хоть картошену, нам Светку надо накормить, ей же полгодика, тянем, восемь месяцев. Она же в декабре родилася. Ну, в общем, ну, вот, выжили. И вот, значит, шли мы… Да, и что я хотела сказать про Оршу. Это, они увидели, что мы идем. И – Всадники? Р – А? И – Всадники? Р – Да, всадники. Они приехали, к нам подъехали и на мать говорят: - Издалека шагаете? - Из Минска - она говорит. 5 - Много машин по магистрали? ( А магистраль московская так взорвана, что у такими, ну, вот дом построишь с огородом, поместится. И там воды полно, вот. Такие вот ямы, вся дорога взорвана. Мы все обходили.) Вот они нам говорят. Мать говорит: - Вот Вы, может быть, нас возьмете. Я буду стирать, варить там, где там, ну, в лесу там, где Вы, вот. А они говорят: - Нет. Мы бы взяли Вас, конечно, но у Вас маленькая, она выдаст нас. Вот, вдруг заболеет, будет плакать. И она нас выдаст. Поэтому мы Вас не возьмем. Вы не идите по этой дороге. Вы погибнете. А Вы идите проселочными дорогами, от деревни до деревни. Не по этой магистрали, не важно, что она прямая, но она вся взорвана. Ну, такие ямы, я такие не видела, такие воронки! Вот поставишь деревенский дом, и он с крышей войдет, вот. И будет плавать. Ну, в общем, и она их послушали. И мы вот пошли, от Орши мы повернули налево, как-то. Потом она говорит, что неправильно идем, нам направо надо, а мы налево. Опять переходили, в общем, ну, стали идти, идти, идти. В общем, уже потом пошли, стали к Смоленску подходить. В общем, короче говоря, уже стала вот осень, август месяц. Ночи холодные, а мы же голые, нам же было жарко, когда война началась. Еще, главное, все вот, я помню, дошли мы, еще здесь недалеко прошли мы, Борисов прошли. Нам жарко было, так мы дошли до самого поля, разулись, все покидали на поле, в рожь, и пошли босые. А не подумали, что впереди-то, вот. И стали, стало, заболела Вера, в общем, что за мной сестра. Она тоже проработала в милиции, тоже всю жизнь проработала бухгалтеромревизором, вот. На два года меня моложе, тоже уже на пенсии. А муж у нее в общем, Поворотный его фамилия. Они там же и живут, там рядом, где милиция, на Фабрициуса, переулок за мостом, за Западным, вот. В управлении милицией, и Поворотный, вот. А Володя уже тоже в отставке, полковник, вот, тоже замначальника Октябрьского райотдела был по политчасти там. В общем, у нас вся, в милиции как-то все родство, вот. И отец уже ж из армии вернулся, но это позже вернулся, когда мы уже в деревню пришли. Ну, в общем, ну, в общем, вот, поразделися, поразулися, холодно, ночевать негде. Уже стали где, вот в деревню зайдем, смотрим, где банька пустует, чтобы не под открытым, хотя бы, небом. А то ж дожди шли, тут осень, холодно. А Светка простыла, у нее. Вера, значит, ногу пропорола, у нее опухоль вот тут вот между ног, в паху, такая, такой нарыв, как у Светки голова, такой вот пузырь, как футбольный мячик вылез. Это врачи вот, все, когда мы уже вернулись, удивлялися, говорят: «Такого у нас еще не 6 было. Такого чуда не было, такой нарыв». Вот, и вот, значит, а у Светки пузырь, значит, вот губка кончается, вот эта ткань начинается и до пупка – вот такой тоже нарыв, пузырь водяной. И – Ага. Р – Как будто вот налитый воды, вот. Эта плачет – не может идти, эта плачет, потому что болит. Ести не может, шевелить губами не может, вот. Ну, все вот выжили, мать проколола этот пузырь, выпустили эту воду, надо ж присушить чем-то. А чем присушишь? Так она вот, где-то в баньке мы ночевали, так она соскребала вот эту в пазах, там как черветочина такая. Червячки какали, ну, такой желтенький налет, так она вот желтизну эту собирала и присыпали. Там же столько инфекции. (Усмехается) Она вот присыпала, лишь бы засохло, чтоб оно не гнило. Ну, Светка пережила, а Вера вообще на ногу не могла стать. А у нее было пробито между большим пальцем и вторым, вот там. На гвоздь она наступила, ну, босые шли, может, на сук какой наступила, ну, кто там смотрел, ну. И у нее инфекция попала вот сюда, в лимфатический узел. Ну, и у нее такой нарыв. И мы остановилися, нашли деревню Малеевка, на Смоленск уже шли. Нам осталось до дома сто сорок километров, до нашей деревни. И уже все, сковало землю, снег выпал, а мы босые. Вырыли, перешли с баньки, там курятник был, в общем, перешли, в это, где сено лежало старое, вырыли в сене такую нору, там и сидели, а поесть то надо, вот. Я здоровая и Галя здоровая, вот мы с Галей ходили по деревням рядом. Мать там нашла нам какие-то опорки где-то там, что-то связала, чтоб не босыми ногами по снегу идти. И мы с Галей ходили по деревням, собирали, кто что даст. Так я так старалася, боялась ходить, а ее все. Потому что я похожа на еврейку, потому что волосы такие, глаза эти такие большие, нос этот большой. В общем, я боялась уже, потому что кругом немцы. А немцу же человека убить, что нам блоху, может быть, или таракана какого. Им это не страшно, вот. И мы вот переселилися в это вот, когда в сено, вот в сено, нас с крайнего домика заметил мужчина, значит. Посмотрел, подошел, что Светка плачет, Вера плачет, воют. Вера кричит: «Позовите немцев пусть меня пристрелят!» Потому что она терпеть уже не могла этой боли, тут вот. Не только, эта уже нога болит, а уже все там распирает, вот. Ну, в общем, он посмотрел и говорит: «Перебирайтесь Вы к нам, ко мне. У меня семья трое детей и мы с женой. За печкой хоть будите спать в тепле на полатях там». Ну, мать обрадовалась, конечно, нас в охапку и Веру на себя дядя Денис взял, потащил. В общем, добрались. Ну, недалеко было, может, может быть с полкилометра надо было идти до домика, вот. Ну, поместили нас на полати, там доски так насланы. А вот под 7 этими полатями, вот обычно они держали, когда котится овца, там или коза, ягнят, чтоб они не смерзали на, там на улице, где они жили. Их маленьких детей здесь держали, вот. А мы наверху уже, на этих полатях, рядом печка обогревает. Мы так обрадовались этой печке. Ну, и тетя Поля уже посмотрела на Верин нарыв вот этот, на Светкину голову. И говорит: «Да. Такого чуда я не видела. Никто такого не видел. Страх такой, просто!» И вот она говорит, что на чердаке есть сало там внутренне свиное. Оно такое желтое, вонючее. Вот это сала надо достать, ну, в общем, послала, у нее было трое детей: Катя 20-го года, Гришка - мне ровесник, а Мишка - Гале ровесник, с 30-го года. И послала Гришку, тот отрезал такой большой кусок этого сала. И вот на тряпочку на льняную тонким слоем на эту голову. И оно прорвало. Столько гною было, ды гной такой, как живой, прямо вот ходит, в банке ходит, в банку все стекало. И – Боже мой! Р - В общем, стеклянная банка большая и половина банки было, столько гноя. В общем, ну, и главное, дырка, вот три дырки такие, вот мои пальцы лезли, даже кости видно. И – Даже кости видно? Р - Да, даже видно кости. Три пальца лезли свободно проходили пальцы, то есть такие три дырки. Вот и оттуда это все выпирало, и ложили все это сало, ложили, ложили на это, меняли. Стало это все уменьшаться, уменьшаться и потом присохло, значит. И у нее нога стала короче, тоненькая, вот эти кости все видны, вот. И, ну, в общем, короче, намного, сантиметров на десять нога укоротилася. И, ну, она ходила уже, прихрамывала очень, на пальчиках ходила, пятка кверху, нога то короче. Но все равно мы не уходили, мы, значит, а хозяина звали дядя Денис, а ее хозяйка – тетя Поля. И она его старше на двадцать лет. Он был, батраком у них работал, а она из богатой семьи, вот. Кулаки они были, богатые, не один дом держали. И он, значит, когда уже пришла советская власть, в общем, раскулачивали этих кулаков, то он женился на ней. И им разрешили вот один дом занять ему, как батраку. Уже ж не считается, по мужу идет жена. И – Ага. Р – Вот. И поэтому разрешили им жениться и оставили дом ему. Вот он нас пригрел, спас нам жизнь, короче говоря. Так бы мы все померли там и от холоду, и от голоду. Ну, и, в общем, мы живем у них, значит, мы з Галей продолжаем ходить, побираться, потому что они нас не могут содержать, такую семью, пять человек, вот. И принесем, вот куски эти, мать вот нам выделит по кусочку, все не давала съедать, выделит, а это вот, говорит, вот на весну, будем… 8 Да, что мы делали с матерью! Ходили на колхозные поля и смулили рожь руками, вот. И в мешочек, у нас было пять мешков ржи провеянной. Ее только высушить, помолоть, и можно печь хлеб, ну. Пять мешков ржи! И мы еще ходили с ней, перекапывали вот огороды картошки, пять мешков картошки. И все это лежало мертвым грузом. Она говорит, что сейчас еще нам подают, иногда и она с нами подойдет, этих оставим, стало уже Вере легче со Светкой. И втроем ходили, только по разным домам там, вот, не все вместе. И, в общем, принесем, и она сухари сушила на весну. Весной же не известно, что будет, немцы ж кругом, вот. А весна – тоже ести ж надо, а подавать не будут. Так вот с расчетом, что у нас будет запас на весну еще кое что в рот положить. Ну, а тут вот уже шли военнопленные, уже из плена немецкого. Может быть с окружения, шли солдаты без пагонов, безо всего. То раздетыя, у гимнастерках, неодетые. И тоже зашли к нам два (Пауза): один пожилой, отцу ровесник, это я помню с 902-го года отец, с такого года, а второй, ему было 24-ре года, даже не знаю как зовут, не интересовалася. И они шли именно через, ну, где-то рядом с нашей деревней, откуда мы родом, вот. Ну, мать говорит, что… Да, а почему так получилося, этот Гришка, который мне ровесник, он меня доставал. Вот я иду, а он меня за волосы схватит, дернет. Мне ж больно, я – ой, ай! Потом волосы уже повыдергал все, брать не за что. Мать меня обрезала, взяла эти волосы, чтоб он. Так он взял, ногой меня. Так я ходила тут как солнышко, вся в синяках. Плачу-плачу, плачуплачу, мать меня уговаривает: «Не плачь, терпи! Если я начну жаловаться на него, нас выгонят. Он же сын ихний, а мы никто - терпи». И я уже все терпела. Я только плачуплачу, чтоб мать не видела. Но она все равно узнавала, потому что я приду – у меня красные глаза, вот. Спрячусь где-нибудь, немцы идут – тут уже все кричат: «Зоя, прячься!» Потому что мы ж не знаем, с какой целью они идут. Оказывается, эта Катя, дочка, она с немцами любовь играла уже. Она ж с 20-го года, ей 21 год. Она такая высокая, волосы красные-красные, косы, две косы, вот в руку толщину мою, такие толстые, толстые-толстые волосы такие. У меня во жиденькие такие, как это, во. И немцы почему-то считали ее, что она арийка, арийка. И просто отбою не было от немцев. И все время немцы и меня спрячут под пол, немцы ходят у меня по голове, танцуют, поют. А я под полом сижу. Ну, тольки не кашляла. Не дай Бог, кашляну – все сожгут же. Кто знает, что они там будут, вот. Пока они там натанцуются, нагуляются и Катя, Катю поведут куда-то. В общем, по три, по четыре немца приходили на гулянки, вот. 9 Вот, ну, вот, мать говорит, эта, ну, эти, когда наши два зашли, вот эти военнопленных. То мать говорит, надо и меня отправить куда-то чтобы. Потому что Гришка надо мной, ну, в открытую издевается. Он уже и матери не стеснялся. Подойдет, вот, я стою, что-то делаю, мою, или что-то, Светкины пеленки стираю, полощу, на речку пойду. Он обязательно толканет или ударит чем-то. А попробуй, пикни, и он это понял, что можно издеваться, и будет тишина. Ну, вот, и она рассказала про меня, значит, вот так это так. Ну, они, говорят: «Пожалуйста, пусть она идет с нами. Мы ее доведем до деревни». Ну, тут тетя Поля тоже облегченно, спекла нам такие пироги вот, с черной муки обертка, а внутри картошка жареная, зашкваренная с салом. Они же, и коза у них была, и корова у них была, и поросята были, и шкварка была. И нам перепадало. Вот, в воскресенье она, она верила, она какая-то баптистка, верила. У них молилися дереву, не Богу, а дереву, тополю почему-то. И вот у них пра…, воскресенье было в субботу. Суббота не рабочий день, вот. И мы уже пристраивались, так чтобы только она была довольна, потому что все от нее исходило, вот. Ну, она, это, я ж сказала. Она старше дяди Дениса на двадцать лет. Ей было, ему 17, а ей было 37, когда он женился на ней, вот. И, в общем, и вот спекла нам три пирога таких вот. И дала по пирогу и мне. Но сумок нет, в чем нести? Так тетя Поля принесла свой новый платок, беленький, завязала и на руку мне повесила. Мне и одеть тут нечего. Там уже, значит, там мать сплела лапти мне. Лен мяли, значит, сушили, мяли, и она пряла это. И лапти крючком, крючок был такой, сделала толстый и сплела такие чуники. И я в этих чуниках, и там уже отдали портянки, чулок то нету. Вот до колен закрутили портянки эти, привязали веревочками, да и чуники одели – я уже обута. Вам скажу, что ноги не замерзнут, вот. И пошла с ними, но, главное что, я ж маленького роста, а они высокие, мужчины. Они, кажется, вот я шагаю вместе, в ритм, в шаг. А потом это, отстаю, отстаю, отстаю, ну, так. Короче, потом, догоняю их обратно. И так мы шли, мы ж пошли часов в шесть утра. Печка топилася, это ж был декабрь-месяц, вот, и (Пауза)… В общем уже стало темнеть, в декабре ж день коротенький, уже в четыре часа темно, вот. И доходим мы до леса. Прошли деревню одну, вторую, шли все время, не останавливаясь. Только, вот, я уже смотрю, где отстану там в туалет сходить, пописать, хотя бы, вот бегом тут. А потом догоняю. Они уже кричат: «Догоняй, догоняй!» Я уже бегом с эти пирогом. И вот мы заходили, уже темно стало, даже не знаю какая деревня там, это я не помню. И нам надо было повернуть налево. Не прямо идти, а налево, потому что дорога поворачивает налево. И когда мы зашли в лес, вот с правой стороны, вороны кричали очень. Так уже кричали, садились на ночлег, тут край леса и елки 10 большие такие, вот. И дорога идет, луна вышла, видно дорогу просвещает. Значит, и я уже стараюсь не отставать, потому что лес, боюся. Все время бегом бежала, все время бегом бежала, что б не отставать. Там на поле, то я отстану, а потом догоняю, отстану – догоняю. А тут я уже старалась бегом все время, не отставать, а они специально быстрее пошли, потому что темно, вот. И я все время бегу, задыхаюся, бегу, задыхаюся. Ну, и потом, значит, (Пауза) отстала я, отстала немножко, потому что в туалет надо было сходить. И догоняю их обратно, догоняю и слышу разговор между ними, спорят. Этот старый говорит: «Ай, уступи ты мне, может. Может это в последний раз. Я уже старый. А ты еще молодой. У тебя еще все впереди. Что тебе уже стоит уступить старику, ну». Меня сразу как кипятком ошпарило. Думаю: «Это они меня делят».Смекитила, значит, сразу стала и у меня в животе: буль-буль-буль-буль-буль-буль. (Усмехается). И молодой услышал и говорит: - Что случилося? Я говорю: - Ничего. В туалет хочу. Так он: - Вон елочки. Иди, сядь, посиди. А мы пойдем, мы пойдем не спеша. Догонишь нас. Я говорю: - Боюсь темно. Он говорит: - Ничего, мы пойдем не спеша, не торопясь, догонишь. Ну, значит, я шмыг за эти елочки у дороги. А снежок уже выпал, вот идешь – уже видно снег, бело, бело все. И села я, в общем, со всех дыр вода льется, не поймешь где что. (Усмехается) Встала я и думаю, а чего я пойду с ними, я не пойду с ними, я назад пойду. Они ж все равно меня уничтожат. Зачем я им? У них каждого свое, а зачем я им, этот хвост, ну? И я, значит, оделаяь, застегнулася. Мне там шубу дали рваную, маленькую, вот такую, обносочек чей-то. И побежала туда, на крик ворон. Я ж знаю, что мы заходили в лес и справа были вороны, кричали. Вот, а там получилося так, какая-то низина, елок больших не стало, они в стороне осталися, уже справа у меня, получается, где вороны сидят. А я выхожу с краю леса и там такое болотце. И там кочки такие, кочки лежат, вот. И вот я с кочки на кочку прыгаю, прыгаю. Не иду, потому что они высокие такие кочки. На кочку, на кочку прыгаю. Вот наступлю – оно «шшш», прыгаю на вторую – «шшш», третью там, я уже сколько кочек перепрыгала, вот. Только боялась, чтоб хлеб не потерять, потому что за целый день, мы же ничего не ели, нигде не останавливались. А потом хотела прыгнуть, смотрю ноги торчат с кочки, голыя 11 торчат. И по ним вороны ходют, вот. И потом подняла глаза, смотрю – стоит солдат. Вот такой тут наконечник, как у буденовки раньше такие были, буденовки, шлемы такие вот с сукна. И – Ага. Р – И эта буденовка одета, и эта торчит, и ворона тут сидит и долбит ему. То ли глаза доставала, то ли еще чего ела, ворона сидит и долбит, вот. Ну, я сразу, Господи, думаю, Боже мой, эти ноги торчат тут, голые торчат, голые прямо, ни в носках, ничего нету, голые. Видимо кто-то кого-то раздел, вот. Сапоги, может, сняли, валенки, там, я не знаю что, вот. Перепрыгиваю, смотрю, тут еще ноги торчат у другого. Только не сами пальцы, а колени, вот так вот согнуты, вот. Я уже тогда давай правее брать, ближе к воронам туда, а там еще больше этих колен. Там вообще, один на одном лежат, вот. Ну, я опять сюда вот, к лесу, к краю леса. Правда, вороны уже вот рядом кричат, и я уже вышла из леса. Но, правда, выходила из леса, вот, елки, я боялася из тени выйти. Елки тень, как тень есть, так вот я по тени вот так вот обходила, чтоб даже не видели. А слышно там, вот далеко-далеко по лесу: «Ау! Ау!»… И – Искали уже? Р – Да. Они уже искали, может быть, может быть, назад шли. Ну, я уже дошла до своей дороги, я уже ее узнала, как мы шли. И следы мои есть, значит, не занесло. Я на дорогу – и бегом припустила, бегом. Вот там, может быть, до второго леса, с которого мы вышли перед этим лесом, может быть километра – полтора. Не так далеко, вот, потому что лес за лесом. И знаю, что лес, и вот добегаю уже, скоро уже лес этот будет, а вот сзади у меня, кто-то бежит, вот, дышит на меня, прямо в ухо, прямо теплым вот таким воздухом. И боюсь я обернуться, я не знаю кто. Но кто-то, я подумала, что волк, что он учуял уже этот пирог. Я резко поворачиваюсь – этот пирог – на. Оказалася овчарка, черная овчарка, как ночь, черная овчарка. Правда, она узел мой взяла, отошла, вот она отошла, стала развязывать платок этот, рвать. Я вижу, она занялась, я обернулась и обратно в лес. И бегу, думаю, сейчас на елку заберусь и буду сидеть. Ни одной елки не вижу, у которой есть сучины внизу. У всех вверху, все голые. (Смеется) Потом увидела елку толстую, вот, я, значит, за толстую елку встала и стою. Ну, она, видимо, съела мой пирог, может быть, и не съела, не знаю. И бежит по следам, идет ко мне, вот так вот бежит и нюхает. Приходит ко мне и смотрит на мене – я стою. (Усмехается) Я говорю: «Ты хорошая, добрая, ты не тронешь меня». Она давай мне руки лизать, ну. Я ее погладила. Говорю: «Пойдем со мной, мне будет веселей». И мы с ней пошли, и приходим уже в деревню обратно эту Малеевку, тетя Поля опять топит печку. И мы заявляемся с ней, вот. Тетя Поля увидела меня, бросилась ко мне и говорит: «Хорошо, 12 что ты вернулася. Вот мы уже тут с матерью с твоей наплакалися, что отправили тебя насмерть. Вот» - говорит, - « мне что-то такое предсказывало, что не хорошие эти люди, вот». Говорит: «Хорошо, что ты вернулася». Считай сутки, это я не присела. Все бегом, бегом, бегом – сутки, вот, бежала. И вот, значит, кажется, на этом надо было бы успокоиться. Но через дня три обратно, идет еще один военнопленный. Тоже, заходит к нам, просит покормить, хлебца дайте. Мать выходит, и узнала его. Это с той деревни, откуда тетя Федося, Солодовня или Тупики, как там правильно, не знаю. По карте посмотреть надо было бы, ну, так я и не посмотрела. Ну, мы называли Тупики, а там Солодовня, значит. И он мать узнал, вот. На свадьбе были, и он гулял. У тети Федоси свадьба была, и он гулял на свадьбе, и мать с отцом были. Это ж отцова сестра родная. Вот, она ему рассказала про меня. Он говорит: «Меня не проси – не возьму. Потому что мне там, может быть, где-то придется ползти, ну. И одному мне легче, я где-то спрячусь, зароюся. Кругом же снег, зима. Поэтому не проси. Пиши письмо. Напиши письмо, я зайду, передам». И вот мать написала письмо, написала, сколько у нас ржи, сколько картошки, что надо лошадь. Без лошади мы ж не унесем это, вот. И седьмого января, уже в Рождество, как раз было, и вот за нами приехала лошадь с санями. На санях, по снегу приехала моя крестная мать. Он занес моей крестной матери это письмо. И еще у нас до войны жила материна племянница, ну, тоже двоюродная сестра. Но не эта Шура, которую я уже взяла, когда я уже в Минск, вот приехала, вернулися. Я уже в декретном была, вернее договорила (?), старшая дочка замуж вышла быстро, не успела приехать, замуж вышла. И, в общем, это Шура, что на Харьковской живет. А до войны у нас жила материна племянница, это родной ее сестры, тети Насти, Валя, она 21-го года рождения. И она работала, устроили ее в ученицы кассира, в магазине. Было на Советской улице, это Советская улица, где сейчас ГУМ, тут были дома такие двухэтажные. И вот в этом, в одном гастрономчике она работала, ну, в продовольственном. Кассир, в кассе сидела. Ну, устроили, из деревни приехала, а одеть то нечего особенно, так она материну одежду брала, платья материны А отец ездил в Крым отдыхать, привез мне такой воротник, вот, большой вот такой с шерсти с рисунком, здесь на помпончиках завязывается. Ну, оденешь, как пелеринка такая. Вот такой воротник белый шерстяной. Ну, там он, же и шерсть же не крученная, ничего, ну, связанный, да и все. И у матери такой. Так она мой не брала, что я сама его часто одевала, а мать его ни разу не одела. И потом мы зашли к ней в магазин, к этой Вале. Она сидит в кассе у материном воротнике. (Смеется) Мать помотала головой: « А я, - 13 говорит, – и не думала». Что даже без спросу оденется в материно и пойдет. (Смеется) Главное, вот, уходит в своем, а на работу придет, переоденется и сидит. (Смеется) И вот, когда война эта началась, вот мы дошли до Орши, она с нами еще была. Она с нами тоже шла. А тут она исчезла. Мы стали ночевать, отошли, может быть, километра три от этого леса, вот где нам показали эти, что на лошадях выехали. Вот она исчезла, ну, и мы грешим, что она ушла к ним. А она вернулася к ним, вот. Потому что мы приехали в январе, а ее еще не было. На Рождество, седьмого января, Рождество, нас привезли на лошади уже домой. Мы заехали с запада, идем же с запада Беларуси, а немцы отступают от Москвы. И вот получилось уже так, мы в деревню заезжаем от западной стороны, наш дом восьмой от запада, а от Москвы наш второй. И немцы уже заняли наш дом. Мы подъезжаем – уже немцы орудуют, уже самовар выносят, грузят на машину, выносят там еще чего-то, ну… В общем, уже нас обчистили они. Мы приехали уже у крестной моей матери ничего нет. А главное что, у нас был, почему мы шли, у нас возле леса на хуторе стоял наш дом, большой дом. Ну, вот, отец, он не вернулся, после армии его сразу направили на работу. И мать отказалась от этого хутора, от этого дома. У нас было свое болото, свой лес, свои ягоды, в общем, свои волки даже были, лошадь была у нас очень хорошая, жеребец племенной. Все приводили к нам барышень. Храпчик его звали, ну, он такой был умница. (Пауза) Мне было шесть лет, Гале – год, Вере – четыре. Я была за хозяйку шестилетняя. Галю я должна носить на себе. Вот она возьмет на меня, залезет на спину, я присяду, она залезет, приползет ко мне, встанет, залезет, захватит меня так, что у меня синее лицо становится. Держит руками тут уже, за что уцепится, и на спине болтается уже как пиявка, вот. Я и бегаю с ней, и играю с ней, и она у мене болтается. Потом она заплачет, я ее скидываю. Подходит лошадь, лошадь, иногда мать же отпускала его, он ходил, пасся сам, вот. Она увидит лошадь, подползет к нему, даже ходить, плохо ходила, ползала быстрее, чем ходила. Подползет, за ногу его обцапает, стоит, качается, качается. У него ж хвост длинный – за хвост его, качается. Он тогда голову к ней опустит, она ему в глаз пальцем и в рот пальцем, слазиет там все это, вот. И он не трогает ее, стоит, смотрит. В ухо к нему залезет, тоже туда еще попробует. И он только понюхает ее, только понюхает, что она стоит, вот, и он ходил свободно, как охрана у нас. И волки его боялися, вот. Но один раз было вообще страшное зрелище. Я то конечно, своим шестилетним умом, ну, догодалася, что надо уцекать, надо забирать Галю, надо забирать всех. Если бы не жеребец, то нас волки, наверное, прикончили бы, вот. А он, у нас даже дом был недостроенный, крылечко, знаете, как, вот бревна лежат, наслано, так бревна лежат – 14 еще ступенька настлана, ну, прибитыя гвоздями, такие. Но это не капитально все. И мы вскочили на это крылечко, но оно же открытое, подходи волк, бери кого хочешь. И спасла нас овечка наша, у нее было двое ягняток. Они овцу завалили, зарезали, горло ей перегрызли, она на цепи была, она не могла. А два ягненочка прибежали тоже. И лошадь кидала этой мордой, вот так вот. Я смотрю – она кидает их мордой на крылечко. И дверь, а мы не можем открыть, я не могу открыть, дверь захлопнулась. Так она, лошадь, подошла и своей мордой открыла нам дверь. И мы туда ввалилися: и ягнята тут, и я, и Галя, и Вера. И лошадь стала задом, мордой к нам, а задом к ним. Волки, значит, пока с овечкой там занималися, а два волка прибежали, сюда уже, к дому, но они уже опоздали. Но уже услышал, значит, вот крестная мать, она, они тоже жили рядом с нами. Но нас разделяло два поля такие небольших. Я не знаю, может быть, гектар земли, разделяло нас, участки эти. Ихняя земля, а тут наша земля. И крестная мать уже прибежала, начала кричать, так со всех хуторов там услышали крик, и люди повыскакали и волков погнали, вот. А собака у нас была, я не знаю, может быть, помесь от волка, серая тоже, Тыник, мы его звали, Тыник, вот. Так собаки не стало, угнали, волки его угнали, забрали в плен, погнали впереди себя. И, видимо, уничтожили, наверное, потому что он не вернулся. Вот мы уезжали, и вот Тылика у нас не было. Вот, так что страшно было жить. Теперь вот, что я еще помню вот на этом хуторе, когда мы жили. Значит, я помню, ну, Вера уже спит, Галя уже спит, подъехала лошадь. Еще не было снега, подъехала лошадь, ну, на телегах ездили. Выходят мужики, цыгане, ходят в круговую. А у нас же жеребец племенной, вот. Вроде бы как бы кобылу привели для знакомства, вот. Ну, мать, у нас не кухня называлася, а чулан, с чулана. Но, дело вот в чем, отец за хорошую свою службу, его наградили мелкокалиберной винтовкой с патронами. Вот, он привез матери и сказал: «Никому не говори, что у тебя есть винтовка, вот. Никому не говори, потому что это хутор, мало ли что, тут лес, тут болото, никому не говори». Ему же наградили, у него же дарственная, дана бумага, что он же не украл ее, имеет право на это оружие. А он ей привез: «И вот, если что, так стреляй. Ну, не стреляй по людям, стреляй в воздух. Если слабонервные – убегут. Если уже отпетые бандиты, тогда, конечно, бей по ногам. Старайся не у голову попасть, не в тело, а в ноги, вот». А я то этого ничего не знала. И слышу эта телега, я еще не спала. И спрашиваю: «Мама, а кто это там?» Она говорит: «Спи, ложися. Они к нашему Храпчику приехали, кобылу привели». Ну, я лежала, лежала, никак не могу уснуть. А она с чулана с этого не выходит. Свету ж нет, электричества ж не было, вот. Тогда она, значит, спряталась в углу. Один подходит, ну, окна ж невысокие, смотрит в окно, в чулан. А она спряталась 15 там, в угол забилася. Он посмотрел – в углу он не увидел, что нет никого. Смотрит, а я выхожу, он меня видит (Смеется). Так он на меня: -Девочка, девочка! Открой дверь нам. Мы хотим попить. Я говорю: - Я не достану дверь. Засов далеко. - Ну, открой тогда окно, мы в окно влезем. Мать выходит тогда, винтовку на него: - Вот тебе будет сейчас и окно, и дверь. Он и отвалился оттуда. (Смеется) А там было под окном, ну, когда-то кусты были. И мать их повырубила, чтобы, кто знает кто там, кто в кустах этих, там же рядом болото. И он там, видимо, что-то пропорол или больно сделал себе, заорал. Но она ему еще не стреляла, ничего. Она говорит: - Ах, ты еще кричишь? И взяла, и выстрелила вверх из ружья, значит, вверх через форточку, форточка ж открытая была. И вот, на небо туда, стрельнула. И – Ага. Р – Эх! Как они вскочили на повозку! Его вкинули, этого, за ноги схватили, вкинули на повозку, вскочили и уехали с таким треском, с таким криком. (Смеется) Ну, цыганский такой вот, там такие слова цыганские: «Гей! Гей! Гей!» Все кричали. Вот, как я помню. Ну, в общем, таким путем боялися к нам приходить. Это быстро молва разнеслася, быстро, что у нас есть винтовка. Приехали с военкомата, но я не знала, откуда они приехали. Это уже потом мать отцу рассказывала. Посмотрели эту дарственную, награду эту, что отцу дали, подаренную. Она говорит: - Ну, вот, он оставил мне, потому что мне это надо. Вот, она расскажет, что она видела. Я говорю: - Да, я видела. Он лез в окно. А мама стрельнула вверх. И он упал. (Смеется) Но я этого ничего не помню. Это она все, главное, помнит. Это она рассказывала. Вот она расскажет, тогда то я ей рассказала. А теперь уже… Но после этого уже вся деревня знала, что у нас есть винтовка, награда отцу. И все боялись, нас объезжали, уже нас не трогали, вот. Так что и вот, уже когда была коллективизация, 31ый год, отец нам сказал, что он в деревню не вернется с волками воевать. «Я – говорит, – буду воевать с настоящими двуногими волками». Вот, вот, и мать тогда, раз такое дело, корову отдали дядьке, дяде Арсению, вот этой Шуре. Корова наша Маруся была белая. Жеребца мы отдали в армию, в Красную. Мать завезла его, отдала, сдала. Но жеребец такой умный был, его погрузили на поезд, ну, 16 всех лошадей, которых мобилизовали в армию. Значит, он спрыгнул с платформы и пришел домой. За 17 километров станция. И пришел домой, пришел ночью. Мать говорит, рассказывала: «Я так плакала, и он плакал, стоял жеребец». Обратно завела. (Пауза) Я говорю, он такой, я говорю, вот, Галя ползает под ним, под ним же. Она с передней ноги на заднюю переберется, там стоит, качается, ходить, плохо ходила. А у меня уже спина от нее болит, она висит, вот. Ну, в общем, короче говоря, забрали у нас этого Храпчика, Храпчик мы его звали. Он все храпел: «Хрр, хрр, хрр». Мы его прозвали Храпчик, храпит. А главное что, я выйду, Вере, Вера кричит: «Хлеба! Дай ей хлеба!» Галя тоже руку тянет, давай тоже ей хлеба. Вот, а тут подходят куры, ни нас не боялись, по нас ползали тут с цыплятами, и отбирают у нас все, этот хлеб. И Храпчик тоже подходит губами такими мягкими: «Хлёб-хлёб-хлёб». Я вот даже начинаю кусать, а он хлёб-хлёб и забрал у меня этот хлеб. Вот, ну, мать уже знала, что все питаются за нас счет тут, и крыши, и мыши. (Усмехается) Ну, ничего, выжили, вот выжили. Ну, а здесь вот уже мы, когда приехали за нами с Малеевки. Ну, я правда, дяде Денису все рассказала. Рассказала, где ноги торчат, рассказала, где еще торчат, все, и где стоит этот человек. И он поехал, а он с краю, дядя Денис жил, с этого краю. Он пошел в тот край, там бригадир был такой ещё, ну, советский бригадир, кругом же немцы. Ну, объяснил ему все, показал, и они втихаря поехали туда, на лошадях туда, вот. И выкопали, вот тут речка протекает, я не знаю, не помню, какая речка, выкопали большую яму. И давай, свозить вот этих. Адлига там была, оттаяло все, и они там собирали вот этих мертвяков и туда. Отыскивали, находили документы какие-то. Там, значит, потом он уже отдавал кому-то, толи в сельсовет бывший, то ли еще куда-то председателю. Они уже складывали эти документы, может быть пригодятся. Потом, может быть, люди будут разыскивать этих людей. И они свозили всех вот этих вот, ну, может, и не всех, я не знаю, ну, вот. Когда он возил, так он уже сказывал, что они возют вот этих вот всех убитых, которых могли найти, всех в одну яму складывали. Не было ни гробов, ничего. Только, говорит, ложили, наложим, говорит, ряд, перекладываем еловыми веточками, еще ряд ложим. И так вот пока всех не перевозили, что они могли забрать. Ну, вот, когда мы уже приехали вот в свою деревню, тут немцы. А у матери моей оказалась соперница. Мы же этого не знали, что отец то гулял с одной, женился на другой. Он мать привез за двадцать километров от своей деревни. А своя деревенская осталась с носом. И она решила отомстить, кругом немцы, она стала… Да, и церковь сразу открыли, немецкие попы уже появилися. 17 И – Немецкие даже? Р – Да. Но они бывшие наши. Только иммигрировали в Германию. И уже вернулись сюда. И вот у нас церковь, Мальгино называется, там кладбище, там мы все хоронилися. И хоронили всех в этом Мальгино, и там церковь большая, там, на бугре вот таком красивом. Вот и, значит, прислали этого попа, и вот эта вот соперница ее, значит, зовут Настя, Настя. И фамилии я не знаю, какое. Но все мы ее, вся деревня Стихванова, отец ее Стихван или Стефан, правильно, может быть, Степан. Может, не правильно говорили, может, она должна была быть Степанова. А все почему-то говорили Стихванова, Стихвановна, через «х». И, значит, вот она с этим попом трахаться начала. И мы еще ходили, ну, я то ходила, я ничего не видела, потому что я маленького роста, самая молодая. Вот у дяди Арсения там две дочки, у тети Насти три дочки – это уже наши кровные, близкая кровь. Это, считай, двоюродные, но у нас еще есть и троюродные, и братья, и сестры. Ну, в общем, пятнадцать домов в деревне, и все – родня, вот. И все там. А я из всей этой молодежи самая молодая, ну, 16 лет. Все старше: Вале 21 год, Нюре – 20 лет, в общем, Шура – с 24-го года, на год только меня старше, вторая на два года, Шура тоже, от тети Насти, с 23-го года. В общем, и все туда ходили смотреть, как они, эта Настя Стихванова с попом влюбляются там. Что они сделали там – не знаю. И в общем, вот подойдем, вечером, поздно лампы ж горят, электричества ж нет. Что она там с этим попом делала? Они там шушукаются, я ж ничего не вижу, вот, ничего не достану никак. Вот, все шушукаются. Ну, в общем, кто-то ей, предатели были, решили быть хорошими и предали, что ходят смотреть, и меня предали, что и я хожу глядеть, и все остальные, вот. Но я ничего не видела. Ну, и вот, она решила матери отомстить на мне. Это с этим попом они сочинили в Гестапо заявление или что там, письмо послали. А Гестапо у нас не было, лично у нас, было Гестапо за девяносто километров в калининской области. Значит, у нас так было: Москва, Калинин и Смоленск – на одинаковом расстоянии. Смоленск – 350 километров, Москва – 350 километров, Калинин – 350. Значит, а мы вот тут на границе этих трех областей, в общем, ну, в общем, в таком уголке. Так мы ездили все время на базар в Москву, мы Смоленск не признавали. Ну, не мы, а все наши земляки, и в Калинин не ездили, вот, только в Москву, вот. И жители все уезжали только в Москву. Я ж говорю, мы ж даже из Минска пришли, они такого не знали, не знают и не слышали, что где-то такой Минск находится, где это, вот. Ну, в общем, короче говоря, сочинили, что мы приехали из Минска, пришли, привезли пять мешков золота. (Пауза) Ну, золота, может быть, они считают рожь 18 золотом, не знаю. Ну, в общем, а нас вот, молодежь, всю молодежь, в том числе молодых женщин, были такие, 42-ой год уже. Ой, ну, такие сугробы, я не знаю, вот теперь таких нету, как тогда. Нашей деревни не было, только торчали одни трубы из сугробов. Ну, такие сугробы были, вот, мы выйдем из деревни, из хаты, ну, вокруг дома голо – земля. А потом начинается этот сугроб выше хаты. И мы делали, что б пройти на колодец, набрать воды, туннели прорыли. И многие в этих сугробах, в этих туннелях картошку прятали, рожь прятали, но картошка смерзнет, конечно, вот, а рожь прятали многие. Так немцы, кто-то опять же продал, что прячут в этих сугробах. Так немцы шесты брали большие и вот, прокалывали эти сугробы эти, вот. Искали у нас рожь, но у нас не нашли, правда. И – Не нашли? Р – Не нашли. А у многих нашли рожь, спрятанную, некоторые… У нас почему не нашли, мы в мешках, а некоторые в сундуках ставили. Вот они начинают бить – стучит, в дерево попадает, значит, разрывают сундук с рожью. А у нас в мешках было, в общем, и так мы уцелели. А дедушке было 85 лет, дедушку мы похоронили в 42-ом году. А в 43-ем похоронили и крестную мою мать, у нее сердечные приступы начались, с сердцем плохо. И вот я вот чувствую, что у нас вот вся родня сердечником, это, видимо, наследственно. Вот и у меня лежит сердце, сердце не стоит, как у всех, а лежит. И какой-то клапан один, и кардиограмму дали на руки, если скорая придет, так показывать надо, что там такое с сердцем, вот. Ну, и, в общем, всю молодежь, нас дороги, потому что машины не ходили, только на лошадях. И вот выгнали нас, а у нас мостик такой разделяет деревню Полютиха, а нашу деревню Обраниха. Этот мостик, как граница на ровном месте, вот туда километр, туда километр, и граница. И мы должны вот это расчищать, всех выгнали. И мы складывали снег кирпичиками вот так вот, вырезали и складывали вот как кирпичи. Стоит красивая стена с кирпичиков снежных, вот. А тут завея, но далеко от дороги, что б остальное пролетало по дороге, на ту сторону. И вот каждый день нас гоняли. И смотрим, приезжают немцы на лошади, саночки такие расписные, на спинке на задней два петуха нарисованы такие красивые. Приехали два немца обмороженные все, заиневшие, у одного щека белая, у этого нос белый тоже. Оттирали им все, вот. Потом что-то он, а нас автоматчики немцы выводили, чтоб не разбежалися, расчищать эти дороги на Москву, вот. И, значит, немец показывает на меня. Что он там ему сказал? И показывает на меня. Вот как показал на меня, я сразу - брык и лежу. (Пауза) Очнулась я – меня тянут за волосы, платок у меня сорвали, а волосы вьющиеся такие, ну, они тоненькие такие. Вот он так, немец пожал, вернее, вот так вот взял и тянет меня. 19 Потом пожал, пожал, остановился, бросил и говорит: «Никсьюда, не Иуда». А они, наверное, написали, наверное, что еврейская семья или что там такое. «Никсьюда», вот, и бросили меня. Я не могу подняться, такая боль в груди, ну, такая боль в груди, что не могу подняться. Меня вот все поднимали там, посадили. И я уже и соображаю плохо, что там со мной такое, почему я лежу, почему я не могу ходить, почему? Потом кто-то пошел в деревню, там санки какие-то принесли, посадили меня на санки и привезли, вот. И положили меня, и у меня началось воспаление легких. Отчего оно, воспаление-то легких? Я же работала, как и все. Почему все это такое? И я тринадцать дней лежала без сознания. Вот на тринадцатый день я пришла в себя. Пришла в себя, открыла глаза. Но меня, наверное, подкармливали, потому что я вижу, мед стоит. Так что, видимо меду в рот пихали мне, вот. И я открыла глаза, я говорю, обрадовалась, что я в хате. Значит, и заулыбалася так и говорю: «Дайте мне хлеба. Я хлеба хочу». (Усмехается) Ну, крестная подходит, матери и говорит: «Ну, раз хлеба запросила, значит, жить будет». А так они уже не рассчитывали, вот. Ну, вот молодая победила. А, оказывается, я болела, я ничего не знала, а за этой Настей Стихвановой приехала, уже дороги расчищены, уже все это, приехала машина, погрузили ее и увезли. Она уезжала, я то не видела, я то болела, что она такая гордая садилась в машину, с таким форсом садилася. И – А кто увез? Р – Приехала немецкая машина. И – Ааа. Р – То же, та же Гестапо, вот. То же Гестапо, потому что они там все здоровалися, все знают один одного, немцы, вот. И, значит, увезли ее. Она, говорят, с таким выражением была, что это она уже царица, королева полей. Посадили и увезли, и ни слуху, ни духу. Потом, значит, пришла какая-то бумага, значит, поехали ее забирать. Привезли мощи, она на человека даже не похожа, ну, скелет высушенный. Но, трохи шевелится. Но я пошла, мне тоже интересно было, все ходили на ее смотреть, я пошла. Она увидела меня, аж содрогнулась вся, когда увидела меня. И, значит, на меня: «Мать, мать». Я пожала плечами, я не пойму, что такое мать. Зачем мать, может, матом ругается на меня, посылает на мать? Но запах от нее, ну, просто невозможно дышать в хате, такой запах. Я видела трупов, когда мы шли, видела человеческие трупы лежали, и видела, и в лесу находила. Я думала, вот по одному лесу мы шли, еще осенью, и сидел военный. И я подошла, значит, но я не одна, нас толпа шла большая. Я не могла посмотреть документы, откуда и что. Люди взяли эти документы и прикопали его там, этого, сидел офицер у елки или сосна там, даже не помню. Ну, мертвый, ну, такой запах! Ну, 20 трупный запах. Я этот трупный запах вот даже и тут случай был у нас, значит, в нашем подъезде. Я этот на всю жизнь запомнила трупный запах. А то нет, вот, зайдешь к ней, она лежит, ну, такое, что организм не принимает, даже не принимает. Все вот так выходят, все вот так выходят, все, кто бы ни входил. А всем же интересно. И – А что произошло там? Р – Оказывается, она зараженная сифилисом была. И умерла от этого, от сифилиса. А там это вот, уже потом врачи объясняли, кто от сифилиса умирает. Они ее увезли в казармы немецкие, военным привезли – развлекайтесь. Ну, там уже и ползали, кто сколько хотел и как хотел, вот. А кормить то ей забывали дать, вот. Так она уже и откинулася. А запах вот этот, этот сифилисный запах. Я не знала, что от сифилиса так, что даже невозможно дышать, ну. Я вот пришла домой, я говорю: «Мама, наверное, она тебя звала или что-то хотела сказать, все мать, мать». Я поняла только мать слово. А что она там говорила? Я не знаю. Говорю: «Сходи, погляди». Она говорит: «Не пойду. Зачем мне травиться заразой этой?» Где ж она была, никто не знает, откуда ее привезли, ну. И кто за ней ездил, я тоже не помню. Ну, родственник какой-то, брат двоюродный, наверное, ездил на лошади за ней. Куда ездил, тоже не знаю. Ну, в общем, страшный запах такой. И вот, я хотела что сказать, вот у нас в подъезде жила на первом этаже, и сейчас там запах плохой. На первом этаже вот эта угловая квартира, там две хозяйки. И вот было так, значит, она, правда, сейчас жива, в большой комнате жила женщина очень приличная, хорошо одетая, все, чистенькая вот такая. И мы ее звали баба Соня, но я еще была молодая, а она в то время была уже старушка. Значит, и тоже, ходишь, значит, когда идешь в подвал вот этот, вот здесь вот скопление этого воздуха. И я иду и говорю: «Где-то человек гниет. Человеческой мертвечиной пахнет». На меня начали хихикать: определила, человечиной ей запахло. Да, я этот запах не могу забыть с войны, вот. И что Вы думаете, прошло, наверное, дней пять или шесть, ну, неделя, примерно. В этой комнате с бабой Соней жила квартирантка. Она сама из Логойска, Нина ее звали. Эту Нину донимали хлопцы, но, не потому что там трахалися – нет. Просто вот, наши же эти подростки, такие как, лезли в окно и смотрели, как там эта Нина живет с бабой Соней. А баба Соня старушка была. Я не знаю, сколько ей лет, может, семьдесят было. И Нина когда уехала, вот эта соседка вот, она и сейчас живет. Что она там ей сделала? Или она ее отравила, но баба Соня, в общем, лежала две недели или больше даже, пока Нина не приехала из Логойска. Открыла дверь, уже у бабы Сони ничего нету, ни денег, ничего, все обобрали, в общем, абы что. И вот этот запах вот через дверь просачивался 21 и стоял вот здесь вот, внизу на лестнице. Я вот, когда захожу, вот трупом пахнет, вот трупом пахнет. Так надо мной смеялися, откуда она знает, что трупом пахнет. Так вот, вот и сейчас вот, я ездила на дачу, на даче же была летом, на даче, забрала всех своих питомцев. А у нее жила бабушка, я ее знаю. Горбатенькая, ну, она не горбатая, просто спина скривилася такая, Станиславовна, Лесневская фамилия, Станиславовна, вот, у нее она жила, брала с нее деньги с пенсии, там кормила вот эта, что на первом этаже. И там запах страшный был, запах. Вот и сейчас там запах держится. И вот я приехала, я приехала в сентябре, в конце сентября, и мне говорят, что бабки этой уже нет, они ее похоронили. Где похоронили? Кто похоронил? Но бабки не стало. Вот, может быть, тоже где-то закопали, может быть, в подвале. Там же у нас… …И под полом, и под кроватью лежала. Под кроватью спрятали от немцев, потому что паспорта то у меня нет, документов нет, кроме этой метрики. Так немцы ходили по всей деревне и спрашивали даже у маленьких, знаю они такую. И все ответили, да, знают, и все говорили, что она наша, деревенская. Ну, пятнадцать домов в деревне, все родственники, вот. И так вот меня выходили, вот. А один раз я залезла под кровать, а у нас под узорнички вешать. А Светка уже ползала, это ж 42-ой год. Немцы уже ползают тут везде. Немец заходит, а она посмотрела – немец, и ко мне – шмыг, под кровать, прятаться. Ну, немец посмотрел, полу поднял: я лежу и Светка. (Смеется) Он на меня: «Выходи!» Я вышла. А у меня уже бумага была на руках, уже четко. Вот комендант жил у тетки, он старый человек был с Австрии, австриец. Не немец, а австриец, но для нас они все были немцы, австриец или поляк, или кто там – все были немцы, в немецкой же форме. Ну, вот, ну, почему-то он пожалел нашу семью, в защиту пошел этот. Он у тетки, вот, у тети Насти жил, квартировал. И комендант он был, назначен по деревне комендантом. И вот, когда эти немцы приехали из Гестапо, он сказал: «Дайте мне бумагу, что они не евреи». Потому что они ж видели Светку, главное, приехали к Светке, к матери в дом. А Светка лезет: «Папа, папа!» К немцу папа, вот. Он дал ей конфет, шоколадку маленькую такую. Она быстро слопала – еще давай! (Смеется) Просит еще, ей больше годика, в декабре год, а тут, может быть, еще февраль месяц, вот. Потому что мы еще расчищали дорогу. Ну, и им это очень нравилось, вот. Главное, волосы беленькие, я тоже была беленькая маленькая, потом стали темнеть волосы. И Светлана беленькая, а волосы кучерявенькие такие, кудрявенькие. И, вот, они все придут, эти кудряшку подкидывают ей на голове. Она как-то говорила: «Не дам, дам, дам». Качает головой и потом: «Дам, дам!» Значит, не дам. Мы так понимали, что это не дам, а они – дам. И вот как начинали кудряшки эти 22 трогать, она: «Дам, дам». Можно подумать, что дам по рукам или что они там понимали. Но мы боялися, что могут ей и руки поломать. Но вот они, правда, не трогали, а эту бумагу дали, что не еврейка, в Гестапо, за номером таким-то, по-другому как-то написано. Это переводчица нам переводила. Вот, так если приезжают там какиенибудь - сразу. И, главное, тетка нам не отдала эту бумагу, а держала у себя. Вас могут, что б забрать эту бумагу, поубивают и сожрут. А у меня – говорит, - она будет сохраняться, если что, вот. И комендант жил, так что, уже знают, что комендант жил, немец. А потом что с нами делали. Ну, значит, решили на субботу стопить баню. Ну, в деревне ж маленькие бани, ну, вот мы собрались, девчонки все. А хлопцы нас продали немцам. Мы только намылилися, головы, вот, моем все, в мыле там, баня топится, мы моемся. Вдруг, открывается дверь настежь, стоят немцы с автоматами. Я думала – все, конец будет, вот: «Выходи!» А мы ж голыя, закрылися все и выскочили на улицу. А это ж мороз – февраль месяц, холодно, метет, метели метут, вот. Значит, так я, значит, ну, я ж маленького роста, все крупней меня такие, все видные такие бабы. Уже некоторые замужем были, ну, молодняк собрался такой. И я ходу-ходу, и за баню стала. Стала, прыбралася, и потом, думаю, может быть, лечь, снегом закидаться, вот. И как мне было плохо (Пауза) Немцы ушли. Они сосчитали людей, а потом опомнились, что одной нету, но почему-то кто-то сказал, что я побежала в деревню. А я стояла за баней. И – А зачем они приходили? Р – Попугать нас, поразвлечься. (Пауза) Ну, хлопцы им рассказали: «Попугайте наших девок». Вот они и пришли, поиграть, вот. И я уже, они уже в деревню, а я с другой стороны, в обход по дворам с этим тазиком бегом домой. Прибегаю и сразу на печку залезла. И мешок с рожью на себе навалила. Я же замерзла, мне надо прогреться. А мешок, он грелся с рожью, молоть его должны были на муку, и он грелся. Сразу этот мешок на себя привалила. Немец так приподнял этот мешок наверх, хорошо, что он еще вот так сполз немного, так он не понял, что я под мешком. И ноги не видны были, там еще второй мешок лежит, я за этот мешок, как-то ноги под второй мешок подсунула, и он не заметил. Занавеска висит, такая не прозрачная, а плотная, вот, и все обошлося, вот. А так бы не знаю, что было бы. В общем, а туалетов нет у нас, там не принято туалеты строить. А вместе с коровой, где корова ходит, вот там садишься, под себе и ходишь. Я пришла в туалет, (Смеется), только штаны спустила, и все, вот эти ясли называются, в чем корм коровам, в яслях. Смотрю – немец. (Смеется) Я с видом таким летела. Он от меня спрятался, а я села на открытом месте в уголок, за корову туда зашла и не видела его, вот. (Смеется) 23 Ой! Я думала, что разрыв сердца у меня будет. Мне кажется, что вот с того момента, у мене и сердце и легло, потому что орала, как резаная, летела. Даже корова перепугалась, вот, так что. А потом вот уже в 43-ем году пришли наши, немцев погнали. Мы были год с чемто у немцев, только. А так уже их погнали, и пришли наши. Вот тут нам было плохо. Наши не очень-то с нами считалися. Немцы не считались, потому что мы враги, а наши не считались, потому что мы у немцев были. Вот, надо было повеситься, отравиться, убить себя, вот это было бы тогда польза. А так мы все выжили, и нас считали, как предателей, вот. И, значит, собрание собрали и говорят, что вот Вы жили тут с немцами. Я матери говорю: «Как это понимать, жили? Как это жили?» Мы жили в своей деревне, к нам немцы пришли. Почему они их не остановили? Я матери говорила. Ну, она такая женщина боевая. Она взяла и эти слова повторила. Говорит: - Как понимать, почему мы жили с немцами? А куда нм деваться? Вы не договорили. Я знаю, вы подразумеваете, что раз мы жили, значит, мы спали с ними. Но это две больших разницы. Может быть, кто и спал, но они это делают, не афишируют, а втайне и никто не знает, кто с кем спал, вот. - Да, - он говорит, этот наш офицер, собрание проводил, - да, многие брезгуют, там, где были немцы, брезгуют». - А зачем пропустили немцев? То кричали, шапками закидаем, пусть только немцы пойдут, мы их шапками закидаем. Так чего же Вы шапки то попрятали, не закидали? А мы отвечать должны? Так вы сами такие! В общем, короче говоря, там мать чуть не арестовали, на этом выступлении. Потому что она против наших солдат, чуть не арестовали. Потом, правда, в военкомат вызвали, потому что знали, что отец-то в армии. Назначили помощь, не знаю, как, помощь или пенсию. И платили нам за отца, даже не знали, жив он или не жив, а потом получили письмо из Германии. В Германии находился, и послал нам посылки. Вот это было нам хорошо. Вот присылал нам платья, вот я одену – как на меня сделано. Такие красивые платья немецкие, вот, с отделками, все. И Вера тоже уже подогналась под меня, подросла. Мне 16-17 лет, а Вере уже15, и у нее были. Мы поделили эти платья, а Галя там уже, она еще малая была, поэтому, вот, мы оставляли самое такое, что нам негоже. И, вообще, уже нам стали завидовать, уже стали завидовать. Уже дали нам участок земли, рядом тут с домом моей крестной. Вот тут выпас такой, корову иногда пасли, овечки, кто не забирает, так они тут ходили, щипали травку. И мы посадили картошку рядом с домом, значит. А вот эта, значит, Настя вот эта, Стихванова, ееныя там дети, муж, они посадили картошку рядом с нами. И вот этот 24 дерн весь выкапывали и складывали, как кирпичи, отмежевали от нас, отгородились от нас стеной. Положили вот так вот, ну, она высотой с метр, наверное, стена, и кругом там все обрезали. Мы – нет, мы все на картошку, у нас и картошки-то было мало, вот, и все на картошку эту. Ихняя картошка быстро вылезла, тоненькая такая, а наша не лезет. И все радуются, что, вот, у Стихвановых уже вылезла, а у Буянов – нет. (Смеется) Потом вылезает наша, такая толстая, листья зеленые такие, темные. Стали осенью копать - у нас картошки было, мешков не было, куда собирать . А у них вся меленькая, вся меленькая. У нас они еще одалживали картошки, на семена на следующий год. Ну, мать не отказывала, потому что надо ж делиться, надо помогать, одна ж деревня. 25