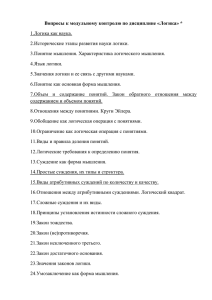детективный жанр и формальная логика: единство
advertisement
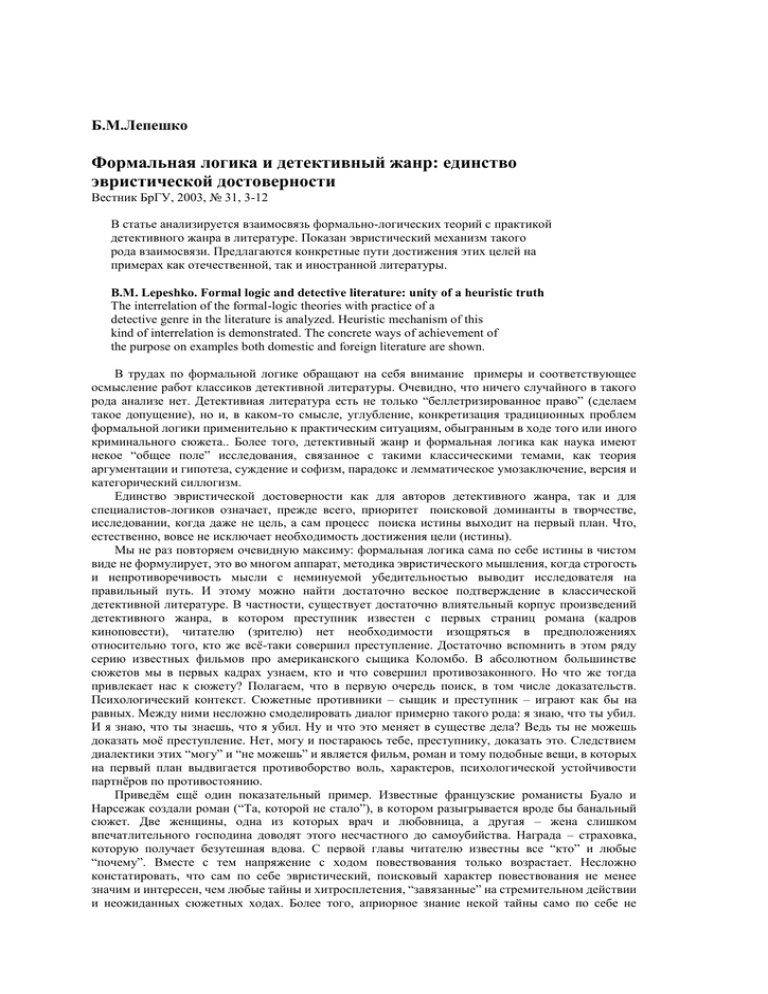
Б.М.Лепешко Формальная логика и детективный жанр: единство эвристической достоверности Вестник БрГУ, 2003, № 31, 3-12 В статье анализируется взаимосвязь формально-логических теорий с практикой детективного жанра в литературе. Показан эвристический механизм такого рода взаимосвязи. Предлагаются конкретные пути достижения этих целей на примерах как отечественной, так и иностранной литературы. B.M. Lepeshko. Formal logic and detective literature: unity of a heuristic truth The interrelation of the formal-logic theories with practice of a detective genre in the literature is analyzed. Heuristic mechanism of this kind of interrelation is demonstrated. The concrete ways of achievement of the purpose on examples both domestic and foreign literature are shown. В трудах по формальной логике обращают на себя внимание примеры и соответствующее осмысление работ классиков детективной литературы. Очевидно, что ничего случайного в такого рода анализе нет. Детективная литература есть не только “беллетризированное право” (сделаем такое допущение), но и, в каком-то смысле, углубление, конкретизация традиционных проблем формальной логики применительно к практическим ситуациям, обыгранным в ходе того или иного криминального сюжета.. Более того, детективный жанр и формальная логика как наука имеют некое “общее поле” исследования, связанное с такими классическими темами, как теория аргументации и гипотеза, суждение и софизм, парадокс и лемматическое умозаключение, версия и категорический силлогизм. Единство эвристической достоверности как для авторов детективного жанра, так и для специалистов-логиков означает, прежде всего, приоритет поисковой доминанты в творчестве, исследовании, когда даже не цель, а сам процесс поиска истины выходит на первый план. Что, естественно, вовсе не исключает необходимость достижения цели (истины). Мы не раз повторяем очевидную максиму: формальная логика сама по себе истины в чистом виде не формулирует, это во многом аппарат, методика эвристического мышления, когда строгость и непротиворечивость мысли с неминуемой убедительностью выводит исследователя на правильный путь. И этому можно найти достаточно веское подтверждение в классической детективной литературе. В частности, существует достаточно влиятельный корпус произведений детективного жанра, в котором преступник известен с первых страниц романа (кадров киноповести), читателю (зрителю) нет необходимости изощряться в предположениях относительно того, кто же всё-таки совершил преступление. Достаточно вспомнить в этом ряду серию известных фильмов про американского сыщика Коломбо. В абсолютном большинстве сюжетов мы в первых кадрах узнаем, кто и что совершил противозаконного. Но что же тогда привлекает нас к сюжету? Полагаем, что в первую очередь поиск, в том числе доказательств. Психологический контекст. Сюжетные противники – сыщик и преступник – играют как бы на равных. Между ними несложно смоделировать диалог примерно такого рода: я знаю, что ты убил. И я знаю, что ты знаешь, что я убил. Ну и что это меняет в существе дела? Ведь ты не можешь доказать моё преступление. Нет, могу и постараюсь тебе, преступнику, доказать это. Следствием диалектики этих “могу” и “не можешь” и является фильм, роман и тому подобные вещи, в которых на первый план выдвигается противоборство воль, характеров, психологической устойчивости партнёров по противостоянию. Приведём ещё один показательный пример. Известные французские романисты Буало и Нарсежак создали роман (“Та, которой не стало”), в котором разыгрывается вроде бы банальный сюжет. Две женщины, одна из которых врач и любовница, а другая – жена слишком впечатлительного господина доводят этого несчастного до самоубийства. Награда – страховка, которую получает безутешная вдова. С первой главы читателю известны все “кто” и любые “почему”. Вместе с тем напряжение с ходом повествования только возрастает. Несложно констатировать, что сам по себе эвристический, поисковый характер повествования не менее значим и интересен, чем любые тайны и хитросплетения, “завязанные” на стремительном действии и неожиданных сюжетных ходах. Более того, априорное знание некой тайны само по себе не 2 исключает ни силлогистических упражнений потеющей от безысходности жертвы или равнодушных детективов, ни выдвижения парадоксальных гипотез, ни погружения в мир софизмов. Таким образом, постепенно становится ясным, что мир детективной загадки не однороден, не однополярен, не раскрашен только лишь чёрно-белыми красками. Мир детективной загадки столь же полифоничен, как сама жизнь. И здесь всегда есть место, как творчеству, так и строгости формально-логического мышления. Одно не противоречит другому: вот первая аксиома, которая достойна внимания читателя. Конечно, мы также знаем и иное: подобный подход вовсе не является исключительным. Многие произведения детективного жанра выстроены на основе иных категорий, противоречащих в каком-то смысле принципам и методам формальной логики. Для данных авторов на первое место выдвигается, например, интуитивное или бессознательное, некие “потоки сознания” или своеобразно понятая “философия жизни”. Вместе с тем “отнять” одно от другого, то есть “логическое” от “внелогического”, на наш взгляд, даже в этом контексте достаточно сложно. Всё дело в том, что сама ткань детективного произведения “протестует” против одномерных подходов. Детектив выхолащивается не только вследствие прозрачности сюжета, но и исключения формальных моментов. Попробуйте, например, “разделить” ту же “философию вживания”, которую проповедует в ряде случаев отец Браун из рассказов Г.К.Честертона и его же строго логический ход размышлений. Можно встать в тупик: методология противоречит методу? Или работы Ж. Сименона: здесь часто трудно разделить “социальное” в творчестве писателя от собственно “детективного”. Но значит ли это, что здесь не присутствует – в той или иной мере – формальная логика? Вопрос, который следует обдумать только в контексте особенностей формально-логического мышления, демонстрируемого комиссаром Мегрэ. Но не путём исключения собственно формально-логического аппарата из арсенала методологических средств французского детектива. Данные и иные примеры свидетельствуют о необходимости более тщательного разговора о проблемах, встающих как перед исследователем детективного жанра, так и перед специалистом-логиком. Более того, такого рода анализ принесёт, на наш взгляд, несомненную пользу и практикующему юристу: и в связи с громадным и интереснейшим эмпирическим материалом, и потому, что детективный жанр есть своеобразное “alter ego” права. Да и “просто” читатель, к которым большинство из нас относится, наверняка задавался хотя бы раз недоумёнными вопросами в ходе знакомства с теми или иными работами обозначенного нами характера. Может быть, прилагаемое эссе позволит найти ответы хотя бы на некоторые из них. I Формальная логика для писателя-романиста может выглядеть смирительной рубашкой: и творчеству “тесно”, и фантазии двигаться некуда – разного рода правила, модусы, фигуры “предлагают” (условно говоря) строить текст и мысль именно так, а не иначе. Элемент истины в этом есть: формализация уже по определению ограничивает любые процессы, в том числе и творческие. Однако зададимся первым вопросом: а возможно ли вообще творчество (имея в виду криминальный жанр) вне формализации? Очевидно, что нет. Даже форма собственно произведения задаёт автору параметры будущего труда. Что же говорить о внутренних связях и взаимозависимостях идей, сюжетных ходов, биографий героев, которые не просто вплетены в фабулу, но требуют логического “ранжирования” вне зависимости даже от того, что об этом процессе ранее думал сам автор. Американский классик детективного жанра Реймонд Чандлер в известной статье “Просто искусство убивать” (Р. Чандлер. Сборник романов. М.: Рипол классик, 1999 г.) справедливо замечал, что автору часто достаточно трудно совместить сухость и формализм логического изложения с буйством фантазии художника. “У невозмутимого логика-конструктора, – несколько категорично писал Чандлер, – обычно не получаются живые характеры, его диалоги скучны, нет сюжетной динамики, начисто отсутствуют яркие, точно увиденные детали. Педант-рационалист эмоционален, как чертёжная доска. Его учёный сыщик трудится в сверкающей новенькой лаборатории, но невозможно запомнить лица его героев. Ну а человек, умеющий сочинять лихую, яркую прозу, ни за что не возьмётся за каторжный труд сочинения железного алиби”. Данные сентенции Р. Чандлера справедливы в их абсолютной, так сказать, противоположности, противоположности, взятой в “чистом виде”. Однако пресловутый “чистый вид” является скорее абстракцией, облегчающей ход мышления, нежели реальной практикой, 3 которую несложно опровергнуть. Достаточно, скажем, обратиться к романам Агаты Кристи. Ведь это общепризнанный факт, что неповторимая сочинительница с берегов Альбиона достаточно правдоподобно и последовательно выстраивала необходимые компоненты криминального повествования: и гипотезу, и версии, и доказательства, и опровержения, и софизмы с парадоксами, и соответствующие умозаключения. Однако это нисколько не мешало ни яркости изложения, ни занимательности сюжета, ни фантастических до неправдоподобия силлогизмов, бушующих в голове главного героя или героини. Достаточно назвать в этой связи классические романы писательницы: “Десять негритят”, “Восточный экспресс”, “Убийство Роджера Экройда” и ряд других. Конечно, далеко не все работы Агаты Кристи вызывали сплошь одобрительное отношение. Американская традиция вообще считает “невозможными сюжеты вроде “ Восточного экспресса”, прежде всего потому, что преступление задумано столь невероятным образом, что мало кто способен поверить автору”. Один из американских критиков писал по этому поводу: “У Агаты Кристи есть роман с участием г-на Пуаро… Изрядно помучив свои “маленькие серые клеточки”, он приходит к гениальному выводу, что коль скоро никто из пассажиров некоего экспресса не мог совершить убийство в одиночку, то, стало быть, они это сделали скопом, разбив всю процедуру на последовательность простейших операций – конвейерная сборка машинки для разбивания яиц. Задачка из тех, что ставит в тупик проницательнейшие умы. Зато безмозглый осёл решает её в два счёта”. Мы в состоянии понять иронию автора этого пассажа, однако вряд ли можем с ним согласиться. Хотя бы потому, что это литература – а значит, здесь вступают в силу свои, неподвластные критику законы, начинают формироваться процессы, не имеющие прецедента, вступают в силу механизмы, действующим по параметрам, заданным господом Богом. Можно согласиться с Р. Чандлером в одном, но существенном: для достижения хотя бы относительного совершенства писатель в романе должен достичь редкого сочетания качеств художника, творца и формалиста, логика. Скажем, скрупулёзный педантизм плохо увязывается с разного рода фантасмагориями, а пресловутые “реки крови”, на которых специализируются героические американские сыщики, как правило, вовсе не обрамлены берегами из твердынь формальной логики. Как ни странно, логика может придать детективному роману убедительность. А детективный роман должен обладать достоверностью как в ходе завязки сюжета, так и в результате исхода действия. Конечно, место логики в процессе достижения необходимой достоверности может занять иной компонент, скажем, “социальность”, под которой разумеют пресловутую “правду жизни”. Типичным примером такого рода творчества являются работы Ж. Сименона. Ведь романы французского классика детективной литературы можно охарактеризовать любым позитивным эпитетом, но в этом блестящем ряду не будет “строгой формальной достоверности”. Вот, например, роман “Мегрэ и бродяга”, где речь идёт о покушении на жизнь бродяги, клошара, который ведёт босяцкое существование под мостом. Его “дом” – под одним из многочисленных мостов Сены. Его зовут “тубиб”, что значит (“по-восточному”) “врач”. Более того, у него есть (или была?) богатая благополучная семья, медицинское образование, но он выбрал именно такой образ жизни и следует ему с непоколебимой уверенностью в своей правоте. Что здесь важно? То, что Мегрэ столь же вхож в мир клошаров, как и в жизнь аристократических салонов Парижа. Вообще иногда возникает чувство, что “подземный” мир проституток, ворья, бандитов ему в каком-то смысле ближе, чем мир расфранченных утончённых женщин и мужчин с плечами без мускулов, но безукоризненными манерами. Логика жизни в каком-то смысле заменяет Мегрэ формальную логику. Он знает, кто покушался на жизнь бродяги с берегов Сены, но эта истина даётся ему не путём изысканных силлогизмов или безупречных индуктивных рассуждений, а исходя из его глубокого знания “чрева Парижа”, исходя из громадного опыта и безупречной интуиции, которая является у комиссара методом, в каком-то смысле идентичным методологии “серых клеточек” Эркюля Пуаро или аналогии мисс Марпл. Пусть так, но кто сможет утверждать, что в итоге проиграло творчество? Очевидно, что дело совсем в другом: в системе приоритетов, в социальном опыте, в понимании самой сути творчества. А надо прямо признать, что в этой смысловой паре – детектив и формальная логика – определяющим является талант автора, во-первых, и то, как произведение принято читателем, во-вторых. Потому что достаточно неочевидна связь между талантливостью произведения и его востребованностью у читателя. Вообще говоря, автору всегда приходится чем-то жертвовать – то ли безупречной логикой, то ли хитросплетениями сюжета, то ли обострённым психологизмом, то ли красочным мордобойством, то ли изысканными диалогами, то ли безупречным знанием технических деталей. Перечень, очевидно, несложно продолжить. Но важно признать главное: вовсе не формальная логика придаёт детективному произведению высший класс. Более того, 4 формальная логика не является “существенным признаком” такого понятия, как “детективная литература”. Отличительным, абстрактным, сравнимым, совместимым и так далее – да, но не существенным. Иначе целый корпус детективной литературы окажется “за бортом” жанра. Подытоживая сказанное, можно смело упомянуть такой известный философский термин, как диалектика. Дело в том, что нет единых рекомендаций ни к применению максим формальной логики в творческом процессе, ни правил, характеризующих формы отказа от аристотелевских подходов к мышлению – естественно, когда речь заходит о творческом процессе. Творчество было и остаётся тайной. Если бы дело обстояло иначе, умелые мастера от любых прагматичных дисциплин, включая сюда и формальную логику, быстро и качественно построили необходимые конструкции и возвели соответствующее здание. Однако не получается сегодня точно так же, как не получалось вчера. Можно сколько угодно анатомировать сюжет, исследовать диалоги, искать скрытые тайны в репликах главных героев, однако есть пределы, которые не может переступить разум: это его собственные пределы. Безусловно, всё сказанное вовсе не означает, что формально-логический инструментарий негоден всегда и при всех обстоятельствах, когда дело касается творчества. Здесь действует общая и важная закономерность: творчество бессмертно и непознаваемо в такой же мере, в какой человек будет стремиться отгадать (вычленить, исследовать, проанализировать) его составные компоненты. И нет здесь оружия более эффективного, чем его же собственное мышление, вооружённое правилами и методами формальной логики. Возможно, внимательный читатель заметит здесь некоторое противоречие. Но пусть он тогда вернётся к тому понятию, которое мы поместили в начале последнего абзаца. Ведь речь всё же идёт именно о диалектике. II Наш текст будет страдать явной неполнотой, если мы обойдём стороной вопрос о методе и методологии в аспекте криминального жанра. В данном случае метод (как элемент методологии) можно определить в самом общем виде как способ познавательной или практической деятельности, представляющий собой последовательность познавательных операций или этапов деятельности, выполнение которых (в указанной последовательности) способствует наиболее успешному достижению желаемого результата. Теория метода достаточно изучена и нам нет необходимости останавливаться на их классификации, типологии, характеризовать отдельные алгоритмы достижения истины. Для нас принципиальным является вопрос о соотношении метода как элемента теории формальной логики (в частности) и его практическом применении в детективной литературе. Как известно, в работах одного из классиков детективного жанра, Г. Честертона неоднократно воспроизводятся рассуждения отца Брауна относительно метода детективной деятельности. Напомним, речь шла о том, что честертоновский сыщик “сам убивает своих героев”. Понятно, что данный парадокс восходит к классическому, со времён Вильгельма Дильтея, “вживанию” в образы преступников, изучении их “изнутри”. Но, похоже, здесь совсем “мало” логики? Даже если согласиться с этим тезисом, отбросить теорию “вживания” мы не имеем права. И дело здесь не только в рассуждениях скромного отца Брауна. Возьмём романы уже упоминавшегося нами Ж. Сименона, в частности, “Неизвестные в доме”. Здесь нет необходимости пересказывать сюжет. Важно иное. Главный герой этого не столь широко известного произведения (может, потому, что там ещё не фигурировал комиссар Мегрэ), частный адвокат, спившийся в связи с личными неудачами, иногда всё же одевает адвокатскую мантию и, как правило, в силу талантливости и профессионализма всегда выигрывает дела. А секрет его блистательных судебных побед прост: “Я всегда думаю точно также как тот, кто находится на скамье подсудимых… Я перевоплощаюсь в него и тогда мне понятна как мотивация поступков, так и результат процесса”. Методологически данный подход великолепно охарактеризовал в своей работе “Теория и история историографии” (М.: Язык русской культуры, 1988) Б. Кроче. Итальянский мыслитель писал: “Вы хотите понять подлинную историю первобытных людей эпохи неолита? Попробуйте, по мере возможности, перевоплотиться в первобытного человека времён неолита, а если такой возможности нет или вам это не нужно, довольствуйтесь описанием, классификацией и раскладыванием по порядку черепов, утвари и обломков наскальных росписей, которые вы обнаружили. Желаете узнать подлинную историю травинки? Прежде всего попытайтесь перевоплотиться в эту травинку, а если не удастся, довольствуйтесь анализом её частей и при этом сочиняйте их псевдоисторию”. 5 Безусловно, Б. Кроче формулировал свои методологические требования прежде всего к истории, однако очевидна их важность и для других наук, в том числе и в нашем контексте. Ведь попытки “вживания” достаточно популярны в криминальной литературе, даже в том случае, когда литературный герой (следователь, сыщик) постоянно “переплетает” в сознании не только попытки “вжиться” в образ действий и мыслей своего антагониста, но и активно привлекает при этом методологию формальной логики. На наш взгляд, здесь нет противоречия. Одно может прекрасно дополнять другое. Более того, достаточно распространены сюжеты, где автор, понимая недостаточность, скажем, пресловутого “вживания” или инструментария формальной логики, прибегает вовсе к неожиданному подходу. В качестве примера обратимся к роману Рекса Статута “Слишком много женщин”. Сюжет носит следующий вид. Ниро Вульф, великий сыщик, вместе со своим другом-помощником Арчи Гудвином приглашён на званый обед. Вместо официанток за столом прислуживают наёмные актрисы, количеством более десятка. В результате их обслуживания один из гостей отравлен и умирает. Как доказано, отраву подсыпала одна из официанток. Кто? Задача представляется достаточно простой: количество подозреваемых строго очерчено, можно двигаться разными путями, в том числе методом исключения или индуктивным методом. Вульф пробует и то, и другое. Однако терпит – первоначально – поражение. Индукция не помогает вследствие своей неполноты, метод исключения не даёт результата из-за запутанности ситуации. Сыщик прибегает к помощи помощника: – Арчи, ты очень хорошо знаешь женщин. Кто из них? Однако и элементы “вживания” не срабатывают в силу ряда причин. Что остаётся Вульфу? Правильно, нетривиальный ход, не имеющий отношения ни к нашему “вживанию”, ни к формальной логике. Американский сыщик прибегает к элементарной полицейской провокации. То есть один из присутствующих звонит по телефону ряду подозреваемых и утверждает, что что-то подозрительное видел. Нервы у подлинной преступницы не выдерживают и результат для правосудия позитивен. О чём в первую очередь говорит данный пример? О том, что строго выдержать ту или иную методологию, тот или иной конкретный метод в ходе детективного повествования достаточно сложно. Автор постоянно сталкивается с рядом специфических трудностей, преодоление которых возможно только путём применения некоторого методологического симбиоза. Возьмём “классическую” Агату Кристи, а точнее, “старушку Джейн”, мисс Марпл. Очевидно, что главный метод, взятый ею на вооружение, есть аналогия. Сент-Мэри-Мид, скромная деревушка, в которой всю жизнь живёт пожилая женщина, есть некая модель социума, где можно найти любые перипетии, характерные и для огромного мегаполиса. Если мы на время отвлечёмся, то заметим, что данный подход вовсе не является оригинальным. Вспомним хотя бы гениального Макиавелли, который утверждал, что единство человеческой истории придаёт именно неизменяемость человеческой природы. Человек действует стандартно в большинстве случаев, с которыми сталкивает его жизнь. Плачет, когда больно, смеётся, когда смешно – это на элементарном уровне. Но и на более сложных ступенях эволюции мотивация предопределяет конкретные действия. Так и хочется вспомнить здесь и булгаковского Воланда, посетившего Москву и убедившегося, что люди не меняются на протяжении тысячелетий. Однако вернёмся к мисс Марпл. Можно ли утверждать, что исключительно метод аналогии является главным инструментом её мыслительной деятельности в части расследования детективных историй? Очевидно, это было бы явной натяжкой. По большому счёту в текстах Агаты Кристи можно наблюдать и развёрнутый формально-логический аппарат (гипотезы, доказательства, аналогии, опровержения и т. д.), и так называемую “философию жизни”, когда событийный ряд, взятый во взаимозависимости с социальным опытом, может дать потрясающие по откровенности результаты. Метод сам по себе, как бы он не назывался, может и служит неким смысловым стержнем, базисной категорией, но вовсе не единственным средством эвристического знания. Однако нужно учитывать и тот немаловажный факт, что метод в художественном произведении не существует сам по себе. Он “вплетён” в ткань повествования, он должен быть органичным по отношению к стилистическим особенностям “письма” автора, к построению фразеологических оборотов, к тому, что называют “аурой письма”. Вот романы Жоржа Сименона. Перед читателем комиссар Мегрэ со своей знаменитой трубкой и в таком же известным пальто. Он неспешно идёт на работу, поглядывая на Париж точно так же, как воробьи с прибрежных каштанов глядят на самого Мегрэ. Рядом Сена, несущая свои мутные воды вдаль, за живописные повороты. Неспешно дымящие пароходики и баржи, пробирающиеся по фарватеру, хрипло просят дорогу. Вдруг начинается дождь и открытых разноцветных зонтиков, кажется, больше, чем людей. За окнами многочисленных бистро и кафе люди, они о чём-то говорят, смеются, а струи дождя на окнах смывают и их смех, и их слова. Любой читатель сразу скажет 6 после этих хаотичных слов: импрессионизм. Великое художественное течение конца девятнадцатого – начала двадцатого века. И знакомые ассоциации: Моне, Мане, Дега, Тулуз-Лотрек, Сезанн… А теперь попробуйте в этот смысловой и художественный ряд “поместить”, скажем, такие понятия, как “простой категорический силлогизм” или “энтимема”. Не получается, не так ли? То есть метод в художественном произведении и, например, в научном труде – это разновеликие вещи. И требования к авторам должны предъявляться соответствующие. Теоретически любой мыслимый метод может быть положен в основу детективного произведения. Всё зависит от меры таланта и качества вкуса. Но может быть и совершенно иное: полное отсутствие методов, которые заменяются активными действиями персонажей. То есть бей, беги, стреляй, увёртывайся, опять беги и опять стреляй… Данного рода литература не является предметом нашего анализа, хотя это вовсе не значит, что ей должно быть отказано в праве на жизнь. III Нельзя отрицать, что в детективном жанре буквально всё имеет смысл и может быть адекватно оценено читателем. То есть и сам ход авторского рассуждения, и соответствующие диалоги, даже описание природы и психологические характеристики тех или иных персонажей. Однако суть и смысл детектива – и именно в этом аспекте такого рода труды наиболее близки в содержательном смысле формальной логике – в аргументации, доказательстве, опровержении и сопутствующих элементах формального характера. Ничто не сравнится с блеском доказательства, выверенностью аргументов, доступностью и убедительностью представленных суду какой-либо из сторон фактов и анализ не вызывающих сомнения процессов. В качестве “первичного” примера вернёмся к роману Агаты Кристи “Восточный экспресс”. Главным образом потому, что он в наибольшей мере известен читателю. Вспомним, как Эркюль Пуаро выстраивает систему доказательств. Во-первых, личность самого убитого. Рэтчетт не мог принять снотворного в эту ночь (а он его принял), поскольку доказано, что этот малосимпатичный человек реально опасался за свою собственную жизнь. Во-вторых, внешние обстоятельства преступления. Поезд застрял среди снеговых заносов, следовательно, убийца находился среди пассажиров вагона Стамбул-Кале. В-третьих, фактор времени. Рэтчетт не говорил по-французски, а между тем он отвечал на этом языке одному из пассажиров. В-четвёртых, фактор “полного вагона” в межсезонье, то есть время, когда поезда ходят наполовину не заполненными. В-пятых, алиби подтверждало невиновность всех пассажиров, что приводило к парадоксальному выводу об их всеобщей виновности. Доказательства месье Пуаро можно приводить ещё достаточно долго, однако для нас гораздо более важным выглядит следующее соображение. Доказательства носят характер всесторонности (комплексности, системности), они учитывают многообразие версий, но отдают предпочтение одной из них. Судя по всему, при всей необратимости доказательств остаётся возможность их иной интерпретации. Что, как известно, произошло на деле. То есть в строгой логической структуре доказательств появился неожиданный фактор: психологический. Рэчетт, убивавший людей, получил по заслугам и Пуаро молчаливо признал право странного суда присяжных, собравшихся на время в вагоне, не только на безжалостный вердикт, но и его кровавое исполнение. Но там, где остановился бельгийский сыщик, нам надо двигаться вперёд. В частности, ответить на простой вопрос: существует ли некая умозрительная граница, которую может (или не имеет права) переступать должностное лицо? Вопрос на деле не так уж и прост. Хотя бы потому, что все мы люди-человеки и не чужды симпатий и антипатий. Да и примеров соответствующих предостаточно. Вот тот же Пуаро: взял и согласился с версией, прямо противоречащей истине. А вот иной прецедент: оценку представленных суду доказательств, как известно, осуществляет судья – не только вследствие их полноты и безупречности, но и собственного личного убеждения. А здесь всегда будет существовать соблазн принятия “личного” решения. Другими словами, попробуем рассмотреть треугольник понятий “логика” – “детективная литература” – “психология”. Для начала обратимся к классикам психологического детектива. Что они нам могут подсказать? В качестве основы для размышлений возьмём два детектива, относящихся к классическим в жанре психологического триллера. Это “Молчание ягнят” Томаса Харриса и “Таинственный мистер Рипли” Патриции Хайсмит. Итак, в “Молчании ягнят” некий Буйвол-Билл похищал и затем зверски убивал молодых женщин. В качестве полицейских антиподов преступнику автор выводит опытного Джека 7 Кроуфорда и молодого следователя Старлинг. Фигурирует в повести и психиатр-психопат доктор Лектер. Объявляется совместный поход на маньяка-убийцу, где каждый преследует свои цели. Это – предельно упрощённая канва. Для нас же важно иное: система приоритетов по отношению к логике и психологии в детективном повествовании. Главное, что сразу же необходимо отметить, так это то, что логика здесь вообще малозаметна. Нельзя сказать, что её нет вовсе: соответствующие аппараты разных служб действуют и строго логично, и безупречно формально. Однако сами убийства не укладываются в прокрустово ложе формальной логики. Ну кто и как может догадаться, что убийца из кожи своих жертв шьёт наряд для своей умершей матери? Причём здесь логика, причём здесь формализм? Очевидно, что кроме строгости собственно мышления, формальная логика в данном контексте бессильна. Вступают в дело иные факторы, подсознательного, так сказать, характера. Есть в каждом человеке нечто спрятанное от иных. Вот бредёт он по улице: прост, как правда, ясен, как холодное небо, прозрачен, как колодезная вода. А в голове – шторм, ураган, вихри мыслей и чувств. Обиженное детство, ранняя смерть родителей, сексуальные переживания, неудачная семейная жизнь – причин может быть тысячи и что реально может противопоставить следователь такого рода внешне неактивному и скрытому поведению? Томас Харрис полагает, что такой предпосылкой может служить прежде всего “однонаправленность” мышления преступника и следователя. Однонаправленность, понимаемая как возможность сопонимания не укладывающихся в рамки здравого смысла действий. Это некоторого рода чувствование, запредельное формальной логике. (Помните, к слову, Доцента из фильма “Джентльмены удачи”: “Я чувствую, я всегда чувствую…”) Однако здесь между этим чувствованием и формальной логикой всё же нет межевого барьера, нет непроходимой стены. Всё дело в том, что этап собственно чувствования может наступить только после того, как исчерпаны возможности формально-логического мышления. То есть любого рода озарение должно иметь под собой некую эвристическую базу, что-то реальное, пусть этой реальностью будут абстрактные выкладки и такого же рода выводы. Катализатором процессов, о которых мы говорим, в повести Т. Харриса стали намёки доктора Лектера. Именно он, сам находящийся (частично?) за пределами здравого смысла, смог подсказать первое движение следователей на пути к разгадке истины. Вот это и составляет сердцевину художественных произведений такого рода: лечи подобное подобным, разговаривать с маньяком может только сам маньяк, а формальная логика и соответствующие усилия следователей имеют смысл только в рамках такого понимания приоритетов. В этом смысле можно вспомнить факт излечения психически больного человека известнейшим американским специалистом Т. Эрикссоном. Пациент психиатрической клиники постоянно произносил бессвязные потоки слов и ничего более. Эрикссон запомнил повторяющиеся выражения этого потока, составил свой собственный словарик и стал произносить во время встречи с больным точно такие же бессвязные выражения. Итог был позитивным. Безусловно, нельзя забывать, что здесь нами представлен лишь один из вариантов решения проблемы. Могут быть и иные. Обратимся для понимания альтернативных феноменов к “таинственному мистеру Рипли”. Здесь сюжет можно свести к следующим основным констатациям. Молодой человек по имени Том убивает такого же молодого человека по имени Дики и вначале фактически перевоплощается в убитого с целью материального обогащения, а затем “возвращается” к себе самому, но с завещанием бедняги Дики. Звучит казённо, но суть именно такова. Собственно канву произведения составляет описание процесса вживания убийцы в жизнь убитого и “выживании” из него. Ведь главное заключается в том, чтобы тебя не заподозрили все без исключения: и любимая девушка Тома, и его родители, и близкие друзья. Как ни странно, всё заканчивается для убийцы благополучно. И вот теперь главный вопрос: какими средствами решает автор поставленную задачу? Как здесь обстоит дело с приоритетами в сфере логики, психологии и криминала? В чём суть новаций Патриции Хайсмит? Отгадка лежит в плоскости достаточно часто употребляемого автором романа фразеологического оборота “перепрыгивание из характера в характер”. То есть Том учится, пытается размышлять не только как погибший Дики, но и как должен думать, размышлять в принципиально новой ситуации сам он, Том. Раздвоение сознания? В том-то и дело, что речи о раздвоении личности не может быть, иначе рано или поздно наступит кризис, либо – грянет ошибка. Новизна подхода Патриции Хайсмит заключается в том, что убийца постоянно размышляет, действует, пишет, открывает счета на двоих – Тома и Дики. Реальный человек пробует жить “на двоих”, “за двоих”. И здесь, конечно, нет места для двузначной логики. Но, может 8 быть, есть место для логики интуиционистской, модальной или конструктивной? Полагаю, что ответ должен быть отрицательным. Хотя бы потому, что анализируемый нами детектив лишён обязательного набора “детективных качеств” (если таковой в принципе существует). Скажем, здесь ищут человека, но соответствующие версии отсутствуют. Нет следственных экспериментов и нет подозреваемых. Отсутствуют судебные перспективы в каком-либо роде. Есть лишь убийца, известный читателю и убитый. В чём же смысл жанровой особенности романа? В неспешном изображении собственно процесса “перепрыгивания из характера в характер”, как уже отмечалось, и в доказательстве того тезиса, что преступление может остаться нераскрытым. Тривиально? Возможно. Но не тривиален сам подход, аргументация данного хода рассуждений. Заключая наш краткий анализ, необходимо высказать следующие общие соображения. Во-первых, психологический детектив – в отличие от детективов другого характера – резко смещает систему приоритетов в пользу собственно психологии, а не логики. В иных случаях этого не происходит. Возьмём, к примеру, так называемый “деревенский детектив”: здесь деревенским является лишь соответствующий антураж, но никак не система приоритетов в построении произведения и авторского понимания сути вещей. Отсюда следует, что психология выглядит, как минимум, равноценной логике по своему эвристическому потенциалу – это, во-вторых. В-третьих, что тривиально, каким бы образом не выстраивался текст произведения, характер которого носит криминальную суть, формальная логика всегда занимает подобающее место. Когда она находится на первых ролях, когда на вторых, но всегда её присутствие обязательно. Ведь даже обращение к сфере бессознательного не может заставить автора полностью сосредоточиться, скажем, на ассоциативном ряде. Или оперировать исключительно понятиями детства. Даже психологический детектив, написанный “интуитивным” языком, нуждается в обязательной транскрипции, транслитерации текста с целью донести его до читателя. Иначе это останется “вещь в себе”, пригодная лишь в качестве объекта академического интереса. IV Было бы логичным завершить наши небольшие заметки обращением к славянской литературе соответствующего профиля. Несмотря на то, что мировых знаменитостей масштаба, скажем, Ж. Сименона или А. Кристи, мы у нас всё же не обнаружим, утверждать, что в этом виде творчества у нас сплошные пробелы было бы явным преувеличением и несомненным искажением истины. Чтобы быть более доказательным обратимся к двум именам: российскому в лице Г. Чхартишвили и белорусскому, связанному с В. Короткевичем. Если попробовать “проанатомировать” труды Б. Акунина с точки зрения формальной логики, то мы сразу же столкнёмся с рядом трудностей. Чтобы проиллюстрировать их, прибегнем к ряду цитат. Речь, очевидно, в них пойдёт о главном герое, Эрасте Петровиче Фандорине. Первая: “Чего он терпеть не мог, так это загадок и необъяснимостей. У каждого события, даже у выскочившего на носу прыщика, есть своя предыстория и причина. Просто так, ни с того, ни с сего, на белом свете ничего не происходит” (“Пиковый валет”). Э. Фандорин – специалист (если судить по многочисленным характеристикам) в сфере “сыскной дедукции”. Это – второе. В-третьих, он сторонник криминологической науки (“уши у каждого человека неповторимы и изменить их невозможно”), мастер “изысканных гипотез” и “ошеломляющих версий”. У Эраста Петровича (в-пятых) странные методы ведения расследования: то он дерётся на мечах, то хлопает ни с того ни с сего в ладоши, то выводит на рисовой бумаге иероглифы, то барахтается в наполненной колотым льдом ванне. Вообще сам Б. Акунин предпосылает своему литературному проекту такую фразу: “Памяти девятнадцатого столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления раскрывались и совершались с изяществом и вкусом”. Для нашего контекста важны именно те слова автора, где говорится “об изяществе и вкусе”. К сказанному стоит добавить следующее. Фандорин – личность. Точно такая же, как Мегрэ Сименона. Или Вульф Стаута. Остановимся на сказанном и попытаемся вычленить приоритеты акунинских романов применительно к теме нашего разговора. Привечает ли Эраст Петрович логику? Вне всяких сомнений, как и любой прогрессист девятнадцатого века. Вера в грядущее благополучие человечества постоянно требовала всё новых жертв в виде разного рода теорий и взглядов. Как же в этом ряду без логики, которая со времён Джона Стюарта Милля стала настольной книгой как студентов университетов, так и “всей мыслящей России”. Однако особенность “фандоринской” логики заключается в том, что она мгновенно теряет свою абсолютность, если это требуется по ходу сюжета. Вот, например, известный роман “Декоратор”. Фандорин находит убийцу десятков 9 безвинных жертв, более того, сам убивает его. Всё логично, всё в рамках прогрессистских теорий века. Зло должно быть наказано. Но ведь именно на этой стадии герой терпит крах: от него уходит любимая женщина, которая не может простить убийства. По её мнению, убийцу нужно лечить (это уже позиция века двадцатого), но никак не убивать. Таким образом, логика Фандорина оборачивается крупными личными потерями, а значит, она (логика) не всесильна. Уже стало общей фразой утверждение, что Фандорин есть литературный “слепок” российской действительности девятнадцатого века. Его действия – некий римейк уже состоявшихся сюжетов и таких же героев. Он “входит” в русскую литературу как нож в масло. Однако есть и существенное отличие: Фандорин многолик, как Шива, причём та или иная его ипостась выходит на первый план с такой же непредсказуемостью, с какой он формулирует свои блестящие гипотезы относительно того или иного преступления. Логика действий Фандорина обосновывает всё что угодно, но только не банальный триллер. Хотя элементы последнего всегда можно найти на страницах романов писателя. Фандорин в каком-то смысле фигура отстранённая от самой российской действительности – именно потому, что он “герой”, “идеальный тип”, социальные связи которого неочевидны. В пользу данного утверждения может служить даже такой факт, как “типология детективов”, предложенная Б. Акуниным. В самом деле, “Азазель” – конспирологический детектив, “Турецкий гамбит” – шпионский детектив, “Левиафан” – герметичный (?) детектив, а ещё детективы мистические, этнографические и так далее. Как ни странно, нет “деревенского” детектива, хотя данная тема для России девятнадцатого века – ключевая. Нет детектива революционного, или промышленного. Хотя, может быть, всё дело в том, что наш автор – салонный шалопай, эпатирующий публику крутыми сюжетами, взятыми “напрокат” из отечественной и западноевропейской литературы? Да нет, ничего похожего. Именно отстранённость от животрепещущих тем российской действительности даёт Б. Акунину возможность выстраивать легко читаемые сюжеты, виртуозно формализовать рассуждения, формировать немыслимые развязки. Акунинская проза производит впечатление эклектического смешения не только стилей, но и формально-логических подходов. Автора нельзя назвать писателем, строго следующем в фарватере методологии кого-либо из видных классиков современности: будь то Ж. Сименон или А. Кристи. У Б. Акунина просматриваются как социальные страницы, так и исторические реминисценции, как элементы ужасов а-ля Фредди Крюгер, так и сентиментальные поиски самого себя в этом “бушующем мире”. Симбиоз не предполагает логики, тем не менее страницы произведений Б. Акунина строго логичны. В чём же секрет? На наш взгляд, в талантливой многоплановости как содержательной, так и формальной сторон анализируемых произведений. Вот, к примеру, роман “Пелагия и белый бульдог”. Здесь и лирические описания природы, блестящие сами по себе. Присутствует тонкое знание такого деликатного предмета, как специфика религиозного служения, религиозной службы, религиозной жизни вообще. Чего стоит один только образ владыки Митрофания. В романе мы обнаружим жизнь дворянской усадьбы, прелести которой поданы совсем в тургеневском духе, социальное прожектёрство выдано в том же прогрессистском контексте, как и идеи Солженицына, до сих пор пытающегося обустроить Россию. И здесь же – мрачный сюжет о непрекращающихся убийствах, в центре расследования которых стоит образ женственной и милой матушки Пелагии. А ещё в романе присутствует “чеченский след”, неофрейдистские намёки и так далее. Вроде бы намешано (а перечислено далеко не всё) неисчислимо. Читатель должен теряться во внешне вне логичных формах. А на деле всё оказывается подогнанным столь же прочно и мастеровито, как сшит сам сюжет. Странная вещь, напоминающая известную сентенцию о безобразном, степень которого может быть столь велика, что оно незаметно превращается в прекрасное. Это к тому, что внелогичное может быть столь впечатляющим, что превращается в свою противоположность: строго формализованный текст. Типична ли акунинская проза для российской криминальной литературы? Нет. Новоугарные сюжеты, основанные на культе силы или возведении в абсолют лагерной романтики, ему совершенно чужды. А именно они правят был на современной сцене литературной жизни соседней страны. Формальная логика, зачастую отсутствующая вовсе в работах такого рода, у Б. Акунина присутствует. Как и присутствует стиль классической русской литературы. И это придаёт оптимизм как читателю, так и начинающим литераторам. Несколько иная ситуация складывается при обращении к имени выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича. “Дикая охота короля Стаха”, “Чёрный замок Ольшанский” (как романы, наиболее интересные в рамках наших рассуждений) нельзя отнести к произведениям классического детективного жанра. И тем не менее мы можем говорить о белорусском писателе в контексте нашей темы, поскольку в его творчестве проблема соотношения (приоритетов) 10 “криминального” и “формально-логического” имеет свои несомненные особенности. Во-первых, у белорусского писателя прослеживается несомненный интерес к криминалистической проблематике. Достаточно вспомнить в этой связи усилия главного героя “Чёрного замка Ольшанского”, А. Космича, по расшифровке древней рукописи. Во-вторых, сюжет закручен достаточно лихо: здесь и элементы мистицизма, и исторические реминисценции, и неожиданные разоблачения и, как полагается, любовь. В-третьих, герои обоих романов постоянно находятся в поиске новых версий происходящих событий, выстраивают соответствующие гипотезы и представляют аргументы в пользу тех или иных своих предположений. То есть (можно сделать первое обобщение) в произведениях Владимира Короткевича постоянно присутствуют как художественные элементы криминального характера, так и соответствующие попытки их формально-логического осмысления. Второе обобщение связано с принципиальной особенностью творчества писателя: историцизмом, насквозь пропитывающим сюжетную канву. Вначале история, а затем криминалистика и логика. Примерно так можно сформулировать это положение. Всё дело в том, что история у писателя принимает самодовлеющий характер. История – некий фатум, возвышающийся над сущим, в том числе и над мышлением. По отношению к истории вторично всё, кроме самого человека. Нет необходимости в развёрнутых доказательствах этого тезиса, поскольку каждая страница работ писателя “замешана” на любви к истории и понимании её всесокрушающей и всесозидающей силы в ходе развития социума. Истории “подчинены” формальные факторы. Скажем, версии, гипотезы. Если писатель формулирует гипотезу, то можно быть уверенным, что её корни потянутся в далёкое прошлое. Если речь идёт о версии преступления, то ищи свидетелей не на улицах и площадях современности, а в катакомбах архивов и подвалах покрытых сединой веков. История держит в своих объятиях логику столь же цепко, сколь неразрывна связь времён и понимание этого фактора самим писателем. На наш взгляд, этот фактор (исторический) вообще выглядит методологическим постулатом творчества писателя. Можно и нужно говорить также и о том, что В. Короткевич придаёт важнейшее значение теории аргументации, имея в виду тщательное вырисовывание деталей, внимание к мелочи, выстраивание цепи доказательств, постоянное “снятие” противоречий путём безупречных силлогизмов. Возьмём, к примеру, рассуждение о том, “откуда приходит охота короля Стаха”. Перед нами типичное разделительное умозаключение, его утверждающе-отрицающий модус. Один из героев романа, Рыгор, формулирует его следующим образом: дикая охота придёт или пущей, или Холодными лощинами, или Болотными Ялинами // Дикая охота пришла Болотными Ялинами // Дикая охота не пришла пущей или Холодными лощинами. Такого рода примеры несложно продолжить. Вспомним, например, как главное лицо романа “Чёрный замок Ольшанский” Андрей Космич приходит к выводу о том, под какой башней замка, возможно, закопан клад или нечто более существенное. Первоначально его рассуждения носят характер “перевода” букв кириллицы на цифровые значения. Скажем, буква “веде” третья по счёту в кириллице, поэтому и искать клад надо было под третьей башней (мы опускаем здесь иные подробности). Но, как оказалось впоследствии, одна из букв данного “кириллического” слова не имеет цифрового значения, поэтому искать клад необходимо было не под третьей, а под второй башней. Здесь, возможно неосознанно, А. Космич руководствовался известной максимой Г. Лейбница, родоначальника символической логики. Немецкий мыслитель писал: “Единственное средство улучшить наши умозаключения – сделать их, как у математиков, наглядными, так, чтобы свои ошибки находить глазами и, если среди людей возникает спор, нужно сказать: “Посчитаем!”, тогда без особых формальностей можно будет увидеть, кто прав”. Можно смело констатировать, что герой романа в русле требований символической логики “посчитал”, в данном конкретном случае не только числа, буквы, но и башни, в результате чего был достигнут позитивный результат. Заметим к слову, что в романах В. Короткевича достаточно часто встречаются загадки, основанные на археологических, этнографических, палеографических и иных основаниях, которые он пытается разрешить самыми разнообразными способами, среди которых превалируют логические. Белорусский писатель отдал несомненную дань историческому детективу, причём внёс, на наш взгляд, массу существенных факторов как смыслового, содержательного, так и формального, в том числе формально-логического характера как в структуру своих произведений, так и в сами подходы к осмыслению сути криминально-исторического. В каком-то смысле глубоко справедливо, что заканчиваем данное эссе мы именем всё-таки белорусского автора. И в силу того, что он был пионером жанра здесь, на восточно-славянских землях, и потому, что активно привлекал формально-логическую методику для разрешения многочисленных загадок, как исторических, так и криминальных. Более того, В. Короткевич был органичен в соединении, синтезе 11 криминально-исторического и формально-логического. Иногда читателю надо напрячь воображение и разум для того, чтобы увидеть эту связь. Но ведь это есть лучшее доказательство того, что автору удалось достичь поставленной цели органическим, а не искусственным путём. Имея в виду не натянутые силлогизмы и далёкие от контекста суждения, “лобовые” умозаключения и ясные ещё в процессе формулировки версии. * * * Какой общий вывод из сказанного кажется автору необходимым? Скорее всего, констатация диалектической связи между понятиями “криминальное” и “формально-логическое”. Хотя та же формальная логика применительно к диалектике формирует своё неоднозначное отношение. Всё дело в том, что в наш контекст постоянно врывается не менее важное понятие – творчество. И здесь без диалектики не обойтись. Для юриста особенно важна эта констатация, ибо разделять понятия, видеть их связь – это двуединая задача, решать которую приходится фактически ежедневно. Возьмём в качестве примера одну из элементарных задач, предложенных американским автором: “Одного человека судили за участие в ограблении, обвинитель и защитник в ходе заседания заявили следующее. Обвинитель: Если подсудимый виновен, то у него был сообщник. Защитник: Неверно! Ничего хуже защитник сказать не мог. Почему?” Ответив на поставленный вопрос, мы ещё раз убедимся как в необходимости правильно мыслить, так и важности постоянного обращения к царице доказательств – логике.