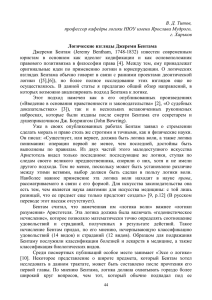Критика политического морализма (мораль
advertisement
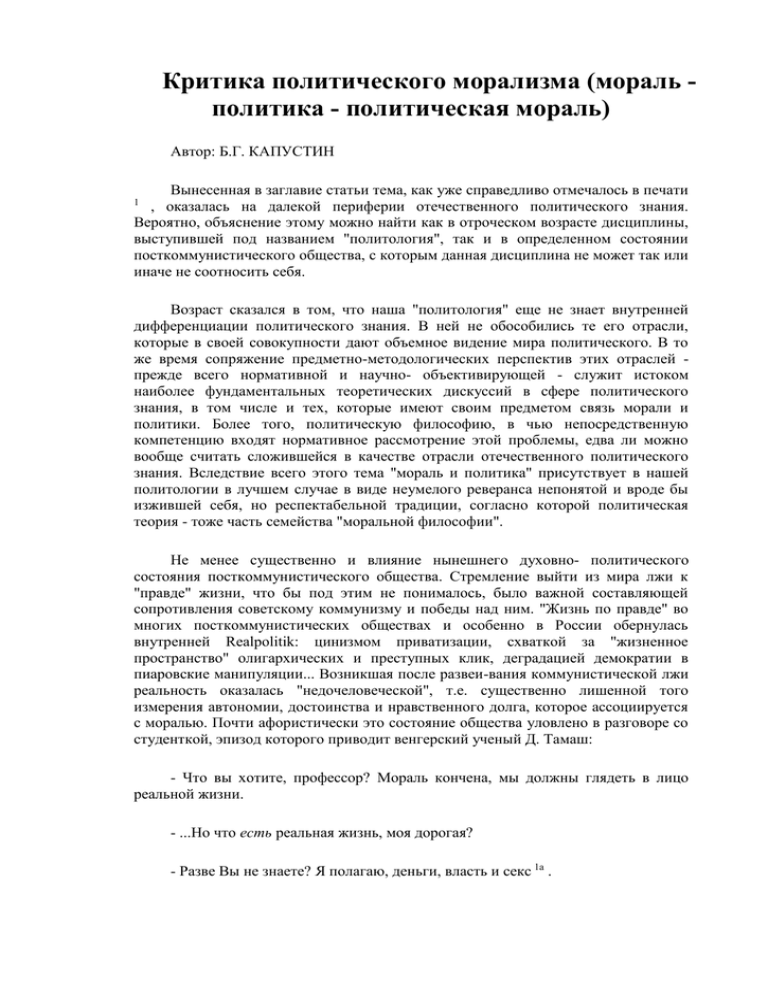
Критика политического морализма (мораль политика - политическая мораль) Автор: Б.Г. КАПУСТИН Вынесенная в заглавие статьи тема, как уже справедливо отмечалось в печати , оказалась на далекой периферии отечественного политического знания. Вероятно, объяснение этому можно найти как в отроческом возрасте дисциплины, выступившей под названием "политология", так и в определенном состоянии посткоммунистического общества, с которым данная дисциплина не может так или иначе не соотносить себя. 1 Возраст сказался в том, что наша "политология" еще не знает внутренней дифференциации политического знания. В ней не обособились те его отрасли, которые в своей совокупности дают объемное видение мира политического. В то же время сопряжение предметно-методологических перспектив этих отраслей прежде всего нормативной и научно- объективирующей - служит истоком наиболее фундаментальных теоретических дискуссий в сфере политического знания, в том числе и тех, которые имеют своим предметом связь морали и политики. Более того, политическую философию, в чью непосредственную компетенцию входят нормативное рассмотрение этой проблемы, едва ли можно вообще считать сложившейся в качестве отрасли отечественного политического знания. Вследствие всего этого тема "мораль и политика" присутствует в нашей политологии в лучшем случае в виде неумелого реверанса непонятой и вроде бы изжившей себя, но респектабельной традиции, согласно которой политическая теория - тоже часть семейства "моральной философии". Не менее существенно и влияние нынешнего духовно- политического состояния посткоммунистического общества. Стремление выйти из мира лжи к "правде" жизни, что бы под этим не понималось, было важной составляющей сопротивления советскому коммунизму и победы над ним. "Жизнь по правде" во многих посткоммунистических обществах и особенно в России обернулась внутренней Realpolitik: цинизмом приватизации, схваткой за "жизненное пространство" олигархических и преступных клик, деградацией демократии в пиаровские манипуляции... Возникшая после развеи-вания коммунистической лжи реальность оказалась "недочеловеческой", т.е. существенно лишенной того измерения автономии, достоинства и нравственного долга, которое ассоциируется с моралью. Почти афористически это состояние общества уловлено в разговоре со студенткой, эпизод которого приводит венгерский ученый Д. Тамаш: - Что вы хотите, профессор? Мораль кончена, мы должны глядеть в лицо реальной жизни. - ...Но что есть реальная жизнь, моя дорогая? - Разве Вы не знаете? Я полагаю, деньги, власть и секс 1а . В той мере, в какой это рассуждение справедливо, нормативная политическая теория лишается своих предмета и адресата: она утрачивает обе эти связи с действительстр. 33 ностью (понимая под "действительностью" "результат социального процесса, принимаемый в качестве нормального в данном специфическом контексте" 2 ). Перед ней остаются два пути. Первый - стать критической теорией, нацеленной на исследование возможностей действия, преодолевающего ту реальность, которая утратила моральное измерение. Но в своей исходной позиции она оказывается, по выражению Теодора Адорно, "печальной наукой", т.е. знанием о том, что "в неправильной жизни не может быть жизни правильной" 3 . Ясно, что "политология", усматривающая свою главную задачу в описании политических систем, выявлении "императивов" модернизаций и "транзитов" и подготовке знатоков PR и административных технологий, на эту позицию перейти не может. Она не может позволить себе стать критической теорией, каковой - в той или иной степени и форме - выступали важнейшие нормативные теории политики. Остается второй путь, по которому, похоже, и собирается двинуться отечественная разработка темы "мораль и политика". Этот путь - приложение (той или иной версии) этической теории к политике, т.е. оценивание последней в свете представлений о должном. В этом контексте А.А. Гусейнов пишет о политической этике как о "прикладной этике", занимающейся моральными коллизиями в конкретной сфере общественной практики (т.е. в политике) и являющейся то ли "составной частью философской этики", то ли уже превращающейся в частную дисциплину (наряду с биоэтикой, этикой бизнеса и т.д.) 4 . Стоит отметить, что такой подход может опереться на солидный западный опыт в данной области. Ведь "деонтологический либерализм" как наиболее видное в настоящее время течение в моральной, правовой и политической философии понимает "политическую концепцию" (справедливости) именно как "концепцию морали, разработанную для особого субъекта", т.е. для "базовой структуры конституционного 5 демократического режима" . В настоящей статье я не собираюсь ни доказывать, ни опровергать правомочность этической точки зрения на политику, как и любой другой эстетической, народнохозяйственной или психотерапевтической. Меня интересует не то, как выглядит политика или как мы оцениваем политику с той или иной точки зрения, а как политика "работает". И. Кант в "Споре факультетов" мог испытывать сколь угодно великое нравственное воодушевление от созерцания Французской революции, мог как угодно оценивать ее с точки зрения морального прогресса от "низшей ступени животности к высшей ступени человечности". Однако его собственная политическая теория, т.е. его объяснение того, как политика "работает", ни малейшим образом не связана с этими воодушевлениями и оценками. Она полностью базируется на представлении о практическом бессилии всеобщей доброй воли, на концепции "необщительной общительности людей", из которой выводится "вся культура", украшающая человечество, на почти ницшеанском "человек - это животное, которое, живя среди других членов своего рода, нуждается в господине" 6 . Моя задача - в том, чтобы рассмотреть, как участвует мораль в "работе" политики. Это - внутренняя проблема политической философии, решение которой ни в коей мере не может дать прикладная проекция общей или "чистой" этики на политику. Постижение этой проблемы начинается с осмысления необходимости отношения морали и политики, вне которого невозможны они обе. Далее, это отношение должно быть раскрыто как необходимо противоречивое, т.е. такое, которое в принципе не может быть "разрешено", а его стороны не могут быть примирены. Вместе с тем данное противоречие не должно пониматься внеисторически. Оно возникает и осуществляется при стечении определенных обстоятельств. Другое дело, что эти обстоятельства, складываясь эпизодически в контекстах иных эпох, стали атрибутами Современности, а потому именно для нее напряженное противоречие морали и политики стало "судьбой" 7 . Наконец, хотя данное противоречие не разрешимо в принципе, оно не может не стр. 34 разрешаться в конкретных политических актах, всегда протекающих в модусе "здесь и сейчас". Как сказал Вацлав Гавел, невыбор между двумя альтернативами, ни одна из которых не идеальна, хуже, чем выбор худшей альтернативы 8 . Уже поэтому невыбор в политике есть моральное зло, нередко более тяжкое, чем выбранное зло. Избегая этого зла, политика разрешает неразрешимые при ориентации на моральные абсолюты дилеммы. Она оказывается "искусством невозможного" в гораздо более основательном смысле, чем тот, в котором она предстает всего лишь "искусством возможного". Однако политический акт, снявший в себе противоречие морали и политики, тут же воспроизводит его вновь в ближайших своих следствиях. Так проявляет себя природа необходимости противоречия морали и политики. Это - сквозные темы обеих статей, объединенных рубрикой "Мораль - политика - политическая мораль". 1 . Иррелевантные вопросы Начнем с того, что проясним, какими вопросами теория отношения морали и политики не занимается. Прежде всего она не занимается вопросами оценки моральных качеств политиков. Весьма популярный вплоть до Ренессанса жанр "зерцала князей", в произведениях которого властители имели моральный образец для подражания, служивший целям наставления в той же мере, в какой и целям критики "уклонистов" 9 , по существу чужд современному осмыслению связи морали и политики. Моральные оценки внебрачных приключений президента Клинтона не имеют ни малейшего отношения к механизмам американской политики, включая их нормативный компонент. Эти оценки, конечно, используются, как то пытались сделать "республиканцы", в качестве политического орудия борьбы за власть. В таком виде они вошли в "работу" политики. Однако само вхождение в политику преобразовало их: они перестали быть собственно моральными оценками с присущими им атрибутами универсальности, "незаинтересованности" (беспристрастности), безразличия к последствиям и т.п. Они стали составляющей одной партийной стратегии, противостоящей другой. Другая партийная стратегия ("демократов") столь же активно стремилась утилизовать те же - по формальным признакам - моральные оценки. В знаменитой речи от 24 марта 1999 г., объявившей о начале бомбардировок Югославии, Б. Клинтон прямо апеллировал к "моральному императиву" и защите "ценностей" мира, свободы, разума как решающему мотиву данной акции 10 . Впоследствии ведущие правозащитные организации ("Эмнести интернешнл" и др.) квалифицировали ее как преступление (таковым является попрание международного права). Два рассмотренных способа утилизации моральных оценок по (политическому) существу дела различаются лишь тем, что первый из них, как показал провал импичмента, оказался технологически неэффективным, тогда как второй дал желанный результат - поддержку "общественным мнением" широких кругов стран Запада акции НАТО. Способность политики ставить себе на службу мораль-первое, что нужно помнить, разрабатывая тему "мораль и политика" в рамках политической философии. Далее, политическая философия не занимается моральным оцениванием политических институтов. Абсолютизм и универсализм моральных оценок, то, что Джон Роулс называл рассмотрением "человеческой ситуации" с "точки зрения вечности" 11 , вкупе с их принадлежностью индивидуальной саморефлексии, казалось бы, делают очевидной их непригодность для оценивания институтов. Ведь последние есть организации коллективов, деятельность которых в решающей мере определяется условиями данного социального пространства и данного исторического времени. Если мыслить последовательно, то единственно возможную логику перенесения моральных оценок на политические институты (в данном случае государство) представил платоновский Сократ 12 . Ее первый и необходимый шаготождествление стр. 35 структуры и устремлений души индивидуального человека и государства: "...справедливый человек нисколько не будет отличаться от справедливого государства по самой идее своей справедливости..." 13 . Второй шаг- обнаружение того, что таких ("идеальных") государственных устройств найти на земле невозможно ("Государство", 497 b- c). Третий шаг - вывод о призвании добродетельного человека, душа которого "соответствует" устройству "идеального государства", в столь прискорбно устроенном мире: он захочет заниматься государственными делами, "- ...но только в своем государстве, а у себя на родине, может быть, и нет, разве уж определит так божественная судьба. - Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет. - Но быть может, есть на небе его образец, доступный каждому желающему: глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя (sic! А отнюдь не свой полис, как мы могли бы наивно ожидать). А есть ли такое государство на земле и будет ли оно - это совсем не важно" 14 . Итог этого силлогизма содержательно едва ли богаче житейской мудрости о том, что политика - "грязное дело", не достойное добродетельных людей (но отнюдь не Сократа, каким он предстает в "Апологии", "Критоне" или даже более позднем "Горгии" 15 ). Иного итога проекция морали на политические институты дать не способна. Канту не меньше Платона ясно, что "никогда не оставляемые принципы величайших обществ, называемых государствами... ни один философ не мог еще согласовать с моралью..." и что даже то объединение людей, цель которого - нравственное благо, "есть идея, совершенно отличная от всех моральных законов" 16 . Здесь можно было бы поставить точку, если бы не новейшие упражнения на этом поприще, произведенные некоторыми влиятельными теоретиками. В качестве их примера я обращусь к сочинениям Юргена Хабермаса. 2 . Политический морализм Хабермаса Попробую представить схему, аналогичную той, какая применялась в случае платоновского Сократа, для отражения логики хабермасовского проецирования морали на политику. Шаг первый. В согласии с установкой на переход от монологичного, центрированного на субъекте разума (предмета философии Нового времени от Декарта до Гегеля) к разуму коммуникативному, который по существу есть "интерсубъективность ненасильственного волеобразования" 17 , душа добродетельного человека развертывается в идеальную (чисто воображаемую) коммуникативную общность идеально моральных существ. Это - "идеальная речевая ситуация". Она есть процедурное и "плюралистическое" представление хабермасовской версии кантовского категорического императива: всякая действенная норма должна удовлетворять тому условию, "чтобы те прямые и побочные действия, которые так или иначе вытекают из всеобщего следования ей в отношении удовлетворения интересов (предположительно) каждого отдельного лица, могли быть приняты всеми, кого они касаются (и оказались бы для них предпочтительнее результатов других известных им возможностей 18 урегулирования)" . "Идеальная речевая ситуация" включает в себя следующие моменты: а) обсуждение (нормы) ведется только в форме обмена аргументами, т.е. единственная сила, которая допускается и признается здесь, - "сила лучшего аргумента"; б) обсуждение публично и открыто для всех, т.е. в нем участвуют все, включая тех, на кого могут воздействовать отдаленные и непредвиденные следствия принятия обсуждаемой нормы (иными словами, участвуют и те, кто не подозревают, что им нужно участвовать в обсуждении, кто не ведают, что дело касается и их); в) обсуждение абсолютно свободно, и в нем отсутствуют малейшие признаки стр. 36 "внешнего принуждения", не отделимые от различий собственностью, властными ресурсами, в престиже и т.д.; в обладании г) обсуждение абсолютно свободно и от какого-либо "внутреннего принуждения", связанного с различиями в умении говорить и логически мыслить, владеть информацией и обобщать, не говоря уже о совершенно недопустимом влиянии эмоций на идеально рациональный дискурс. Все участники обладают равными возможностями говорить и быть услышанными; д) обсуждение нацелено только на "рационально мотивированное согласие", т.е. на торжество доброй воли как самоцель. Любые частные и "иррациональные" цели недопустимы по определению; е) обсуждение не ограничено во времени и может возобновляться в любое время. Граница дискурса - только достижение полного согласия, что, естественно, может быть ревизовано любым участником в любую минуту. В противном же случае обсуждение "не свободно", что исключено по определению; ж) обсуждение включает "интерпретацию нужд и желаний" его участников, что как бы предполагает "изменение дополитических подходов и предпочтений". Иными словами, участники обсуждения интеллектуально, психологически и во всех иных отношениях пластичны беспредельно, т.е. вплоть до того, чтобы стать в "мирских делах" персонификациями той доброй воли, которую Кант считал бессильной, но без которой невозможно "рационально мотивированное согласие" как единственная законная цель и raison d' etre коммуникативной общности 19 . Шаг второй. Совершенно очевидно, Хабермасу в том числе, что данная модель дискурса абсолютно чужда миру политического, включая тот его сегмент, который занимают либеральные демократии. Чуждость такова, что нет возможности даже выявить степень (не)соответствия между моделью и действительностью, даже сравнить их. Это в любом случае - не модель институтов, которая может быть реализована хотя бы приблизительно 20 . Это - просто идеализированные посылки, которые мы должны принять, если хотим достичь взаимопонимания (как самоцели). Во всех иных отношениях эта модель - лишь "безобидный" мысленный эксперимент 21 . Конечно, если мыслить серьезно и политически, то эти "должны" и "если" окажутся важнейшей проблемой. Откуда берется долженствование, заставляющее меня не только принять данные "идеализированные посылки", но и руководствоваться ими в практических взаимодействиях с другими людьми? Если я уже принял это долженствование и руководствуюсь им на практике, то сие означает, что я уже - обитатель того "царства целей", в котором какие-либо "идеальные речевые ситуации" просто излишни. Как заметил Поль Рикер, в концепции "рационального согласия" критерии тождественны целям: цель согласия совпадает с предпосылкой "рационально мотивированного соглашения" ("нас" как уже моральных существ) 22 . Получается тавтология. С другой стороны, указанные характеристики "идеальной речевой ситуации" таковы, что ни о каком действительном плюрализме ее участников не может быть речи. Как моральные и только моральные существа (ибо от всех остальных их признаков - экономических, психологических, этнических, возрастных и т.д. - мы тщательно абстрагировались) они совершенно идентичны. Им просто не о чем и незачем говорить, ибо они - не разные люди, а всего лишь то же кантовское "я", тиражированное до "всех" "идеальной речевой ситуации" 23 . Оговорка "если" ("если мы хотим достичь взаимопонимания") оказывается совсем разрушительной. Беря ее всерьез, мы тут же сталкиваемся с проблемой "жестокого мыслителя" Дени Дидро, т.е. с тем, что в действительности моральный "выбор не есть акт бестелесной субстанции или простой способности этой субстанции" 24 , вследствие чего моральный выбор можно не выбрать. "Жестокий мыслитель" знает все правила справедливости, он готов обсуждать все на равных. Он даже согласен руководствоваться требованием универсализации своих максим поведения ("я не настолько несправедлив, чтобы стал требовать от другого стр. 37 жертвы, которой не хочу принести ему сам"). Вся проблема в том, что он универсализирует максимы, содержательно не приемлемые для тех, кто слабее, кто не хочет рисковать, как он, кто стремится жить иначе. "Жестокий мыслитель" не хочет "достичь взаимопонимания" по всем этим жизненным вопросам, хотя верен процедурному принципу справедливости. В отношении его (если оставить в стороне апелляции к "общей воле", к которым прибегает Дидро, но которые невозможны для Хабермаса) остается лишь политическое решение - "задушить его" 25 . Но как соотнести такое решение с "дискурсивной этикой"? Ведь и ей нечего сказать о содержательных разногласиях "жестокого мыслителя" с его оппонентами. Тем более, что уже не понятно, на чьей стороне сегодня большинство, во всяком случае, если мы поверим самому Хабермасу: "Буржуазное сознание стало полностью циничным" 26 . От проблемы "если" можно уйти, обратившись к той или иной версии deus ex machina. В кантовском варианте, к примеру, это был "замысел природы", которая "захотела", чтобы из "завистливо соперничающего тщеславия" и "ненасытной жажды обладать или же господствовать", которые определяют реальную логику деятельности людей, возникла история, ведущая к тому, чтобы человек был "свободен от инстинкта благодаря собственному разуму" 27 . Для Хабермаса такой вариант deus ex machina слишком "метафизичен", и он предлагает свой, лингвистический. Оказывается, достижение взаимопонимания есть "цель, имманентно присущая языку". Более того, "основания согласия", отождествляемые с критериями обоснованности суждений, есть нечто внеисторическое, присущее "примитивным догосударственным обществам" так же, как современным. 28 Обращение к "лингвистическому императиву" упраздняет проблему "если", но делает это посредством упразднения проблемы выбора: мы уже не можем выбирать, становиться или нет на "основания согласия", коли мы всегда находимся в языке, будучи человеческими существами. Такое решение проблемы "если" имеет, по крайней мере, два следствия. Первое. Упраздняется сама мораль, если последняя ассоциируется с самозаконодательством и свободой человека: мы оказываемся подчинены такому гетерономному основанию воли, как природа языка. Коли "наше первое предложение недвусмысленно выражает стремление к универсальному и неограниченному согласию" 29 , то мы не вольны выбирать это стремление. Оно есть не мое стремление, а атрибут рода, обладающего языком. К нравственности атрибут рода не имеет никакого отношения. Ведь она есть "устои, которые избираются нами сознательно (hexis proairetike), а сознательный выбор - это стремление, при котором принимаются решения (orexis boyleytike)..." 30 . Второе. В том "стремлении", о котором говорит Хабермас, совершенно не различены два качественно разных стремления. Первое - к согласию относительно норм коммуникации, таких как (фактическая) достоверность, искренность говорящих, этическая уместность произносимого. Второе - к согласию действовать сообща во имя общей цели. Отождествление оснований согласия (в действии) с согласием относительно критериев обоснованности суждения и есть недоказанное и недоказуемое в теории Хабермаса. Некоторые этики называют это смешением лингвистической и этической проблематики, неспособностью различать этически значимые речевые акты, с одной стороны, а с другой - собственно "этические институты", которые никоим образом не сводимы к первым и не могут быть поняты внеконтекстуально 31 . В случае Хабермаса точнее говорить не о смешении лингвистической и этической проблематики, а о забвении второй ради первой. Сам он очень ясно выразил это следующим своим суждением: старая этическая теория начинала с моральных дилемм и вела к их разрешению в виде указаний на то, что должно делать. Сейчас же этике следует заниматься выяснением того, "что означает то, что норма должна быть установлена в качестве обоснованной" 32 . стр. 38 В результате этика становится чисто академическим упражнением, полностью отвлекающимся от центрального вопроса, рассмотрение которого делает ее этикой, - "что я должен делатьТ'. Она признает то, что "должна оставить вопрос "зачем быть моральным?" без ответа", как и то, что она не может "мотивировать людей действовать в соответствии с их интуицией в случаях, когда то, что морально должно, требует вступить в конфликт с их интересами" 33 . Моральную теорию, которая не понимает, что если моральные нормы способны обязывать только своей логической строгостью, то они не являются моральными нормами, можно назвать "неубедительной" 34 . С точки зрения нашей темы важнее то, что проекция такой моральной теории на политику не дает "полезную модель для политической демократии". Эта модель парадоксальна. Приверженность моральным нормам и "основаниям согласия", казалось бы, неумолимо навязана нам языком. Но выясняется, что такая приверженность обеспечена исключительно деятельностью институтов права 35 , отклонения которых от идеальных результатов морально безупречного дискурса мы и должны были оценить в свете этих самых норм и "оснований"! Как возможен морально совершенный дискурс, поддерживаемый только морально ущербными институтами, - оказывается загадкой, как только мы из области "безобидного умственного эксперимента" продвигаемся в сторону политики. Столь же неясно, где (на каком участке социального пространства) и за счет каких нормативных ресурсов такой дискурс возможен. Ведь "публичная сфера" (арена этого дискурса) уже "пронизана административной и социальной властью и подчинена СМИ" 36 , а "колонизация жизненного мира" (средоточия нормативных ресурсов) нормативно пустыми системами рынка и государства является одной из центральных тем Хабермаса. Более того, эти системы уже "захватили другие сферы (коммуникативного. - Б. К. ) действия", и в то же время "уже не могут быть демократически трансформированы изнутри" 37 . Какая же политическая стратегия из всего этого вытекает? Здесь мы предпринимаем столь долго откладывавшийся третий шаг согласно логике хабермасовского проецировании морали на политику, соответствующий платоновско-сократовскому "обустроить самого себя". Оказывается, "коммуникативное сообщество", все же как-то наладившее "публичную сферу", должно играть роль "сенсоров" проблем, занимающих все общество, и благодаря этому воздействовать на политическую власть вплоть до того, чтобы "более или менее программировать ее" 38 . Сразу встают вопросы: не происходит ли "программирование" в обратном порядке, что предположить более, чем естественно, учитывая приведенные рассуждения Хабермаса о состоянии "публичной сферы" и "жизненного мира?" Не оказывается ли политическая власть под гораздо более сильным воздействием денег и бюрократии ("социальной и административной власти"), чем почти бесплотных "сенсоров"? Насколько улавливаемые "сенсорами" проблемы имеют нравственное значение, не являются ли они реакциями, сфабрикованными теми же нормативно пустыми системами рынка и государства? Но Хабермаса занимают не столько они, сколько то, чтобы подчеркнуть: "сенсоры" политически не действуют (они зато "влияют"), "действует только политическая система" 39 . Это важное соображение позволяет Хабермасу следующим образом конкретизировать политическую стратегию" "...СМИ должны, осознать себя в качестве уполномоченных просвещенной публики... подобно суду они должны, блюсти свою независимость от политических и социальных давлений; они должны быть восприимчивы к заботам и предложениям общественности и поднимать вопросы беспристрастно и наращивать критицизм... Власть денег должна быть, таким образом, нейтрализована, а скрытый переход административной или социальной власти в политическое влияние - блокирован" 40 . А если СМИ не осознают этот "долг" или не собираются сообразовываться с ним? А если слишком слабы те, кто намереваются нейтрализовать "власть денег"? Жаль, что на эти отнюдь не праздные вопросы у Хабермаса нет ответа. стр. 39 Но сами по себе рассуждения о долге возвышены и позволяют "просвещенной публике" иметь то удовлетворенное "честное сознание", которое, по выражению Гегеля, "схватывает всегда лишь самое пустое дело..." 41 . Это и есть современный вариант обустройства себя, а не "полиса", т.е. не тех, кто обитает сугубо в мире "искаженных коммуникаций", очень зависимых от давлений СМИ, и активного перехода денег и бюрократических ресурсов в политическую власть. Разумеется, я не о России, где все это - норма посткоммунистической жизни, еще не ставшая объектом настоящей политической борьбы. Я о зрелых "конституционных демократиях", где, как в Италии, разваливаются насквозь прогнившие партийные системы или, как в Германии, обрушиваются в грязь коррупции христианско- демократические ревнители нравственности и великие канцлеры-объединители или, как во Франции, в общем финансовом скандале топят друг друга соучастники - консервативный президент и его социалистические оппоненты... 3. Несовместимость морали и политики Попытаемся более ясно сформулировать, по каким именно причинам политика не совместима с моралью. 1. Любая политика всегда преследует достижение некоторого блага, кто бы и против кого бы не устанавливал его как таковое, выступающего именно в качестве "определяющего основания" соответствующей политической воли. В соответствии с кантовским определением гетерономии, политика необходимо гетерономна, т.е. аморальна, даже если ее цель - "высшее благо", ибо "моральный закон есть единственное определяющее основание чистой воли", и именно в этом состоит принцип нравственности 42 . Транспонирование этого представления на мир политики может означать только то, что "благо государства" заключается исключительно в его "автономии", а отнюдь не в "благополучии граждан и их счастье" 43 . В свете этого нужно сделать вывод об аморальности, к примеру, социалдемократического (по происхождению) "государства благоденствия" (welfare state). По формулировке того же Хабермаса, оно ориентировано "на меры, призванные гуманизировать труд, остающийся в основном гетерономным, а также и в особенности - на меры, компенсирующие фундаментальные риски наемного труда... " Кроме того оно занимается перераспределением доходов - в основном по горизонтали, т.е. среди наемных работников, "не затрагивая специфическую для классов структуру богатства..." 44 . Ни сохранение гетерономии труда и классовой структуры богатства, ни подъем благополучия наемных работников, ни утрату автономии (правовым) государством, становящимся одним из агентов корпоративистского "согласия" наряду с частным бизнесом и профсоюзами, обосновать кантовским пониманием морали нельзя. 2. Политика всегда есть коллективное действие, как бы оно не было организовано и кто бы и Hf каких основаниях его не персонифицировал. Любая организация, по определению, есть субординация и ролевая специализация. Иными словами, она делает невозможной и ту идеальную симметрию (само-) "законодателя" и "подданного", которая, по Канту, характеризует "царство нравственности", и всеобщую законосообразность поступков "разумных существ как целей самих по себе", определяемую "повелевающим значением" категорических императивов 45 . Примечательно, что в той мере, в какой хабермасианская политика "радикальной демократии" вдохновляется кантовской моралью, она мыслится как нечто, осуществляющееся ниже порога организаций и в то же время - как генерирующее скорее рефлексию и "общественные мнения", чем действия: "Формы самоорганизации укрепляют коллективную способность к действию ниже порога, на котором организационные цели отделяются от ориентации и подходов членов организации и вместо этого зависят от интересов самосохранения самих автономных организаций. В организациях, остающихся близкими к своей базе (рядовых членов. - Б. К. ), способность к стр. 40 действию всегда уступает способности к рефлексии" 46 . Неудивительно, что такие политические агенты ни к чему, кроме "влияний" и сугубо оборонительной тактики 47 , не способны. В отношении их даже неловко ставить вопрос (и Хабермас этого никогда не делает), а что предпринять, если "влияния" не сработают, если будут игнорироваться теми, кто реально действует? Непостановка данного вопроса сама по себе очень симптоматична. Эту симптоматику мы обсудим позже - в связи с попытками раннелиберального (локковского и бентамовского, к примеру) обоснования права на сопротивление власти. 3. Политика всегда есть действие силы и взаимодействие сил. Ее токи генерируются разностью их потенциалов. Эти токи есть собственно власть как "природа политики" в том минимальном и всеобщем определении власти, которое дает Макс Вебер: "Власть (Macht) есть вероятность того, что одно действующее лицо в рамках социального отношения будет в состоянии осуществить свою волю вопреки сопротивлению, каковы бы ни были основания такой вероятности". Конечно, данное определение содержательно бедно, неполно и даже не специфично для политики, вследствие чего Вебер называет его "аморфным". Оно недифференцированно охватывает "все мыслимые качества индивида и все мыслимые комбинации обстоятельств, [которые] ставят его в положение, позволяющее навязывать свою волю в данной ситуации" 48 . Необходимо уточнить: такое понимание "природы политики" не тождественно ни провозглашению ее будто бы необходимой брутальности, ни развенчанию роли разума в ней как всего лишь "рационализации" иррационального (само-) движения власти. Оно вполне "вписывается" в ту классическую (рационалистическую) интерпретацию целей и "назначения" политики - и особенно демократической политики, - которую некогда дал Солон, обосновывая свою деятельность в качестве лидера и реформатора Афин: "подогнать справедливость (dike) и силу (bie) друг к другу" 49 . Дальнейшее развитие политической теории, в той мере, в какой она серьезно относилась к политике, обнаружило центральность этой проблемы, как сделать разум сильным и силу разумной? Ведь ясно, что в политике не разум сам по себе соотносится с силой, а только одна сила с другой, и весь вопрос в том, каковы качества этих сил с точки зрения их "разумности". Платоновские "философыцари", аристотелевский полис "свободных и равных", гоббсовский "Левиафан", руссоистская "всеобщая воля", гегелевское "нравственное государство", Марксов пролетариат и коммунистическая революция и т.д. - в сущности лишь (аристократические и демократические, консервативные, либеральные и социалистические) вариации этой темы. Думать иначе, удовлетвориться теоретической картиной разума, "оппонирующего" силе, но не переходящего в сильное дело разума, для политической теории стыдно. Это платоновский стыд - стыд обладания знанием о том, "что является наилучшим для людей", но остающимся бессильным, а потому - неполным и несовершенным. Полнотой и совершенством обладает знание-какдело, но не знание-как-слово, "Мне было, - пишет Платон, - очень стыдно перед самим собой, как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а сам добровольно не взялся бы ни за какое дело" 50 . Это принципиально важно для политической теории. Она может стать политической теорией лишь как знание о разуме в качестве силы. Для этого она должна встать на позицию деятеля. Находясь на позиции зрителя, она способна стать только моральной оценкой политики, т.е. в сущности - не только неполитическим знанием, но и неморальным. Ведь эта вторая позиция подразумевает узурпацию бездеятельными права выносить окончательный вердикт в отношении деятельных 51 . Среди "всех мыслимых качеств индивида и всех мыслимых комбинаций обстоятельств", участвующих в производстве и движении власти, далеко не последнюю роль могут играть моральные качества и обстоятельства морального превосходства. В определенных "комбинациях" мораль сама выступает силой и создает токи власти. Независимо от согласия или несогласия с характеристикой Сократа как "мещанина с гостр. 41 ловы до ног", трудно отвергнуть ницшеанское уподобление действия морально-рационалистической диалектики - "ударам ножом силлогизма", при помощи которых "чернь" одержала победу над "благородными" 52 . Силу морали, когда она реализуется в действии, легко понять: "человек, который может освободить себя от слепого господства собственных чувств, способен использовать чувства других людей для своих целей" 53 (даже если таковыми выступает моральное совершенствование рабов своих чувств, как это практикует, к примеру, тот же Сократ во многих платоновских диалогах). Приведенные рассуждения Ницше и Парето о силе морали "аморфны" в том же смысле, в каком "аморфно" веберовское определение власти: они не описывают специфику этой силы в мире политики, не показывают, как эта сила выступает в организованном действии. А это - главное для центрального для нас вопроса: каким образом мораль функционирует в политике. Пожалуй, наиболее развернутое, хотя и не систематизированное в академическом смысле, описание морали как политической силы мы найдем отнюдь не у Ницше и Парето, а у таких авторов, как Махатма Ганди и Вацлав Гавел, в их (отнюдь нетождественных) концепциях ненасильственной и эффективной политики. Однако сразу уточним следующее. Если Ю.Э. Соловьев прав в том, что кантовской этике "близки" именно "концепции ненасильственного сопротивления", которые подразумевают "свободное, внутренне оправданное неучастие в любых антиморальных мероприятиях..." 54 , то идеи ненасилия Ганди и Гавела предельно далеки от таких "концепций". У данных авторов оно выступает именно как коллективное действие, организация которого - не менее важное дело, чем экзистенциальное бытие его инициаторов "в истине" (Ганди: "Эффективное не-сотрудничество зависит от совершенной организации"). Центральное значение здесь приобретает эффективность действия, его реальная способность одолеть зло, что никак не сводимо к "внутреннему оправданию". Как писал Ганди, "...я настаиваю на ненасилии не по высшим основаниям морали, а по более низким основаниям целесообразности". Соответственно ненасилие прямо определяется как "специфическое оружие ", более того - оружие сильных (моралью), а не слабых, которым вследствие их слабости приходится прибегать к насилию. И, конечно, у Ганди речь идет не о неучастии в антиморальных мероприятиях, а об активнейшем участии в них через противодействие им. Отсюда - упорное подчеркивание того, что его, Ганди, версия ненасилия не есть "пассивное, т.е. негативное ненасилие слабых" 55 . Но именно таковым оказывается ненасилие в соловьевской интерпретации Канта. 4. Насилие и самозаконодательство воли у Канта Конечно, нельзя сказать, что Кант в его политической и правовой теории игнорирует роль силы. Иначе его знаменитая оппозиция моральности и легальности была бы просто не объяснима. Не исключено, что путем некоторых логических операций эту оппозицию можно "снять" и показать выведение второго из первого (что делает Соловьев 56 ). Но дело не в этом, а в том, что невозможно показать, каким образом кантовская мораль трансформируется в реальное политическое действие, способное создать свои институциональные воплощения. Проблема именно в политических, а не логических операциях, в политическом, а не логическом "выведении" 57 . Кант это понимал. "Происхождение верховной власти в практическом отношении непостижимо для народа... (...) Он не может и не должен судить иначе, чем это угодно нынешнему главе государства". Политическая важность вопроса о происхождении власти (о ее политическом "выведении") столь огромна, что Кант готов идти на попрание свободы слова в своем правовом государстве, на любой цензурный террор. "...Тому, кто обладает верховной повелевающей и законодательной властью над народом, должно повиноваться, и притом столь юридически безусловно, что наказуемо стр. 42 уже одно стремление публично доискиваться, на каком основании она была приобретена, иначе говоря, ставить под сомнение это основание, дабы оспорить его при возможной его недостаточности. . ." 58 . В чем же великая опасность вопрошания о происхождении власти, оправдывающая столь варварскую готовность подавлять его, причем даже в тех случаях, когда, "возможно", у власти нет достаточных "оснований"? Эта опасность заключается в политическом открытии двух "страшных" истин. Первая: по-кантовски моральные индивиды ни правовое, ни какое-либо другое государство ни создать, ни поддерживать не могут. Если они действуют политически (а не только созерцают происходящее), то они могут быть только революционерами-анархистами. Вторая: правовое государство, даже претендующее на воплощение категорического императива, не может не действовать аморально. Это относится не только к очевидным случаям принуждения преступников быть "приличными людьми" (от чего принуждение все равно не придет в согласие с категорическими императивами). Аморальность правового государства относится к чему-то гораздо более важному и всеобщему, к тому, что - словами Ж.-Ж. Руссо - можно выразить как принуждение к свободе силой 59 . Первое довольно очевидно. Моральность, по Канту, есть отношение "всякого поступка" к (само-) законодательству воли, устанавливающей всеобщие законы, т.е. автономия. При этом, с одной стороны, такие законы "неизменны", а с другой "всякое разумное существо" "необходимо" представляет себе свое существование согласно им 60 . Все иное - гетерономия, т.е. аморальность. Поскольку любое государство и вообще любой институт самим фактом своего существования заставляют, как минимум, сообразовываться с ними, т.е. вынуждают допускать гетерономное отношение к поступкам, то они не могут быть одобрены моральными, автономными существами. Мы уже знаем о моральной необходимости не участвовать в антиморальных мероприятиях. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что подобное неучастие только пролонгирует существование таких антиморальных мероприятий и потому само аморально 61 . Так или иначе политически последовательный кантианский моральный индивид, как минимум, - внутренний эмигрант в любом государстве. Но если этот индивид мыслит не по-прусски, а по- американски, т.е. понятиями дела, то он или она не удовлетворится всего лишь неучастием. Оно будет воспринято в лучшем случае как "минимальная программа", навязанная особо неблагоприятными обстоятельствами. Он или она, подобно Генри Торо, сделает радикальный политический вывод из идеи автономии: "Единственная обязанность, которую я могу принять на себя - это в любое время делать то, что считаю справедливым". Коли любая гетерономия аморальна, значит "сама его (государства. - Б.К. ) конституция есть зло", даже если это - конституция американской демократии, которая "с обычной точки зрения большинства... достаточно хороша". У этого государства, как и любого другого, "нет никаких прав на мою личность и собственность, кроме тех, которые я ему передам". Но оно претендует на большее, хотя бы в форме сбора налогов. Мне не известно о назначении каждого изъятого у меня доллара, я не могу нести личную ответственность за то, как он расходуется. Поэтому "я отказываюсь платить подушный налог" и "по-своему, тихо объявляю войну государству и надеюсь, что это принесет если не преимущество, то хотя бы некоторую пользу" 62 . Так трансценденталист становится анархистом, а позднее (в канун гражданской войны и в статьях о Джоне Брауне) - революционером. Вопрос о принуждении силой быть свободным более серьезен. В тех самых параграфах введения к "Метафизике нравов" (D-E), которые Соловьев назвал "злополучными" 63 , Кант делает потрясающее открытие. Глубочайшая проблема правового государства - не конфликт свободы и принуждения и даже не конфликт эгоизма частных интересов и разумного, воплощающего нравственность политикоправового порядка (как то было у Гоббса), а конфликт свободы со свободой! Послушаем Канта. "...Когда определенное проявление свободы само оказывается препятствием к свободе, сообразной со всеобщими законами (т.е. неправым), тогда направленное против стр. 43 такого применения принуждение как то, что воспрепятствует препятствию для свободы, совместимо со свободой, сообразной со всеобщими законами, т.е. бывает правым..." 64 . Будем помнить: у Канта конфликт свобод не может объясняться через столкновение "негативной свободы" (в смысле простого отсутствия помех для желанного действия, каковым бы не было это желание) и "позитивной (моральной) свободы". Первая для Канта - вообще не самостоятельный вид свободы. Свобода как таковая (во второй "Критике") имеет одно определение, а именно самозаконодательство по всеобщим законам 65 . То, что Кант называет "негативной дефиницией свободы", есть не определение особого вида свободы, отличного от "позитивной", а лишь начальный момент осмысления последней. Поэтому, как он считает, "негативная дефиниция" "ничего не дает для проникновения в ее (свободы. - Б. К .) сущность", но из нее "вытекает положительное понятие свободы, которое более богато содержанием и плодотворно" 66 . Но в таком случае как понимать, что одна свобода, сообразная со всеобщими законами, конфликтует с другой, которая тоже по определению ни с чем иным сообразной быть не может (оставаясь свободой)? Каким образом одна из них может стать (и систематически становится) препятствием для другой? Параграф Е дает ответы. Оказывается, та свобода, которая входит в понятие права, отличается от другой, подавляемой как "препятствие", тем, что первая реализует "возможность сочетать всеобщее взаимное принуждение со свободой каждого". В свете сказанного во второй "Критике" это - просто нонсенс. Но в том и дело, что столкновение свобод трансформирует их таким образом, о котором "практический разум" второй "Критики" не ведает совсем ничего. Из этого столкновения одна свобода выходит, как подчеркивает Кант в "Метафизике нравов", полностью очистившись от морали. Продукт такого преображения - "строгое право", к которому "не примешивается ничего этического" и которое не смешивается "ни с какими нравственными предписаниями" 67 . Такое право есть господство, каковым из столкновения выходит одна из конфликтовавших свобод. Оно, конечно, совместимо со свободой всех и каждого, кто его признает. Такое признание есть свобода подданного, в которую трансформируется потерпевшая поражение свобода. Существуя в рамках "строгого права", она также не может нести в себе "ничего этического". Но что же тогда свобода-как-препятствие? Это - свобода, не "вписывающаяся" в "строгое право", и отлична она от него в обеих его ипостасях господства и подчинения именно тем, что к ней "примешено этическое", что она остается свободой согласно второй "Критике". Она - свобода "по Торо", которая, естественно, - препятствие для господствующей свободы в качестве "всеобщего взаимного принуждения". Если это перевести на язык Маркса или Ницше, то мы получим нечто вполне знакомое. Скажем, то, что любая господствующая группа должна "придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые" и регулировать "производство и распределение мыслей своего времени" так, чтобы устранять как "препятствия" мысли и свободы других групп, будто бы не сообразные со "всеобщими законами" 68 . Проблема лишь в том, что в категориях универсалистской кантианской морали невозможно объяснить, чьи именно мысли и свободы и почему в данной исторической ситуации оказываются препятствием, и откуда берутся чьи-то другие мысли и свободы, совпадающие со "всеобщим взаимным принуждением". В пределах этого ограничения Кант рассуждал честно. Во-первых, он честно показал, что различение между "препятствием" и тем, что устанавливается как "строгое право", не выводимо из морального универсального основания, позволяющего различить автономию и гетерономию, высокое и низкое, достойное и недостойное. Сталкиваются и конфликтуют не эти оппозиции, а свободы. Их спор не может быть решен на основаниях нравственного разума. Он решается политически, что с точки зрения морального разума - произвол и принуждение. Именно и только конфликт свостр. 44 бод есть политическая проблема. Отношение свободы и несвободы как, к примеру, гетерономии преступного поведения, есть не политическая, а административная проблема. Кант точен в том, что даже не касается последней во "введении в учение о праве" (вплоть до особого "приложения", в котором начинает фигурировать "уголовный закон"). Итогом его рассуждений о праве стало "Исходным пунктом, таким образом, оказывается произвол, насилие предшествует праву, вместо того, чтобы служить ему" 69 . Эту истину нужно непременно сделать "непостижимой" для народа. Во-вторых, Кант честно спроецировал универсалистскую мораль на политику, в той мере, в какой это вообще можно сделать. Такая проекция дает политическую сегрегацию "населения" на полноценных и неполноценных с многообразными и далеко идущими следствиями. Если (нравственный) разум и достоинство человека совпадают с его автономией, то те, кто находятся в сфере гетерономии, должны быть необходимо признаны неразумными и недостойными. Проекция данного заключения на политику означает то, что те, "кто вынужден поддерживать свое существование (питание и защиту) не собственным занятием, а по распоряжению других), - все эти лица не имеют гражданской личности, и их существование - это как бы присущность". ".. .Все это лишь подручные люди общности, потому что ими должны командовать и их должны защищать другие индивиды, стало быть, они не обладают никакой гражданской самостоятельностью" 70 . Такими лицами без гражданской личности, лишенными права голоса и вообще "права относиться к самому государству в качестве активных его членов", оказывается огромное большинство человечества - все женщины, весь мир наемного труда, все до- и некапиталистические типы работников (оброчные крестьяне, ремесленники, не работающие на рынок, прислуга и т.д.), и даже домашние учителя... Правовое государство оказывается подлинной олигархией, члены которой разумеется, морально (и всего лишь!) обращаются с остальными ("пассивными частицами государства"). В-третьих, принцип универсализации как возможность мыслить согласие "всех" относительно той или иной максимы, возводимой в закон, сам по себе никоим образом с демократией не связан. "...Если же только возможно, заключает Кант, - что народ дал бы свое согласие на такой (публичный. - Б. К. ) закон, то долг - считать его справедливым, хотя бы в настоящее время народ находился в таком положении или держался такого образа мыслей, что, если бы его спросили об этом законе, он, вероятно, не одобрил бы его" 71 . Мыслить универсальное согласие здесь буквально подменяет собою демократическую практику соглашения. Недоговоренным остается лишь то, что любое мышление всегда чье-то мышление. Именно такое политико-правовое устройство вытекает из принципов вечного нравственного разума. Кант здесь мыслит логически безупречно. 5. Мораль и политика в мире гетерономии: Бентам В рамках моральных рассуждений о политике более демократичные концепции могли сформироваться только при признании гетерономии универсальной нормой жизни современного мира. Только это позволяло включить в разумное политическое устройство дискриминируемое Кантом громадное - и непрерывно растущее вместе с индустриальной и рыночной трансформацией общества - большинство его обитателей. Такая демократизация морального видения политики стала важным достижением утилитаризма и прежде всего младшего современника Канта Иеремии Бентама. Для Бентама нет более абсурдной фразы, чем "люди рождены свободными и равными". "Нет, - кипит он гневом против идеи "естественных прав человека", которые для него - "чепуха на ходулях". - Ни один человек [не свободен], ни один, кто когда- либо был, есть или будет. Все люди, напротив, рождены в подчинении..." 72 . Дело даже не в том, что гетерономия повсюду, поскольку обмен (товарами и услугами) стал стр. 45 универсальной моделью человеческих отношений, включая политические и интимные. Важнее то, что ключевые институты, которые обеспечивают всю жизнь современного общества, не совместимы с этикой самоцельности "всех разумных существ" и принципом автономии. Ведь эта этика исключает инструментализацию людей - основу основ капитализма и "рациональной администрации". Взять наемный труд. С точки зрения Бентама, это - рабство в смысле зависимости от воли другого и предоставления другому права использовать себя, свои способности и услуги, в соответствии с целями хозяина. Но свободный (по Канту) человек "должен лучше голодать, чем дать нанять себя, лучше голодать половине человеческого рода, чем наняться в услужение. Где совместимость свободы и зависимости, как могут в одном и том же человеке сосуществовать свобода и услужение? Чего стоит хороший гражданин, который сомневается, нужно ли умереть за свободу? А те, кто не являются хорошими гражданами, разве имеет значение, живут они или умирают с голода?" 73 К счастью, люди предпочитают не голодать, спасая свою автономию. В таком предпочтении тоже проявляются благоразумие и честность - главные добродетели человека. Поскольку ими обладают все или очень многие, постольку можно и нужно требовать всеобщее избирательное право, постольку лучшей формой правления, совпадающей с "единственно истинным" моральным принципом "величайшего счастья для наибольшего числа [людей]", выступает "чистая демократия" 74 . Такова противоположная кантовской утилитаристская проекция морали на политику. Так не поможет ли нам утилитаризм избавиться от тех трудностей и противоречий, к которым привела нас мораль кантианская в ее проекциях на политику? Ведь до сих пор мы вели речь только о ней, как если бы других типов морали не было. При первом приближении кажется, что утилитаризм в самом деле способен устранить противоречия, с которыми мы ранее сталкивались. Прежде всего он упраздняет оппозицию морали и политики как оппозицию автономии и гетерономии. У Бентама мораль и политика суть одно - достижение счастья. У них - одна и та же цель, одни и те же добродетели (благоразумие и честность), единый вектор действия, по которому они дополняют и усиливают друг друга 75 . Различия морали и политики состоят лишь в масштабах и средствах действия. "Частная этика научает, каким образом каждый человек может располагать собой (направлять себя), чтобы принять образ действий, наиболее ведущий к его счастью, посредством тех мотивов, которые представляются сами собой; искусство законодательства... научает, каким образом масса людей, составляющих общество, может быть расположена (и направлена) принять такой образ действий, который в целом наиболее ведет к счастью целого общества, посредством мотивов, которые прилагаются законодателем " 76 . При таком подходе политика, действительно, может быть представлена в качестве "частного отдела" в "общем отделе морали" 77 , а именно - такого, который "ответствен" за поддержание лишь одной отрасли частной этики "честности" (т.е. частной этики в ее обращенности к "другим"), тогда как в остальном она способна к саморегуляции. Соответственно и политические обязательства выступят лишь разновидностью моральных обязательств представление, которое сохраняется и в современных версиях утилитаризма, во многих других отношениях далеко ушедших от Бентама 78 . Можно утверждать, что если вообще есть основание, на котором политическая мораль представима как "прикладная этика", то таким основанием является утилитаризм. В утилитаризме конгруэнтность морали и политики обнаруживается по всем тем параметрам, по которым кантианская мораль расходилась с политикой. У Бентама и частная этика, и "законодательство" преследуют определенные "эмпирические" блага. Преследование этих благ подразумевает определенную организацию общества - на уровне и частной и публичной жизни 79 . Наконец, в этой организации - для ее поддержания и совершенствования - существенную и необходимую роль играет власть, стр. 46 непротиворечиво входящая таким образом в "общий отдел" морали. Более того, власть оказывается не только и даже не столько превентивной силой, сколько (в духе Фуко) силой "продуктивной" - в той мере, в какой она воздействует на волю, а не только на тело того, от кого требуется "согласие" 80 . В известной мере эта продуктивная сила даже определяет "частную этику". "Мы должны сначала знать, в чем состоят требования законодателя, прежде чем можем знать, в чем состоят требования частной этики" 81 . Означает ли все сказанное, что утилитаризм дает удовлетворительное описание взаимодействия морали и политики, точнее - что ему удалось дать теорию моральной политики? 82 6. Трудности бентамовской теории моральной политики Моральная теория Бентама и ее политическая проекция сталкиваются с двумя основными трудностями. Первая - неубедительность концепции "естественной гармонии (частных) интересов", на которой зиждется не только утилитаристская "частная этика", но и, в конечном счете, теория моральной политики. Вторая неспособность объяснить то, что сейчас именуется "системным изменением общества", т.е., возвращаясь к языку, в котором мы обсуждали политическую теорию Канта, - "происхождение власти", а следовательно - и ее преобразование. Исходный и самый фундаментальный принцип бентамовской философии всеобщее и неустранимое "подданство" людей "верховным властителям" страданию и удовольствию 83 . Из него следует столь же неустранимое и всеобщее стремление к счастью (в более ранних работах Бентам применяет понятие "пользы"). На уровне этого абстрактного принципа "стремление к счастью" еще не сливается непременно лишь с удовлетворением "моего" или "нашего" частного интереса в его отличии от "твоего" или "вашего". Стремление к счастью (так абстрактно понятое) разумно не только как универсальная природа человека, но и как гармония человеческой жизни. "...Поскольку только удовольствие есть благо, рассуждает Бентам, оно есть благо, независимо от того, является ли оно моим или твоим удовольствием. Если мое действие может дать тебе две единицы счастья, а мне - только одну, то для меня было бы иррационально предпочесть мое счастье твоему. Поэтому Бентам заключает, что моральный субъект должен стремиться к тому, чтобы способствовать наибольшему счастью в сумме. Это - единственно рациональная и хорошая цель действия человека" 84 . Это и есть бентамовская рационалистическая версия "естественной гармонии интересов" 85 . Как бы мы не относились к наивности такой антропологии и психологии, она имела в утилитаризме очень серьезные последствия, в том числе - для теории моральной политики. Прежде всего почти вся человеческая жизнь оказывается под "юрисдикцией" "частной этики". Трудным оказывается объяснить не то, каким образом государство и политика в целом справляются с частными интересами (что является проблемой для Гоббса), а то, почему и зачем государство существует вообще. Ведь "нет случаев, где бы человек не имел каких-нибудь мотивов для того, чтобы соображаться со счастьем других людей". Если это когда-то все же не происходит, то причина тому - недостаток просвещенности относительно собственных интересов, т.е. неумение понять собственный "расширенный", "просвещенный" интерес, совпадающих со счастьем всех. Соответственно, "искусство правления" оказывается в прямом смысле "искусством публичного воспитания ", лишь по методам и масштабам, отличным от школьного воспитания несовершеннолетних 86 . Это значит, что на основе бентамовской концепции "естественной гармонии" вообще невозможна теория политики как специфический публичной деятельности, отличной от тех видов деятельности, которые, пусть в меньших масштабах и при испольстр. 47 зовании несколько иных технологий, могут осуществляться в частной жизни. Такое растворение политики в частной жизни и есть то, что создает рассмотренную выше конгруэнтность морали и политики у Бентама. Кантовская оппозиция морали и политики упразднена, но ценой упразднения стала утрата самого предмета исследования. Однако парадокс и злоключение бентамовской теории состоит в том, что, заплатив столь непомерную цену, лишившись возможности познать специфику политического, она вынуждена через "заднюю дверь" вернуть его в качестве оппозиции частной жизни 87 , но уже не в виде политики, а в виде комплекса административных, "дисциплинарных" (по Фуко) технологий. Пусть человек по природе рационален настолько, что, стремясь к счастью вообще, он не различает счастье свое и других людей. Но как далеко простирается его знание счастья всех, чтобы действительно способствовать ему? Нравственное стремление к счастью никак не тождественно содержательному знанию о предметах, составляющих счастье других. Кроме того каждый - по либертарному определению - лучший судья относительно своей пользы. Это, кстати, в полной мере относится и к "публичному воспитателю" - "очевидно, что законодатель не может ничего знать об индивидуумах; очевидно поэтому, что относительно тех пунктов поведения, которые зависят от частных обстоятельств каждого индивидуума, он не может сделать никаких удачных определений" 88 . Уже это заставляет усомниться в том, что "публичное воспитание" способствует счастью, индивидуальному или - как сумме - "наибольшего числа людей", т.е. усомниться в том, что оно - морально. Если эту линию рассуждений довести до конца, то от рационалистической "естественной гармонии" не останется и следа. Для этого не требуется даже житейских наблюдений или специальных политэкономических рассуждений (типа "любовь к труду есть противоречие в понятиях", и к нему можно только принудить) 89 . Бентам же не был чужд ни тому, ни другому. Когда улетучивается "естественная гармония", остаются выводы: "Каждый человек целиком управляем своим представлением о том, что есть его интерес - в самом узком и наиболее эгоистическом смысле слова интерес и никогда - заботой об интересе [других] людей". "Отсюда вытекает интенсивная и универсальная жажда власти и в той же мере - доминирующая ненависть к подчинению. Поэтому каждый человек сталкивается с упорным сопротивлением своей воле и вынужден оказывать столь же постоянное противодействие другим; все это естественно порождает антипатию к существам, которые так мешают и препятствуют его желаниям" 90 . Оказывается, "естественная гармония" - всего лишь естественное начало пути к Гоббсу ( посвоему это нам ранее показал и Кант). Но это - путь не к "политическому Гоббсу", который пытался понять происхождение и саму возможность политического порядка, а к "административному Гоббсу", который расписывал то, как Левиафан дрессирует своих неспособных к нравственному развитию подданных. Миссия же "администрации" у Гоббса и Бентама - одна и та же, и последний даже более ясно описал ее: "Общество удерживается вместе только за счет того, что людей побуждают жертвовать своими удовольствиями. Обеспечить эти жертвы - великая трудность и великая задача правления" 91 . Конкретные технологии такого обеспечения ярко описаны Фуко и именно - на материалах бентамовского "Паноптикона" 92 . Однако утверждение, что у Фуко можно найти описание тех административных технологий, которые использует (или которые составляют) бентамовское "правление", может показаться поверхностным. Разве бентамовское "правление" и фукоистская власть - не принципиально разные вещи? Разве первое не требует жертв, тогда как отличительная черта второй состоит как раз в том, что она - "не только висит на нас как сила, говорящая нет, но... обсуждает и производит вещи, индуцирует удовольствие, формы знания, создает дискурсы. В гораздо большей степени ее необходимо понять как производительную сеть, пронизывающую все социальное тело, чем как негативный момент, чья функция репрессия" 93 . стр. 48 На эти возражения недостаточно ответить указанием на то, что сам Фуко считал Бентама "одним из наиболее образцовых изобретателей [именно] технологий власти" 94 . Более важно то, что у Бентама, как мы помним, уже есть концепция "продуктивной власти", воздействующей на волю, а не репрессирующей тела. Есть и специальные рассуждения о том, как "заботливое и внимательное правительство" влияет на "количество и наклонности нравственной, религиозной, симпатической и антипатической чувствительности человека", причем как раз таким образом, чтобы сделать ее "менее несогласимой с требованиями полезности" и больше направленной "к официальной власти" 95 . Здесь вполне естественно удивиться: как могут люди вообще быть не согласны с "требованиями полезности"? Не ошибочно интерпретировать их вследствие недостатка просвещенности, а именно - не соглашаться. Ведь они вечные подданные страданий и удовольствий, так что "всякое усилие, которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит только к тому, чтобы доказать и подтвердить его" 96 . А меж тем оказывается, что есть даже "горячие последователи" "ложных принципов", и "привязанность" к ним, судя по приводимому списку примеров заблудших, - отнюдь не идиосинкразия одиночек 97 . Возможно, здесь кроется подсказка к ответу на вопрос, кто и какие жертвы понуждается приносить ради удержания общества вместе. Материальные лишения - особенно на заре капитализма - громадны и массовы. Но лишения становятся недобровольными жертвами (а об иных у Бентами речи быть не может, разве что в связи с заблудшими) лишь тогда, когда они осознаются как недолжное. Такое понятие - не из репертуара "моральной арифметики", в которой есть только факты боли и удовольствия, вызываемые манипуляциями администраторов. У тех, кто прошел школу утилитаристского перевоспитания, сознания недолжного не может быть. У них только "индуцируется удовольствие". В том числе - от прекращения болевых ощущений, когда их по тем или иным причинам решают прекратить администраторы. Наступает эпоха счастья. Больше жертв нет. Ибо культурой, которая несла идею автономии и самозаконодательства человека, уже пожертвовали. В этих условиях власть достигает совершенства, которое, по Фуко, "делает необязательным ее действительное отправление". Он и описывает это состояние общества. Бентам же - то, в котором жертвы были еще необходимы, чтобы прийти к указанному совершенству. Вторая трудность, с которой сталкивается утилитаристская моральная политическая теория и которая заключается в неспособности объяснить системное изменение общества, во многом понятна из сказанного выше. Я ограничусь скорее иллюстрацией, чем анализом ее. В своей ранней работе под заглавием "Фрагмент о правлении" Бентам рассматривает то, что он называет "моментом для сопротивления" ("juncture for resistance"). Эта тема - под разной рубрикацией - была неотъемлемым элементом либеральной мысли, пока она еще была мыслью о политическом действии 98 . Даже весьма осторожный Джон Локк уверенно писал о "законном праве сопротивляться своему королю" (в случае нарушения последним "общественного договора"), имея в виду именно "сопротивление силой" и возможность создания народом "новой формы законодательной власти" (или передачи ее в старой форме в новые руки) 99 . "Право сопротивляться" представлялось единственно возможным ответом на вопрос, избежать который не может позволить себе ответственная политическая теория: что делать, если правители не прислушиваются ни к голосу "естественного разума", ни к вердиктам трибунала общественного мнения? Конечно, такой вопрос и не возникнет, если, как у Гоббса, все, что бы суверен "ни делал, не может быть неправомерным актом по отношению к какомулибо из его подданных и он не должен быть кем-либо из них обвинен в несправедливости" 100 . Кант по сути дела - новатор в сочетании признания того, что правитель может "поступать стр. 49 вразрез с законами", с отрицанием у народа какого- либо "права на возмущение", не говоря уже о восстании и посягательствах на особу монарха 101 . Бентам не мог быть столь безапелляционным и, отдавая дань раннелиберальной традиции, поставил вопрос об условиях, при которых утилитаристски воспитанный индивид может оказать сопротивление несправедливой (вероятно, еще неутилитаристкой) власти. Итак, "приступить к мерам сопротивления любому человеку, как по долгу, так и по интересу, позволительно, хотя и не обязательно, тогда, а мы можем сказать - и не ранее того, когда в соответствии с наилучшей калькуляцией, к которой он способен, возможные беды, вызванные сопротивлением (говоря об обществе в целом), будут представляться ему меньше, чем возможный вред подчинения. Это и есть для него, как и для любого человека в отдельности, момент для сопротивления" 102 . С точки зрения старой "общественно-договорной" теории условия сопротивления облегчены здесь почти до предела: никакие соображения лояльности, политического долга перед сувереном, моральных обязательств по отношению к соплеменникам или просто верности ранее данному слову не обременяют утилитаристского индивида, когда он принимает решение о сопротивлении. Но эта легкость обманчива. На деле оказывается, что принять такое решение невозможно. Невозможно именно принять какое- либо решение о сопротивлении, включая решение о том, что его не следует начинать. В отношении описанной ситуации, заключает Бентам, "легко понять, что невозможно найти ответ" 103 . Понять это, действительно, легко. Калькуляция прибылей и убытков есть всегда учет наличных фактов при их возможной экстраполяции в будущее, т.е. при ожидании их роста или уменьшения. Невозможно калькулировать то, чего нет. Но коли так, для калькуляции не может быть будущего как качественно нового и - в настоящий момент - принципиально неопределенного. Для калькуляции будущее есть лишь - с точки зрения качества - пролонгированное настоящее. Но сопротивление власти, если имеется в виду дело, неизбежно меняет настоящее. Даже победа существующей власти не может сохранить статус-кво - хотя бы вследствие уплаченной за нее цены. Известно, насколько многие побежденные революции меняли общество, - подчас более радикально, чем революции победившие. Как же может утилитаристский индивид в условиях неопределенного будущего просчитать соотношение "бед, вызванных сопротивлением", и "вреда подчинения"? Да еще таким образом, чтобы результат просчета точно совпадал с итогами аналогичных калькуляций других таких же индивидов, без участия которых сопротивление как по необходимости коллективное действие - лишь пустое мечтание? Да еще безукоризненно высчитать то, что сам оценщик прибылей и убытков не сгинет в ходе сопротивления, в случае чего размер приносимых им бед уходил бы в бесконечность. С учетом всего этого калькуляция сопротивления становится воистину непосильной для человеческого ума задачей. А коли так, заключает рационалист Бентам, то "власти верховного правителя, хотя и не бесконечной неизбежно нужно позволить быть неопределенной, если она не ограничивается ясным обычаем". При этом где-то обычаи, а следовательно, и конституции, более свободные, чем в других местах. Это и нужно ценить 104 . Как статус-кво. В дальнейшем Бентам не обращался к бесплодной теме сопротивления, сосредоточиваясь все больше на таких политических сюжетах, как трибунал общественного мнения, "бдительность" подданных по отношению к власть имущим, критика некомпетентности чиновников, "дешевое правительство" и т.п. При этом подчинение власти было непременным условием всех этих рассуждений - до такой степени, что даже прогресс политических сообществ с древних эпох до современной Бентаму Англии стал пониматься им в первую очередь как совершенствование подчинения 105 . стр. 50 Заключение Остается вопрос: а что, в самом деле, может подвигнуть людей на сопротивление власти, если оно не поддается калькуляции выгод и ущерба, т.е. не объяснимо только через экономические интересы? И еще более сложный вопрос: как может прийти в голову мысль о сопротивлении власти, если она тем и занимается, что "индуцирует удовольствие"? Кантианская и утилитаристская моральные теории здесь покидают нас, ибо их проекции на политику оборачиваются тотальностью подчинения и запрета на всякое "возмущение" (кроме, возможно, бесед в узком кругу). Политический морализм не помог разобраться с тем, как "работает" политика и менее всего - политика освободительная. Хуже того, он привел к компрометации самой морали: многие следствия ее применения к политике оказались не только недемократическими, но и предосудительными в ее собственной "системе координат". Чтобы избежать и того, и другого, нам следует отказаться от политического морализма. Нам нужно уяснить существенные различия политической и частной морали и то, в чем, действительно, заключается моральное измерение политики. Это - темы моей второй статьи. Примечания См.: Костюк К.Н. Политическая мораль и политическая этика в России // Вопросы философии. 2000. N 2. С. 42. 1 Tumas С.М. Victory Defeated // Journal of Democracy. Vol. 10. N 1. January 1999. P. 67. 1a 2 Rosenau P.M. Post-Modernism and the Social Sciences. Princeton (N.J.): Princeton Univ. Press, 1992. Р. 11. 3 Адорно Т. Проблемы философии морали. М.: Республика, 2000. С. 5, 206. 4 См.: Гусейнов А.А. Этика // Вопросы философии. 1999. N 8. С. 89. Ролз Д. Идеи блага и приоритет права // Современный либерализм. Пер. Л.Б. Макеевой. М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. С. 77. О понятии "деонтологический либерализм" см.: Sandel М.J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982, P. 1-14. 5 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане; К вечному миру // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. М.: KAMI, 1994. С. 91, 97, 99, 105, 419. Правомочность реинтерпретации политической философии Канта на основе третьей (но не второй!) "Критики", предпринятой Ханной Арендт, я не могут рассматривать в настоящем контексте. См.: Arendt Н. Lectures on Kant's Political Philosophy. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982. Анализ и критику этой интерпретации см.: Beiner R. Interpretive Essay: Hannah Arendt on Judging. In: Ibid. P. 89-156; Benhabib S. Judgment and the Moral Foundations of Politics in Arend's Thought // Political Theory. Vol. 16. N 1. February 1988. 6 Подробнее о содержании понятия "Современность" и ее атрибутах см.: Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. С. 11-36. 7 См.: Havel V. The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice. Tr. Paul Wilson. N.Y.: Fromm International. 1998. P. 97. 8 Поздний, уже в ранессансном обрамлении образчик подобной литературы мы находим у Джованни Понтано, который предлагает следующую версию морального императива для князей: "Ты должен стать суровым судьей самому себе, беспощадно осуждая в себе те качества, которые ты порицаешь в других, никогда не позволяя твоей душе стать рабыней дурных страстей, ты должен стараться превосходить других не только могуществом и властью, но и справедливостью, благочестием, постоянством, воздержанностью". Понтано Д. Государь // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). М.: Изд- во Московского университета, 1985. С. 303. 9 10 President Clinton's Address to the US on Kosovo www.guardianunlimited.co.uk/Archive//Article/0,4273,3844069,00. html. // http: // Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995. с. 506. Отечественный перевод здесь не точен. Рассмотрение "человеческой ситуации" sub specie aeternitatis в оригинале расшифровывается, естественно, как рассмотрение со всех социальных и темпоральных точек наблюдения, не только современников, но и "многих поколений", тогда как в переводе читаем: "...Это значит рассматривать человеческую ситуацию не только с социальной, но также и с временной точки зрения". См.: Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press. 1971. P. 587. 11 Я говорю о перенесении именно моральных оценок постольку, поскольку принимаю гегелевскую характеристику (платоновского) Сократа как родоначальника моральной философии и персонификации 12 стр. 51 "бесконечной субъективности" и "свободы самосознания". См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга вторая. СПб.: Наука, 1994. С. 34, 36. Анализ учения (платоновского) Сократа как "моральной доктрины призвания государственного мужа" в современной политической философии см.: Vlastos G. The Historical Socrates and Athenian Democracy // Socrates. Critical Assessments. Ed. William J. Prior. Vol. II. L. -N.Y.: Routledge, 1996. P. 38. Платон. Государство. 435 b. Платон. Соч. в 3 томах. Т. 3. Ч. 1. М.: Мысль, 1971. С. 227. 13 14 Ibid., 592 a-b. С. 419-420. О политической миссии Сократа ранних диалогов см.: Wallach J.R. Socratic Citizenship // Socrates. Critical Assessments. Vol. II. P. 69-91; Kraut R. Plato's Apology and Crito: Two Recent Studies // Ethics, Vol. 91 (1981), pp. 651 if и особенно Castoriadis С. Intellectuals and History // Castoriadis C. Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy. Ed. David Ames Curtis. N.Y.- Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. 15 Кант И. Религия в пределах только разума // И. Кант. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 104-105, 166 (первый курсив мой. - Б. К. ). 16 17 Habermas J. The Philosophical Discourse of Modernity. Tr. F. Lawrence. Cambridge (MA): MIT Press, 1993. P. 40. Подробнее см.: там же. Гл. XI. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Пер. Д.В. Скляднева. СПб.: Наука, 2000. С. 104. 18 Приведенное описание см.: Hahermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Tr. W. Rehg. Cambridge (MA): MIT Press, 1996. P. 305-306. 19 20 См.: Ibid. P. 322-323. См. Ibid. P. 323. Данные формулировки свидетельствуют об изменении понимания Хабермасом цели концепции "коммуникативного действия" и о дальнейшем дерадикализации и деполитизации его теории. Раньше такая цель усматривалась в том, чтобы встать на ту "не произвольно выбранную точку зрения", с которой существующие институты могли бы быть оценены "как более или менее рациональные" - в смысле их приближения или удаления от "достижения рационально мотивированного понимания" (см.: Habermas J. Aspects of the Rationality of Action // Rationality To-Day. Ed. T. Geraets. Ottawa: Univ. of Ottawa Press, 1979. P. 200). Речь, таким образом, шла об использовании концепции "идеальной речевой ситуации" в качестве контрфактуальной модели, благодаря 21 которой выяснялось, в какой степени "решения, принимаемые в условиях правления большинства и при ограниченности ресурсов времени и информации, отклоняются от идеальных результатов дискурсивно достигнутого согласия..." (Habermas J. Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State // Berkeley Journal of Sociology. 1985. Vol. 30. P. 111). 22 Rationality To-Day. P. 208. Подробнее об этом аспекте теорий Роулса и Хабермаса и его действительном (антидемократическом) политическом значении см.: Walzer М. Philosophy and Democracy // What Should Political Theory Be Now? Ed. J. Nelson. Albany (N.Y.): SUNY Press, 1983. P. 88. О возможностях и противоречиях "трансцендентных" и "имманентных" интерпретаций того, кто участвует в "идеальной речевой ситуации" см.: Lukes S. Of Gods and Demons: Habermas and Practical Reason // Lukes S. Moral Conflict and Politics. Oxford: Clarendon Press, 1991. 23 Дидро Д. Естественное право // Дидро Д. Избранные произведения. М. - Л.: Гос. изд-во художественной литературы. 1951. С. 346. 24 25 Там же. С. 347. 26 Habermas J. Aspects of the Rationality of Action. P. 212. 27 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. С. 83, 87, 93. Rationality To-Day. P. 196, 208. Подробнее об этом см.: McCarthy T. Rationality and Relativism: Habermas's "Overcoming" of Hermeneutics // Habermas: Critical Debates. Ed. J.B. Thompson and D. Held. L.: Macmillan. 1982. Особенно р. 63 ft. 28 29 Habermas. J. Knowledge and Human Interests. Tr. J.J. Shapiro. L.: Heinemann, 1972. P. 314. Аристотель. Никомахова этика 1 139а 22- 23. Сочинения в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 173. 30 Интересный анализ различия "речевых актов" и "этических институтов" в целом и в частности - выражения "я обещаю" (как "акта" и как "института") см.: Margolis .1. On the Ethical Defense of Violence and Destruction // Philosophy and Political Action. Ed. V. Held et al. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1972. P. 52-71. 31 32 Rationality To-Day. P. 272. 33 Habermas. J. Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics. Tr. C.P. Cronin. Cambridge (MA): MIT Press, 1993. P. 127, 128. 33 Habermas J. Between Facts and Norms. P. 379. См.: Bernstein J.M. Recovering Ethical Life: Jurgen Habermas and the Future of Critical Theory. L.-N.Y.: Routledge, 1995. P. 4, 5. 34 Как подчеркивает Хабермас, "только легальная институционализация может обеспечить общую приверженность морально обоснованным нормам". Hahermans J. Justification and Application. P. 88. 35 36 Habermas J. Between Facts and Norms. P. 379. стр. 52 37 Op. cit. P. 379; Hubermas J. Further Reflections on the Public Sphere // Habermas and the Public Sphere. Ed. C. Calhoun. Cambridge (MA): MIT Press, 1994. P. 444. 38 См.: Habermas J. Between Facts and Norms, p. 300. 39 Ibid. 40 Ibid., P. 378-379. Гегель. Феноменология духа // Гегель. Сочинения. Т. IV. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 344. 41 Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч. в шести томах. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 440. 42 Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Там же. Т. 4. Ч. 2. М.: Мысль, 1965. С.239-240. 43 44 Habermas J. The Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies. In: Habermas J. The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate. Tr. S.W. Nicholsen. Cambridge (MA): MIT Press, 1989. P. 54-55, 57 (курсив мой. - Б.К. ) Кант И. Критика практического разума. С. 409; Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч шести томах. Т. 4. Ч. 1. С. 273. 45 46 Habermas J. The new Obscurity... P. 67. "Цель уже не состоит более в том, - пишет Хабермас, - чтобы снять экономическую систему, у которой собственная капиталистическая жизнь, и систему господства, у которой собственная бюрократическая жизнь, цель воздвигнуть демократическую дамбу против колонизаторских поползновений системных императивов в отношении областей жизненного мира" ( Habermas J. 47 Further Reflections on the Public Sphere In: Habermas and the Public Sphere. Ed. C. Calhoun. Cambridge (MA): MIT Press, 1994. P. 444). Впрочем, не вполне ясно, что эта "дамба" может защитить и какова эффективность такой защиты, если жизненный мир уже "регламентирован, рассечен, контролируем и надзираем" системами капитализма и бюрократического господства (см.: Hahermas J. The New Obscurity... P. 59). Подробнее о "неадекватности" концепции культурного сопротивления "колонизации жизненного мира" с точки зрения формирования радикальной демократической стратегии см.: Gorz A. The New Agenda // After the Fall. The Failure of Communism and the Future of Socialism. Ed. R. Blackburn. L. N.Y.: Verso, 1991. P. 292-293. Weber М. Economy and Society. Ed. G. Roth and C. Wittich. Vol. 1. Berkeley: Univ. of California Press, 1978. P. 53. Именно преодолевая "аморфность" этого определения власти, Вебер переходит к политическим концептам "господства". 48 См.: Sullivan S.D. Psychological and Ethical Ideas: What Early Greeks Say. Leiden-N.Y.: E.J. Brill. 1995. P. 197. 49 Платон. Письмо VII // Платон. Собр. соч. в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 479. 50 Как пишет Стюарт Хемпшир, "нет основания, по которому моральные философы должны принять роль Радаманта или Святого Петра и спрашивать себя, как выносить вердикт последнего суда о жизнях морально невинных и справедливых людей, невинных в политическом действии, - в противоположность жизням политически созидательных людей, которые обращались с другими людьми несправедливо, когда того требовала политическая целесообразность" (Hampshire S. Innocence and Experience. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1989. P. 168. 51 Ницше Ф. Воля к власти // Ницше Ф. Избр. произв. в трех томах. Т. 1. М.: REFL-book, 1994. С. 197. 52 Pare to W. The Mind and Society. N.Y.: Dover, 1963. Sec. 1843. В свете этого очень наивными представляются некоторые "трагические" суждения отечественных авторов о морали типа тех, которые высказал на недавней дискуссии о нравственности в контексте реформации России В.Т. Третьяков: "...Я убежден, что моральный человек не выживает, вообще мораль не способствует выживанию. Она - то, что мешает выживать, а функции... человека как существа, даже духовные, - это все- таки жить" (Добро и зло от троянской до чеченской войны. Как выжить и сохранить моральность? // НГ-сценарии, 12 июля 2000. С. 12). 53 Соловьев Э.Ю. Иммануил Кант: взаимодополнительность морали и права. М.: Наука, 1992. С. 150. 54 55 Gandhi M. Selected Political Writings. Ed. D. Dalton. Indianapolis (IN): Hackett Publishing Co, 1996. P. 44, 56, 58, 59 (курсив мой. - Б. К .). 56 См.: Соловьев Э.Ю. Указ. соч. С. 172-173. Примечательно, что в более ранний период своего творчества схожей точки зрения придерживался и Хабермас, отмечавший у Канта не только противопоставление моральности и легальности, но и то, что оно приводит к отделению и первой, и второй от политики, вследствие чего политике "отводится двусмысленная роль в качестве технической экспертизы в утилитарной доктрине благоразумия". (Habermas J. Theory and Practice. Tr. J. Viertel. L.: Heinemann, 1974. P. 42). 57 Кант И. Метафизика нравов в двух частях. С. 240, 302 (первый и второй курсивы во второй цитате мои. - Б.К. ). 58 См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 164. 59 Принципы стр. 53 60 См.: Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 270, 276, 290. Специальный анализ этого вопроса см.: Honderich Т. Violence for Equality. Inquiries in Political Philosophy. Harmondsworth: Penguin, 1980. P. 36-43. 61 Tоро Г.Д. О гражданском неповиновании // Новые пророки. Отв. ред. B.C. Дмитриев. Санкт-Петербург: Фонд "За выживание и развитие человечества", 1996. С. 83, 95, 107, 108, 110. 62 63 Соловьев Э.Ю. Указ. соч. С. 209. 64 Кант И. Метафизика нравов. С. 141. Я оставлю в стороне очень важный сам по себе вопрос о наличии двух принципиально разных определений свободы у Канта - как только умопостигаемой автономии воли, о чем мы ведем речь, и как способности спонтанного действия "во временном ряду, следовательно, в чувственно воспринимаемом мире", т.е. как способности начать "саму каузальность причины" - в отличие от способности "начать действие без того, чтобы начиналась сама ее каузальность" ( Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука// Кант И. Соч. в шести томах. Т. 4 ч. 1. С. 166). Я отвлекаюсь от второго понимания свободы, поскольку оно также не является негативным. Убедительный анализ этих двух концепций свободы у Канта и их "тотального различия" см.: Beck. L.W. Kant's Two Conceptions of the Will in Their Political Context. In: Kant and Political Philosophy: The Contemporary Legacy. Ed. R. Beiner and W.J. Booth. New Haven. - L.: Yale Univ. Press, 1993. 65 66 Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 289. 67 Кант И. Метафизика нравов. С. 141. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. С. 46, 47. 68 69 Цит. по: Соловьев Э.Ю. Указ. соч. С. 181. 70 Кант И. Метафизика нравов. С. 235-236. Кант И. О поговорке "Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики" // Кант И. Соч. в шести томах. Т. 4. Ч. 2. М.: Мысль, 1965. С. 87. 71 Bentham's Political Thought. Ed. B. Parekh. L.: Croom Helm, 1973. P. 262. См.: ibid. P. 269. 72 73 Ibid. P. 265, 283. Ibid. P. 274, 295. См.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998. С. 9 (примечание автора, 1822 г.). 74 Как пишет Бентам, "частная этика имеет своей целью счастье; другой цели не может иметь и законодательство... До сих пор частная этика и искусство законодательства идут рука об руку". Смысл законодательства - "это увеличить действенность частной этики, давая силу и направление влиянию нравственной санкции" во всем, что относится к сфере благоразумия (Бентам И. Введение в основания... С. 375,383. 75 76 Бентам И. Указ. соч. С. 386 (курсив мой. - Б.К .). 77 Там же. С. 22. 78 См.: Hare P.M. Essays on Political Morality. Oxford: Clarendon Press, 1989. P. 8-9. В сущности я согласен с анализом этой организации, данным Мишелем Фуко. Ее концентрированное выражение - бентамовский проект идеальной тюрьмы Паноптикон, представляющий "компактную модель дисциплинарного механизма", охватывающего все общество, "общий принцип новой "политической анатомии" общественного тела, воспроизводящийся в каждой его клетке - на фабриках, в больницах, школах, армии, тюрьмах, в самой правовой системе и т.д. (см.: Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. Пер. В. Наумова. М., Ad Marginem, 1999. С. 288, 301, 305). К логике "выведения" общественного Паноптикона из "частной этики" "наибольшего счастья" мы вернемся чуть позже. Сейчас же отметим, что многие профессиональные "бентамоведы" категорически отрицают такую "расширительную" интерпретацию Паноптикона ("как микрокосма государства"), признавая, впрочем, что его устройство могло в той или иной степени соответствовать конструкции отдельных институтов типа тюрем, 79 фабрик, работных домов и т.п. См.: Rosenblum N.L. Bentham's Theory of the Modern State. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1978. P. 19-20. 80 Benthan's Political Thought. P. 181-182. 81 Бентам И. Введение в основания... С. 385. В данной статье я полностью оставляю "за кадром" обсуждение того, что можно отнести к "общей теории" утилитаризма Бентама - ее методологию, мировоззренческие основания, присущие ей элементы онтологии и эпистемологии и т.д. "Силы и слабости его философствования", как выразился Джон Стюарт Милль, подвергнуты анализу многими поколениями исследователей. Ранний и классический образец такового анализа дал сам Милль (см.: Mill J.S. Bentham. In: Selected Writings of John Stuart Mill. Ed. М. Cowling. N.Y.: Mentor Book. 1968). Видимо, непревзойденной до сих пор по обстоятельности и глубине является книга Э. Халеви "Рост философского радикализма" (Halevy Е. The Growth of Philosophical Radicalism. Tr. М. Morris. Boston: Beacon Press, 1955). Моя задача ограничивается сугубо отслеживанием связи морали и политики в утилитаризме Бентама. 82 83 См.: Бентам И. Введение в основания... С. 9. стр. 54 84 Parekh В. Introduction. In: Bentham's Political Thought, p. 15. Конечно, есть другие версии "естественной гармонии", одной из наиболее известных среди которых выступает та, которая вырабатывается "шотландским просвещением". Однако у Юма, Смита, Фергюсона она опирается на силу традиции, спонтанно, т.е. внерационально складывающегося разделения труда - в первую очередь. Об особенностях этой версии и ее отличиях от бентамовской см.: Halevy Е. Ор. cit. Ch. 1 и ch. 3. Par 1. 85 Бентам И. .Введение в основания... С. 373. 374. Нельзя смешивать бентамовское "публичное воспитание" с пониманием государства как воспитательной системы в античности. Второе имеет в виду воспитание граждан, а не частных лиц, и воспитание путем непосредственного участия в публичной политике, а не через пенитенциарную систему и назидательные примеры власть и богатство имущих. 86 Некоторые комментаторы обнаруживают у Бентама <)"я не сводимых друг к другу этических стандарта: один - для "частной этики", другой - для законодательства. (См.: Lyons D. In the Interest of the Governed. A Study in Bentham's Philosophy of Utility and Law. Oxford: Clarendon Press, 1973. P. VII, 58 ff). Ряд аргументов, обосновывающих такие суждения, близки моим в части показа политической несостоятельности "естественной гармонии интересов. 87 88 Бентам И. Введение в основания... С. 382. См.: Bentham J. The Psychology of Economic Man. In: Jeremy Bentham's Economic Writings. Vol. 3. Ed. W. Stark. L.: George Alien & Unwin, 1954. P. 427, 428. 89 90 Bentham J. Ibid. P. 429, 430. 91 Bentham J. Ibid. P. 431. 92 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Ч. 3. Гл. 3. Foucault М. Truth and Power. In: Foucault М. Power Knowledge. Selected Interviews and Other Writings, 1972- 1977. Ed. C. Gordon. N.Y.: Pantheon Books, 1980. P. 119 (курсив мой. - Б.К .). 93 94 Foucault М. The Eye of Power. In: ibid. P. 156. 95 Бентам И. Введение в основания... С. 80. 96 Бентам И. Там же. С. 9. 97 См.: Бентам И. Там же. С. 17, 19-20. Подробнее о распространенности в раннем либерализме идеи сопротивления верховной власти см.: Franklin J.H. John Locke and the Theory of Sovereignty. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981. P. X и особенно гл. 4. 98 См.: Локк Д. Два трактата о правлении // Локк Д. Соч. в трех томах. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 396, 397, 405. 99 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Избр. произв. в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 201. 100 101 См.: Кант И. Метафизика нравов... С. 241, 242. 102 Bentham J. A Fragment on Government. In: Readings in Recent Political Philosophy. Ed. М. Spahr. N.Y.: Macmillan, 1949. P. 95-96. 103 Bentham J. Ibid. P. 96. 104 См.: Bentham J. Ibid. P. 96-97. 105 См.: Bentham's Political Thought. P. 129-130. стр. 55