Дипломная работа студентки
advertisement
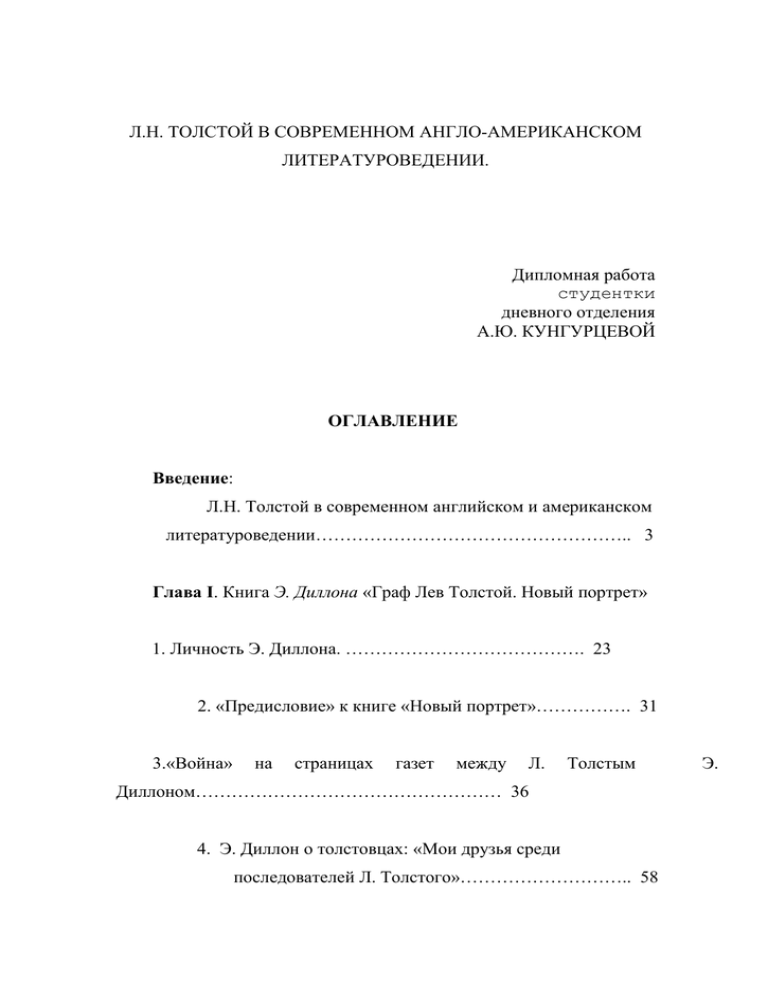
Л.Н. ТОЛСТОЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Дипломная работа студентки дневного отделения А.Ю. КУНГУРЦЕВОЙ ОГЛАВЛЕНИЕ Введение: Л.Н. Толстой в современном английском и американском литературоведении…………………………………………….. 3 Глава I. Книга Э. Диллона «Граф Лев Толстой. Новый портрет» 1. Личность Э. Диллона. …………………………………. 23 2. «Предисловие» к книге «Новый портрет»……………. 31 3.«Война» на страницах газет между Л. Толстым Диллоном…………………………………………… 36 4. Э. Диллон о толстовцах: «Мои друзья среди последователей Л. Толстого»……………………….. 58 Э. Глава II. Сборник статей «Кэмбриджское руководство к Л. Толстому»…………………………………………… 75 Д.Т. Орвин «Л. Толстой как художник и 1. общественный деятель»…………………………… 77 2. Э.Круз «Женщины, сексуальность и семья у Л. Толстого»…………………………………………. 90 3. Д. Клэй «Л. Толстой в ХХ веке»…………………… 104 Заключение……………………………………………………… 119 Библиография……………………………………………………123 Введение: Л.Н. Толстой в современном английском и американском литературоведении. Интерес к личности Л.Н. Толстого, к его художественному, философскому и публицистическому наследию остается в США и Великобритании на протяжении последних десятилетий XX века, а также в начале века XXI устойчивым и глубоким. Рассматривая публикации о Л. Толстом 70 – 900-ых годов, нам показалось важным отметить труды английских и американских исследователей У.У. Роу, Г.С. Морсона, Р. Ф. Густафсона, Э.Ганна, Э. Лэмперта, Л. Спирза, Э.Б. Грунвуда, Э.Васиолека о Л.Н. Толстом. Об этих, а также некоторых других работах и пойдет речь во введении к нашей дипломной работе. Отметим, что заметным событием в общественной и литературной жизни США стало создание в декабре 1987 года в Сан-Франциско Толстовского общества при Американской ассоциации учителей русского и восточноевропейских языков. Общество имеет свой печатный орган - журнал «Tolstoy Studies Journal»1, который выходит раз в год. Структура издания традиционна: статьи и заметки, «круглые столы», посвященные обсуждению толстоведческих монографий, библиографический раздел, в котором первоначально печатались отзывы лишь на отдельные западные публикации, а позднее стали появляться и сообщения о российских (но только московских и яснополянских) изданиях. В последние годы в журнале появились разделы архивных исследований, изучения Л. Толстого в России и других странах. В современном англо-американском литературоведении можно выделить три основных направления изучения Л. Толстого. Во–первых, направление, в котором ощутимо влияние принципов историзма в изучении творчества Толстого; затем - психологическое направление; а также философско - религиозное направление, изучающее особенности мировоззрения Л. Толстого – мыслителя, а также отражение философских и религиозных исканий писателя в его художественном и публицистическом наследии. Интересна вышедшая в 1986 г. монография У.У. Роу. «Лев Толстой»2. Главная задача исследователя - представить англоязычному читателю Л. Толстого - человека, писателя, мыслителя, - в единстве восприятия. Роу 1 2 Tolstoy Studies Journal, Toronto, 1988 – 2004. Rowe W.W Leo Tolstoy. Boston, 1986. устанавливает главный принцип своего анализа: от целостности восприятия каждого конкретного произведения к целостности восприятия всего творчества Л. Толстого. Автор монографии анализирует историю создания произведения, устанавливает связи каждого отдельного произведения со всем творчеством писателя, и уже на основании этого делает выводы об общем генезисе тематики в творчестве Л. Толстого, а также рассматривает его работы в контексте литературы XIX – XX вв. Американский ученый, придерживаясь концепции сквозной целостности творчества, пришел к следующему выводу: кризис Л. Толстого 1880-х гг. – не неожиданный перелом в его мировоззрении, а переход, подготовленный всем предыдущим творчеством. Подобное отношение к творчеству Л. Толстого, прежде нередко отрицаемое зарубежными русистами, можно с уверенностью назвать новой тенденцией в английском и американском толстоведении. С позиций историзма подошел к анализу творчества Л. Толстого и другой американский исследователь – Г.С. Морсон. В его монографии «Спрятанное в очевидном: повествовательный и созидательный потенциал романа «Война и мир»3 опровергается множество стереотипов, связанных с именем Л. Толстого. В работе очевидно стремление автора показать и доказать органическую взаимосвязь структуры и содержания «Войны и мира» как единого художественного целого. Автор исследования обнаруживает закономерности в построении и образной системе «Войны и мира» как художественного единства, соотносит научное осмысление произведения с эпохой его создания, с этапами развития замысла, с непосредственным восприятием читателями разных поколений, с внетекстовыми материалами той поры. Автор монографии последовательно идет к определению смысла и ценности внутренних Morson G.S. Hidden in the plain view: Narrative and creative potentials in “War and Peace”. Stanford, 1987. 3 (структура произведения), а затем внешних (исторический контекст возникновения и существования) связей, к изучению восприятия книги Л. Толстого в культурах разных стран и разных эпох. И в конечном итоге исследователь представляет целостное видение «Войны и мира», а также определяет художественную и философскую значимость романа – эпопеи для современного человека. Вывод, к которому ученый приходит, следуя толстовской мысли, таков: понимание смысла жизни содержится в ритме именно повседневной жизни, в обыденном и незаметном, а не в так называемых решающих моментах или критических ситуациях. Правда, которую мы ищем, скрыта в явном, но тем труднее её отыскать. Основой создания теории американского ученого послужили ставшие классическими в англоязычном толстоведении идеи Исайи Берлина о необходимости серьезного отношения к философии истории Л. Толстого и признании эссеистских рассуждений и авторских отступлений «Войны и мира» существенным элементом структуры романа, несущим важную смысловую нагрузку, а также разработки М.Бахтина о природе романа как жанра. Г.С. Морсон придает большое значение изучению внешних связей «Войны и мира»: восприятию романа Л. Толстого в различных меняющихся социокультурных контекстах, и в связи с этим первоначальное прочтение «Войны и мира» современниками писателя, характеризуемое максимальной остротой восприятия, представляется ученым как необходимое условие адекватного понимания «Войны и мира». Как нам кажется, монография Морсона интересна и сегодня, поскольку одна из главных задач исследователя – вернуть современным читателям ошеломляющее чувство необычности, которое произвело произведение в момент своего появления. По утверждению Морсона, замысел и построение «Войны и мира», создаются писателем намеренно нетрадиционно и по форме и по содержанию, они пародируют все другие повествования об исторических событиях, авторы которых обречены на ложное представление исторического процесса, будучи не в состоянии охватить всего непостижимого многообразия действий конкретных, но ничем не примечательных людей, случайных, а не «решающих» событий, которые как раз-то и творят, по Л. Толстому, историю народов и психологию личности. Из анализа «Войны и мира», осуществленного американским ученым, вытекает общее представление о Л. Толстом как о философе открытого настоящего, со всеми его нереализованными возможностями, со всей окружающей его простотой и незаметностью, превращающимися в ту самую «силу, которая движет народами». Психологическое направление стремится выявить индивидуальноличностные свойства писателя, обусловливающие создание, а также восприятие литературного произведения. Одна из моделей толкования художественных текстов, использующаяся в рамках психологического направления – «модель аналогии», для которой характерно установление прямой связи между вымышленными образами литературного произведения и амбивалентными чувствами его автора, вызванными теми или иными инфантильными переживаниями: эдиповым комплексом, инцестуозными бессознательного желаниями запретами, с вытесненными последующим их в сферу галлюцинаторным переживанием, искаженными заместителями «чего-то», о чем человек «знает, но это знание ему недоступно». Используя «модель аналогии» как метод анализа, Х. Маклин4 на материале «Анны Карениной» трактует искусство как сублимацию переживаний автора вовне, в литературные образы. Hugh McLean, “Truth in Dying” // In the shade of the Giant: Essays on Tolstoy: Ed. By Hugh McLean. Berckley, L.A., L., 1989. 4 Определяя сущность новаторских экспериментов Л. Толстого в области повествования и переосмысления русским писателем традиционного понятия «событийности» в художественном произведении, Дж.М.Коппер5 обращается к исследованию проблемы половой любви, предлагая тщательно разработанные понятия циркуляции и повторяемости этой тематики, а также её разнообразных заместителей, трактуемых в психоаналитическом ключе, в произведениях позднего периода творчества Л. Толстого – «Отце Сергии», «Крейцеровой сонате», «Дьяволе». Автору работы темы взаимоотношений между полами представляется центральной и чуть ли не единственной в сознании Л. Толстого и его отношении к искусству в поздний период жизни и творчества. Однако кажется, что такое представление сужает проблематику анализируемых автором повестей. В поле зрения зарубежных литературоведов оказались не только религиозные трактаты русского мыслителя, но также его труды, посвященные этике, эстетике, философии. Обращение к Л. Толстому – мыслителю неотделимо от понимания его творчества как художника и его жизни как человека. Из исследования «Русский роман от Пушкина до Пастернака»6 становится очевидно, что интерес к названному аспекту творчества русских писателей, в том числе Л. Толстого, в значительной мере обусловлен особым отношением американских славистов к русскому роману, который, по их убеждению, «в России стал исключительно важным средством передачи духовных, философских и социополитических идей». Обращение к философской и нравственной проблематике произведений Л. Толстого представляется многим американским славистам чрезвычайно актуальным, поскольку философское мировоззрение Л. Толстого оказывало существенное John M. Kopper, “Tolstoy and the Narrative of Sex: a reading of “Father Sergius”, “The Devil”, and “The Kreutzer Sonata” // In the shade of the Giant: Essays on Tolstoy: Ed. By Hugh McLean. Berckley, L.A., L., 1989. 6 The Russian Novel from Pushkin to Pasternak. New Haven, 1983. 5 влияние на содержание и форму его художественных произведений, формировало его педагогические теории, ощущалось в публицистических трактатах позднего периода. Можно смело утверждать, что среди появившихся работ о Л. Толстом, монография Р.Ф. Густафсона «Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Л. Толстого»7 является одной из наиболее интересных. Эта книга, вышедшая в Принстоне в 1986 году, в 2003 была переведена на русский язык и издана в Санкт – Петербурге. Принцип анализа – «все последующее объясняет предыдущее» – стал ведущим в монографии Р.Ф. Густафсона, единство замысла и избранная метода которой позволило её автору создать оригинальную «реконструкцию теологии Л. Толстого», представленную в свете православной христианской мысли. Цель монографии – исследовать связи между психологической жизнью писателя, его произведениями («вербальными иконами») и его религиозным мировоззрением. Ранее вопрос об отношении Л. Толстого к традиции восточно-христианской религии литературоведении практически не в английском и американском затрагивался. В монографии подчеркивается необходимости изучения «одного» Толстого: мыслителя и писателя. Английский исследователь творчества Л. Толстого Э. Ганн в своей работе «Отважный парикмахер. Размышления о «Войне и мире» и «Анне Карениной»8 анализирует своеобразие толстовского взгляда на историю, и видит суть его в том, что Л. Толстой представляет деятелей её в «домашнем обличье». 7 Gustafson R.F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger. A study in fiction and theology. Princeton, New Jersey, 1986. // Густафсон Р.Ф Лев Толстой: Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество. СПб., 2003. 8 Gunn L. A daring coiffeur. Reflection on “War and Peace” and “Anna Karenina”. L., Chatto a. Windus, 1971. Ещё одна отличительная черта творчества Л. Толстого, по мысли исследователя, – настойчивое искание неприкрашенной правды во всех сторонах человеческой жизни. И именно эта черта, по мнению Э. Ганна, прослеживаемая уже в романе «Война и мир», дает нам услышать голос того строгого до фанатичности моралиста, ниспровергателя «искусственного» искусства, каким станет Л. Толстой в более поздние годы. «Анна Каренина» представляется Э. Ганн сочинением гораздо более зрелым, чем «Война и мир». Но, как это ни парадоксально, здесь голос автора – обличителя и проповедника – почти не слышен. Это - книга «взрослого» человека о «взрослых» людях. Потому и автор отказывается от прямого, однозначного суда над ними. Э. Ганн считает важным, что в период между написанием «Войны и мира» и «Анны Карениной» Л. Толстой изучал древнегреческий язык, читал Гомера и античных трагиков. От них он мог почерпнуть (или подкрепить уже созревавшее в нем) представление о человеке как рабе разрушительных страстей, гнездящихся в нем самом, игрушке богов, в свою очередь выступающих подчас лишь как персонификация этих страстей. Интересна следующая мысль Э.Ганна: вопреки сложившемуся мнению, что альтер эго Л. Толстого в романе «Анна Каренина» - Константин Левин, исследователь считает, что не только Левин, но и Вронский – оба несут в себе черты самого Л. Толстого. Анна же представляет страсть, безрассудную, губительную, но непреодолимую; царство таких страстей, делает вывод Э. Ганн, и есть подлинная жизнь. Совершенно справедливо исследователь замечает, что залог читательского понимания для Л. Толстого – духовная общность автора и читателя. Не идущей «от головы» отточенностью выражения хотел он воздействовать на современников и потомков, не стиль важен для писателя, а сила убеждения, рождающаяся «в сердце» и ждущая сердечного отклика. Английского русиста Э. Лэмперта9, автора статьи о Л. Толстом в сборнике «Русская литература ХIХ века» поражает в Л. Толстом прежде всего грандиозный масштаб личности в сочетании с крайней противоречивостью. Решение этой «загадки Толстого» Э. Лэмперт видит в том, что писатель сконцентрировал в своем личном опыте, как в фокусе, опыт целой эпохи, чреватой напряженными внутренними конфликтами. И хотя отправной точкой исканий Л. Толстого, считает исследователь, был его диалог с самим собой, попытки удовлетворить собственные духовные запросы оказались неотделимы от проблем века. Как ни глубоко и искренне разделял Л. Толстой руссоистское неприятие социального начала в жизни как искусственного и развращающего, сам он был слишком тесно связан со своей социальной средой. В качестве наиболее подходящего инструмента в своих поисках правды Л. Толстой, пишет Э. Лэмперт, избрал беспощадный психологический анализ, и отсюда смещение акцента с идеализированного, «возвышенного» на подлинно земное бытие. Не случайно религиозные искания молодого Л. Толстого приводили его к мечтам о «посюсторонней религии», о низведении рая с небес на землю. И в самой человеческой психике благодаря этому методу размываются границы между поступком, проистекающим из ясно осознанного намерения, и поступком, совершенным как бы случайно, стихийно, самопроизвольно. «Случайные» движения души не просто придают ей ещё одно измерение, они зачастую выявляют её истинную суть: «Природа» всегда предпочтительнее искусственности, делает справедливый вывод английский исследователь. Э. Лэмперт обращается к роману «Война и мир» и анализирует вопросы единства «исторического» и «семейного», общественного и частного начал в «Войне и мире». Война противоположна миру, но она не в силах помешать 9 L., 1973. Lampert E., Tolstoy // Nineteenth – century Russian literature. Studies of ten Russian writers. могучему потоку жизни, утверждающему себя в каждом отдельном существовании. Э.Лэмперт полемизирует с точкой зрения (отстаивавшейся, в частности, Эйхенбаумом), согласно которой «Война и мир» была задумана первоначально как семейная хроника и лишь в ходе работы над книгой превратилась в роман – эпопею. По мнению исследователя, ссылающегося на черновики Л. Толстого, обращение к историческим событиям составляет неотъемлемую часть исходного замысла писателя: антиволюнтаризм Л. Толстого есть одно из проявлений его тяги к «демократизации» своих убеждений. Главным уроком Толстого, однако, Э.Лэмперт считает не его историко – философские, социальные, религиозные идеи, но ощущение взаимосвязанности, «сцепления», по словам Л. Толстого, человеческих чувств, поступков, судеб в отношении друг у другу и к целому – самой жизни. Парадоксально, но для характеристики художественного метода Л. Толстого Э. Лэмперт считает сопоставление его с И. Тургеневым более плодотворным, нежели с Ф. Достоевским. Выявление особенностей творчества Л. Толстого через сопоставление его с другими писателями – один из распространенных приемов в литературоведении. Английский русист Л. Спирз, автор книги «Толстой и Чехов»10, считает, что различие между двумя писателями лежит прежде всего в понимании обязанностей, которые накладывает на писателя эта – осознанная как безусловно необходимая – ответственность. Для подтверждения этой мысли Спирз обращается к трактату Л. Толстого «Что такое искусство?» и 10 Speirs L. Tolstoy and Chekhov. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. его идеям о двух видах искусства – «религиозном» и «всемирном». Оба эти виды искусства, по Толстому, призваны «говорить правду», но деятели «всемирного» искусства делают это зачастую бессознательно, потому что не имеют определённой точки зрения. «Толстовская» часть книги Л .Спирза открывается критическим разбором повести «Семейное счастье». Эта ранняя повесть, по мнению критика, представляет собой как бы прелюдию к последующим книгам Толстого. Несмотря на камерность сюжета и спокойствие повествования, здесь уже достаточно очевидно сказывается свойственный позднему Толстому моральный ригоризм – уверенность в том, что существует «правильное» и «неправильное» жизненное поведение, что соблюдение «правил» требует мужества и напряжения духовных сил. «Война», о которой идет речь в «Войне и мире», - это, по справедливому наблюдению критика, прежде всего конфликт между двумя основными типами восприятия жизни. Один – активный, утверждающий самоценность личности, берущий сторону индивидуума в извечном его споре с миропорядком. Этот тип воплощен в князе Андрее – «озападненном петербуржце», по выражению Л. Спирза. Другой тип – пассивный, соглашающийся принять отведенное ему во вселенной место, – воплощен в уроженце древней русской Москвы Пьере. Какой-то частью своего существа, утверждает Л. Спирз, Л. Толстой солидарен и с князем Андреем: это та часть, которая не может смириться с мыслью о гибели, конечном исчезновении и жаждет личного бессмертия. В такой жажде бессмертия Л. Спирз и усматривает побудительную причину писательства, творчества. И с этой точки зрения «Война и мир» свидетельство душевной борьбы самого Л. Толстого и рассказ о стремлении современного человека к утверждению своей неповторимости, единственности, о попытках противостоять смерти, уничтожению. И в то же время Л. Толстой, по словам Л. Спирза, испытывает недовольство собой и чувство вины за такой эгоцентризм. Ещё одна важная толстовская тема - разоблачение многообразных человеческих иллюзий. Человек зачастую не в состоянии предугадать последствий своего решения, он оказывается одновременно орудием и жертвой им же созданных установлений. По мысли Спирза, философия истории Л. Толстого лишь по видимости носит характер беспристрастного «научного» рассуждения. В действительности эти рациональные построения поставлены на службу страстному, необоримому желанию отыскать законы мироустройства, логику хода истории и человеческой судьбы. А поскольку сделать это на уровне практической очевидности не представляется возможным, есть только один выход: вывести этот разумный «план» за пределы человеческого понимания. «Закон предопределения» должен существовать. Он только непостижим для человека, видящего беспорядочное «движение кисти», но не угадывающего «трафарета», по которому кисть движется (образы, принадлежащие Л. Толстому). Трафарет же этот – провидение. Только таким способом, введя в размышления о человеке и истории ещё одно измерение – божественный промысел, воле которого человек должен добровольно и радостно предаваться (и в этом и состоит его свобода), Л. Толстой удовлетворяет свою тоску по осмысленности происходящего на земле. Любопытно наблюдение Спирза о романе «Анна Каренина»: как полагает Л .Спирз, роман также построен вокруг конфликта двух этических систем: Левина и Стивы Облонского. На пути Л. Толстого, который может быть приблизительно определен как путь от художника к проповеднику, роман «Анна Каренина» был переломным произведением. Здесь многообразие и сложность самой жизни ещё врывается в умозрительные схемы и корректирует их. Но гибель Анны задана заранее, она предопределена суровым толстовским взглядом на семью, физическую любовь, назначение женщины. В этом и есть проявление тенденции движения Л. Толстого от писателя к проповеднику. Л. Спирз сравнивает духовные исканий Левина и «Исповедь» и приходит к выводу, что Л. Толстой не допускает мысли о том, что «правда», которую он обрел, - частичная правда, какая только и доступна отдельному человеку, даже самому великому. Он притязает здесь на обладание всей полноты истины и требует от мира, чтобы тот пошел предлагаемым им путем. О романе «Воскресение» Л. Спирз говорит, что книга выглядит надуманной, подчиненной нетерпимо проповедуемой ложной идее. В романе, считает Л. Спирз, появляются неприятные ноты, не свойственные Л. Толстому прежних лет, - фальшь и сентиментальность. Так подлинная жизнь, по мнению Сприза, мстит за попытку совершить над ней насилие, втиснуть её в жесткие рамки максималистских посылок. Отступление позднего Л. Толстого от курса проповедника– повесть «Хаджи - Мурат». Здесь, говорит исследователь, «чувствуется живой интерес к реальным событиям и людям». В ходе исследования Л. Спирз сопоставляет творчество Л. Толстого не только с сочинениями А. Чехова, его писательской и гражданской позицией, а также с сочинениями англоязычных авторов – Джейн Остин, Генри Джеймса, Джордж Элиот и особенно Д.Г. Лоуренса, автора романа «Любовник леди Чаттерлей». Влияние Л. Толстого на Лоуренса рассматривается в специальном приложении. Ещё одна интересная работа, основанная на сопоставлении двух писателей – статья М. Хейнека «Достоевский против Толстого: битва против субъективного идеализма»11. Два основных направления в современной западной философии и литературе, по мнению М. Хейнека, генетически восходят к творчеству Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Ф. Достоевский связывается исследователем с традицией «трасцендентальной духовности», получившей начало в сочинениях Платона, а в новое время воплощенной в философских системах Кьеркегора и Ясперса, и противопоставленной философско – эстетическому течению «светского экзистенциализма» ( или «субъективного нигилизма»), которое якобы нашло наиболее полное выражение в художественных произведениях Л. Толстого. Индивидуальное сознание у Л.Толстого, говорит М.Хейнек, испытывает ту же самую «разорванность», что и у Ф.Достоевского, когда оно остается один на одни с бесконечной и при этом «теологически не объяснимой вселенной». Однако в отличие от Ф. Достоевского Л. Толстой, защитник жизни как явления коллективного, находит спасение от экзистенциальной муки современного человечества в абсолютном отрицании нравственно уникальной человеческой индивидуальности. С этой точки зрения он предвосхищает деградацию человеческой самости и превращение её во внутреннюю пустоту, в ничто. Внешне «абсолютный детерминизм» Л. Толстого и учение Ж.-П. Сартра о «проклятии свободой» кажутся диаметрально противоположными, однако французский философ доводит до логической крайности именно «психологический детерминизм толстовской разновидности». Л. Толстой был убежден, что свободен лишь «призрачный», отчужденный человек, стремящийся остановить «поток жизни» ложными умозрительными схемами в то время, как все «истинные люди» подчиняются законам природы. Индивидуум у Сартра также становится свободным лишь тогда, когда он осознает, что проклят, т.е. предопределён абсолютной незначительностью его экзистенциальных выборов. Hanah M. Dostoevsii versus Tolstoi: A struggle against subjective idealism // Canadian – American Slavic Studies, Montreal, 1978, vol.12, №3, р. 371 –376. 11 Сущностное развитие между детерминизмом Л. Толстого и Сартра заключается в различии оценки «свободной отчужденной личности»: если для Сартра она выступает как единственно возможная форма существования, то Л. Толстому она казалась формой «исключительного ложного существования», не осознавшего смысла жизни в других и для других. Интересен доклад «Писал ли Толстой романы?», прочитанный американским литературоведом и критиком Дж.М.Холквистом на VIII съезде славистов12. Он развивает мысль о том, что философское мышление Л. Толстого определяло не только идейное содержание, но и самое поэтику русского писателя. Холквист считает, что Л. Толстому свойственна крайне высокая степень аналитической осознанности на всех уровнях художественной структуры. «Л. Толстого не удовлетворяло изображение явлений при помощи слов. Л. Толстого волновал не реализм, а достоверность (authenticity). Он стремился передать самую суть явлений, и в то же время понимал, что словесный ряд не соответствует ни предметному ряду, ни самому процессу восприятия». антиплатоником», который Л. Толстой первостепенную был «воинствующим значимость придавал «человеческому опыту существования, развертывающегося в определённости конкретного, исторического настоящего и непосредственность которого не приглушается врожденными или любыми другими предваряющими этот опыт идеями». Поэтому его творчество обнаруживает «прорыв к предельной сиюминутности», к превращению художественного высказывания в регистрацию самого акта восприятия, что и побуждало Л. Толстого постоянно искать уникальные, только ему присущие, хотя и крайне разнообразные, способы повествования, приемы типизации и параметры стиля. Его сюжеты часто подвергались критике, однако все «недостатки» Л. Толстого были порождены самобытностью эстетических представлений, 12 American contribution to the VIII international congress of slavists (Zagreb-Ljublijana, 3-9 sept., 1978).-Columbus (Ohio): Slavica publ., 1978.- Vol.2. literature/ Ed. by Terras V. отрицавших «ладно скроенные» симметричные или органичные сюжетные линии. Герои Л. Толстого, кажется, никогда не являются участниками «приключений» (т.е. логической цепи событий, имеющей отчетливое деление на начало, середину и конец и свойственной не самой действительности, а лишь повествовательным системам). Американский славист Э. Васиолек в своей монографии «Главные произведения Толстого»13 концентрирует внимание на романах «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение». Он полемизирует с распространившимся в западной критике мнением о непоследовательности как специфике художественного и философского мышления Л. Толстого. Э. Васиолек считает, что основной для всего творчества Л. Толстого является проблема поиска форм установления «правильных, истинных отношений» к миру, которые достигаются лишь путем «идентификации» индивидуального сознания с объективными условиями бытия – общими целями общества или самими законами жизни. Гармоничность подобной «идентификации» определяется степенью внутреннего осознания её неизбежности и готовностью, с которой личность «растворяется» в других, не искажая их сущности путем проекции собственных, ложных представлений о смысле и целях бытия. Ключевой, по мнению Васиолека, в философской и художественной деятельности Л. Толстого выступает уверенность в том, что человек не может лишь принимать или не принимать её. Любая попытка изменить жизнь подобна попытке остановить само течение жизни. И тот, кто стремится воплотить в реальность собственные, субъективные представления о существовании, подменяет бытие рассудочными категориями, отчуждающими их носителя от всего богатства и многообразия жизни. И вернуться к ней «отчужденный человек» может лишь в процессе «самоотрицания» или «растворения», 13 Wasiolek E. Tolstoy’s major fiction. Chicago: University of Chicago press, 1978. подготовленном мучительным «внутренним и внешним поиском истины». Таков путь, считает Э. Васиолек, всех «истинных героев» «Войны и мира». Предпосылкой исследовательского метода преподавателя Кентского университета Э.Б. Гринвуда в книге «Лев Толстой: всестороннее видение»14 служит мысль о том, что в творческой личности Л. Толстого с живейшим художественным воображением неповторимо соединился глубокий аналитический дар. Критик, обращающийся к сочинениям Л. Толстого, не может потому оставаться в рамках собственного литературоведения, он неизбежно должен заняться теми вопросами морали, философии истории, религии, которые волновали самого Л. Толстого. При этом Э.Б. Гринвуд полагает невозможным ограничиться чистым «пересказом» толстовских идей, анализ всегда должен подкрепляться соображениями, вытекающими из личного жизненного и интеллектуального опыта критика. Гринвуд говорит, что центральный вопрос Л. Толстого - проблема человеческого счастья. Счастье неотделимо для Л. Толстого от постижения цели земной жизни и мыслимо лишь как в этой земной жизни осуществляющееся. Мучительные трудности, в поисках путей достижения «универсального» счастья определяются противоречием между индивидуальными стремлениями и всеобщим благом. Для Л. Толстого оказывается неприемлемо «западное» утилитаристское решение с его механистическим коллективизмом. Понятие счастья оформляется лишь в терминах «естественной единицы сознания» – отдельной, единичной жизни. Каждое человеческое существо само по себе есть лишь цель, оно не должно быть принесено в жертву целому. Но счастье личности невозможно без истинно альтруистической заботы об облегчении участи обездоленных – 14 Greenwood E.B. Tolstoy: the comprehensive vision. L., 1975. других человеческих существ. Таков, по мнению, Э.Б. Гринвуда, итог последних лет жизни Л. Толстого. Основной задачей искусства для Л. Толстого, как справедливо замечает исследователь, было сообщение читателю чувства, испытываемого героем, воспроизведение самого внутреннего состояния человека, его переживающего. Этой цели и служит толстовский «внутренний монолог». С точки зрения Э.Б. Гринвуда, трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» знаменует собой переход от дневников к поздним, зрелым произведениям. Здесь появляются многие важные для Л. Толстого психологические мотивы: соотношение застенчивости и самолюбия, самообмана и искренности, поверхностного правдоподобия и глубинной правды. Вместе с тем, в трилогии Л. Толстой пользуется средствами, чуждыми его поздней манере. Проблема исторической правды, как отмечает Гринвуд, - центральная для «Войны и мира», однако не раз Л. Толстой отступает от достоверных фактов. Более того, его трактовка этих фактов вступает в противоречие с его собственными суждениями, высказанными в других местах. Для критика неприемлема не столько толстовская оценка личности Наполеона, сколько попытки для подтверждения этой оценки исказить истину об исторических событиях и той роли, которую Наполеон в них играл. Впрочем, как верно отмечает исследователь, нападки Л. Толстого обращены не на Наполеона – конкретного исторического деятеля, а на сам принцип «культа личности», санкционирующий «две морали» - одну для героя, исключительной личности, другую для обыкновенного человека, для человека «толпы». Здесь воззрения Л. Толстого перекликаются с позицией автора «Преступления и наказания». Л. Толстой отстаивает безусловность единых моральных норм для всех. В «Войне и мире», пишет Гринвуд, традиционное обличье «богоподобного», Л. Толстому удается сочетать «всезнающего» (и потому имеющего право на моральное суждение) автора с современным интересом к внутренней жизни каждого персонажа, т.е., в сущности, приблизиться к решению задачи о примирении всеобщей правды с правдой отдельной личности. Истина «разбросана» по персонажам, и каждому из них время от времени доверяется высказать мысли самого автора. Автор не может «синтезировать» истину потому, что его позиция всезнающего рассказчика дает ему иную точку зрения, возможность «взгляда с птичьего полета» и, следовательно, полного охвата всей картины. Границы авторского всезнания определяются толстовским недоверием к мистической мудрости, не поверенной опытом. Здесь Л. Толстой , по мнению Гринвуда, опирается на идеи Канта из «Критики чистого разума». В романе «Анне Каренина» Гринвуд отмечает мысль Л. Толстого о том, что счастье не есть награда добродетели, они вообще не находятся в отношении «цель - средство», но только добродетель достойна счастья. В этом пункте Л. Толстой снова сближается с Кантом, но ему чужды абстрактность и ригоризм кантовских построений. Л. Толстой придает гораздо больше значения эмоциональной стороне психики и подчеркивает зависимость человеческого счастья от игры случая. Как справедливо замечает исследователь, «Исповедь» Л. Толстого – это не обретение веры, но свидетельство толстовской жажды её обрести и уверенность в том, что кто-то ею действительно обладает. «Исповедь» обозначила крутой перелом в жизни Л. Толстого. Начиная с этого времени, Л. Толстой как бы теряет широту достигнутого им «взгляда с птичьего полета». Отныне в его книгах уже не сплетаются органически самые различные темы – смерти и любви, войны, социальной несправедливости, - как это было в романах. Каждое из поздних произведений («Смерть Ивана Ильича», «Хаджи - Мурат», «Крейцерова соната») разрабатывает только одну тему. И автор уже не «вмещает» в себя всех своих персонажей, он как бы идентифицируется с одним их героев, избирает одну точку зрения. Однако, замечает Э.Б. Гринвуд, не стоит представлять дело так, будто до 1879 года Л. Толстой был художником, а после стал проповедником; речь идет скорее о смещении акцентов. В толстовском отношении к религии Гринвуд не склонен подчеркивать рационализм, восходящий к философии XVIII столетия. В основе толстовских религиозных исканий, по его мнению, лежит все та же забота об обретении всеобщего, абсолютного счастья. Критик предостерегает от соблазна отождествлять взывающее к искренним движениям сердца «истинное христианство» Л. Толстого с позитивистскими религиозными конструкциями в духе Ренана. Взгляды Толстого, по мнению Гринвуда, вызывают несогласие по многим вопросам, прежде всего в области социальной (включая теорию непротивления злу насилием) и экономической. Но в том, что касается проблем духовной жизни, его учение не устарело по сей день, оно дает нашему современнику больше, чем многие доктрины ХХ века. В 1972 году в Нью – Йорке была переиздана книга английского журналиста и переводчика Эмилия Диллона «Граф Лев Толстой. Новый портрет»15, впервые вышедшая в Лондоне в 1934 году. Биографии Л. Толстого, написанные его современниками, представляют особенный интерес в изучении жизни и творчества русского писателя и мыслителя. Книга Э. Диллона не была переведена на русский язык, за исключением одной небольшой главы, опубликованной в сборнике «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников»16. 15 E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy. A new portrait, N.Y., 1972. А между тем Диллон представляет в своей книге интересный фактический – особенно журналистский – материал в отношении нескольких случаев из жизни Л. Толстого. Отношения Л. Толстого и Э. Диллона ознаменованы несколькими чрезвычайно важными эпизодами. Во – первых, это история одного из первых переводов и публикации в Англии запрещенной тогда в России повести «Крейцерова соната», где Диллон выступил не только одним из первых переводчиков этого произведения Л. Толстого на английский, но и главным защитником интересов Л. Толстого в борьбе с издателями. Во – вторых, это, конечно же, нашумевшая история, связанная с публикацией за границей статьи Л. Толстого «О голоде». Эти события можно назвать наиболее значимыми и наиболее известными из представленных в книге Э. Диллона. Современные исследователи могут лишь сожалеть о том, что они «лишены возможности знать Л. Толстого лично»17, Диллон же был вовлечен в мир, пропитанный толстовскими идеями, он был очевидцем событий: от него мы можем получить сведения о Л. Толстом «из первых рук». Именно потому, что он был современником Л. Толстого, любопытна сама точка зрения этого биографа и мемуариста. В первой главе нашей дипломной работы мы предлагаем перевод нескольких глав из книги Диллона и наш комментарий к ним. Своеобразным путеводителем по творчеству Л.Н. Толстого можно назвать одну из последних публикаций английских и американских русистов – сборник статей «Кэмбриджское руководство к Л. Толстому»18, вышедший в Диллон Э. Мое первое посещение Ясной Поляны // Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т.1. С. 473-478. 17 Orwin D.T. Introduction: Tolstoy as artist and public figure // The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 61. 18 The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 16 издательстве Кэмбриджского университета уже в начале XXI века – в 2002 году. Во второй главе нашей дипломной работы мы представляем перевод нескольких, показавшихся нам наиболее интересными, статей из данного издания. Глава I. Книга Э. Диллона «Граф Лев Толстой. Новый портрет». 1. Личность Э. Диллона. В начале 90-х годов XIX века в иностранной почте Л.Н. Толстого появилось новое имя: Эмилий Диллон19. Новый корреспондент Л. Толстого был личностью незаурядной. О нем впоследствии напишут как о самом выдающемся английском журналисте. Имя его войдет во многие справочные издания20. Эмилий Диллон (в России он называл себя Эмилием Михайловичем) родился в Дублине 9 марта 1854 года. Его родители хотели видеть сына католическим священником и дали ему классическое образование. У мальчика рано обнаружились явные лингвистические способности, которые не раз выручали его в жизни. Диллон учился в Англии, а затем - в лучших французских и немецких университетах. Внешне он мало чем отличался от своих сверстников, вместе с которыми в College de France слушал лекции Emile Joseph Dillon (1854 – 1933) См., например: «The dictionary of national biography. The concise dictionary». Part II. 1901-1950, Oxford,1961, p.121. 19 20 Ж.Ренана21, а в Тюбингенском и Лейпцигском университетах занимался философией и сравнительной филологией. Круг интересов молодого человека был довольно широк. Он изучал литературу, древние, классические, современные европейские и восточные языки (общее число их - 26), историю философии и религии, делал первые шаги в области сравнительного языкознания. Биографы Диллона не раз потом отмечали, что завидная слава английского корреспондента покоится на его широкой эрудиции. В Россию Диллон впервые приехал в 1877 г. по частному приглашению. В тот период Диллон изучал в Лувене язык, историю происхождения и фазисы развития «Авесты», её нравственно – философский аспект. Через год доктор Лувенского университета Эмилий Диллон вернулся в Россию и был зачислен вольнослушателем на факультет восточных языков СанктПетербургского университета. Диллон успешно сдал экзамен, заканчивал магистерскую диссертацию, готовился к преподаванию санскрита, он развил активную публицистическую деятельность. В 1880 году Диллон опубликовал большую рецензию на первые два выпуска «Всеобщей истории литературы» под редакцией В.Ф.Корша, где подробно проанализировал ошибки русских и немецких ученых о литературах древнего Востока22. Диллон выступил в защиту русского химика Д.И.Менделеева, которого 11 ноября 1880 года забаллотировали на выборах в Российскую Императорскую Академию Наук23. Диллон считал, что именно эти два обстоятельства повинны в том, что в мае 1881 г. двери Санкт- Петербургского университета вдруг неожиданно закрылись для него. Он только вскользь упомянул о студенческих волнениях, об интересе полиции к его университетским знакомым. Ноне учел, что Жозеф Эрнест Ренан (1823-1892) – французский филолог, философ, историк религии. Э. Диллен, Немецкая наука на почве России. – «Санкт – Петербургские ведомости», 1880, №112. 23 См.: E.J.Dillon, Russia today & yesterday, Lnd. – Toronto, 1929. P. 4. 21 22 приближалось 1 марта 1881 г. Поскольку факультет восточных языков был ещё и в далеком Харькове, то некий выход был найден. В Харьковском университете он в 1883 г. защитил магистерскую диссертацию по сравнительному языкознанию; а в 1884 г. - докторскую. В совете Харьковского университета Диллон был избран в экстраординарные профессора, но не был утвержден министерством и только исполнял обязанности профессора по временно вакантной кафедре сравнительного языкознания с августа 1884 года по январь 1887 года. К этому времени вступил в силу Указ 1884 года, лишавший университеты самостоятельности, и Диллон вынужден был подать прошение об отставке. Так закончилась его педагогическая деятельность и началось яркая карьера журналиста. Россию Диллон позднее назвал своей второй родиной. В этом не было преувеличения. Именно в России он сложился как ученый, переводчик, журналист. Его статьи, печатавшиеся в июле 1887 – феврале 1888 гг. в газете «Одесские новости», заметили в Англии. Вскоре Диллон получил предложение от ведущей лондонской газеты «Daily Telegraph» стать её специальным корреспондентом в Санкт – Петербурге. В конце 80-х годов он прочно обосновался в любимом им городе. С этого времени он находился в центре всех важнейших политических, культурных, общественно-исторических событий в жизни России. Среди его новых русских знакомых были известные писатели, художники, композиторы, политические деятели. Его добрыми друзьями, имена которых нам не раз встретятся в его письмах к Л. Толстому, стали В.С. Соловьев и Н.С. Лесков. Главным, поворотным моментом своей жизни Диллон с полным основанием считал свою встречу с Л. Толстым в декабре 1890 г., к которой он тщательно готовился. Ему было в то время 35 лет, и он уже был известен в европейской журналистике. Этой личной встрече предшествовало заочное общение. Как пишет сам Диллон, «задолго до этого я прочел практически всю литературную продукцию, которую Л. Толстой публиковал, и многие из его запрещенных произведений, которые циркулировали в рукописях и в машинописных текстах, и я досконально их прочитывал с глубоким наслаждением. «Война и мир», «Анна Каренина» и зарисовки его детства и юности доставили мне особенное удовольствие и впечатлили меня настолько, что я пристально изучал их, уже задумываясь о будущем эссе о жизни и работе Л. Толстого <…>»24. Знакомясь с новыми произведениями Л. Толстого, Диллон заметил перемену в мировоззрении писателя и внимательно следил за развитием его творчества. Особый интерес вызвали у него повесть «Крейцерова соната» и давнее письмо Толстого к А.А. Фету о смерти брата Николая. Прочитав его, Диллон впервые осознал, что здесь, в России, рядом с ним – тот художник и мыслитель, о встрече с которым он мечтал долгие годы. Из воспоминаний Диллона мы узнаем, что он решил написать Л. Толстому, поблагодарить его за то впечатление, которое произвели на него сочинения великого мастера. Его ранние письма не сохранились, но переписка 1890-1892 годов довольно полно представлена в архиве Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве25. Она обрамляет две разные и по-своему примечательные встречи Диллона с Л. Толстым в декабре 1890 и январе 1892 года. Переписка отражает шероховатости, а подчас и резкое расхождение взглядов яснополянского мыслителя и его нового заочного собеседника. Также Диллон просил у автора разрешения издать некоторые его произведения у себя на родине. С согласия Л.Толстого в переводе Диллона в 24 25 E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy... Р. 109. См.: «Вопросы литературы», 1989, № 11. течение 1890-1891 годов вышли повести «Крейцерова соната», «Ходите в свете, пока есть свет», «Семейное счастье», комедия «Плоды просвещения», а также текст «К картине Ге (Тайная вечеря)», написанный Л. Толстым в 1886 году для заграничного издания альбома произведений Н.Н.Ге, так и не увидевшим света. Общение Диллона и Л. Толстого выходит за рамки сугубо профессиональных отношений писателя и переводчика: находясь в поиске ответов на «проклятые вопросы», Диллон попытался разрешить их, прибегнув к опыту русского мыслителя. Диллона интересовало мировосприятие Л. Толстого, его попытка создать новую религию. В своей книге воспоминаний Диллон пишет: «Я проходил заключительную и наиболее мучительную стадию духовной эволюции, которая длилась уже годы и во время которая я сознательно стремился… оставить окно моей души открытым к проблеску истины»26. Находясь в поиске смысла человеческого существования, Диллон осознал, что «был одинок в мире и это сознание одиночества было мучительно для него»27. «Соприкоснуться с человеком, которые прошел подобное тяжелое испытание, как то, через которое проходил я и который вышел из него освобожденным от этих постоянных сомнений, которые сводили меня с ума, было бы, конечно, большой удачей. И Л. Толстой, как я был убежден, был именно этим человеком. Подобно Данте, он побывал «там внизу» и был бы способен посочувствовать мне и всем тем, кто тонул и пытался выплыть из пучины отчаяния. Он, создатель глубоко нравственного течения в защиту правды, справедливости и милосердия, наверняка смог бы утешить меня и поддержать близкое ему неутолимое и страстное желание добра, правды и красоты, даже хотя он, возможно, и не был в силах спасти то нетвердое общество, членами которого были мы оба, но которое не может быть 26 27 E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy…Р. 157. Ibidem. спасено»28. Диллон мечтал о том, чтобы «встретиться с Л. Толстым и с его помощью рассеять свою душевную тревогу». «Говорили, что он обладает секретом, изгоняющим всех привидений и устанавливающим высшим покой разума. Конечно, те истории, что рассказывали мне о его аскетической и святой жизни, которую он вел после своего обращения, и о том покое, что снизошел на него с тех пор, наполняли меня страстным желанием попасть в зону его благотворного влияния. Пилигримы со всего мира стекались в Ясную Поляну и обретали там утешение в его наставлениях»29. Однако, как пишет в своей книге Диллон, личная встреча с Л. Толстым и разговоры о религии во многом охладили английского журналиста. Если духовный опыт Л. Толстого не совсем разочаровал Диллона, то, по крайней мере, показался ему неубедительным: Диллон во многом не принял взгляды Л. Толстого. Однако, английский журналист живо интересовался тем, какой отклик находят толстовские идеи в обществе, был знаком со многими последователями Л. Толстого. Часто бывая в разных странах Европы, английский журналист видел необходимость в создании документированной биографии Л. Толстого за границей. Влияние Л. Толстого с каждым годом росло, а читателю, не владеющему русским языком, негде было найти достоверные сведения о нем. Именно потому Диллон настойчиво просил молодых друзей и помощников Л. Толстого познакомить его со всеми ценными материалами, которыми они располагали. И.И. Горбунов - Посадов не сомневался в искренности Диллона. Он откликнулся сразу же, переадресовав 12 апреля 1890 года М.Л. Толстой вопросы Диллона: «<…> нельзя ли достать на время – просить у Софьи Андреевны, 28 29 Ibidem. Ibidem. у которой вероятно есть возможно более полные биографические сведения о Льве Н[иколаевиче]. Это необходимо для одного английского корреспондента, который хочет писать серьёзное жизнеописание Л[ьва] Н[иколаевича] – обзор его деятельности»30. Во время своего первого визита в Ясную Поляну 13 - 15 декабря 1890 года Диллон пытался убедить Л. Толстого в том, что читателю, далекому от России и её коренных проблем, жизнеописания известных мастеров помогут понять русскую культуру. Однако Л. Толстой не вполне разделял его точку зрения. После отъезда Диллона Л. Толстой сделал важную запись в Дневнике: «…Диллон. Нынче только уехал. Мне было тяжело отчасти потому, что я чувствовал, что я для него матерьял для писания. Но умный и как будто с возникнувшим религиозным интересом»31. «Разночтения» писателя и его собеседника происходили от того, что они по-разному смотрели на одну и ту же проблему. Молодой журналист хотел знать о Л. Толстом как можно больше, его интересовало все связанное с личностью великого художника. Для Диллона весь мир в данном случае сосредоточился на Л. Толстом, вращался вокруг Л. Толстого, и корреспондент ничего не хотел упустить из вида. Сам Л. Толстой считал, что время для написания биографии ещё не пришло. Безусловно, нельзя сказать, что Л. Толстой не шел навстречу журналисту: Л. Толстой даже показал Диллону свой Дневник, разрешил прочитать его. Конечно, это убедительный жест доверия к человеку. Диллон, безусловно, был счастлив такой уникальной возможности - познакомится с Дневником великого мыслителя. Л. Толстой просил Диллона не использовать материалы из Дневника. И здесь отметим безусловную честность журналиста: он сказал, что будет считаться с мнением Л. Толстого относительно подходящего момента для публикации биографии и, если потребуется, совсем откажется от этого намерения. В главе «Мое первое посещение Ясной Поляны» отражен этот разговор писателя и журналиста: 30 31 Цит. по: «Вопросы литературы», 1989, №11, с.129. ПСС т.51, с.111. «…Я не уверен, - продолжал граф, - что сейчас пришло время для написания такой биографии. Я даже убежден в обратном. Многие материалы – я имею в виду важные материалы – ещё не могут быть использованы. - Но ведь это главным образом, точнее, целиком, будет зависеть от вас? – возразил я. - Нет, не только. Я не могу сейчас объяснить всего, так что вы просто должны с этим примириться. - Но я понял, что у вас есть дневники? – настаивал я. - Да, есть. - Могу ли я взглянуть на них? - Я покажу вам дневник, - отвечал он, - но я не хочу, чтобы вы использовали его. С другой стороны, я готов ответить на любые конкретные вопросы относительно интересующих вас фактов»32. И после встречи, в письмах, Диллон продолжал убеждать Л. Толстого в необходимости строго документированной, подобной биографии живого классика. Диллон писал Л. Толстому 23 января 1891 года: «… Мне хорошо известен Ваш взгляд на вопрос о жизнеописании… Что меня касается, то я желаю только одно: рассказать жизнь как она была, не сообщая ни одного ненужного факта и особенно ни одного мнимого факта. Само собою разумеется, ни одной строчки не напечатаю, не показав Вам заранее; причем вычеркну без возражения все, что Вам покажется нежелательным. … Потому что считаю своим долгом ничего не писать о жизни живущего мыслителя без его позволения, и, если это возможно, его критического пересмотра»33. Диллон Э. Мое первое посещение Ясной Поляны// Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т.1. с. 475-476 33 Диллон Э. Мое первое посещение Ясной Поляны... с. 615. 32 Вскоре обстоятельства изменились, общение Диллона и Толстого прекратилось, журналисту пришлось уехать из России, так что проект биографии так долгое время и оставался проектом. Диллон сдержал слово и при жизни Толстого нигде ни разу не обмолвился ни о посещении Ясной Поляны, ни о чтении Дневника. Книгу о Л. Толстом Диллон написал лишь в конце жизни. «Новый портрет» Л. Толстого появился в 1934 году в Лондоне, уже после смерти Диллона … 2. Предисловие к книге «Новый портрет». Напомним, как в одном из писем Л. Толстому Диллон сказал следующее: «Я желаю только одно: рассказать жизнь, как она была…». И уже читая предисловие к книге Диллона, становится очевидно, что жизнь виделась английскому журналисту исполненной противоречий, а сам граф Лев Толстой – фигурой неоднозначной: не случайно Диллон приводит в своей книге и мнение Чезаре Ломброзо, который после личной встречи с Л. Толстым в 1897 году, пришел к заключению, что тот - гениальный невропат. Сам Диллон говорит о Л. Толстом следующее: «С самого начала существовало два Толстых: мальчик, бичующий себя веревками по спине и мальчик, лежащий в кровати и читающий романы. Духовное и телесное были в нем обострены и всегда находились в противоречии»34. 34 E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy…Р. 13. Из довольно небольшого предисловия Диллона к своей книге мы приводим те отрывки, которые, как нам показалось, наиболее ярко характеризуют отношение английского журналиста к Л. Толстому. «В течение всей своей жизни Толстой ничего не мог довести до конца. Он менял университеты и факультеты; он поступил на военную службу и бросил её; он старался быть хорошим землевладельцем и отцом своих крестьян, он пробовал реформировать деревню и отказался от этого. Он пытался стать скотоводом, производителем вин; брался шить обувь, класть печи, обрабатывать землю, пилить дерево, носить воду, делать крыши в крестьянских домах, но оставил все эти занятия. Одним словом, все, за что он ни брался, он бросал, но не потому, что был не способен довести до конца, а поскольку он никогда не мог продолжать одно дело долго, – он быстро охладевал. Он даже отказался от своего знаменитого литературного творчества»35. «Он был художником, который с радостью скинул бы Шекспира с его пьедестала в Храме Литературы. Он заклеймил поклонников английского поэта как лицемеров, объявил «Короля Лир» безвкусным произведением, насмехался над Вагнером, осуждал «Нибелунгов», «Фауста» Гёте, пренебрежительно отзывался о «Девятой симфонии» Бетховена и считал величайшими достижениями современной литературы романы Диккенса, «Адам Беде» Джордж Элиот, «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу. <…> Толстой был художником, который принижал свое собственное искусство – действительно, отказывался его ценить. Его презрение к истории и традиции было равно презрению к науке и искусству»36. «Он был христианином, который не имел бы ничего общего ни с одной из существующих ныне Церквей Христа. Он был сторонником религии, но 35 36 Ibidem., р. 12. Ibidem., р. 13. он не верил в божественное происхождение Христа, в бессмертие души и в существование Бога. В религии Толстого был собственный Бог. Он был реформатором общества, который уничтожил бы социальные основы, правительство, закон, власть, собственность. Он был анархистом и в то же время аристократом из аристократов. Он одевался как русский «мужик» и никогда не переставал быть частью аристократии. <…> Он был в высшей степени русофилом, но его романы – западные. Его называли Сумасшедшим Муллой христианства и в этом качестве он был клубком противоречий: проповедуя одно учение, он практиковал другое; он потрясал веру и вводил в заблуждение всех глуповатых слушателей своих проповедей»37. В течение жизни Диллон пришел к выводу, что «религия Толстого, как и его политические идеалы, - одна из тех, где составляющие мало чем отличаются друг от друга и нет иерархии. Но это не шаг вперед по сравнению с системой, которую он собирался вытеснить. Общество, как и организм, - система сложносочиненная: когда части практически одинаковы, организм прост и общество дико. Когда организм сложен и элементы дифференцированы, они разделяют свои обязанности, их взаимоотношения многообразны. Общество без иерархии – или практически без неё – это племя. Более цивилизованное общество и более специализированно. Единообразие, которое хотел ввести Толстой, уничтожило бы те условия, что отличают современное общество от варваров. Влияние Толстого на пробуждение у людей моральной энергии и живого чувства огромных перемен, которые вот-вот случаться, может показаться незначительным, если сопоставить с масштабами кризиса, который он и многие его современники предвидели и предсказывали, и с силой его проповедей. Причины неудачи – если это можно считать неудачей – множественны. Одна и них – в общем безразличии к религии, 37 E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy…РР. 11-13. преобладающем у русских интеллектуалов, большинство из которых имели религиозные точки зрения, традиции и впечатления, но не четкие убеждения. В это время теологическая книга или диссертация имела мало шансов быть прочитанной большей частью публики, даже если и была написана светским теологом Хомяковым, или поэтом - философом Владимиром Соловьевым. Экономика, политика и беллетристика были наиболее подходящими предметами для изучения. Другое объяснение неудачи – личность проповедника. Толстой как пророк никогда не был серьёзно воспринят теми своими соотечественниками, чей интерес к религии был действительным и постоянным. С самого начала его считали одержимым, непоследовательным мыслителем, фанатичным преобразователем. Помимо лаврового венка как романист, он заработал блестящие оценки и либералов, радикалов и революционеров своим личным противостоянием царизму и всем его достижениям, и известным разлагающим влиянием своего учения на общественные устои. Это был его вклад в приближающийся переворот и частично - секрет популярности, что так радовала его. Аристократ по происхождению, воспитанию, вкусам и пристрастиям, он был суровым русским крестьянином по телосложению и чертам лица и очевидным анархистом в своем учении. Это было его силой как политического агитатора и его слабостью как религиозного реформатора. Религия Иисуса была не для этого мира, тогда как Толстой был всецело в мире этом и никогда не выходит за его границы. Куда бы он ни повернул, его уши всегда слышали горячие обвинения нищеты народных масс и тирании и несправедливости классов имущих, пустоты церковных служителей, лицемерия политиков, гнилости общества и его институтов[…]. Толстой слышал эти жалобы и сам был свидетелем злоупотреблений, которые их порождали, и в позволял своему живому воображению раздувать пламя ненависти. Он замечал анархию в каждом направлении жизни, в каждой разлагающейся структуре общественного организма, и он, как и некоторые из его соотечественников, указывал на это, и в качестве лекарство предлагал анархию как систему. Подобное подобным – таков гомеопатический принцип. Он произносил своевременные предупреждения в безошибочных выражениях и тоном Иеремии или Иезекииля, наделенных божественными полномочиями. Но его проповеди слишком мало отвечали христианским концепциям, чтобы они могли пройти смотр у членов официальной церкви и даже у сектантов. По иронии обстоятельств, встречая враждебно анархию в политико-социальной системе, Толстой предлагал вселенский анархизм как панацею. Его личность и его поведение в большей степени, чем его работы, были смутным пророчеством будущего, а то, что они предвещали – это падение общества и цивилизации»38. «Он хотел запустить в мир совершенно новую и произвольную концепцию этики, политики и общественных отношений, во имя религии. Его не знающий покоя ум протестовал против безразличия мира, а его искушенность в искусстве успеха давала ему право постоянно находиться на виду»39. Кажется, приведенные выдержки в достаточной степени характеризуют точку зрения Диллона: безусловно, для него личность Л. Толстого полна противоречий, многие взгляды его английский журналист не разделял, Диллон даже утверждает, что главнейшим побуждением всех действий Л. Толстого в жизни была жажда славы. Тем не менее, Диллон считает, что как бы ни противоречива была личность Л. Толстого, «но о нем надо судить как о художнике. Он всегда работал и брался на что-то новое, и без этого его величайшие романы никогда не были бы написаны». «Он был вдохновенным художником, который изображал великолепные сцены жизни и раздумий и работы 38 39 Ibidem, PP. 14-17 Ibidem, PP. 18. народных масс и высшего класса своих соотечественников и который способствовал подъему русской литературы на высшие позиции в литературе мировой»40, и его произведения будут жить до тех пор, «пока существует русский язык». Безусловно, занятая Диллоном позиция по отношению к Л. Толстому - предпочтение художника мыслителю, есть лишь частное и во многом спорное мнение. 3. «Война на страницах газет между Диллоном и Толстым». «Л.Толстой написал сенсационную статью о голоде в России для журнала «Вопросы философии и психологии», редактором которого был Н.Я.Грот. Но когда цензоры прочитали статью, она была запрещена и книжка «Вопросов», в которой статья должна была появиться, вышла без неё»41. Как утверждал сам Диллон, его «отношения с графом Толстым стали источником одного из самых неловких, значительных и малоизвестных эпизодов в карьере писателя»42. Конечно, нельзя назвать эту нашумевшую в своё время «малоизвестной». Но действительно, поведение Л. Толстого во время скандала в связи с публикацией его статьи «О голоде» 1891 – 1892 года 40 41 42 Ibidem., р. 11. Ibidem, p. 199. Ibidem., p.108. было нелицеприятным, о чем сам писатель, как мы увидим, впоследствии сожалел. В главе «Война на страницах газет между Диллоном и Толстым» Диллон излагает свою точку зрения события на события 1891-1892 гг. Своё повествование он подкрепляет богатым фактическим материалом: письмами и газетными публикациями. Первое упоминание о голоде появилось в Дневнике Л. Толстого 25 июня 1891 года: «… Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет»43. Но приезжали очевидцы, рассказывали о бедствиях, горевали о конкретных случаях, когда они были бессильны что-либо сделать для крестьян. Вскоре после этого, 18 сентября 1891 года, Толстой принял решение открыть столовые для голодающих44. Статью «О голоде» Л. Толстой писал на фоне большой работы над религиозно-философским и социальным трактатом «Царство Божие внутри нас» с его полным и безоговорочным отрицанием государственности. 8 октября 1891 года автор делится своими сомнениями с М.А. Новоселовым45: «Пишу теперь о голоде. Но выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями»46. Через полтора месяца, 23 ноября 1891 года, он – уже из Бегичевки – сообщал И.Б. Файнерману: «Я начал с того, что написал ПСС 52, с.43. ПСС 52, с. 53-54. 45 Новоселов Михаил Александрович (1864 - 1938) – богослов, известный церковный деятель, издатель Религиозно – философской библиотеки (1902 –1917 гг.). Окончил историко – филологический факультет Московского университета. В 80 – начале 90-х гг. был последователем Л. Толстого, создал одну из первых толстовских земледельческих общин. В 1887 г. был арестован за распространение брошюры Л.Толстого «Николай Палкин». Корреспондент и адресат писателя. Новоселов М.А. вместе с Л.Толстым участвовал в помощи голодающим крестьянам в 1891-3 гг., когда и начались некоторые расхождения с Л.Толстым. В Дневнике писателя 26 мая 1892 г. есть запись: … «Тяжелое больше, чем когда-либо отношение с темными: с Алехиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности». 46 ПСС 66, с.52. 43 44 статью по случаю голода, в к(оторой) высказывал главную мысль ту, что всё произошло от нашего греха – отделения себя от братьев и порабощения их, и что спасенье и поправка делу одна: покаяние, т.е. изменение жизни, разрушение стены между нами и народом, возвращение ему похищенного и сближение, слияние с ним невольное вследствие отречения от преимуществ насилия». Л. Толстой пишет, что отдал свою статью в журнал «Вопросы философии и психологии», где редактор журнала Н.Я. Грот, по словам Л. Толстого «возился месяц и теперь возится». «Её и смягчали, и пропускали, и не пропускали, кончилось тем, что её до сих пор нет. Мысли же, вызванные статьей, заставили меня поселиться среди голодающих, а тут жена написала письмо, вызвавшее пожертвования, и я сам не заметил, как очутился в положении распределителя чужой блевотины и вместе с тем стал в известные обязательные отношения к здешнему народу»47. Л. Толстой ещё не знал о том, что 24 октября 1891 года десятая книга журнала «Вопросы философии и психологии» была арестована, а его статья «О голоде» направлена в Главное управление по делам печати, откуда 17 ноября 1891 года был разослан приказ не публиковать ни одного выступления писателя. В связи с этим редактор «Недели» П.А. Гайдебуров 26 ноября 1891 года известил Толстого: «На этих днях я имел целых два объяснения с цензурой, связанных с вашим именем. На случай, если «Неделя» до Вас доходит, сообщу, что первое объяснение было вызвано несколькими словами о Вашей статье о голоде в «Заметках» №46, а второе – статьей «По поводу статьи о толстовцах». Любопытнее всего, что сперва они предположили, будто я сослался на Вашу невышедшую статью в «Вопросах философии», и собственно это поставили мне в вину; а когда я объяснил, что в «Заметках» имеется в виду статья «Русских ведомостей», то объявили, что все равно и та статья зловредная. Из этих объяснений я вывел заключение, что Вы становитесь человеком почти нелегальным, а поводом к этому 47 ПСС 66, с.94-95. послужили главным образом некоторые места и выражения в статье «Вопросов философии». Не знаю, насколько верно мне их передавали, но во всяком случае я очень сердился на Грота как редактора, что он не уговорил Вас смягчить эти места, дающие очень удобный повод цензуре инкриминировать вашу литературную деятельность и ещё более ухудшит и без того исключительное Ваше положение в литературе. Это очень плохая услуга с его стороны русскому обществу. Цензура говорит о Вас в таком тоне, что, пожалуй, скоро простое упоминание Вашего имени будет считаться преступным…». Гайдебуров не преувеличивал. Ещё 1 ноября 1891 года начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов убеждал редактора «Московских ведомостей» С.А. Петровского: «С Вашей точки зрения следовало бы, пожалуй, не зажимать рот и Льву Толстому, который намеревается выступить в журнале Грота с одною из самых мерзостных статей, которые когда-либо появлялись из-под его пера. Глупее и отвратительнее этой статьи ничего и представить себе нельзя, а между тем я уверен, что она привела бы в восторг стадо наших баранов». А через день, рассказав о борьбе Грота за журнал и публикацию в нем запрещенных статей, Феоктистов добавил: «Грот заявил между прочим, что если не позволят ему напечатать статью Толстого, то Толстой напечатает её в «Русских ведомостях». Посмотрел бы я, как они это сделают; у них затрещит во лбу!»48 Гайбедуров пытался спасти положение, но было уже поздно. Тем не менее, получив от Л. Толстого смягченный вариант статьи «О голоде», он 10 декабря 1891 года писал автору: «Если бы Ваша прекрасная статья о голоде попала прямо ко мне, я уверен, что она появилась бы в печати и при том с такими небольшими изменениями, что Вы их и не заметили бы. Теперь же, как Вы знаете, книжка «Вопросов философии» - в комитете министров, и 48 Цит. по: «Вопросы литературы», 1989, №11, с.138 – 139. потому мне почти не остается никакой надежды воспользоваться статьей. Но так как мне этого очень хочется и так как, кроме вещей щекотливых, в статье есть места чрезвычайно интересные и важные при всей их цензурности, то я решил поступить таким образом: исключил первую главу, где говорится о пререкании земства и администрации, а затем и те места, где враждебно противопоставляется простой народ высшим классам, и в таком виде отдал статью частным образом на просмотр председателю цензурного комитета, который по прочтении поговорит с Феоктистовым. Говоря откровенно, я делал это, как говорится, для очистки совести, потому что не питаю никакой надежды на дозволение. Но если бы случилось противное, то я буду считать себя счастливым, что мне удалось провести статью хотя и очень оцензуренную, но все-таки существенно важную для народа и общества». Для «Книжек Недели» Л. Толстой значительно переработал статью «О голоде» по имевшимся у него корректурным листам журнала «Вопросы философии и Колубовского. психологии» Он изменил с многочисленными её композиционно, пометами внес цензора существенную стилистическую правку, а также по цензурным соображениям снял некоторые наиболее острые моменты. Это важно подчеркнуть, потому что Диллон переводил статью Л. Толстого именно с экземпляра Гайдебурова. Известно, что Л. Толстой сразу же назвал Диллона как опытного и надежного переводчика, едва встал вопрос о публикации за границей статьи «О голоде». 25 ноября 1891 года он писал Софье Андреевне: «Статью мою, Гротовскую, пожалуйста, возьми в последней редакции без смягчений, но с теми прибавками, кот(орые) я просил Грота внести, и вели переписать, и пошли в Петерб(ург) Ганзену и Диллону, и в Париж Гальперину. Пускай там напечатают; оттуда перейдет и сюда, газеты перепечатают»49. Однако после 49 ПСС 84, с.104. письма Гайдебурова от 26 ноября 1891 года Л. Толстой решил последовать его совету, убрал особо резкие высказывания и предоставил журналисту возможность самому вести переговоры с цензурным комитетом и переводчиками. 11 декабря 1891 года Диллон из Петербурга обратился к Толстому: «Многоуважаемый Лев Николаевич, П.А.Гайдебуров обещал мне дать на днях список Вашей статьи о голоде и сообщил мне о том, что другая Ваша статья о столовых Данковского уезда находится в редакции «Русских ведомостей»50. Можно ли попросить и список этой последней статьи, так как она тоже будет иметь очень значительный интерес для всех. Очень желательно, чтобы английская публика слышала наконец голос знающего то, о чем говорит. Дело в том, что г-жа Новикова51 печатает воззвания в английских газетах, в которых она просит денег для крестьян её имения в Тамбовской губернии, называя этот уезд одной из самых бедных местностей России и упрекая англичан в том, что они не дали пока больше тысячи рублей. Вообще уверения правительства, что оно сможет остановить голод при помощи более сотни миллионов золотом, лежащих ныне непроизводительно в погребах казначейства, и поступки г-жи Новиковой,52 с другой стороны, произвели тяжелое и вредное влияние за границей и в России. Статья Л. Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» была написана в ноябре 1891 года и по просьбе издателей «Русских ведомостей» отдана автором в подготовленный редакцией газеты сборник «Помощь голодающим» (М.,1891). 51 С 1870-х годов О.А. Новикова жила в Англии и приобрела особую известность в период войны России с Турцией и борьбы Болгарии за независимость. В 80-е годы её салон считался самым блестящим политическим центром Лондона. Статьи Новиковой, как правило, отличались крайней реакционностью. 52 О характере заявления графини Новиковой в Англии дает некоторое представление следующий документ, перепечатанный 7 ноября 1891 года «Московскими ведомостями»: «ЛОНДОНСКИЕ ГОЛОСА О РУССКОМ ГОЛОДЕ. «Times» заявили о 56 000 фунтов стерлингов в пользу «еврейских земледельцев», страждущих от голода. 30 октября О.Новикова получила 5 фунтов от неизвестного и заметила: «…странно, что в христианской Англии до сих пор не видно никакого материального сочувствия в нашим бедным, умирающим от голода. 56 000 фунтов, заявленные в «Times», могли бы быть удвоены и утроены без ущерба для карманов жертвователей, так как эта щедрая сумма предлагается несуществующим лицам. Никаких «еврейских земледельцев» нет в голодающих провинциях, в тех немногих местностях, где находятся немногие наши еврейские колонии, наоборот, нет голода». 50 Я позволил себе написать маленький очерк вашей деятельности на основании слов г. Михневича53 и послать его в Англию, присовокупляя адрес графини Толстой, для желающих содействовать, хоть деньгами, доброму делу54. Желаю Вам всего хорошего, и в особенности благоприятных условий для оказания помощи страдающим братьям. Э. Диллон. P.S. Статья или, скорее, труд Ваш, о котором Вы мне говорили год тому назад55, окончена ли?»56 В ответ английскому журналисту Л. Толстой писал из Бегичевки 24 (25 ?) декабря 1891 года: «Dear Sir! Статья в сборнике «Русск(их) Ведом(остей)», говорят, вышла и потому к вашим услугам, если вы найдете это желательным. Боюсь, что статья от Гайдебурова будет передана вам в очень необработанном виде. Я сколько раз переделывал её и потом столько к ней делалось изменений для цензуры, что я никак не мог её привести в окончательный вид… Вы меня очень обяжете, исключив из неё в переводе все, что найдете лишним. Большая статья почти готова и на-днях будет вам прислана через Черткова. Дружески жму вам руку, Л. Толстой. Обращаюсь к вам по-английски по своей беспамятности неаккуратности: опять забыл ваше отчество»57. В.О.Михневич (1841-1899) – журналист, сотрудник газеты «Новости»; 21 ноября 1891 года посетил Л.Толстого и опубликовал свои впечатления от беседы с писателем в книге «Черные дни. Из поездок по шести губерниям, пострадавшим от неурожая в конце 1891 года. Наблюдения и заметки» (СПб., 1892). 54 В очерке, озаглавленном «Вера и деятельность графа Толстого», Диллон изложил содержание статьи «Страшный вопрос», рассказал, опираясь на слова Михневича, о работе Л. Толстого на голоде по организации столовых для крестьян Данковского уезда и поместил адрес графини С.А.Толстой для тех своих соотечественников, которые захотят послать деньги пострадавшим от неурожая русским гражданам. Кроме того, Диллон перевел и включил в статью отрывки из «Письма французу» (под таким заглавием в 13-ой части «Сочинений» (1891) Л.Толстого было напечатано его письмо к Р.Роллану от 3 октября 1887 года). Также он остановился на тех «Произведениях последних годов», которые составили этот том. См.: E.Dillon, Count Tolstoi’s faith and practice. – In: “The Review of Reviews”, Jan.,1892, vol.V, no.25, pp. 35-37. 55 Речь идет о трактате «Царство Божие внутри вас», который был закончен Л.Толстым в 1893 году. 56 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy. . .P. 199. 57 ПСС 66, с.125-126., или Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, Р. 200. 53 и На первый взгляд обычная деловая переписка. И только тревожное упоминание имени графини Новиковой в письме Диллона нарушает это впечатление. Действительно, у толстовского начинания – организации бескорыстной помощи голодающим крестьянам – появился серьезный противник, давно и умело формировавший общественное мнение в Англии, но с совершенно иных позиций. Диллон верно уловил: действия графини Новиковой, сами по себе необходимые в тяжелую годину, в данном случае намеренно уводили от толстовского анализа причин, которые привели миллионы русских крестьян к нищете и голодной смерти. Получив от Гайдебурова корректурные листы статьи Л. Толстого «О голоде», Диллон немедленно приступил к работе. Он переводил и публиковал практически одновременно. Рукопись, разбитая на несколько частей, появилась на страницах «Daily Telegraph» как серия из семи или восьми статей о голоде в России. Фрагменты статьи Л. Толстого появились в газете «Daily Telegraph» 12, 22, 23, 26, 30 января 1892 года. Диллон уточнил название – «Голод в России», - чтобы читателям было понятно, о чем идет речь. В некоторых случаях он конкретизировал суть разногласий между администрацией и земством. В сопоставлении с вариантом, напечатанном Гайдебуровым, Диллон произвел незначительное сокращение текста статьи Л. Толстого. «Нет надобности добавлять, что эта публикация вызвала необычайную сенсацию в Европе и Америке, она была передана обратно в Россию, где породила ещё больший скандал. Консервативные газеты яростно нападали на Толстого, называя его предателем своей собственной страны. Даже его друзья порицали его неосторожные обвинения. Царь был зол на автора «Войны и мира» и отказался принимать его жену и дочерей во Дворе»58. Даже чуть приглаженный вариант статьи Л. Толстого вызвал бурное негодование в кругах, близких к редакции газеты «Московские ведомости». 58 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, Р. 200. Именно на её страницах 22 января 1892 года была изложена суть «безумного трактата» Л. Толстого. Петровский на свой страх и риск опубликовал выдержки из статьи Толстого «О голоде». И естественно возникает вопрос, почему редактор «Московских ведомостей» не воспользовался русским текстом, напечатанным в январских «Книжках Недели», а предпочел метод двойного перевода, при котором передержки просто неизбежны? Но именно этого и хотел Петровский. В недатированном послании Победоносцеву он подробно, обстоятельно и откровенно объяснил, чем он руководствовался, начиная новую антитолстовскую кампанию: «<…> Антирелигиозный и антигосударственный дух всей последней десятилетней деятельности графа Толстого всем известен. Но, увы, все как-то снисходительно смотрят на заблуждающегося, обуянного сатанинской гордостью старика, все не могут отрешиться от очарования когда-то великого художника и гордости России. <…> <…> Когда «Московские ведомости» стали указывать на антигосударственный дух учения гр. Толстого, поднялся шум против нас; стали обвинять нас в доносе, говорили, что мы клевещем на Толстого, извращаем его мысли, выхватывая отдельные фразы, и что подобным выхватыванием можно самую благонамеренную книгу представить революционной. И этому верили, верило большинство, верили даже люди нашего лагеря: в Петербурге один добрый знакомый, хорошо образованный и занимающий видный пост, расположенный и ко мне и к газете, лично мне сказал, что "Московские ведомости" в своих нападках на Соловьева и Толстого впадают в преувеличения. Если и этот мною уважаемый и действительно высокообразованный человек не мог отрешиться от взгляда на Соловьева и Толстого сквозь призму их прежних заслуг, то что же можно требовать от так называемой образованной толпы? Вот почему я счел своею обязанностью показать графа Толстого этой толпе, этим почитателям его не по разуму, в его настоящем виде, во всей наготе. Лучшим средством для этого было – перепечатка письма Толстого в «Daily Telegraph». Моя цель была – отрезвить имеющих ложное понятие о Толстом. <…>»59 Как восприняли публикацию отрывков из статьи Л. Толстого «О голоде», известно из дневника советника министра иностранных дел графа Ламздорфа. 23 января 1892 года он записал: «Я предполагаю, что перевод подлинный: слишком хорошо узнается неподражаемый замечательный стиль нашего великого писателя… Гениальные, всеобъемлющие и прекрасные мысли близки к истине и в то же время ложны и опасны именно в силу таланта, с которым они высказаны. Это квинтэссенция социализма, но отнюдь не христианского социализма, основывающегося на любви и сострадании… По-видимому, были приняты меры, чтобы помешать распространению этой статьи, ставящей правительство в довольно затруднительное положение»60. Дневник министра Киреева приоткрывает закулисную сторону событий. Две записи – они пронумерованы, но не датированы – сделаны в конце января 1892 года: «6. Был на обеде у Петровского. <…> Курьёзные дела! «М[осковские] в[едомости]» перевели с «Telegraph» и «Pall Mall» статью Л. Толстого «О голоде» - возмутительную. Просто воззвание к крестьянам к бунту. Первоначальную редакцию в гранках Петр[овский] мне показывал. Эта ред[акция] была смягчена в том № «Вопр[осов] филос[офии] и психол[огии]», который <…> запрещен. Эту первоначальную редакцию переслали в Англию, и части появились в «Tel[egraph]» и в «Pall M[all]». Как только статья «М[осковских] вед[омостей]» появилась, сейчас последовал запрет писать о сей статье. Между тем в петерб[ургских] газетах свободно говорят, 59 60 «Гражд[анин]» бранит «М[осковские] Цит. по: «Вопросы литературы», 1989, №11, с.147-152. В.Н.Ламздорф, Дневник. В двух томах, т.2, с.248. в[едомости]», а «М[осковские] в[едомости]» не могут отвечать. Быстрый запрет объясняют тем, что Истомин сродни гр[афине] Толстой и хочет их выгородить! Но дело не в этих инцидентах, а в нелепой постановке всего вопроса. Вместо того чтобы дать возможность указать на нелепость того, что говорят разные Толстые, Соловьевы, предпочитают (наши администр[аторы]) запретить говорить об этом вопросе! Что же оказывается? – оказывается, что их писания, напр[имер], «Крейц[ерова] сон[ата]» посредством разных гектографов расходится тысячами, а нам запрещено говорить! 7. Дело выяснилось. Фет рассказал, что во время обеда, на котор[ом] был Соловьев, к нему пришел Dillon объясниться с Соловьевым, жалуясь на то, что гр[афиня] Толстая отрицает подлинность сведений, сообщенных Диллоном «Telegraph’y». Редакция хочет лишить его его места и насущного хлеба. Д[иллон] утверждает, что он получил гранки (ещё не отделанные для появления в «Жур[нале] псих[ологии] и философии») от Толстых. Конечно, для печати за границей. Dill[on] называет себя D филос[офии] Харьковского университета. Государь реферировать. запретил Ему Толстому представили и Соловьеву статьи выходить «Ж[урнала] публично психол[огии] и филос[офии]» с стат[ьями] Т[олстого], С[оловьева] и Гр[ота]. И он сказал – «ну хороши! все три одинаково хороши!».61 Петровский рассчитал точно: метод двойного перевода сработал безотказно. Эмилий Диллон как переводчик крамольной статьи Л. Толстого оказался под перекрестным огнем. Им были недовольны и в России, и в Англии. После того, как в редакции газет было разослано опровержение, подписанное С.А. Толстой, отрицающее сам факт существования «писем» Л.Толстого за границей, Диллон по настоятельному требованию «Daily Telegraph» выехал из Петербурга в Москву. Диллон обратился за помощью к 61 Цит. по: «Вопросы литературы», 1989, №11, с.154-155. Соловьеву. С письмом от него Диллон вечером 28 января 1892 г. приехал в Бегичевку, где писатель продолжал работать на голоде. На следующий день Диллон рассказал ему о цели своего неожиданного визита, передал письмо В. Соловьева и вручил свое, на которое ему было совершенно необходимо получить письменный ответ. «29 января/10 февраля 1892 Дорогой граф, К моему крайнему удивлению, я только что получил телеграмму из Лондона, извещающую меня, что вы отрицаете автентичность статей о Русском Голоде, которые появились в январе месяце (между 12 и 30-м числом) под вашим именем в «Daily Telegraph». Так как эти статьи были переведены и опубликованы мной с нарочитого вашего согласия и составляют отделы или главы вашей статьи, которая должна была появиться в московском философском журнале, но была запрещена цензурой, я ни на минуту не мог подумать, что вы отрицали или уполномочили кого-нибудь отрицать их автентичность, ввиду того, что содержание упомянутых статей хорошо известно профессору Гроту, Владимиру Соловьеву и столь многим иным лицам. Я уверен, что вы будете столь добры высказаться об этом вопросе при ближайшей возможности. Э.Диллон»62. О реакции Л. Толстого читаем у Диллона: он «очень внимательно прочитал послание и … совершенно переменился в лице. Оно стало очень серьёзным и мрачным. Он помолчал несколько минут и потом воскликнул: «Ах, женщины, женщины, губят они меня!»63 По просьбе Диллона в тот же день, 29 января 1892 года, Л. Толстой написал текст объяснения, предложенный Диллоном и отредактированный Софьей Андреевной: «В ответ на сегодняшнее письмо ваше, я могу только выразить свое удивление на ту телеграмму, которую вы получили от Daily Telegraph’а. Я 62 63 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр.205-206. Ibidem, p.206. никогда не отрицал и никого не уполномочивал отрицать отентичность статей о Голоде. Появившихся под моим именем в Daily Telegraph. Я знаю, что эти статьи суть перевод статьи, написанной мною для журнала Вопросы Философии и Психологии и переданной мною вам для перевода на английский язык. В правильности же вашего перевода, хотя я и не читал всех статей, я не имею никаких оснований сомневаться, так как по прежним опытам знаю вашу точность и аккуратность в этом отношении. Полученную же вами телеграмму могу объяснить себе только тем, что жена моя написала в Московские Ведомости письмо, опровергающее утверждение, что я посылал какие-либо статьи в какие-либо иностранные газеты, и отвергающее известные выдержки из Daily Telegraph, совершенно справедливо утверждая, что они были искажены до такой степени, что сделались совершенно неузнаваемыми. Очень сожалею об этом беспокойстве, причиненном вам моей статьей. Прошу принять уверение в совершенном уважении. Л. Толстой»64. С этим документом Диллон покинул Бегичевку, считая, что недоразумение выяснилось. По приезде в Москву Диллон телеграфировал в редакцию «Daily Telegraph» о результатах своей встречи с Л. Толстым: писатель «дал письменное подтверждение того, что статьи аутентичны, однако же я попросил их насколько возможно не предавать дело широкой огласке и опубликовать только необходимое, чтобы обелить меня от обвинений в фальсификации, ничего более»65. «Затем я поехал в Петербург, и сразу же встретился с Н. Лесковым и В. Соловьевым, и рассказал им о посещении Л. Толстого и исходе встречи. Они просили меня не делать ничего, что могло бы причинить вред Л. Толстому, на что я ответил, что приму все меры против ненужных публикаций, и я был уверен, что «Daily Telegraph» с уважением отнесется к моим пожеланиям в этом вопросе»66. 64 65 66 Ibidem, p. 207- 209. Ibidem, p. 209. Ibidem, p. 209-210. В период кратковременного затишья Диллон из Петербурга 9 февраля 1892 года написал Толстому: «Многоуважаемый Лев Николаевич! <…> Дело, по которому я предпринял путешествие в Бегичевку, повидимому, уладится тихо, само собой без обнародования каких бы то ни было писем или объяснений. По крайней мере все мои старания направлены к достижению этого результата, и, по всей вероятности, они не останутся безуспешными. Лишнее затруднение в этом создало мне заявление газеты «Русская жизнь», которое Вы может быть, видели. Но и это, я думаю, не испортит дело. Но ввиду того, что вопрос, может, все-таки когда-нибудь возобновится, вследствие подобных необдуманных заявлений какой-нибудь газеты, я, с Вашего позволения, оставлю у себя корректурные листы, переданные мне г. Гайдебуровым, с которых я переводил. Это желание основано скорее на сентиментальных соображениях, чем на необходимости запастись оружиями для самозащиты против возможных нападений, так как в настоящий момент я считаю все дело оконченным. <…> Я с радостью готов во всякое время бросить все другие работы и взяться за перевод Ваших статей, книг, заметок. Но с такой же радостью, ставя дело выше всяких личных соображений, я готов уступить эту честь другим, если Вы того желаете, как я уступил перевод «Крейцеровой сонаты» мисс Хэпгуд по желанию В. Г. Черткова. Другими словами, без вашего согласия я никогда ничего бы не позволил себе переводить. Но раз я уже берусь за перевод, я считаю себя нравственно обязанным переводить текст подлинника и во всяком случае не исполнять роли турецкого цензора, вычеркивая все то, что может навлечь на автора неудовольствие властей. Я убежден, что и Вы точно так же смотрите на обязанности переводчика. Но, к крайнему моему удивлению, я на днях получил строгий выговор за подобный взгляд от г. Гайдебурова, который уверял меня, что я буду считаться врагом русского общества и Вашим, если я не буду смягчать ваши будущие сочинения настолько, насколько это кажется нужным для того, чтобы они не вызывали неудовольствие ни с чьей стороны в России. Я считаю это мнение ошибочным; г.Гайдебурову же я сказал, что оно положительно безнравственно. <…> В этом духе я никогда не переводил; и в этом духе я никогда не буду переводить. Ваши же указания я всегда буду исполнять с точностью. Если вы напишете завтра, что Вы убедились в том, что английский философ, Гоббс, прав и что во всех странах светский глава уполномочен Богом установить законы религии и нравственности по собственному усмотрению, я это переведу так же добросовестно, как и противоположное, если Вы противоположное напишете. Но ни то, ни другое я цензировать не стану. <…> Всей душой желаю Вам всего хорошего, главным же образом здоровья для того, чтобы продолжить то доброе дело, которое теперь поглощает все Ваше время и требует всей Вашей энергии. Эмилий Диллон»67. 67 Ibidem, pр. 237-240. Но передышка оказалась весьма кратковременной: «Прошло несколько недель, и я уже практически забыл об этом эпизоде. Но однажды утром я был ошеломлен, прочитав в одной русской газете, имеющей связи с Л. Толстым, письмо, подписанное на этот раз самим Л. Толстым, в котором он отрицал аутентичность статьей о голоде»68. Действительно, под давлением окружающих 12 февраля 1892 года Л. Толстой обратился к редактору газеты «Правительственный вестник». По своему статусу «Правительственный вестник» в полемику не вступал, и тогда решено было отпечатать на гектографе 100 экземпляров письма, чуть изменив при этом его текст, и разослать его в редакции крупных газет, а также частным лицам. 8 марта 1892 года его опубликовали «СанктПетербургские ведомости» и «Русская жизнь». «Милостивый Государь, господин редактор! В ответ на полученный мною от разных лиц письма с вопросами о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых сделаны выписки в №22 «Московских ведомостей», покорнейше прошу поместить следующее мое заявление: Писем никаких я в английские газеты не писал. Выписка же, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая мне, есть очень измененное (вследствие двухкратного – сначала на английский, потом на русский язык – слишком вольного перевода) место из моей статьи, ещё в октябре отданной в московский журнал и не напечатанной, и после того отданной, по обыкновению моему, в полное распоряжение иностранных переводчиков. Место же в статье Московских Ведомостей, напечатанное вслед за выпиской из перевода моей статьи крупным шрифтом и выдаваемое за выраженную мною будто бы во втором письме мысль о том, как должен поступить народ для избавления себя от голода, - есть сплошной вымысел. 68 Ibidem, p.214. В этом месте составитель статьи пользуется моими словами, употребленными в совершенно другом смысле, для выражения совершенно чуждой и противной моим убеждениям мысли. С совершенным уважением Лев Толстой. 12 февраля 1892 г., Бегичевка». Диллон утверждает, что он сразу же отправился к друзьям Л. Толстого Н. Лескову и В. Соловьеву, и предупредил, что в сложившихся обстоятельствах он не может больше ждать и собирается сейчас же придать дело гласности. Они согласились с Диллоном, и признали, что Л. Толстой, по всей видимости, не в себе. Без промедления, Диллон написал в газеты «Московские ведомости» и в «Гражданин», рассказывая все обстоятельства дела, приложив текст подтверждения Л. Толстым аутентичности его статей и уведомив редакцию, что в его распоряжении находятся корректурные листы с исправлениями самого графа. Перед публикацией, редакторы газет попросили предоставить корректурные листы, что Диллон и сделал, заручившись обещанием, что они будут возвращены ему. Опубликование этих документов вызвало большой резонанс в обществе. Итак, 8 марта 1892 года появилось отказное письмо Л. Толстого, 10 марта, потеряв надежду на успех в петербургских газетах, Диллон отправил телеграмму в редакцию «Московских ведомостей». В тот же день Диллон выслал все материалы в редакцию «Московских ведомостей» вместе с подробным комментарием к письмам Л. Толстого и сопроводительным письмом, в котором по существу опровергается отказ Л. Толстого от авторства. «ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ 10 марта 1892. М.Г.! – в № 5757 газеты Новое время появилось письмо графа Л. Н. Толстого, написанное с целью точно определить, в каком смысле и до какой степени он ответственен за статью «О голоде», которая появилась в английской газете Daily Telegraph. В этом письме почтенный граф категорично заявляет: «Писем никаких я в английские газеты не посылал». Так как многие лица вывели из этого заключение, что посланная мною в Лондон, по желанию самого графа, статья о голоде вовсе не принадлежит его перу, я вынужден заботой о своей репутации сделать следующее заявление. В ноябре месяце почтенный граф прислал мне запрещенную цензурой статью, о существовании которой я тогда ещё и не подозревал; потом он написал мне собственноручное письмо (№1), в котором он уполномочивает меня сделать в статье известные стилистические поправки, и, наконец, он сам подтвердил все это письмами №№3, 4 и 5, которые я теперь весьма неохотно предаю гласности. Следовательно, сказать, что граф Л.Н.Толстой не посылал в Daily Telegraph статьи в Англию, все равно, что сказать, что я, положим, не купил железнодорожного билета, который купил для меня, по моему требованию, артельщик. Что касается статьи, часть которой была приведена Московскими ведомостями в переводе, то у меня находится подлинный текст, состоящий из корректурных листов и значительных рукописных вставок, написанных частью самим графом, частью же его дочерью, под его диктовку. Не желая принять участие в полемике о степени точности переводов, я при этом присылаю Вам точный список 5-й главы (то есть той части, которая была напечатана в Московских ведомостях), который предоставляю Вам обнародовать, если найдете это желательным Примите и пр. Эмилий Диллон»69. 12 марта все материалы, включая письма Л. Толстого, были опубликованы в газетах «Московские ведомости» и «Гражданин». В тот же день, ещё не зная о выступлении «Московских ведомостей», Феоктистов телеграфировал Петровскому: «Сегодня Гражданин Диллон сильно обличил Толстого». 69 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр. 217 – 218. В своей книге Диллон дает обширную подборку газетных материалов70. О тоне этих статей говорит, например, следующий пассаж из редакционного заявления «Московских новостей»: «…Толстой – художник, гордость своей страны и своего народа, заслуживший вечную признательность нашу, имя которого перейдет в потомство, - что этот Толстой, автор Войны и Мира, автор Анны Карениной, умер и не воскреснет. Пред нами другой Толстой – несчастный старик, находящийся в состоянии умственного и нравственного распадения, опустившийся до миросозерцания малограмотных анархистских листков и брошюр… Очевидно, что талант автора Войны и Мира потух: лампада догорела, драгоценное миро, заключенное в ней, истощилось, а фитиль все ещё трещит и дымит, распространяя чад и удушье…»71. 14 марта газета вернулась «К инциденту с гр. Л.Н. Толстым», а 29 марта «Московские ведомости» в статье «Граф Л.Н. Толстой и анархизм» подвели итоги этой войны реакционно–охранительной прессы против Л. Толстого. Эту кампанию «Вестник Европы» охарактеризовал как «газетный поход против частной помощи и против даровой раздачи хлеба»72. В декабре 1892 года журнал назвал деятельность «Московских ведомостей» «не только словесным грехом против правды, но и дурным делом»73. Получилось, что в этой газетной войне Диллон был марионеткой. Для тех, чью точку зрения выражали «Московские ведомости» и «Гражданин», он стал рупором Л. Толстого, представителем враждебного царскому режиму направления. По своему журналистскому опыту Диллон знал, что такое кампания в прессе, но в марте 1892 года он растерялся: «Отказные письма» С.А. Толстой и Л.Н. Толстого перепечатали комментарием. О его многие характере и газеты, тональности снабдив можно их судить по См.: Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр. 218 – 233. «Московские ведомости», 12 марта 1892 года, или См.:Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр. 229-230. 72 «Вестник Европы», 1892, т I, кн. 2, с. 915. 73 Там же, т.VI, кн. 12, с. 896. 70 71 своим пространному заявлению газеты «Русская жизнь». 9 марта 1892 года в разделе «Вести и факты» говорилось: «На третий день после получения в Петербурге № «Московских ведомостей» с передовой статьей по поводу революционного послания графа Толстого в английской газете «Daily Telegraph» мы сочли возможным заявить, что такого послания граф не составлял. Заявление это мы основали на достоверных источниках, но мы не можем скрыть, что поместили его не без колебаний. Нам не верилось, не могло вериться, чтобы одно из самых старых, солидных и распространенных изданий приводило в кавычках подлинные чужие слова, никогда не произносившиеся теми, кому они приписывались, и чтобы редакция такого издания могла своим именем в передовой статье удостоверить, что слова эти – точный перевод статьи из иностранной газеты, где её никогда не было… И вот, сам гр. Толстой публично удостоверяет, что он сделался жертвой гнусной проделки… тут произведены были выстригивания из статьи отрывков с целью «слишком вольный перевод» с иностранного на русский, присовокупление того, что уже вовсе никогда не говорилось, сочинение по этому поводу передовой в столичной газете – слово, произведен был целый ряд манипуляций с несомненно заранее обдуманным намерением. Целый подпольный союз «работал» над статьей так, как может работать только опытная рука русского газетного шулера – мастера передержек и подлогов. Да, это страшная новость, это ужасающее знамение времени!..»74. О реакции общества на этот скандал Диллон говорит следующее: «Когда скандал, связанный со статьями о голоде, достиг своего апогея, многие их тех, кто раньше восхищался Л. Толстым, разорвали его портреты. Когда же об этом узнал Л. Толстой, он спокойно заметил, что они не заслуживали того, чтобы иметь их. Неприязнь к Л. Толстому была столь велика, что в Петербурге состоялось заседание министров, на котором было 74 «Русская жизнь», 9 марта 1892г. решено выслать Л. Толстого из России. Но царь, узнав об этом решении, сказал: «Хотя я никогда не читал таких ужасных статей, как его, всё же я решил не позволять трогать его». Однако даже в далекой мадрасской газете «Egyetertes» дошло до того, что там описали камеру, в которую уже был заключен «великий пленник»: «Камера находится в двух метрах под землей, два метра по длине, метр по ширине и двадцать сантиметров по высоте – так что заключенный не может двигаться. Пищу ему передают через узкую щель». Один из авторов «Cornhill Magazine» (июнь 1892) рассказывает о своем визите к Л. Толстому после поездки по голодающим регионам. Он говорит, что все члены семьи графа были встревожены, когда увидели приближающийся экипаж, поскольку каждое мгновение они боялись, что могут приехать жандармы и увезти графа. Вследствие опубликования статей о голоде в «Daily Telegraph» и воспроизведения их в других иностранных и русских газетах поднялась буря негодования. Журналист рассказывает: «Когда я приехал в Самару, я обнаружил, что жители города обсуждают этот вопрос страстно и взволнованно. Преобладающее мнение было таково, что автор статьи – сумасшедший и его нужно поместить в психиатрическую больницу»75. Когда инцидент уже был исчерпан, Диллон, в письме Л. Толстому, объясняет свое поведение и с благодарностью упоминает имена тех, кто поддержал его в критический момент: «Дорогой Лев Николаевич! Я Вам пишу по совету Н.Н. Ге и по собственному побуждению. Если Вы сами не предчувствовали того, что я имею Вам сказать, то напрасно я Вам теперь пишу. Я напечатал письма Ваши не по собственному желанию, совсем против моей воли и лишь после того, как я испытал все другие средства, и испытал их бесплодно. Тому свидетелями были добрые Ваши друзья и поклонники Н.Н. Ге, Н.С. Лесков, Хирьяков и др. 75 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр. 233-234. Когда письмо Ваше появилось в газетах, я видел, что я должен написать объяснение. Раньше, чем написать его, я отправился к Лескову, и он очень меня просил оставить дело, если это возможно, и подождать, пока я не получу их Лондона формального приказа. Я на это согласился и, будучи нездоров, изъявил свое согласие письменно. Это письмо находится у Н.С. Лескова. Следовательно, будь только Ваше письмо, я бы ничего не писал. Затем появилась передовая статья Русской жизни, в которой говорилось прямо о подлоге, заговоре и о том, что Вы сделались «жертвой гнусной проделки». Кроме того, сказано было, что Daily Telegraph печатал ряд статей, вовсе не принадлежащих Вашему перу. Эта глупая статья отняла у меня возможность дальше бездействовать. Тем не менее я отправился в редакцию «Русской жизни» пригласить редактора извиниться в печати. Представители редакции издевались надо мной и более ещё над «Daily Telegraph’ом», говоря, что, если читать ваше письмо между строками, нельзя не прийти к заключению, что все сказанное в передовой статье основано на Ваших словах. Тогда, только тогда, я напечатал мое заявление и письма, с чувством, с которым я бы приступил к отсечению свой собственной руки. Я страдал и продолжаю страдать от этого поступка; страдаю, как страдал Vergniaud после того, как он подал свой голос за смертную казнь короля; и при всем этом чувствую, что если бы все это случилось опять, я бы иначе не мог поступать, как поступил. Я питаю к вам все те же чувства, как и прежде; частно и публично отношусь к Вам и к Вашему делу точно так же, как и прежде. Н.Н. Ге, который собств[енными] глазами все видел, расскажет Вам ход дела, точно так же, как я Вам рассказал, и расскажет, как глубоко я жалею, что обстоятельства не дали мне возможность не делать того, что я так неохотно сделал. С истинным уважением остаюсь Эмилий Диллон»76. Л. Толстой незадолго до получения его, 21 марта 1892 года, писал В.Г. Черткову: «Статьи Моск[овских] Вед[омостей] и Гражд[анина] и письма Диллона были мне неприятны – в особенности Диллона – тем, что никак не можешь догадаться, чем вызвал враждебное, недоброе чувство в людях. В особенности Диллона. Мотивы его я совершенно не понимаю. И не притворяясь могу сказать, что он мне прямо жалок теми тяжелыми чувствами, к[оторые] он испытывает и к[оторые] побуждают его писать то, что он пишет. Тут все полуправда, полуложь и разобраться в этом, когда не доброжелательства людей друг к другу, нет никакой возможности… Меня занимает вопрос: как быть с Диллоном? Поручать ли ему перевод статьи новой или нет? Не то, чтобы наказывать его, а просто скучно и 76 Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, рр. 240 – 241. некогда иметь дело в людьми, к[оторые] все усложняют, из всего делают какие-то вопросы, к[оторые] надо доказывать или опровергать. Как вы думаете? Я не имею ничего лично против него, но боюсь хлопотать»77. Долгое время письмо Диллона оставалось без ответа, но благодаря усилиям Н. Лескова Л. Толстой преодолел внутреннее сопротивление и написал Диллону: «Dear Sir, Очень сожалею, что тогда же, когда получил его, не отвечал на письмо ваше. Пожалуйста, извините меня за это и не сочтите это признаком какого-нибудь недоброжелательства к вам. Я сначала откладывал, потом колебался, писать или нет, а под конец и совсем оставил намерение писать. И так бы и не написал, если бы не истинно добрые люди, которые мне указали, что молчание мое есть поступок, и дурной. Прошу вас простить меня за те неприятные чувства, которые оно могло возбудить в вас. Я ни минуты не испытывал к вам недоброжелательства, а, напротив, очень сожалел о тех неприятностях, которым вы подверглись и которых я отчасти был невольной причиной. Итак, с самым добрым чувством к вам и пожеланиями вам душевного спокойствия остаюсь ваш Л. Толстой. За письмо ваше ко мне очень благодарю вас и надеюсь, что вы не измените те добрые чувства расположения ко мне, которые вы в нем высказываете»78. Диллон ответил, что он принимает извинения, и ещё раз подчеркнул, что все его действия в этой истории были обусловлены только лишь одним побуждением: добиться справедливости79. Он ответил на письмо Л. Толстого из Вены, куда вынужден был уехать в связи со смертью отца: «Дорогой Лев Николаевич! 77 78 79 ПСС 87, с.132-133. ПСС 66, с.244, или: Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, р. 235. Dillon E. J. Count Leo Tolstoy…, р.236. Я был в высшей степени обрадован получением вашего письма, которое породило во мне самое приятное чувство успокоения, Ваше молчание я приписал многим различным причинам (между прочим, нездоровию, которое сильно меня беспокоило), но твердо знал, что в Ваших мотивах не было, да и не могло быть, места для соображений, идущих мало-мальски вразрез с самым глубоким пониманием и самым добросовестным исполнением христианской любви. Я Вам очень благодарен за высказанные Вами чувства расположения ко мне. Что касается моего уважения к Вашей благотворной деятельности и личной к Вам любви, то я стою на той же почве, на которой я находился полтора года тому назад, когда беседовал с Вами в Ясной Поляне. Это мог бы подтверждать Н.С. Лесков, если бы мои собственные старания в самое последнее время возбуждать точно такие же к Вам чувства в Англии, Америке и Австрии не были так хорошо известны80. Это, понятно, отнюдь не заслуга моя; ибо не могу не видать того, что очевидно, и не могу не понимать того, что явствует всякому непредубежденному человеку. Я был приятно удивлен числом и разнородностью лиц в Австрии, которые не только хорошо знакомы с Вашей деятельностью на поприще христианской этики, но и сочувствуют ей не менее меня. Между прочим, немало таковых я нашел в здешнем университете и где всего менее думал их встретить – среди римско-католического духовенства. От души Вам желаю доброго здоровья на многие годы, дабы Вы могли продолжать плодотворно посвящать все свои силы излюбленному делу. Эмилий Диллон». Итак, «диллоновская история», короткая и драматичная, подошла к концу. Конечно, теперь видно, как реакционные круги последовательно и В письме к Н. Лескову 31 июня 1892 года Диллон упомянул о своей статье о Толстом, в которой он рассказывал «исключительно о громадных услугах, оказанных им в деле воспомоществления голодающим. Статья Диллона 17 марта 1892 года была написана в Петербурге и содержала краткий обзор деятельности Толстого – писателя и подвижника. Далее Диллон сообщил о сборнике «Помощь голодным», прокомментировал газетную войну «Московских ведомостей» против Толстого и свой визит к великому писателю в Бегичевку. Статья написана спокойно, достойно, без тени обиды на Толстого. – E.J.Dillon, Count Tolstoi – his disciples and traducers. A Russiun literary causerie. – In: «The Review of Reviews», Apr.,1892, vol.V, no. 28, pp.414-416. 80 планомерно вели антитолстовскую кампанию. Но с другой стороны, воссоздавая основные моменты скандальной ситуации, испытываешь неловкость от поведения её участников. «Полуправда, полуложь», о которой Л. Толстой писал В.Г. Черткову, опутала едва ли не всех действующих лиц, в том числе и великого писателя. Минутной слабости Л. Толстой потом устыдился. Как бы то ни было, произошло и заочное объяснение между двумя главными действующими лицами этой истории, и все точки над i были расставлены. Однако жизнь развела Диллона и Л. Толстого, и, оборвавшись на полуслове, переписка их более не возобновлялась. 4. Диллон и толстовцы: «Мои друзья среди последователей Л. Толстого». Предваряя перевод этой главы книги Диллона, заметим следующее: религиозно – этическое учение Л.Н. Толстого вызвало в русском обществе большой резонанс. Литература о Л. Толстом необъятна; исследования о философско-религиозных его взглядах также составляют бесконечные списки. Частное мнение Диллона и его видение ситуации – лишь одно из существующих, однако его взгляд современника и современника к Л. Толстому не равнодушного, кажется нам интересным. Данная глава, как и многое в книге Диллона, вряд ли претендует на научную точность; это скорее серия историй, подчас анекдотических, курьёзов и едва ли не сплетен, которые, как бы то ни было, тоже являются частью истории и по-своему воссоздают атмосферу споров вокруг религиозно-этического учения Л. Толстого. Выполняя перевод данной главы, мы выпустили из неё несколько эпизодов: касательно отношений Л.Н. Толстого с Н.Н. Ге81, В.Г. Чертковым82 и И.Е Репиным. Эти отношения, как бы хорошо изучены они не были, заслуживают более обстоятельного разговора, чем несколько страниц из воспоминаний Диллона. «Мои друзья среди последователей Толстого». Почитатели литературных произведений Л. Толстого сожалели, что он занялся рассуждениями на религиозные темы, пустился в метафизическую казуистику и теологические загадки, и дошел до такой крайности, что в девятнадцатом веке стал проповедовать новую религию. «Он сумасшедший», - говорили люди. Даже его друзья печально качали головами и придумывали благовидные объяснения заблуждению великого мастера и слабо надеялись, что он вскоре одумается и станет самим собой. «Учение Христа» упоминалось как симптом его умопомешательства, но на самом деле никто за пределами узкого круга некритичных последователей не прочитал его досконально. Поскольку я был лично знаком с некоторыми из друзей и последователей Л. Толстого, хотя я и редко посещал их, однажды я отважился начать обсуждение вопроса с одним из них. Я спросил его, что он думает о религиозном учении Л. Толстого. Ответ был искренний, прямой и выразительный: Л. Толстой, сказал он, религиозный гений, первый человек после Бога, чьей единственной целью было исполнение воли Создателя во что бы то ни стало, и чьей главной задачей в жизни обнаружение и объявление этой воли своим братьям. Все они допускали, что он был ужасным грешником большую часть своей жизни, фактически до времени своего обращения, и даже после этого он был не застрахован от проступков, 81 82 Л.Н. Толстой и Н.Н. Ге. Переписка. М. - Л.: Изд-во Academia, 1930. ПСС 87. поскольку дух усерден, но плоть слаба. Однако же он был вдохновлен истинным духом христианства и старался воплотить этот дух в работах и в жизни. Для него это было полным обращением. Он изменился настолько же полно, как и Савл. Шоры, мешавшие ему открыть истину, упали с его глаз, и он застыл изумлении перед изменившимся миром. Затем он, подобно, Павлу, долго и глубоко размышлял и новом порядке вещей, и осознал ту роль в жизни, что была отведена ему в божественной системе вещей, что совершенно не похожа на обычную83. Начиная с этого времени84, Л. Толстой как нравственный проповедник стал восприниматься серьёзнее, чем раньше. Он пишет притчи, трактаты, нравственные проповеди, как отклик на которые ему приходят письма от разных людей, по большей части от несчастных, неудачливых и отчаявшихся, которых нужно было наставить на путь истинный; и друзья Л. Толстого полагали, что его советы заслуживают того, чтобы распространяемыми повсеместно. В России большинство его псевдопроповедей было запрещено цензурой, и они ходили в рукописном или машинописном виде, вдохновляя многих молодых людей, особенно студентов, подниматься, произносить речи и рисовать проекты спасения человечества. Вскоре стали появляться общества толстовцев, состоящие в основном из студентов, выпускников, молодых женщин, не имеющих практики адвокатов и прочих, чьей целью было изучение Евангелия Иисуса Христа, как его интерпретировал вдохновенный учитель, и распространение повсюду этого учения. Какой-нибудь преуспевающий помещик предоставлял на время несколько акров своей земли и несколько современных помещений членам братства, ни один из которых не имел даже намека на землевладение. Они работали, следуя своему принципу непротивления, выращивая овощи, Этот и предыдущий абзац взяты из другой главы книги Диллона, однако поскольку они относятся к той же теме, мы сочли возможным открыть ими данную главу. E.J.Dillon, Count Leo Tolstoy…рр. 163-4. 84 Из текста можно сделать вывод, что Диллон имеет в виду время после появления «Крейцеровой сонаты», то есть с 90-х годов XIX века. 83 которые требуют минимального ухода, такие как картошка, бобы, горох и т.д., и после рабочего дня собирались все вместе, читая какую-нибудь назидательную книжку или журнал и обсуждая прочитанное. Но кроме действительных последователей графа, которые честно отвернулись от комфорта цивилизованной жизни и старались применять на практике указания своего учителя, было множество и тех, кто, недовольные собою и своим окружением, были готовы последовать каждому новому появляющемуся религиозному направлению, и, недолго идя по новому пути, начинали тосковать до тех пор пока не улавливали ветер перемен и не шли в новом направлении85. Сам Антихрист мог бы рассчитывать на достаточное количество новообращенных среди этих непостоянных и нетвердых в своих убеждениях пустозвонов, однако нужно было быть готовым к тому, что его правление не превысило бы сто дней Наполеона. Многие из этих людей, размышляя о «Крейцеровой сонате», панегирике ручному труду или учении о непротивлении, сплачивались под новым знаменем с радостным сознанием того, что им судьбой предначертано вести эту благородную борьбу от начала времен, но сбегали с отвращением несколько месяцев спустя, когда начинались действительные сражения, посылая проклятия на головы их собратьев по оружию. Подобным образом, один хладнокровный энтузиаст исполнил свой священный долг, сочинив памфлет на последователей Толстого; другой представил как объект всеобщего презрения самого графа; третий высмеял художника Ге. Ясинский86, например, написал роман под названием «Новая жизнь» с явной целью уязвить религиозных последователей Толстого. И если, когда он писал роман, он видел таких приспособленцев и изменников, подобных описанным выше, тогда вполне можно оправдать идею такого романа, признавая, однако, негодным, то «…there were a large category of persons in Russia who, dissatisfied with themselves and their surroundings, were eager to arch their sails to every new wind of religious doctrine, and having scudded along for a short while in the new direction, grew sick at heart until they could trim their sails anew and strike out another course». 86 Ясинский Иероним Иеронимович (1850-1931) – писатель, фельетонист, очеркист. 85 наказание, которое предлагает писатель. Однако Ясинский не отделял зерна от плевел. Главный герой романа – Ализин, скрипач-любитель, того бескомпромиссного типа, что и Трухачевский из «Крейцеровой сонаты». Он тоже, прочитав вдохновенное послание, осознает, что он отличается от остальных людей и предназначен для высшей духовной жизни, в которой он бы возделывал землю, подобно крестьянам, носил бы неэлегантные фланелевые вещи, экономил бы на мыле, расческах и носовых платках и свел бы свое существование до самых простых потребностей. Осознание этих новых идеалов выражается в том, что он разбивает свою скрипку, отворачивается от друзей, отвергает блага цивилизации, - в общем, сжигает все мосты за собой. Однако вскоре он сталкивается с неприглядной прозой жизни русской деревни, и поскольку он не чувствует высшего благоволения, его энтузиазм ослабевает. Но он снова обретает себя и намерен не оставить себе ни малейшей лазейки для отступления: он предлагает свою руку, посвященную труду, и сердце, отданное Богу, сельской девушке, которая, к счастью для себя, достаточно разумна, чтобы с презрением отвергнуть его предложение. Эти разочарования повергают его в такую меланхолию и мрачное настроение, что развеять могут только волшебные аккорды арфы Давида или скрипки Паганини, и когда он, в конце концов, возвращается к своему обычному настроению, он с отвращением обнаруживает, что «воскрешение его сердца» так же далеко, как и всегда. К этому моменту он уже достаточно долго следовал новому образу жизни, чтобы почувствовал острое сильное пристрастие к старому; и с тайной тоской по злачным местам, он обращается за помощью к русскому священнику, который проповедует ему, молится за него и осуществляет чудо обращения его в истинную веру, которую, как чувствует герой, небеса должны были ему дать за его усердную борьбу за правое дело. Он вновь принимает православную веру, возвращается в дом своего отца, приказывает забить и пожарить теленка и весело берет в руки скрипку и смычок. Другое произведение - «Около истины», гораздо более острое и реалистическое появилось в наиболее уважаемом и распространяемом повсюду консервативном журнале «Русский вестник», редактором которого вплоть до своей смерти был Катков. Повесть была подписана благозвучным именем Щеглова87 - писателя, чья неожиданная преданность бескомпромиссному учению Толстого вызвала в свое время много разговоров в Петербурге. Этот джентльмен взял себе в привычку ежедневно посещать общество толстовцев, во главе которого стоял любезный бывший аристократ, чьё самопожертвование вызывало болезненное чувство недоуменного удивления в товарищах, но не оставляло сомнений в искренности ни у друзей, ни у врагов. Этот ревностный проповедник широко распахнул двери перед Щегловым, который робко проскользнул внутрь, исподтишка оглядел обстановку и братьев, восхитился простотой жизни последних, пообещал прийти и действовать подобным же образом, спросив разрешение, прежде чем надеть крестьянскую блузу и высокие сапоги вместо своей выполненной на заказ одежды и обуви, сшитой из хорошей кожи. Завоевав доверие братьев и сестер, которые были польщены возможностью иметь в своем кругу талантливого писателя, и увидев их худшие стороны, редко – лучшие, этот писателя изобразил их самым прозаическим образом, и для того, чтобы усилить эффект часто заменял воспоминания воображением. Но все же в повести есть достаточное количество фактов и сцен, которые помогут читателю сформировать точное представление о внешней оболочке толстовства – раковине, которая может содержать, как жемчуг, так и гальку, и много данных для того, чтобы представить себе характер и личность сочинителя. Сложно найти в истории любой литературы пример более Леонтьев, Иван Леонтьевич (1856 – 1911) - беллетрист и драматург, более известный под псевдонимом Щеглов. 87 низкий и презренный, чем этот подлый донос на своих слишком доверчивых друзей и эти отвратительные нападки на честь женщины, что был совершен этим мужчиной, объявившим себя носителем высочайшей культуры. Для многих благородных людей подобная неприличная смесь вероломства, похоти и лицемерия, что была показана в этой повести, казалась абсолютно немыслимой. Но это далеко не исключительный случай. Это часто встречающееся и типичное явление, и обстоятельства не дают нам возможности умолчать об этом, когда рассказываешь об убеждениях Толстого и его последователях. Факты остаются фактами, и бесполезно бороться с ними. А главное то, что рассказ без упоминания затасканных примеров был бы не лучше, чем издание «Гамлета», где не было бы роли принца Датского. Самый эффективный способ опровергнуть эти лживые нападки на последователей Л.Толстого – объявить некоторые задачи и цели, которые большинство из них представляло себе и принимало88. Л.Толстой объявляет, что в существующем обществе мы живем обманом, грабежом, насилием и угнетением наших братьев. Однажды к Л.Толстому обратился человек, принадлежащий к низшему классу литературного братства, с вопросом, что делать ему, лишенному какой бы то ни было работы, без средств к существованию, обремененному детьми, постоянно болеющему, голодному и не встречающему сочувствия, в том отчаянном положении, в которое он попал. Его искушает мысль пройти сквозь «открытые двери», но сначала он хочет услышать совет Л.Толстого. Попрошайничать он не может. Л.Толстой пишет в ответ: «Почему не просить милостыню? Это не только не аморально, но иногда это обязанность. Жить подаянием гораздо лучше, чем жить так, как большая часть интеллигентных людей». Он приходит к выводу, что люди живут плохо либо потому, что они Далее Диллон приводит два важнейших принципа учения Толстого «любите братьев Ваших» и «непротивление злу насилием». 88 нехороши сами, либо потому, что не понимают, как хорошо устроить свои жизни. И поэтому он старался показать им, как они должны жить. В России поселения толстовцев подвергались жесткой критике. Одна из них, сформированная в Смоленской губернии, состояла из четырех мужчин и трех женщин, и это постоянное число иногда возрастало за счет трех, четырех, а иногда и двадцати посетителей, которые оставались иногда на несколько недель, иногда на несколько месяцев. Они жили в большом бараке, разделенном коридором на два отсека. Женщины жили на одной половине, мужчины – на другой. Совмещенные кухня и столовая находились на женской половине. Все они спали на досках, покрытых соломой; их одежда состояла из разнообразных цветных рубах, штанов и лаптей, все это они должны были делать сами. Их городская одежда хранилась в чемоданах под замком, и доставали её только в случае крайней необходимости. Они называли её «вавилонской» одеждой. Их целью было работать на земле, точно так, как это делали крестьяне. Хождение денег было абсолютно запрещено. Если необходима была соль или мыло, или что-нибудь ещё, что они не могли сделать сами, тогда они меняли это на продовольствие. Данная колония владела одной коровой и десятью овцами. Урожай, который они собирали, никогда не был достаточен для того, чтобы прокормить всех, и они брали хлеб у соседей – крестьян. А когда и у крестьян не было ничего дать им, тогда они надевали свою «вавилонскую» одежду и шли навестить своих родственников. В этих обстоятельствах они могли воспользоваться трудом других и потратить деньги. Некоторые шли пешком, чтобы не совершать греха путешествие по железной дороге. Но если смотреть правде в глаза, то их грех состоял в том, что у них не было средств приобрести билет. Их урожаи были несравнимо меньше, чем у крестьян, но они оправдывали себя тем, что их земля не такая плодородная. Один из «интеллигентных» членов братства заявлял: «Мы возделываем землю гораздо хуже, чем крестьяне, поскольку очень сложно пахать землю, когда ты не привык к этому». Конечно же. А собирать урожай в жаркие июльские дни – это каторжный труд, особенно для утонченных барышень. Никто не оставался в этой колонии дольше, чем на два года, и на их место приходили другие, которые через некоторое время так же сдавались. Вот как один из них объяснил мне свой уход: «Зла мы, конечно, не делали, но ничего хорошего никому тоже. Я не получил никакой выгоды от этого эксперимента, хотя я и работал как волк». Они жили практически впроголодь. Их утренний прием пищи, например, состоял из слабого кофе без сахара и сухарей. Крестьяне и помещики критиковали их со всех точек зрения. Они называли их утопающими, которых нужно спасать от самих себя. Многие из них были интеллигентными людьми, которые, не имея какой-либо профессии, попадали под влияние Л. Толстого и начинали работать как крестьяне. И вскоре они становились неузнаваемыми: они отрекались от всего, что делало их людьми: от искусства, от науки, от цивилизации. Они хотели быть простыми людьми, но они становились похожими на дикарей, чудовищ или больных. Не подходя для крестьянского труда, они в конце концов становились бесполезны, а многие из них умирали от истощения на дорогах. Группа людей объединилась для того, чтобы противостоять пагубному влиянию Л. Толстого на молодежь. Они предложили создать общество братской любви под председательством человека с философскими знаниями и денежными средствами, который бы оказал влияние на молодых людей и вернул бы их в мир Божий, прочь с опасных путей, по которым их вел Л. Толстой. Графиня, которая, подобно своему мужу, вела секретный дневник, смотрела на многих новообращенных критично, если не сказать, что подозрительно. И не без причины. У неё за плечами был огромный опыт горьких уроков, которые она никогда не забывала. Во время моего визита она кое-что мне рассказала, что-то вспомнилось мне позже, и всё это свидетельствует о том, что графине приходилось нести значительную часть того груза, что был возложен на её супруга. И поскольку она воспринимала это с недовольством, она возмущалась. И вместо того чтобы отдать должное её лояльности и самоотречению, все эти годы на неё смотрели косо, как на существенную помеху великого гения, с которым её связала судьба. В том, что эта неблагодарность была следствием влияния приближенных графа, она нимало не сомневалась, но чтобы вдвойне себя застраховать она следила за его перемещениями, рылась в его бумагах и всегда выясняла цели и задачи нежданных посетителей, в особенности тех псевдоидеалистов и новообращенных, которых она сама называла «темными»89. Многие из них были чрезмерно сентиментальными восторженными фанатиками, по большей части невежественным и невоспитанными, и все они были нетактичны и не считались ни с кем, свободно распоряжаясь временем, ресурсами, домом и укладом жизни семьи Л. Толстого. Графиня вынуждена была обслуживать этих незваных гостей, которые в свою очередь игнорировали и критиковали её, имели обыкновение злоупотреблять гостеприимством, не считаться с правилами поведения в чужом доме и нарушать интимность семьи. Вполне естественно, что она была этим возмущена и при случае обнаруживала свои чувства. Её тактика иногда приводила к странным последствиям, что придавало смелости этой отчаянно борющейся женщине вводить ещё более жесткие меры, которые граф со своей стороны старался смягчить. Однажды приехал один военный, чтобы засвидетельствовать свое почтение Л. Толстому. Он представился как строгий вегетарианец и защитник домашних животных. Во время оживленной беседы он упрекнул графа за его любимое развлечение –езду верхом. «Для вас, конечно, согласился он, - это приятное и полезное упражнение, но не для лошади, для которое оно утомительно и жестоко. Как вы можете проповедовать уважение к нашим бессловесным братьям, к то время как вы сами относитесь к самому 89 «the darkies» благородному из них просто как к рабу? Можете ли вы поспорить с моим утверждением?» «Что же, - ответил граф, - я перестану ездить верхом!» И он сознательно воздерживался от этой привычки около восьми лет, после чего взялся за старое и снова стал ездить верхом. Однажды среди зимы постучался необычно выглядящий посетитель. На нем было длинное пальто из овечьей кожи и кепка. На плече висела веревка, к которой была прикреплена бутылка, содержащая, казалось, бесцветную жидкость. На груди, привязанная к другому концу веревки, покоилась большая сумка, сделанная из грубой мешковины. Как только ему открыли дверь, он попросил увидеться с Л. Толстым, но когда ему предложили снять пальто и минутку подождать, он возразил: «Передайте графу, что я боюсь холода, и спрашиваю его разрешения оставаться в пальто». «Но доме же тепло», - начал было слуга. «Будьте добры, передайте моё пожелание графу!» Уведомленный о том, что граф примет его и в этом виде, странник снял веревку с плеча и предстал перед графом со своими сумками в руке. «Великий учитель, - начал он, - тебя приветствует твой последователь, которые до буквы выполняет все твои предписания, обходясь даже без самых нужных и примитивных человеческих потребностей. Посмотри на меня!»… С этими словами он сбросил своё пальто и предстал перед графом в костюме Адама. «Я бы пришел сюда и без пальто, - торжественно продолжал он, - если бы только я не боялся холода. Это единственный изъян, от которого я не могу себя вылечить. Но с другой стороны, я отказался практически ото всех видов пищи. Я ем только смесь горячей воды и муки. Видишь, я всегда ношу с собой воду в этой бутылке и муку в этой сумке». Ошеломленный граф не мог вымолвить ни слова все это время. Но быстро взяв себя в руки, он воспротивился такому неподходящему платью своего посетителя и настоял на том, чтобы ему дали костюм, прежде чем ему будет позволено жить в этом доме. И в течение следующих нескольких дней сам Л. Толстой ел, подобно своему гостю, только смесь воды и муки. Развязкой этого визита стало то, что необычный посетитель, который оказался шведом, неожиданно уехал посреди ночи из Ясной Поляны, взяв с собой в качестве сувенира несколько ценных украшений. Русский писатель А. Куприн рассказывает нам об одной компании «интеллектуалов», встретившихся для душевного обеда в одном из лучших ресторанов Москвы. Как это часто бывало в то время, обед затянулся до ужина, после которого вся компания стала настолько открытой и довольной жизнью и её удовольствиями, что даже маленький ребенок мог бы играть с ними. Они обсуждали Л. Толстого и его шедевры, цитировали длинные пассажи из «Анны Карениной» и анализировали проект пересоздания человечества, и, в конце концов, их сердца переполнились человеческой добротой, и один из них, сияя благодушием, выдвинул предложение, что они должны немедленно отправиться в Ясную Поляну, чтобы засвидетельствовать почтение кумиру русского народа. И они отправились в Тульскою губернию, и не останавливались до тех пор пока не достигли цели путешествия. Поскольку был уже поздний час, да и по другим неблагоприятным обстоятельствам, они были отправлены в баню, кроватями для них стали сосновые доски и свежескошенное сено. Когда они проснулись утром, они ужаснулись и раскаялись. «О небо!» - воскликнул один из них. – «Как же нас так бес попутал! Давайте быстренько улизнем отсюда, не показываясь никому на глаза!» Они потратили немного времени на утренний туалет, тут же, около колодца. Они обязали слугу передать их жалкие извинения за выходку, о которой они сожалеют, после чего испарились. Граф Толстой услышал об этом за завтраком. «Какие замечательные ребята!» - воскликнул он. «Почему их не задержали до встречи со мной?» Затем он продолжил завтракать, а уже вставая из-за стола сказал: «Я, пожалуй, люблю людей, которые хватили лишнего!» Антипатия Софьи Андреевны к подобного рода гостям вполне естественна. Иногда люди более низкого пошиба подвергали её самообладание серьезной проверке. Однажды граф получил патетическое письмо от одного неизвестного последователя – литератора, который был обращен в новую веру религиозными сочинениями Л. Толстого и страстно томиться по живому слову великого мастера. Таким образом, он решился спросить, может ли он засвидетельствовать свое почтение и посидеть в ногах у учителя несколько часов. Любопытно, что подобные просьбы поступали в разное время от целого числа незнакомцев, по большей части от его соотечественников и соотечественниц; последнее, впрочем, достаточно редко. Но была одна дама –литератор, которая попросила разрешения испить мудрости из уст мирового проповедника и наставника. И на её мольбу ответили согласием, – такие просьбы вообще редко отклоняли, поскольку граф был щедр и гостеприимен. Дама сразу воспользовалась положением и направилась в Ясную Поляну, где сразу по приезду ей была отведена комната. Её серьезность и рвение глубоко впечатлили графа, однако не успокоили подозрений графини: она пристально наблюдала за действиями дамы. На следующее утро стало известно, что литературная куртизанка и литературный апостол провели ночь вместе; произошла бурная сцена, после чего даму бесцеремонно выставили, а сам граф провел неприятный полчаса, выслушивая выговор от жены. Вскоре после этого случая я однажды болтал с писателем Н. Лесковым, сидя в его квартире, как вдруг доложили поэте В. Он триумфально вошел с очень привлекательной молодой дамой, которую он представил как свою племянницу, и затем спросил у Лескова, будет ли какой-нибудь вред, если он попросит принять Л. Толстого их на несколько дней, и сможет ли Н. Лесков, близкий друг графа, посодействовать ему в этом. Н. Лесков, однако, отговаривал В. под разными вымышленными предлогам от выполнения этой затеи. Когда мы с ним вновь остались одни, он заметил: «Есть ещё одна причина в том, что мы только что обсуждали. Все это скрыто сейчас, но тем не менее составляющие все те же. Эта прелестная девушка племянница В. настолько же, насколько я ваш племянник. Они просто хотели провести несколько дней в обществе друг друга в доме Л. Толстого, а я не могу принять участие в подобном обмане». Даже следуя всем сердцем учению Л. Толстого, Н. Лесков оставался строгим и независимым. Преклоняясь перед Л. Толстым, называя его своим «святым на земле» и разделяя проблемы Л. Толстого по поводу ограничения его наставлений, Н. Лесков был в последние годы нескрываемо ироничен по отношению к толстовцам. Не нужно добавлять, что он четко разграничивал их и того, кто вызвал их к существованию. Он всегда глубоко уважал самого Л. Толстого, и их восхищение было обоюдным. Л. Толстой признавал Н. Лескова как «истинного писателя, который имеет власть над языком, как фокусник». Они оставались друзьями до конца своих дней. Незадолго до смерти Н. Лесков писал Л. Толстому: «Если можете, расскажите мне чтонибудь о смерти… Ваши слова – большая помощь мне. Я стыжусь быть обузою для Вас, но я слаб и ищу что-нибудь, на что можно положиться, в человеке, который сильнее меня. Не оставляйте меня». <…> Для тех последователей Л. Толстого, которые стремились воплотить его учение на практике, как многие люди в России, Италии и других странах, жизнь становилась бесконечным кошмаром. Летописи обществ, образованных с целью реализации идеалов Л. Толстого изобилуют трагикомическими инцидентами, которые дискредитируют первоначальную идею. В особенности фундаментальный принцип непротивления злу, который казался вызовом, стал бесконечной темой для обсуждения и серьезных разговоров, даже среди доброжелателей. Если кто-то хотел узнать, что может стать основанием для таких далеко идущих перемен в образе мыслей и действий, то ответ Л. Толстого был: любовь к Богу. Но если вникать в суть дела, то становится не вполне очевидным, есть ли в этой системе вообще какой-либо Бог, а если и есть, то был бы Он доволен тем, как эта любовь выражается. <…> Однажды среди зимы в Москву прибыли два англичанина, одетые в летние костюмы. Они сказали, что они приехали поглазеть на живого Л. Толстого. Но на самом деле их планы этим не ограничивались: они были медиумами и хотели втянуть и Л. Толстого в сферу своей деятельности. Оба они были членами толстовского поселения недалеко от Лондона, в которой не признавали деньги, а использовали бартерную систему. Следовательно, они приехали в Россию без пенни в кармане. Переполненные энергией, любовью к своим братьям, вдохновленные безграничной верой в силу духа, они были уверены, что найдут счастье на земле, куда бы они ни пошли. И их духовная сила, конечно, помогла им в их путешествии, поскольку повсюду консулы, железнодорожные чиновники, губернаторы и просто частные лица помогали им. Они получали бесплатные билеты на поезда, пищу и ночлег везде, и у них не было никакого багажа. Морозным днем они добрались до Москвы и бродили по улицам без пальто, в летних костюмах, и приставали к прохожим с вопросом: «Толстой? Толстой?», указывая куда-то пальцами. Таким образом им показали как добраться до дома Л. Толстого. Когда они пришли, Л. Толстой их принял, а после непродолжительной беседы попросил джентльменов извинить его, поскольку он плохо себя чувствует. Они в свою очередь предложили помолиться за него и поставить эксперимент воздействия их духа на него. Л. Толстой поспешно отказался от их услуг. Тем не менее, они получили от него теплую одежду и деньги. Однако они пошли на компромисс. Взяв деньги на дорогу, они не уехали. Их дух настаивал, что они должны излечить Л. Толстого и обратить в свою веру. Благодаря доброте москвичей, которые предоставили квартиру в их распоряжение, они жили неподалеку от Л. Толстого и не прекращали донимать графа письмами и визитами. Они заявили категорично, что они не уедут из России, пока Л. Толстой не станет спиритом. Они даже несколько раз посещали Ясную Поляну, но своей цели так и не достигли. Интересно также ещё одно свидетельство влияние Л. Толстого за границей. Вот один пример того, как его учение было воспринято в Италии. Человек, не менее оригинальный, чем сам Л. Толстой, обратил в это время внимание на себя. Его имя Deputy Facciari. Он был полковником в армии Гарибальди, миллионером, землевладельцем, и в то же время другом короля Виктора Эммануила и Папы Римского Льва XIII. Он был ревностным католиком, несомненным патриотом, и самым дорогим его желанием было примирение итальянцев с Ватиканом. Этот человек в возрасте 54 лет решил отвернуться от общества и закончить свои дни фермером и рыболовом, организовав поселение, которое бы значительно отличалось от тех, что были созданы по модели русского учителя. Будучи человеком практичным, Facciari обращался не к интеллектуалам, подобно Л. Толстому, а к землепашцам и рыбакам. Собрав некоторое количество людей, он выдвинул фундаментальные принципы своего поселения: его проект состоял всего из тринадцати пунктов. Первым и основным стало то, что каждый из членов должен был нотариально отказаться от всего своего имущества. Чтение любого рода было запрещено. Книги, газеты, письма не разрешались. Дети не должны были учить грамматику. Вся работа делалась коллективно, но семьи жили в отдельных хижинах. Сила объявлялась несуществующей. Каждый год выбирался советник. Католический священник проводил мессу каждое воскресенье, и в то же самое время он объяснял все законы государства, которые должны были соблюдаться. Наказаний не существовало, но все бесполезные члены изгонялись из поселения. Работа должна была начинаться рано утром, а с заходом солнца все должны были отправляться спать, поскольку свечи или любые другие источники искусственного света были запрещены. Пищей была каша, суп, мясо и рыба. Вино разрешалось, но только в небольших количествах. И мужчины и женщины должны были одеваться одинаково. В случае войны, все поселенцы приняли бы активное участие. Facciari написал личное письмо Папе Римскому, подробно объясняя свой проект, и он был так уверен в успехе, что убедил Святого Отца, что тот вскоре увидит плоды, семена которых уже посеяны в поселении. Подобно Л. Толстому, он стал советчиком для поселения, однако сам, как и Л. Толстой, продолжал вести прежний образ жизни. Этот проект подвергся серьёзной критике в Италии, где его называли простым и выгодным бизнесом под толстовским флагом. Вспомним ещё раз, что когда у Диллона впервые появилась идея жизнеописания Л. Толстого, он представлял себе этот труд как «строго документированную, подробную биографию» живого классика. Однако, как нам кажется, книга Диллона «Граф Лев Толстой. Новый портрет» не совсем подходит под это определение. Данный труд нельзя рассматривать как подробную биографию Л. Толстого: Диллон обращает внимание лишь на некоторые эпизоды из жизни русского писателя, наиболее важные, по его мнению. И, кроме того, в книге слишком силен субъективный взгляд Диллона. Как нам кажется, уместнее было определить труд Диллона как книгу мемуаров с уклоном в сторону биографии. Действительно, композиционно эта книга во многом выстроена как биография: Диллон начинает с описания предков Л. Толстого и заканчивает отлучением Л. Толстого от церкви и его уходом из дома и смертью. Однако при более пристальном рассмотрении видно, что Диллон останавливает внимание лишь на некоторых этапах жизни Л. Толстого: его детстве, отрочестве, университетских годах, начале писательской деятельности, коротко говорит о женитьбе и взаимоотношениях в семье, которые, следуя логике Диллона, и привели к заключительному аккорду жизни Л. Толстого: его уходу из дома. Очевидно, для подробной биографии классика этого недостаточно. Однако, как нам кажется, логику данной книги можно объяснить, если оценивать её не как биографию, а попытку английского журналиста объяснить себе и миру характер Л. Толстого. Если выбрать такой угол зрения, то расстановка акцентов Диллоном становится понятна: для него было важно отобрать наиболее значительные факты, объясняющие истоки характера Л. Толстого и описать те события, где его оригинальная, сильная и незаурядная личность, по мнению Диллона, проявилась ярче всего. Глава II. «Кэмбриджское руководство к Л. Толстому». В 2002 году в Кэмбридже вышел в свет сборник статей о Л.Н. Толстом – «Кэмбриджское руководство к Л. Толстому» // The Cambridge companion to Tolstoy.90 Редактором сборника и автором одной из статей выступила Донна Тассинг Орвин, уже на протяжении нескольких лет являющаяся редактором журнала «Tolstoy Studies Journal». Сборник включает в себя статьи ведущих толстоведов и славистов США и Англии. Книга состоит из трех частей. Первая часть – «Три романа», состоит из трех статей: «Война и мир» Гэри Сол Морсона91, «Анна Каренина» Барбары Лённквист92, «Воскресение» Хью Маклина93. Вторая, названная составителями «Жанры», также включает три статьи: «Л. Толстой как писатель популярной литературы» Гэри Джэна94, «Длинная короткая история у Л. Толстого» Ричарда Фриборна95 и «Л. Толстой на сцене на сценах Парижа, Берлина и Лондона» В. Гарет Джонс96. Третья, под названием «Общие темы», состоит из семи статей, посвященных анализу творчества Л.Н. Толстого. Перечисляем их: «Развитие стиля и темы у Л. Толстого» Лизы Кнапп97, «История и автобиография у Л. Толстого» Андрю Уотчела98, «Женщины, сексуальность и семья у Л. Толстого» Эдвины Круз99, «Л. Толстой в ХХ веке» Джорджа Клэя100, «Тема 90 The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 91 Gary Saul Morson, War and Peace 92 Barbara Lonnqvist, Anna Karenina 93 Hugh McLean, Resurrection 94 Gary R. Jahn, Tolstoy as a Writer of Popular Literature 95 Richard Freeborn, The Long Short story in Tolstoy’s Fiction 96 W. Gareth Jones, Tolstoy Staged in Paris, Berlin, and London 97 Liza Knapp, The Development of Style and Theme in Tolstoy 98 Andrew Watchel, History and Autobiography in Tolstoy 99 Edwina Cruise, Women, Sexuality, and the Family in Tolstoy 100 George R. Clay, Tolstoy in the Twentieth Century мужества в творчестве Л. Толстого» Донны Тассинг Орвин101 и «Эстетика Л.Толстого» Кэрила Эмерсона102. Наиболее интересными нам показались следующие работы: введение к сборнику редактора Донны Тассинг Орвин, статья Э.Круз о проблемах женщины, сексуальности и семьи у Л. Толстого, а также работа Дж. Клэя, посвященная анализу проблемы восприятия творчества Л. Толстого в литературе ХХ века.Перевод этих статей мы и предлагаем в данной работе. Несколько слов об авторах этих статей. Донна Тассинг Орвин – профессор кафедры славянских языков и литературы университета Торонто, главный редактор журнала «Tolstoy Studies Journal», автор большого числа работ о Л. Толстом, одна из последних её публикаций, помимо статей для сборника «Кэмбриджское руководство к Л. Толстому», - «Искусство и мысль Л. Толстого, 1847 - 1880»103. Эдвина Круз – профессор русского языка и заведующая кафедрой русского и восточноевропейских языков в Маунт Хольок Колледж (Mount Holyoke College). Она занимается преподаванием русского языка, её исследовательские интересы включают: роман, драму, творчество Л. Толстого, А. Чехова. Её текущее исследование, связанное с русской культурой, с особенным акцентом на творчестве Л. Толстого, отражено в её последних публикациях. Профессор Круз – бизнес-менеджер «Tolstoy Studies Journal». Джордж Клэй – писатель, эссеист, обозреватель. Его работы появлялись в «Нью - Йоркер» (The New Yorker), «Лучшие американские новеллы» (The Best American Short Stories), «Интернэйшенл фикшн ревью» (The International 101 Donna Tussing Orwin, Courage in Tolstoy Caryl Emerson, Tolstoy’s Aesthetics 103 Orwin, Donna Tussing. Tolstoy’s Art and Thought, 1847-1880. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1993. 102 Fiction Review). В 1998 г. вышла его монография «Феникс» Л. Толстого: от метода к значению в «Войне и мире»104. Донна Тассинг Орвин. Толстой как художник и общественный деятель105. Граф Лев Толстой, один из выдающихся романистов мира, пришел в литературу не сразу, и даже став известным писателем, он продолжал делать и другое. В 1852 г. он вступил волонтером в армию и начал карьеру военного. В разные периоды своей жизни он уделял внимания то сельскому хозяйству, то педагогике и различным социальным преобразованиям больше, чем литературе, которую, более того, он не раз оставлял для более важных дел. Как он однажды гордо сказал, он и Лермонтов, в отличие от Пушкина и Тургенева, не были литераторами106.107 <…> Он очень остро чувствовал потребность в славе. Он рассказывал своей жене, что когда читал на охоте в 1852 году благоприятный отзыв на «Детство», он «прослезился от радости»108. Как он не раз упоминал в ранних дневниках и набросках к ранним работам, он смотрел на читателя как на потенциально близкого друга. Эту установку прозы сентименталистов Толстой использовал в своих личных и профессиональных целях. (Многие критики объясняли его потребность в понимании, доверительности с ранней потерей матери - ему не было тогда ещё и трех лет, и отца, когда не было девяти). Даже в преклонные годы, в 1890-е, он говорил своему последователю (П.А. Сергеенко), что поскольку он более не заботится о славе, он теперь хочет «высказать свои самые искренние и задушевные мысли»109. Мотивы писательского труда у Толстого были отчасти исповедальными, а кроме того, у него была ещё одна причина для художественного творчества. Как и многие люди, он представлял себе жизнь вымышленную как средство для понимания и контроля над жизнью реальной. Очень часто поэтому его Clay, George R. Tolstoy’s Phoenix: From Method to Meaning in War and Peace. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1998. 105 Orwin D.T. Introduction: Tolstoy as artist and public figure// The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 49-61. 106 Он сказал это Г.А. Русакову в 1883 году. См.: .Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого, 1828 – 1890 . М.: ГИХЛ, 1958. С. 561. (Неточность цитаты: не упомянут И. Гончаров – А.К.). 107 Прим. пер.: здесь и далее ссылки на используемые авторами статей русские издания приводятся нами в переводе на русский; названия английских работ мы не переводим. –А.К. 108 Там же., с. 61. 109 Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого, 1891-1910. М.: ГИХЛ, 1960. С.358. 104 произведения являются контрапунктом его жизни того времени, когда он их создавал, и представляют собой решения реальных жизненных проблем. Так, например, он написал «Анну Каренину» со счастливой концовкой (для Левиных) в то время, как сам он переживал затянувшийся жизненный кризис, который начался как раз после завершения им «Войны и мира» в 1869 г., и который в итоге привел к «Исповеди», где он открыто отрекается от своей предшествующей жизни. Но с возрастом пропасть между искусством и жизнью начинает уменьшаться. Всегда склонный к радикальному экспериментированию, Толстой все больше и больше старался «прожить» те способы решения проблем, которые он отстаивал в своих книгах. Противоречия между его жизнью и его теориями привели в конце концов к реальному заключительному жизненному кризису. В возрасте восьмидесяти двух лет, 28 октября 1910 года, после двадцати пяти – с перерывами – лет угроз, Толстой все-таки уходит из дома, чтобы начать новую жизнь, более сообразную с его идеями. Может быть, было хорошо для него, что он умер чуть больше, чем через неделю после ухода, на железнодорожной станции Астапово. Его смерть - одна из тех хорошо сделанных концовок, от которых он отказывался в своих произведениях, поскольку «жизнь не такова». Если бы он выжил, для него бы это означало возврат к борьбе и парадоксам. На один из таких парадоксов указала мне в частной беседе биограф Толстого Лидия Дмитриевна Громова – Опульская: только благодаря преданной заботе о нем Толстой был жив в 1910 году, однако, в конце концов, оставил свою жену. Как только он её покинул, он сразу умер. Знаменательно, что, по мнению Толстого, характерный недостаток поэтов – тщеславие, самое низшее проявление политической страсти – любви к славе. Известный пацифист и анархист, он считал, что политика по своей природе испорчена, и, будучи общественным деятелем, сам был в основе своей испорчен, ведь уже в двадцать три года он почувствовал, что был рожден «принимать большое влияние в счастии и пользе людей» (Дневники, 29 марта 1852 года). Толстовед Борис Эйхенбаум сравнивал его с Наполеоном, и в честолюбии, и в успешном маневрировании, чтобы более пятидесяти лет оставаться уместным в развивающейся литературной и культурной среде110. Его величайшее политическое достижение, в котором он равен Гомеру, Данте, Шекспиру, Гёте и Пушкину, - его роль основополагающего писателя нации. Он достиг зрелости в 1840 – 1850-ые гг., как раз тогда, когда русские боролись за свое самоопределение как современной нации, и его работы способствуют этому проекту национальной самоидентификации. Со времени своего появления роман «Война и мир» воспринимался как основополагающий эпос, русская «Илиада». И личные обстоятельства Толстого, и время, в которое он жил, сформировали его политические взгляды. Его отец, офицер во время наполеоновских войн, был взят в плен и затем освобожден во время захвата 110 Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.. С. 32. Парижа в 1814 году. После пяти лет работы в правительстве, он ушел в отставку и уехал в имение своей жены Ясную Поляну, где и родился Толстой. Толстые владели восемьюстами крепостных, и их благосостояние ни от кого не зависело, но они были членами аристократии, политическая сила которой постоянно разрушалась по время правления Романовых. Толстой вырос при Николае I, пришедшем к власти после неудавшегося дворянского восстания и пытавшегося сосредоточить - насколько возможновласть в своих руках. Николаю нужны были солдаты, а не советчики, и для него аристократия была лишь кастой военных. Толстой однажды сказал своему другу и биографу Эльмеру Мооду, что русские свободнее англичан, которым приходится заниматься политикой. Однако Моод, со своих позиций, сделал предположение, что изоляция от тяжелых практических вопросов управления делает русских склонными к «очень радикальным решениям»111. О самом Толстом он сказал, что «у Толстого нет адекватного ощущения себя ответственным членом сложного сообщества, с мнениями и желаниями которого необходимо считаться. Напротив, он склонялся к тому, чтобы с необычайной живостью осознать личный долг, обнаруживаемый работой собственного сознания и интеллекта, не интересуясь систематическим изучением социального образования, частью которого он был»112. Толстой автобиографичен, когда описывает главного героя «Казаков», молодого Дмитрия Оленина, накануне его отъезда на Кавказ. «В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких – ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды». Помимо этого, «Казаки», начатые в 1952, но опубликованные только в 1863, обнаруживают и ещё одно умонастроение писателя. Оленин остерегается связать себя с чем - или кем-либо, сковывающим его свободу, но в то же время сознательно ищет цель, «сильное желание или идею», ради которых он был бы готов пожертвовать собой и своею свободой. Ощущение личной свободы, - с одной стороны и идеализм - с другой были типичны для молодых людей в России накануне освобождения крестьян в 1861 году. Как потомственный аристократ, Толстой был интересовался политикой: в университетские годы он начал комментарии к «Наказу» Екатерины Великой, и в 1849 году он даже думал о гражданском карьере. Он пошел в армию в 1852. Как артиллерийский офицер, он служил на передовых во время Крымской войны, и был свидетелем коррупции и фаворитизма, которые, по его мнению, подрывали героические усилия русских солдат на полях сражений. Как и князь Андрей в «Войне и мире» он предлагал реформы вышестоящим, но эти попытки ни к чему не привели. Политический анархизм Толстого, сформировавшийся позднее, происходит 111 112 The Life of Tolstoy (Oxford: Oxford University Press, 1987), vol. 1, p.59. Ibid., vol. 1, p. 60. частично и из этих разочарований. Его опыт говорил ему, что исполненная смысла и свободная жизнь возможна только за пределами политики, и это стало его точкой зрения на всю жизнь. В его произведениях, герои проходят через воспитание, которое отвращает их от политики так же, как отвернулся от неё и сам писатель. И все же, так как почти все произведения Толстого затрагивают вопрос отношения индивидуума к обществу, они неизбежно имеют и политическую сторону. Парадоксально для нас, он стремился к социальному устройству, исключающему представительное правление, в которое он не верил. Да и почему вдруг ему верить в него? Не важно, сколько реформ за время жизни Толстого проводили, начиная со времени поражения в Крымской войне, цари из династии Романовых, с целью модернизировать Россию, никто из них по собственной воле не отступился от своей власти ни на йоту. Каждый из них оставлял за собой право аннулировать закон, таким образом делая его бессильным. И удивительно ли, что Толстой рассматривал политические организации как несправедливые инструменты для угнетения слабых сильными? Именно так по большому счету и обстояло дело в России в эпоху Толстого. Многие русские надеялись на то, что уничтожение крепостного права даст импульс к развитию новых социальных связей. Не случайно, что роман «Война и мир» был написан в десятилетие после освобождения крестьян. В нем Толстой изображает всех русских людей, действующих согласованно, как модель будущей гармоничной нации. Он сознательно сводит до минимума межклассовые противоречия во время войны с Наполеоном и он настаивает, что дворянство – главные действующие лица романа, поддерживают войну наряду с солдатами из крестьян и купцами. Фактически, однако же, уничтожение крепостного права и его последствия скорее обострили социальные проблемы в Росси, чем смягчили их. Освобождение крестьян разрушило экономические основания жизни дворянства, и, хотя были предприняты бесполезные усилия избежать этого результата, разорило крестьян, освободив их без земли. Миграция в города увеличила число городского пролетариата, который в конце концов стал центром революционной агитации. С конца 1870-ых решительное преследование правительством левых группировок (которые сначала проводили свою агитационную деятельность в деревнях, и только с 90-ых годов сконцентрировались в городах) усилило борьбу. Личный кризис Толстого, изображенный в «Исповеди» (1881), был вызван как политическими, так и личными обстоятельствами, и он органично связан с политическим радикализмом, которому Толстой отдался, вскоре после того, как написал «Исповедь». Начиная с 1880-ых годов, он призывает к ликвидации государства и установлению на его месте вселенского христианского братства, в котором свободно организованные небольшие сообщества поддерживали бы друг друга и никто бы не тиранил своих братьев. В трактате «Так что же нам делать?» (1882-86) он заявлял, что государства с их армиями и полицией помогают богатым и влиятельным угнетать бедных. Привилегированные сословия утверждают, что освободили себя от необходимости работать для того, чтобы быть полезными другим. Но Толстой оспаривает это мнение, говоря что «нет деятельности государственной или общественной, которая не считалась бы очень многими людьми вредным», и поэтому так называемая полезность привилегированных всегда навязана силой тем людям, которым она призвана помогать. Не существует такого правления, на которое бы каждый человек дал согласие, а только такое было бы справедливо. Все правители, демократические или иные, должны были бы признать, что «главное побуждение их – личная выгода» (гл.27). Трактат «Так что же нам делать?» был написан во время периода политического кризиса: панслависты чрезвычайно критиковали переговоры по итогам русско-турецкой войны 1877 года, в конце 1870-ых правительство намеревалось уничтожить народническое движение, в 1881 году радикальными народниками был убит Александр II. Толстой предостерегал, что революция не только неизбежна, но была предотвращена лишь обманом предыдущие 30 лет, со смерти Николая I и поражения в Крымской войне (гл.39). Пятнадцатью или около того годами позже, около 1900-х гг. в трактате «Рабство нашего времени» обвинение Толстым существующего русского строя распространялось на все современные способы лечения общественных болезней, включая марксизм, приобретший значение в России только в 1890е гг. Он прямо утверждал, что до тех пор пока люди, богатые или бедные, настаивают на образе жизни, основанном на прежних стандартах благосостояния, рабство будет необходимо для его поддержания. И проблемой, по мнению Толстого, было улучшение условий жизни рабочих, которые сами были развращены жизнью в городе. Необходим был возврат к сельской жизни, где люди трудились бы осмысленно в естественных условиях. Любое сотрудничество, необходимое таким сообществам, удовлетворяло бы всех всеми. На склоне лет Толстой считал, что политические интересы – это зло, которое необходимо преодолеть для того, чтобы Царство Божие было установлено на земле. Практически наименее убедительная часть его политической программы – это его утверждение, что если каждый будет жить согласно советси, тогда все мы жили бы в гармонии. Тысячи лет свидетельств о противоположном не поколебали Толстого в этой «простой» идее. Он приписывает все несправедливости прошлых лет преступлениям богатых и влиятельных, и, кажется, думает, что в будущем всех виновников можно будет убедить исправить свои поступки. Он представляет, что плоды прошлого поведения связаны с телесным, животным существованием. Могущественные хотят управлять слабыми, чтобы не работать самим и чтобы удовлетворять свои плотские потребности. Но, хотя он и не подчеркивает это, он не забывает о любви к славе, которую князь Андрей в «Войне и мире» определяет как желание, которое других, даже тех, кого он презирает, привлекает в нем. Страсть требует сотрудничества с другими и, следовательно, политики. В трактате «В чем моя вера» Толстой утверждает, что стремление к «земному счастью», которое, хотя он и не упоминает это, содержит в высшей своей точке любовь к славе, происходит из страха перед смертью. Мы потворствуем своим страстям и стремимся продлить наше существование, властвуя над другими в попытке забыть или даже избежать смерти, но поскольку смерть неизбежна, было бы мудрее отречься от бессмысленных дел и жить вне бремени материальных потребностей. Хотя Толстой думал, что по большей части люди действуют в соответствии со своими чувствами, а не мыслями, он никогда не прекращал попыток взывать к разуму в себе и в других. (Фактически, он становился более, а не менее рационалистом с годами, и поэтому более походил на мыслителя эпохи Просвещения). В течение своего недолгого пребывания в Казанском университете в 1847 году, он изучал философию и вел дневник. Как мыслитель, Толстой в большей степени моралист, нежели метафизик: у него всегда находятся практические, нравственные причины для философствования. Дидактическая сторона делала его настоящим учителем. Педагогика, к которой он в разных формах обращался в течение своей жизни, не была для него второстепенной работой, он полагал, что это менее личная, а потому более убедительная причина писать. Уцелевшие философские записи студенческих дней соотносятся с дневниками, как теория с практикой. Его дневники устанавливают правила, основанные на философских обобщениях, и свидетельствуют о прогрессе в моральном развитии Толстого (или, чаще, о его вероотступничестве). В 1920 году Эйхенбаум, читая эти ранние неопубликованные работы, установил, что художественные произведения Толстого уходят корнями в его дневники113, но и философские отрывки также важны. Его переключение с философии на художественную литературу скорее было вопросом стратегии, нежели темперамента. По мнению Толстого, назначением обеих было назидание с целью привести читателя к добродетели и свободе через воспитание114. Неудача его ранних попыток контролировать и направлять свою жизнь и последствия его руссоистской философской ориентации привели его к заключению, что образование должно проводится не посредством убеждения и философствования, и через чувства и, следовательно, искусство. В искусстве, которое выросло из идущих вместе чар детализации и философских обобщений, молодой Толстой преследовал две цели: воспроизвести реальность и организовать её согласно высшей нравственной истине. Все художественные произведения Толстого отчасти 113 Cм.: The Young Tolstoy, trans. and ed. Gary Kern (Ann Arbor, MI: Ardis, 1972). Cp. философский фрагмент 1847 г., в котором он утверждает, что цель философии – сделать людей свободными (ПСС 1: 229), с другим, недатированным, фрагментом, вероятно написанным в 1851 г., в котором он утверждает, что люди читают художественную литературу, чтобы стать добродетельными, и следовательно, счастливыми. 114 автобиографичны. Он был убежден, что правда находится в личном опыте, и следовательно, то, что он извлек из самоанализа можно применить ко всему человечеству в целом. Этот посыл лежит в основании всего его искусства, начиная с его первой великой работы – трилогии «Детство – Отрочество Юность», в которой он попытался воспроизвести первые три этапа жизни. Четвертый этап описан в другом шедевре молодого Толстого - повести «Казаки». Вера Толстого в то, что всякое знание нуждается в обосновании личным опытом, так же повлияло на его поэтику. Он работал над стилем, который бы вовлекал читателя в изображение характера, прежде всего апеллируя к личному восприятию и воспоминаниям читателя. Успех этой техники дал уже в XIX веке Толстому репутацию величайшего реалистического писателя. Для здания своего трезвого реализма Толстой развил повелительный тон рассказчика, голос, впервые прогремевший в «Севастопольских рассказах», написанных в ответ на разные этапы осады Севастополя во время Крымской войны. Хотя этот тон и может показаться безличным, было бы ошибкой назвать его объективным, или, более того, логическим. Это сам Толстой говорит со своим читателем, тоном, который напоминает о его собственном наставнике Жан-Жаке Руссо. В художественных произведениях Толстого этот голос не доминирует, в отличие от философских, публицистических и прочих его сочинениях, но везде намерение писателя остается неизменным: заразить читателя своими чувствами и мыслями. Уже в 1853 году он объявил, что его «главный интерес» в любой литературной работе был «характер автора»: «Самые интересные работы – те, в которых автор стремится спрятать свою точку зрения, но остается последовательным в своих убеждениях, где бы он ни появлялся». (1 ноября 1853 года). Однажды определив художественное место данного рассказчика, читатель сможет, кроме того, и идентифицировать его мысли. В нехудожественных работах, автор выходит из тени придуманных повествователей, но все же он опирается на множественные иносказания и дополнительные линии повествования, чтобы довести до читателя свою мысль. Другими словами, даже здесь, взывая больше к чувствам, нежели чем к разуму, для философских целей, он все же выступает более как поэт, нежели философ. Философия Толстого, развиваясь со студенческих лет, сосредоточилась на сложных проявлениях психологии человека. В 1857 году, в набросках к никогда не законченной второй части «Юности» он объяснял: «Помню, что основание новой философии состояло в том, что человек состоит из тела, чувств, разума и воли, но что сущность души человека есть воля, а не разум, что Декарт, которого я не читал тогда, напрасно сказал Cogito, ergo sum, ибо он думал потому, что хотел думать. Следовательно, надо было сказать: volo, ergo sum. На этом основании способности человека разделялись на волю умственную, волю чувственную и волю телесную»115. 115 Детство. Отрочество. Юность. М.: Наука, 1978. С. 474. И даже хотя воля – это суть человеческой натуры, воля сама по себе не объединяющая сила и этой психологической модели. Нравственной целью, которую Толстой ставил перед собой, была организация его души так, чтобы разные её части находились в гармонии. Для того чтобы это произошло надо чтобы «воля разума» управляла всеми остальными «волями». Как Толстой вскоре обнаружил, разум сам по себе может легко сбиться с пути. Особенно чинил препятствия «большой разум», который, будучи предоставленным самому себе, позволил бы себе опасные умственные упражнения, что разрушило бы его бессознательные нравственные инстинкты и привычки, не предоставив взамен ничего осознанного. В начале 1850-ых Толстой прочитал «Исповедание веры Савойского викария» из романа «Эмиль, или О воспитании» Руссо и принял для себя решение викария избегать любой метафизики, кроме той, что необходима для объективного обоснования нравственной свободы и закона. Теперь он навсегда оставил попытки напрямую связаться с Богом или метафизической истиной, и становится трансценденталистом, которым и остается, хотя и в разной степени, на всю жизнь. В начале 1880-ых Толстой начинает видеть в себе в большей степени мудреца и учителя, чем художника. В отличие от художников, гуру полагаются на ясно сформулированные нравственные учения, и в первую половину этого десятилетия Толстой как раз занимался разработкой такого учения. Как параллель и как противоположность его автобиографическим проектам 1859-ых, он планировал и в значительной степени выполнил большую работу, состоящую из «Исповеди» (1879-82), «Исследование догматического богословия» (1879-81, 1884), «Четвероевангелие» и «В чем моя вера» (1882-84). Через все четыре части были согласованно выстроены от описания Толстым кризиса веры («Исповедь»), через изучение и развенчание современного христианства к утверждению веры в том, виде, в каком она исповедовалась им самим и была рекомендована другим («В чем моя вера»). Христианство Толстого опиралось на этику и было антиметафизическим. Бог недоступен кроме как через «знание смысла человеческой жизни» («В чем моя вера», гл.9). Это знание прогрессивно и нравственно: только когда человек отвергает, посредством опыта и силы знания «иллюзорность конечного», тогда он обратится и уверует в «бесконечное». На практике это означает нравственную эволюцию от жизни телесной, сконцентрированной на себе и семье, к жизни, сконцентрированной на благополучии других. Социальные теории Толстого, развитые в это время, исходят из этого главного посыла. В 1881 году он начал проводить зимние месяцы в Москве и впервые столкнулся с городской беднотой. В ответ на это он написал сначала впечатляющее описание того, что он увидел, озаглавленное «О переписи в Москве», а потом трактат «Так что же нам делать?». В более поздних работах он утверждал, что филантропия – не способ разрешения социальных противоречий. Вместо этого, богатые должны оставить свой праздный образ жизни и улучшить жизнь бедных и всего общества. И это решение он применял и к самому себе. В 1880-е он усиленно старался изменить свою жизнь, чтобы сделать её сообразной с его новыми идеями, и противодействие его жены привело к их отчуждению друг от друга. Уже в 1884 году он предпринял первую попытку уйти из дома. Толстой настаивал на том, что личная нравственная реформа важнее, чем общественные действия, которые сами по себе, без должного морального отношения, не имели бы продолжительных результатов. В любом случае, правильно организованное общество не потребовало бы широкомасштабной и институциональной социальной работы, потому что каждый сам был бы способен одеть и прокормить себя. В 1891-92 гг., несмотря на позицию правительства по поводу голода, Толстой продолжал защищать необходимость помощи голодающих в своих статьях по этому вопросу; он и его семья организуют помощь голодающим в своей и соседних областях. Когда Толстой только начинал свою деятельность, царское правительство отрицало серьезность и даже сам факт существования голода, поскольку частично было в нем виновато. Статья Толстого «О голоде» была запрещена, после чего Толстой приготовил её для перевода и опубликования в нескольких зарубежных странах. Частично в результате общественного интереса, вызванного этой и другими статьями Толстого, в голодные местности стала поступать помощь из России и из-за рубежа. Уже знаменитый как величайший живущий русский писатель и нравственный авторитет, теперь Толстой стал общественным деятелем и громоотводом для политических диссидентов. В начале 1890-ых его много читали заграницей: фактически, с тех пор как его противоречивые статьи и некоторые из его художественных произведений были запрещены на родине, они сразу были переведены и распространены повсюду, так что иностранные читатели имели к ним более свободный доступ, нежели русские. Читатели со всего мира, так же как и у него на родине, ответили на его призыв сердца, который распространял новую религиозную веру, основанную на разуме и нравственности больше, чем на догматах. В 1891 году Эрнест Говард Кросби (Ernest Howard Crosby) (1856 - 1907), преуспевающий дипломат из известной нью-йоркской семьи, обосновавшейся в Александрии (Египет), прочитал во французском переводе «О жизни», философское объяснение новых идей Толстого. Кросби незамедлительно написал Толстому о том, как сильно подействовало на него это сочинение: «Хотя я и был воспитан в христианской среде, я никогда раньше не видел и не чувствовал действительную тайну учения Христа и настоящие обоснования нашей веры и наших надежд. Все, что вы говорите, отзывается в моем сердце, и все это так удивительно просто и так очевидно»116. Эта сочинение изменило жизнь Кросби. Он оставил работу и стал главным защитником и последователем Толстого в США. <…> В 1890-е гг., в период империалистических войн, Толстой был вовлечен в пацифистское движение. Он использовал свой огромный писательский авторитет для борьбы с причинами войны в России и по всему миру, и многие его работы этого периода написаны в поддержку пацифистов. Его учение повлияло на Ганди в Индии, на движение киббутсов в Палестине, а на родине его моральный авторитет соперничал и даже часто превосходил авторитет царя и церкви. На родине Толстой был и героем сопротивления. Обличителем царского самодержавия. Есть что-то от исторической иронии в том, что мы читаем сегодня Толстого по большей части из-за его описаний дворянской жизни, а не из-за его поздних, обличительных работ. В этом смысле, эти сочинения, столь известные в своё время, стали жертвой собственного успеха: в некоторой степени и из-за них тот режим и тот мир, который они обличали, исчезли. В 1880 г. сам Толстой объявил громко и отчетливо, что он изменил свое направление настолько, что его сочинения последующего десятилетия, и художественные и публицистические, могут быть поняты как его попытка пересоздать себя как иное психологическое существо. Для такого решения были личные причины, основные – старение и различные смерти в семье. Сам он думал, что эти «биологические» происшествия образумили его и привели в конце концов к правильному пониманию мира. Когда он писал «Войну и мир», он верил в то, что природа нравственна, и нуждается только в том, чтобы быть полностью отображенной в искусстве, которое по своей сути миметично, а не дидактично. Поздний Толстой меньше верил в слияние природы и нравственности и использовал искусство для передачи урока нравственности от повествователя, который теперь становится персоной автора, направленной на то, чтобы «заразить» читателя117. Другая причина, которой он объяснял свою эволюцию, - это то, что в зрелые годы он перестал верить в естественное соединение эстетики и этики118. Следствие этой перемены в образе мыслей нашло художественное воплощение в метафоре, которую он раскрывает в «Исповеди». В третьей главе, Толстой сравнивает себя, каким он был юношей, с ранним некритичным принятием «совершенствования» и прогресса как достойных Robert Whittaker, “Tolstoy’s American Disciple: Letters to Ernest Howard Crosby, 18941906,” Triquately 98 (Winter 1996/1997), 212. 117 На самом деле изменения происходили постепенно, их влияние можно увидеть уже в «Анне Карениной». Однако только в 1880 г. Л. Толстой четко артикулировал свои отличия от ранних взглядов, чем окончательно от них дистанцировался. Усложнение, появившееся в поздние годы, - то, что «новый Толстой» не мог полностью удовлетворить свои художнические импулльсы, и был вынужден делать это тайком, прячась не только от других, но и от самого себя. Создание одного из наиболее значимых произведений позднего периода, повести «Хаджи Мурат» стало, таким образом, незаконной деятельностью. 118 См. объяснения Эльмеру Мооду в 1901 г. о различиях в этом отношении между ним и Джоном Раскиным. (Гусев, Летопись [1960], р. 385). 116 целей в жизни, с беспомощным пассажиром, которого «несет в лодке сквозь ветер и волны» и который на естественный вопрос: «Куда мы направляемся» даст ответ «куда-то». В конце четвертой главы он повторяет, что «чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его». В десятой главе он определяет обычных людей как тех, кто научит его смыслу жизни и которые «живут и нас с Соломонами вынести на своих волнах жизни». Двенадцатая глава заканчивается длинной метафорой, которая содержит в себе художественный образ раннего периода жизни толстого и изменений в его взглядах. Погрузившись в лодку, впервые упомянутую в третьей главе, взяв руки весла и направившись к другому берегу, он попадает в течение. Сперва он добросовестно работал, но потом, под влиянием окружающих, бросил весла и стал плыть по течению. И лишь когда несчастье стало принимать угрожающие размеры, он оглянулся, увидел крестьян – гребцов, которые попрежнему двигались к другому берегу, и, присоединившись к ним, спасся. Читатели Толстого, следуя логике этого художественного образа до его кульминационного момента в двенадцатой главе, неизбежно вспоминали сравнение истории с великим океаном в первом эпилоге «Войны и мира» и объяснения автора, что каждый человек, пока занят своими собственными делами, неосознанно играет какую-то роль в течениях и сдвигах океана, который отражает неизвестную волю Бога в истории119. <…> В своем великом романе, Толстой позволяет нам следовать этому потоку до тех пор пока нас не покидает человечность, и политическая и историческая жизнь поглощены у него природой. В «Исповеди», метафора реки представляет не только человеческую историю, но и соединение психической жизни, страстей и чужого, разлагающего мнения – все то, чему, по мнению Толстого тогда, человек должен противостоять. В «Воскресении» метафора реки вновь повторяется, но здесь она раскрыта как яростный весенний разлом льда: этот образ сопровождает соблазнение Масловой Нехлюдовым. <…> Как выше было сделано предположение, изменение образа моря в мыслях Толстого отражает и изменение его отношения к искусству. В «Исповеди» он объясняет, что в ранний, ошибочный период (когда он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину»), он полагал, что искусство только миметично: «отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства … эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня» (глава 4). Когда он осознал, что жизнь не имеет смысла, сама идея искусства не изменилась, но подражание (мимесис) стало «или ненужно, излишне и смешно, или мучительно». В этом отрывке не сказано, но подразумевается, что раньше Толстой отождествлял жизнь и её нравственное значение, и Эта метафора, уже поставленная под сомнение, повторяется славянофилом Кознышевым в «Анне Карениной». 119 искусство как «зеркальце» было замечательным средством, чтобы отобразить правду и добро. Позже, когда он пришел к убеждению, что нравственность требует отказа от «игры светов и теней», которую так красноречиво защищает Стива Облонский в «Анне Карениной», его искусство, более не имеющее главенствующего значения, официально полностью подчинено задаче борьбы с самим собой и по большей части становится «мучительным» для самого Толстого и его читателей. Его наиболее типичные поздние художественные произведения одновременно и более натуралистичны, и более морализаторские. С одной стороны его поздние дидактические сочинения представлены такими реалистическими историями с ясно очерченной моралью как «Фальшивый купон», а с другой стороны – такими современными притчами, как «Ассирийский царь Асархадон» и «Разрушение ада и восстановление его», которые, в том, как они иллюстрируют моральные заповеди, часто походят на средневековые моралите. Следуя этим новым идеям, роман «Воскресение» существенно отличается по структуре от двух предыдущих. Здесь нет хорошей любовной истории, которая уравновешивала бы плохую: вместо этого, читатель должен следовать за главным героем, Дмитрием Нехлюдовым, по мере того, как он отвергает личное счастье для любви к другим. Как руссоист, Толстой всегда ненавидел излишества и общественные деяния, кроме тех, что практикуются в небольших сообществах, но теперь он пошел ещё дальше по пути отрицания тела как такового как неуправляемой силы, которая должна быть укрощена, для того чтобы жизнь была счастлива и добродетельна. Он разоблачает страсти, доводя их следствия до наивысших отрицательных значений. В «Крейцеровой сонате», например, мы должны допустить, что все мы когда-либо, пусть и на мгновение, ненавидели наших супругов и хотели убить их. Если такое побуждение когда-либо приходило нам на ум, так, как это случалось с Толстым, то, как следует из эпиграфа к «Власти тьмы»: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Мы не можем сопротивляться тому, чтобы не сыграть весь сценарий вместе с Позднышевым, от похоти до убийства; и тогда Позднышев, за спиной которого стоит Толстой, поворачивается к нам и говорит: видите, секс, даже в браке, дурен, и приводит к убийству. Даже животные не защищены. «Холстомер», рассказанный мерином, показывает неестественность права собственности, но, кроме того, предполагает, что сексуальные страсти запутывают умы его собратьев лошадей. С удивительной уверенностью, что читатель последует за ним повсюду, в своих поздних рассказах Толстой обрушивает гнев на тело, для того чтобы провести себя и своих читателей к объятиям бесконечного, которое, как он верит, наступит только тогда, когда будет разрушена вера человека в удовольствия и блага конечного, то есть, вещественного, животного начала. Во многом, конечно, Толстой был последователен в своих убеждениях в течение всей жизни. Это истинно в той мере, что его поздние, открыто догматические работы и трактаты на различные темы являются продолжением его плана самоанализа и нравственного совершенствования, появившегося в 1840-е, в студенческие годы. За всеми поворотами в его идеях и поведении стоит есть психологическая последовательность от начала до конца жизни. Его гений не широк, но глубок: ни один человек не прожил более искреннюю жизнь, чем он; более посвященную служению нуждам личности. Это постоянство дало великого художника, мыслителя и общественного деятеля, который принимал участие в трагических судьбах своей страны. С ранней юности он стремился к эмоциональной близости с окружающими, которую он мыслил как исполненную правды. В величайшей своей работе, романе «Война и мир», помимо прочего, есть и мечта о такой полной близости между людьми, воплощенная в браке Пьера и Наташи. Опыт разубедил его в возможности такого союза, основанного исключительно на чувстве, и вторую половину жизни он провел в попытках сконструировать союз, основанный на разуме. Но чем более благоразумным он старался быть, тем более отдалялся он от окружающих, включая членов его собственной семьи. Последние тридцать лет своей жизни он провел как чужой в своем доме, проповедуя любовь и сея раздоры. Его теории породили смуту как за рубежом, так и в России. В то время как он оставался абсолютно правдив в своих личных потребностях, он обвинял представителей своего класса в эгоизме, и воображал, как и многие русские его поколения, что русские крестьяне существа иной психологической организации, чем он, одновременно лучше и проще. Не испорченные «цивилизацией», они охотно удовольствуются тем малым, что может предоставить природа, и ограничат свои страсти. В то время, когда он энергично включился в свою последнюю публичную битву – во время русско-японской войны, революции 1905 года и её последствий, он призывал к общественной организации, основанной на умеренности и любви к другим, население которой составляли бы неиспорченные русские крестьяне и то поколение молодых людей, которое он вызвал к жизни. В то время, когда он составлял свои теории, он не переставал обращаться и к источнику таланта в своей душе, и продолжал творить великие произведения искусства. Знаменательно, что самые счастливые и самые лирические эпизоды в его поздних дневниках практически всегда посвящены уединенным встречам с природой. В человеческих взаимоотношениях его страсти часто были выставлены на всеобщее обозрение, что делало его уязвимым к обвинениям в непоследовательности и даже в лицемерии, и он сам первым свидетельствовал против себя. Современники Толстого, как, например, писатели Антон Чехов и Максим Горький, которые были свидетелями его борьбы за то, чтобы «быть разумным», смотрели на него с благоговейным ужасом, как на титана среди людей. Поскольку мы лишены возможности знать его лично, даже оценка огромного количества свидетельств, оставленных самим Толстом и мемуаристами, не дает нам полностью достоверного знания, каким он был на самом деле. На мой взгляд, Толстой не собирался быть разумным в последние годы своей жизни, а следовательно, не может быть воссоздан в соответствии с правилами психологии или разума. Продолжая придерживаться своих поздних убеждений, он представляет и себя, и героев своих художественных произведений старающимися быть положительными и осмысленно последовательными, но это удается редко, если вообще удается. В этом смысле, по его собственному мнению он начинает походить на его современника и соперника Федора Достоевского, которого Толстой однажды (в письме Страхову) описал как «всё борьба». Поздний Толстой подчеркивал: «Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать, мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение». Так он представил это в трактате «Так что же нам делать?»: великие, как в своих пороках, так и в своих добродетелях, они извлекают урок из своих сражений и изображают их в своих произведениях. Эдвина Круз. Женщины, сексуальность и семья у Толстого120. В художественных поисках Толстого смысла жизни женственность играет решающую, если не первостепенную роль. Особенно в первой половине своей писательской деятельности Толстой создал женские образы, которые часто олицетворяют могущественные и непостоянные эмоции, вызываемые любовью. Все женские образы произведений Толстого, изучаемые и по отдельности, и в совокупности, воплощают собой поиск и попытку применить на практике идеальную идею «истинной любви». И поиск практически всегда проходит через область недозволенного. Основное препятствие к полному прочтению всех художественных произведений Толстого, особенно его описанию женских характеров, 120 Cruise E. Women, sexuality, and the family in Tolstoy// The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 191-205. сводится к желанию приравнять его искусство и жизнь. Так сказать, интерпретировать его искусство как едва замаскированные комментарии к его личным убеждениям. В соответствии с одной из таких точек зрения, презрение Толстого к эмансипации женщин (называемое в XIX веке в России «женский вопрос») находит художественное выражение в его абсолютно добродетельных матерях, наиболее очевидные воплощения которых Наташа в «Войне и мире» и Китти в «Анне Карениной», чья поглощенность собственными детьми удовлетворяет все вопросы и желания и истощает все творческие возможности. Следуя этому образу мыслей, Анна Каренина, несмотря на некоторые привлекательные черты, которыми она обладает, приговорена, потому что она разрушает свою, природой ей данную материнскую роль и нарушает святость своей семьи. За это насилие над законом природы она должна умереть. На пороге славы Толстой приобрел нелестную репутацию, или, смягчив это определение, можно сказать, что он показал, что должно стать определяющей чертой искусства и жизни: естественная антипатия к популярным теориям и признанным авторитетам, особенно если они поддерживаются членами его социального класса. В 1855, например, он сцепился с редакторами «Современника» во время обеда в его честь. Накануне обеда один из его старых знакомых посоветовал ему воздержаться от нападок на чрезвычайно популярную Жорж Санд, которую, в отсутствие достойного русского кандидата, русская интеллигенция приняла как эталон сексуального освобождения и женских прав121. Когда празднование было в разгаре, беседа обратилась к последней работе Жорж Санд. Вполне предсказуемо, Толстой устроил сцену, предположив, что если бы героини её романов существовали в реальной жизни, их следовало бы провезти по Петербургу, выставив на посмешище в назидание гражданам. Ситуацию не спасло и то, что среди гостей на обеде, к которым обращался Толстой, были Некрасов и его любовница Панаева со своим мужем, все трое – защитники эмансипации, хорошо себя чувствовавшие в своем любовном треугольнике, который бросал вызов обществу. Прямота Толстого касательно женского вопроса стала его отличительной чертой. В его 90-томной собрании сочинений нет недостатка в свидетельствах для доказательства даже самому бесстрастному читателю, что он придерживался чрезвычайно строгих взглядов по вопросу о роли женщины. Один пример: в часто цитируемом письме 1886 года, побуждавшем либеральные газеты критиковать его консервативные взгляды по женскому вопросу, Толстой писал, что в отличие от тех многих ролей, которые может играть в жизни мужчина, у женщины есть лишь три дела, за которые она должна быть ответственной: «рождение, кормление и возращение стольких детей, сколько возможно». Если она предавала две из Григорович Д.В. Литературные воспоминания // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ., 1960. С. 174. 121 этих обязанностей, она становилась отрицательной и пагубной. Когда Толстой редактировал эти наблюдения для публикации несколько месяцев спустя, он исключил свою завуалированную атаку контрацепции («столько детей, сколько возможно») и смягчил отрицательную характеристику негодной женщины с «пагубной» на «нравственно павшую ниже мужчины» (ПСС 25:413 - 414). Двадцатью двумя годами позже Толстой включает отредактированную версию этого эссе, теперь озаглавленного «Женщины», в свою хорошо известную серию вдохновенных текстов «Круг чтения». Со времени смерти Толстого, определенно, наиболее последовательную защиту Толстого от обвинений в женоненавистничестве предложила Эми Манделкер (Amy Mandelker). Она использовала тексты, написанные после «Анны Карениной», для того, чтобы подтвердить коренные изменения во взглядах Толстого122. В самом деле, позднее Толстой приписывал огромные различия между мужчиной и женщиной времени, и защищал их с той же страстью, которая отличала мужчин - защитников феминизма почти век спустя в Америке: «Вспоминал свое грубое в этом отношении эгоистическое отношение к жене… Я предоставлял ей весь труд так называемый бабий, а сам ездил на охоту». (ПСС 52: 143). Не характеризуя точку зрения Толстого как «за» или «против» женщин, поскольку это часто вызывает больше вопросов, чем дает ответы, и говорит меньше о Толстом и больше о предубеждениях его критиков, справедливо сказать, что в его работах, даже хотя он осознавал высокую цену, которую приходится платить за это женщинам, он последовательно считал материнскую роль наиболее заслуживающей человеческого признания. Толстовская точка зрения, выраженная в его художественных произведениях, фундаментально изменяется со временем. Бытует история, что во время написания «Анны Карениной» он появлялся из кабинета в замешательстве от того, что Анна совершила в этот день (интересно, что почти такую же историю рассказывают о Флобере и его Эмме Бовари). Толстой, конечно, не отбрасывает свои убеждения, когда садится за творческую работу, но, однако же, он и не скован ими. Более того, как свидетельствуют его собственные персонажи, даже в моментах абсолютной уверенности, когда жизнь кажется непоколебимо «простой и ясной», таится извечный потенциал разрушения. Другими словами, используя характеристику, данную Толстому Исайей Берлином, хитрая лиса всегда угрожает недалекому ежику. Именно в таком контексте мы и предлагаем изучать женские характеры у Толстого, начиная с повести «Семейное счастье» и заканчивая его последним романом «Воскресение». Через этот сорокалетний период Толстой изображает поиски женщины, преодолевающие укрепленные барьеры обычаев своего пола. Как мужчинам присущи поиск истины и смысла жизни, так женская одиссея преследует движущуюся цель. Каждый момент понимания содержит в себе 122 Amy Mandelker, Framing Anna Karenina: Tolstoy, The Women Question, and The Victorian Novel (Columbus, OH: Ohio State University Press, 1993), p. 15-33. зародыши нового конфликта и таким образом необходимость в изменении направления поиска. Нигде это не раскрыто с большей полнотой, чем в главной первой работе Толстого «Семейное счастье». «Семейное счастье» основано на причудливом, по большей части эпистолярном ухаживании Толстого за Валерией Арсеньевой, над братом которой Толстой был назначен опекуном. Его переписка с ней показывает, что в то время, когда он забавлялся с идеей женитьбы, он также использовал возможность покритиковать популярное отношение к любви и замужеству. Письма часто имеют тон лекций, попеременно то снисходительны, то благоговейны: “Пожалуйста ходите гулять каждый день… и корсет носите и чулки надевайте сами…” (ПСС 60: 98). “Многого, что занимает меня, вы не поймете никогда, но зато я никогда не дойду до той высоты любви, до которой вы можете дойти…” (ПСС 60: 115). “Кроме того, что назначенье женщины быть женой, главное её назначенье быть матерью, а чтоб быть матерью, а не маткой (понимаете вы это различие?) – нужно развитие” (ПСС 60: 122). Если Толстой и был влюблен в Арсеньеву, но не столько в неё лично, как в идею создания модели идеальной жены и матери. Его предостережения избегать фривольных удовольствий своего класса, возможно, пали на не слышащие уши, и попытка построения добродетельной жизни была, конечно, больше на пользу ему, нежели ей. В его поучениях о добродетели читалось противоядие общепринятым ритуалам и излишествам его социального класса. В любом случае, Толстой был оскорблен, когда Арсеньева сделала успешную карьеру в высшем обществе, и их отношения вскоре прекратились. Её не интересовали те довольно ограниченные нормы поведения, которые Толстой заставил бы её принять. Неудавшиеся отношения Пигмалиона с Арсеньевой обеспечивали Толстого богатым материалом для последующего исследования женщины и сексуальности в «Семейном счастье», истории женитьбы превосходящего по возрасту, мирского человека на молодой провинциалке. Примечательная черта повести – то, что она написана от первого лица, от лица героини. Русский текст с его женскими окончаниями глаголов как бы морфологически усиливает с точки зрения Толстого смелые взгляды женщины. Смотря ретроспективно, с точки зрения оказавшейся в конце концов преданной матери, Маша проводит через свою жизнь, давая время от времени комментарии, но по большей части излагая события просто как соучастница. Во многом в то время она находилась во власти приверженности к моделям поведения, предлагаемым романтической литературой её времени. Ожидая визита Сергея, её веселого опекуна, дважды превосходящего её по возрасту, Маша представляет своего будущего мужа человеком совершенно иным, человеком современного стиля: «тонкий, сухощавый, бледный и печальный». (ПСС 5: 68). Ожидая традиционных приветствий мужчины её класса, она удивлена, когда Сергей не целует ей руки, и в дальнейшем, когда он позволяет ей сыграть не более одного адажио из «Лунной сонаты» Бетховена, холодно комментируя: «это вы нехорошо играете». (ПСС 5: 70). С таким зловещим началом, так несоответствующим её романтическим ожиданиям, Маша все же попадает под влияние Сергея. Доводя до крайности деланную простоту, она изменяет свою жизнь в соответствии с тем, какой он бы хотел её видеть: «только одно несомненное счастье – жить для другого». (ПСС 5: 80) Она вполне верит тому, что лишь небольшое усилие необходимо, чтобы воздержаться от греха. Трезвый голос старшего по возрасту рассказчика разбивает химеры Машиного поэтизированного самообмана: «И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывалось и тогда все то, что хорошо и что надо было любить; хотя я тогда ещё решительно не знала, что хорошо и что надо любить… Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства». (ПСС 5: 79) Но это мудрость задним умом. Маша вступает в брак, целиком поверив в те прозаические уроки, которые она выучила наизусть от Сергея: «Я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь» (ПСС 5: 101). Чувства, которые привели Машу к замужеству, вскоре разрушились изза её неопытного сердца. Она возвращается к своим романтическим фантазиям: «Мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, - и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, подержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унёс бы куда хочет» (ПСС 5: 111). Она находит лекарство от застоя домашней жизни в сумятице общества, наслаждаясь своим положением первой леди. Только когда она свергнута более молодой и приятной дамой, она осознала, что дающее власть обожание общества эфемерно, а не истинно, как она полагала. Ещё одно разочарование ожидает её. В подходящем романтическом окружении руин завтра, вблизи модного курорта Бадена, её охватывает «буря чувств», вызванных итальянским маркизом, который являет собой образец хищника и сластолюбца. Только вмешательство компаньонки спасает её от пучины запрещенного удовольствия и от воображаемой мелодрамы «греха и стыда» (ПСС 5: 132). Выход Маши в общество, изначально рассматривавшееся как место для утоления желаний, становится полем сражения за самоопределение. Она должна проиграть до того, как она может победить. Испытав пугающий контроль, который сопровождает сексуальные желания, она возвращается к жизни в деревне, защищенная своим мужем. Вновь та же музыкальная комната, с тем же запахом сирени и тем же пением соловьев; вновь она играет «Лунную сонату», эмоционально наивную прелюдию к отношениям с Сергеем. Это не просто возвращение на круги своя, поскольку персонажи Толстого всегда находятся в поиске и всегда изменяются и для них невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Осознав, что неправедные пути в жизни не для неё, когда она последний раз играет Бетховена, она обращается с молитвой к Богу, что же ей делать и как жить теперь. (Почти с теми же словами Наташа Ростова будет обращать свои молитву в поисках пути после своего унизительного падения.) Пошлость её снисходительного мужа не является для неё большим утешением: «Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни» (ПСС 5 141). Относясь к ней не как любовник, а как старый друг, Сергей объясняет своей жене, что «нам нечего искать и волноваться; мы уже нашли» (ПСС 5: 142). В этот момент Маша направляет свою невостребованную страсть на своего ребенка, прижимая его к груди, в мыслях восклицает: «Мой, мой, мой» (ПСС 5: 143). Если этой финальной сценой Маша намеревается выразить гармоничное завершение своей истории, она предана странным ощущениям разногласия, её рассказ не подготавливает и должным образом не объясняет её превращение в преданную мать. До сего момента она игнорирует своих детей; дитя, которого она держит сейчас, упоминался лишь мимоходом и лишь как предполагаемая причина её пошатнувшегося здоровья. Более того, её муж, от которого Маша скрывает свое завернутое дитя, кажется равнодушным и к рождению её детей и к её будущей жизни. <…> К сожалению, основные нравственные поиски князя Андрея и Пьера Безухова в «Войне и мире» не находят равных целей среди ролей, отведенных женским персонажам. У женщин нет места ни на полях сражений, им не разрешается появляться в политических кругах, кроме как в качестве украшения мужского общества, которое решает судьбы нации. Их боевой дух ограничивается гостиными и спальнями. Мария Дмитриева, прозванная за свой боевой дух в обществе «ужасный дракон», называет Наташу «казак» за её бесстрашие и неженское поведение. Почтенная хозяйка салона Анна Павловна, «испытывающая волнение командира на поле битвы», искусно располагает Пьера так, чтобы он находился в радиусе действия очаровательной улыбки Элен. Княжна Лиза, несмотря на позднюю беременность, готовится встречать гостей, «как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы» (ПСС 9: 275). За некоторыми исключениями, женщины ведут войны лишь на домашнем фронте. В художественном пространстве Толстого женщины редко допущены до этого величайшего сражения жизни: смерти. Наташа, а после неё и Китти, относятся к смерти с благосклонностью и чувствами, присущими их полу. Они могут взбивать подушки, чтобы облегчить физическую боль, бодрствовать у постели умирающего, но в то же время эти замечательные женщины не вязнут в этих абстрактных вопросах жизни и смерти. В обмен на это неучастие в вопросах, о чем можно поспорить, фундаментальных для каждого чувствующего существа, толстовские добродетельные женщины имеют привилегию в их глубоко удовлетворяющей роли матерей и в их спокойном и доступном только женщине пути познания мира. В Наташе, в его наиболее ярком и детальном изображении достойного внимания пути юной девушки к взрослению, Толстой представляет наиболее убедительный довод о том, что истинная любовь в материнстве – это успешный результат благородного и сложного поиска женщины. Статичные и неразвивающиеся характеры женских персонажей, которые окружают Наташу – Лиза, Элен и Соня (но, как станет ясно позднее, не княжна Марья)показывают ограниченность видов любви, через которые она проходит. Лиза, очаровательное, но легкомысленное дитя - невеста, не имеет жизненных сил, чтобы стать матерью. Она ограничена своей пленяющей невинностью, которая сначала так привлекла князя Андрея. Её легкая походка и бессмысленная болтовня несоразмерны с ответственностью вынашивания и воспитания ребенка. И кроме того, как изображается в образе юной Наташи, бесхитростность детства принадлежит к наиболее драгоценным моментам семейного счастья. Выпестованная в лоне семьи Ростовых и находящаяся в блаженном неведении о грядущих битвах, Наташа покоряет сердца своим энтузиазмом и неудовлетворенным любопытством о возможностях жизни. Как читатели, мы знаем, что детство не может длиться бесконечно, но Толстой приглашает нас войти в её мир и предаться ностальгическим воспоминаниям о самом замечательном времени жизни123. След детства остается даже тогда, когда Наташа уже обручена. Рассказчик сомневается в истинности её чувств, когда она открыто признается в своей любви к Андрею: «Вы знаете, что с того самого дня, как в первый раз приехали в Отрадное, что полюбила вас, - сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду» (ПСС 10: 228). Но до того, как Наташа сможет со знанием дела говорить о любви, она должна, однако же, посетить «эдемскую оперу» и стать добычей оголенной змеи-обольстительницы этого сада – Элен, обладающей невоздержанной чувственностью, не прикрытой даже легкой игривостью. Роль соблазнителя чуть было не сбившейся с пути Наташи отведена Анатолю, но сила, которая стоит за этим обольщением, несомненно, принадлежит Элен. С того момента, когда она остановила свой взгляд на самой уверенной и красивой женщине общества, Наташа, ещё не осознавая это, оказалась под властью сексуальной притягательности Элен: «Чудо! Вот влюбиться можно!» (ПСС 10:323) Даже борясь с искусственной атмосферой оперы в одном из наиболее замечательных отрывков романа в конце первого действия оперы, и до того, как она встречает Анатоля, её сознание уже отравлено и она готова «перегнуться к Элен и защекотать её» (ПСС 10: 325). Когда оба Курагина устраивают засаду, чтобы разрушить См.: George Clay, “Balancing Immediacy with Overview”, Tolsyoy’s Phoenix: From Method to Meaning in War and Peace (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988), p. 7-19. 123 Наташину улетучивающееся сопротивление, именно Элен входит в комнату, где одевается её молодая протеже, чтобы восхититься её красотой, пока та не одета. В характере Элен Толстой собирает обильный урожай опасных плодов, которые таит сексуальность: самодовольство, инцест, неверность, аборты и что самое важное, разрушающая сила, которой выражение сексуальности наделяет своих обладателей. Что отсутствует у Элен, помимо неспособности любить кого-либо кроме себя, так это способность прикрывать свои эротические желания беззаботным заигрыванием. Наташа, кажется, подражает этой торжественности. В случае с Анатолем Курагиным Наташа серьезно предполагает, что они завершат свою поездку на тройке по аллее влюбленных к алтарю. Она может оправдывать свое физическое влечение к нему, лишь поскольку, поскольку он является подходящим поклонником. Наташина сексуальность всегда идет бок и бок с мыслями о браке. Где есть любовь, там должно быть и замужество. Подобно большинству добродетельных персонажей, помимо Анны, она может вообразить, но никогда не позволит себе испробовать свои эротические устремления вне уз брака. Все же Наташа избегает курагинскую западню, в результате получив на собственном знания о добре и зле и моральную силу, которую даже самый благонамеренный ребенок не может почувствовать. Но наказание, которое она накладывает на себя, несоизмеримо с полученным уроком. В период сурового самоотрицания и искупления, который последовал, единственное, что она себе позволяет – это дать кров и перевозить раненых солдат, и ухаживать за Андреем, присутствовать при его уходе, и управлять семьей после смерти Пети, направляя, таким образом, все свои действия на других. В этот момент её жизни, когда война в буквальном смысле входит в их семью, Наташино поведение аналогично бросающейся в глаза преданности Сони семье Ростовых. Но в отличие от Наташиного бесстрашного альтруизма, в Сониной жертвенности, однако, есть расчет; она собирает добрые дела, как будто заранее намечает себе план вступить в брак. Освобождение Николая от его обязательства происходит только после того, как Наташа и князь Андрей воссоединились, показывает хитрость Сониных расчетов. Находясь, как может показаться, на разных концах морального спектра, Соня и Элен все же объединены склонностью к эгоистическим решениям. В то время как расчет Элен полностью наказан её преждевременной смертью, Соня наказывается существованием на обочине семейного счастья, которого она так жаждала. В отличие от Сони Наташа не способна к расчетливой хитрости в надежде на отсроченную награду. Верность прошлому (как Сонина любовь к Николаю) находится в противоречии с Наташиной глубоко прагматичной натурой. Так, возрожденная тяга к любви, после периода скорби об умерших Андрее и Пете, приводит Наташу к замужеству. В моменты после встреч с Пьером, «что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое, проснулось в душе Наташи» (ПСС 12: 230). Узнавая в своем будущем муже такое же «морально из бани» (ПСС 12:233), через которое она прошла, Наташа теперь готова выполнить своё предназначение. Это конец её исканиям. Когда мы вновь встречаемся с Наташей, эта тщательно разработанная прелюдия к её браку дала удивительные результаты. Семь лет – и четверо детей; и она неузнаваема: « Души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка» (ПСС 12:266). Только её собственная мать не удивлена этим превращением, она интуитивно чувствует жизненную связь между Наташей - ребенком, которая впервые появляется в романе, тесно прижав к себе куклу и командуя старшими за столом, и Наташей – усердной матерью и властвующей женой. Три поколения Наташ в эпилоге – старая графиня, жена Пьера и дочь княжны Марьи – дает твердое определение естественного образца женской добродетели, завидной в своей ясности и уверенности, но прискорбная в том, что ею отрицается. Всё же в Наташином контроле над мужем и её преданности детям, выраженной наиболее ярко в том, как она сжимает младшего ребенка Петю, она достигла завидного состояния счастья. Не находя себе места, когда Пьер уезжает, она находит свое утешение в ребенке: «Существо это говорило: «Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься – а я вот он, а я вот он…» И отвечать было нечего. Это было больше, чем правда» (ПСС 12: 271). Наташа достигла полной и абсолютной любви, в которой роли жены и матери неразделимы и равнозначны. Княжна Марья – ещё одна счастливая жена и мать, описанная в эпилоге, повторяет значительные моменты Наташиного пути к материнству: столкновение с Анатолем, которые вызывает надежды земной любви (как она столь жеманно описывает свои эротические фантазии), период самопожертвования, когда она верит, что отдавать себя другим – единственное призвание, предназначенное ей, и её не вполне оптимистическое приятие того, что она «любила отца и племянника больше, чем Бога» (ПСС 10: 236). Подобно Наташе, княжна Марья слишком переполнена своим замужеством, но у неё это совершенно другое состояние. Там, где Наташа кажется довольной, когда машет пеленками, чтобы подтвердить, что её дорогое дитя выздоровело, духовные искания Марьи ставят её выше материнства и бросают тень на её замужество. Её муж, благоговейно, но со страхом чувствует её превосходящий ум и её высокие духовные способности. «Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице её выступило строгое выражение затаённого высокого страдания души, тяготящейся телом» (ПСС 12: 290). Марья уникальна среди женских персонажей Толстого, её духовные устремления приводят её в область размышлений, которые обычно предназначены для мужских персонажей. Николая, возможно, предшествует усердной преданности Левина сельскому хозяйству в «Анне Карениной», но его жена является лучшим образцом того духовного бедствия, которое отличает Левина после замужества. Глубоко размышляющая натура Марьи, которая отличает мужчин Болконских, может усложнить её жизнь матери, но ей доступны такие фундаментальные вопросы, как вопросы жизни и смерти. Среди женских образов Толстого, только Анна Каренина размышляет об этих вопросах более глубоко. В первом эпилоге к «Войне и миру» «женский вопрос» выразительно помещается в финальный портрет Наташи, «эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их» (ПСС 12: 268). Этот «ящик Пандоры» женских прав широко открыт в «Анне Карениной», во многих отношениях являющейся энциклопедией изменяющегося отношения к женщине в русском обществе в 1870-е. Роман начинается с эпиграммы, безусловно, наиболее часто цитируемой строчке из всех работ Толстого; предполагается, что счастливые семьи не дают стоящего материала для писателей. То же может быть сказано и о женских характерах, которые несут на себе тяжесть идеальной добродетели: покуда они повторяют друг друга, они лишены интереса. Предположим, например, сходство между Наташей и Китти, после того как они отвергли искреннее предложение и вынуждены были осознать обман мужчин, которых они возжелали. Действующий концепт здесь - это желание, хотя ни одна из молодых женщин не обладает знаниями, чтобы опознать это чувство. Когда их лечат доктора (агенты общества, которые ведут к разделению плоти и духа), которые не могут распознать духовного недомогания, Китти и Наташа тем не менее выздоравливают. Когда они очистились от желания, они приобрели непроницаемую броню добродетели. В процессе этого они становятся, однако же, фиктивными женскими персонажами, которые приобрели совершенный самоконтроль, отрезав себя от возможности познать все чувства, присущие человеческой природе. Их искания закончились, они превратились в окаменевшие статуи на пьедестале узко мыслящих и неправдоподобно идеализированных матерей. Правда, Китти иногда проявляет любовные вспышки и обнаруживает бурный темперамент в начале замужества. Но вскоре она устраивается в материнском гнезде, схему которого дала Наташа в первом эпилоге «Войны и мира», который смутно напоминает смирительную рубашку. Гораздо более правдоподобный кандидат на восхищение в «Анне Карениной» - это Долли, которая, как однажды заметила Марина Ледковски, «есть идеальная женственность»; она «хранительница семейных основ», которая воплощает способность беззаветной любви и самопожертвования124. Долли, наиболее реалистично изображенный женский образ у Толстого, Marina Ledkovsky, “Dolly Oblonskaia as a Structural Device in Anna Karenina”, Canadian – American Slavic Studies 12, No. 4 (Winter 1978), 543-48. 124 возможно, и является, образцовым носителем женской добродетели, но она платит высокую цену за свою любящую натуру. Для всех и всегда она щедрый друг, Долли решает навестить Анну в загородном имении Вронского. На пути туда, в непривычном уединении, она размышляет о совей жизни. о смерти своего последнего ребенка, о скучной обыденности своего пятнадцатилетнего замужества. «И всё это зачем?» - задает она себе вопрос, «столько мучений, трудов… Загублена вся жизнь» (ПСС 19: 181-82). Она характеризует себе как заключенную, «выпущенную из мира, убивающего меня заботами» (ПСС 19:183). Размышляя о любовной истории Анны, она находит утешение в воображаемой идеальной собственной любви. Смягченная этими мечтами, Долли прибывает к месту назначения, расположенная к тому, чтобы одобрить новую семью и новую жизнь Анны. Но когда её теоретическое одобрение испытывается признанием Анны, что она использует контрацептивы, хотя это как раз «то самое, о чем она мечтала нынче дорогой», Долли сжимается от предположения, что сексуальные отношения могут иметь единственной своей целью удовольствие (ПСС 19: 214). В то время как Долли, возможно, воплощает в романе ценность домашнего уклада, ей не легко дается ответственность за это. Но она принимает его: она не осудит Анну, но и не позволит себе пересечь границу, которая отделяет её мир от мира Анны. Она может раздражаться из-за ограничений своей жизни, может фантазировать об освобождении от роли жены и матери, но разъединение сексуального общения от воспроизводства представляет для неё слишком большое нарушение естественного хода вещей, того, какова жизнь должна быть. Недолго задержавшись у Анны, Долли возвратиться и останется в асимметричном замужестве, любя Стиву, но не будучи любимой в ответ. Её муж будет продолжать обманывать её безнаказанно, но она больше не будет думать о какой-либо другой или лучшей жизни. Невозможно быть оптимистичной по поводу будущего Долли. Её ненадежные отношения со Стивой и её сдерживаемый гнев более реалистично отображает низменную обратную сторону их брака, чем те умозрительные интеллектуальные и духовные барьеры, отделяющие Левина от ничего не подозревающей Китти. Ради своих детей Долли старается сохранить свой давший глубокую трещину брак. Эмоциональная боль этого хорошо скроенного образца добродетельного материнства облагораживает её обязательства перед семьей. Анне, самой блестящей и самой сложной героине Толстого, достаются битвы против жестких различий между женскими и мужскими переживаниями, между стремлениями духа и тягой плоти. Анна – первый пример женщины в поиске, которая не стала ни полной противоположностью материнства, лишенного сексуальности, ни эротической карикатурой, подобно Элен, а женщиной, борющейся с собственными противоречиями. Но тот факт, что Анна находится в конфликте, очевиден с самого первого её появления романе. Её будущий любовник чувствует эротические возможности Анны самого первого момент, когда он остановил свой взгляд на ней: «В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в её лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею её румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах свет в глазах, но он светился против её воли в чуть заметной улыбке» (ПСС 18: 66)125. В своем замужестве Анна не находит выражения своей сексуальной энергии. Она приучена, возможно, бессознательно, что не следует выражать свою упорную энергию в отношениям с мужем; встречая его на вокзале по возвращении из Москвы, она закрывается. Она не находит выхода и в материнстве. Несмотря на её преувеличенные поиски материнских радостей, которые спасают Долли от неподдельного отчаяния, Анна даже ещё до своих отношений с Вронским, неустойчива в своих отношениях к Сереже. Он тоже может быть обузой её духу, он «произвел в Анне чувство, похожее на разочарование» (ПСС 18: 114). В конечном счете, по крайней мере с точки зрения суждений общества, ни сам факт связи Анны с Вронским, ни её непоследовательность как матери не являются решающими. Главное, на самом деле, - единственный вопрос, по мнению защитников нравственности: не то, что Анна делает, а то, как. Среди друзей Анны есть женщины, который могут продолжать поддерживать внебрачные отношения легко и непринужденно, невосприимчивые к чувству вины или к осуждению общества, если только они не осознают греха. Как бы говоря о любовным отношениях другом женщины, Бетси Тверская дает Анне советы о правилах адюльтера: «Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из неё мученье, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически» (ПСС 18: 315). Конечно, страсть Анны к Вронскому и её борьба, направленная на подавление этой страсти, выводит её отношения из сферы случайного удовольствия, легко получаемого и безболезненно оставляемого или обменянного. И этот самый факт отличает её от брата, с которым она несправедливо сравнивается. Бессовестный обман Стивой супружеского обета – именно таков, без стыда и чувства вины. Анну, в противоположность ему, беспокоят оба варианта решения её проблемы, каждый из которых требует обмана. Анна не может принять для себя глупый обман общества княжной Бетси. Так, княжна Мягкая, женщина грубого здравого смысла, объясняет её (Анну): «Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают; а она не захотела обманывать и сделала прекрасно» (ПСС 19: 309). Этот отрывок подробно анализируется Donna Tussing Orwin в книге, Tolstoy’s Art and Thought, 1847-1880 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), p. 183. 125 Степень борьбы Анны присутствует в её попытке объединить желания сердца и требования совести определенной супружеской связью. Она достигает чувства цельности своей жизни только в мечтах или во снах сфере воображения, которая находится вне её или чьего-либо контроля обдумывая то разное, что она чувствует по отношению к Вронскому и Каренину. В этом счастливом и невозможном решении её конфликта она становится женой обоих Алексеев, и они готовы поделить её. Только в её предсмертной сцене (которая является решающей в нашем понимании ситуации, несмотря на атмосферу хорошо поставленной мелодрамы, все присутствующие, включая Анну, вполне убеждены, что она умрет) она решает очиститься от того, что кажется ей грешной её частью - от своего тела. Возможно, Анна и не делает выбор, а лишь боязливо соглашается с моралью, диктуемой церковью и обществом, в последнюю минуту вымаливая прощение за те прегрешения, которые позволили испытать её полноту жизни. В своем лихорадочном бреду она обращается к мужу с обезоруживающей эмоциональной силой, перекладывая лицемерие, которое она приписывала Каренину и Вронскому, на себя: «Я всё та же… Но во мне есть другая, я её боюсь, - она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся» (ПСС 18:434). Эти строчки, в которых Анна попеременно говорит себе «она» или «я» отражена та внутренняя разобщенность, которую она чувствует, но утверждение «теперь я настоящая» предполагает, что она верит в то, что достигла единения души и тела. Что бы ни имела в виду Анна, говоря это, очевидно её желание быть прощенной. Это один из немногих моментов в романе, когда она эмоционально и выразительно утверждает то, что волнует её. Возбужденно и повелительно Анна командует Каренину: «Подай ему [Вронскому] руку. Прости его», после чего она готова умереть. Только её слова, которые кажутся заключительными, в которых она одновременно взывает к Богу и просит дать её морфий, показывает, что она не полностью свободна от её своей внутренней разобщенности. Её душа взывает к Богу, в то время как её тело ищет физического успокоения. Что бы они ни чувствовала, реакции Вронского и Каренина ощущаются скорее в моментальном обмене ролями, чем в действительном согласии со слабой логикой представления Анны о гармонии и целостности. Этот момент восторга эмоционально обнажает Каренина; он испытывает вызывающее в нем слёзы прозрение исступленной христианской любви к своей жене, к новорожденному ребенку, которого он примет как своего собственного и даже к своему врагу Вронскому. Вронский, в свою очередь, осознает, что он побежден Карениным, и он испытывает зависть к тем достоинству и чести, в которых его соперник отказывает ему. Вронский испытывает в первый и единственный раз в своем отношении к Анне чувство стыда и не имеющей прощения вины. Особенным для обоих мужчин является то, что их реакция столь сильна и абсолютно сконцентрирована на себе; они думают о положении Анны, только в том, как оно отражается на них. В любом случае, своевременно и грациозно обставленному уходу Анны не суждено случиться. Мужчины в её жизни очень быстро возвращается на свои места, таким образом разрушая всякую надежду на компромисс. Когда её жизнь вне опасности, Анна ещё раз отзывается на сильнейший порыв, в этом случае вызванный страстный объятием Вронского. В дальнейшем, когда она не может найти законченности этих отношений, мысли об обожаемом сыне потянут её к домашнему очагу. Эти противопоставленные и борющиеся влечения к любовнику и сыну, сильное эротическое влечение её тела против жертвенной материнской любви к детям и семье взаимно исключают друг друга. Здесь находится её трагедия. Её духовная борьба не может быть разрешена. Но кто или что несет ответственность за ту ситуацию, в которую попала Анна? Может ли мы рассматривать самоубийство Анны как решительное утверждение самоконтроля над своей жизнью? Или Анна - жертва мужчин, которым она отдала себя: мужа, который не может представить свою жену как существо сексуальное и любовника, который не может представить глубину её страданий? Или Анна героиня доблестной попытки сопротивления давлению общественного мнения, которая хотела жить, используя все свои жизненные возможности? Можно ли оправдать общество, ограничивающее Анну в свободе действий? Ответственна ли Анна за свой выбор и, следовательно, виновата ли эгоистичной невоздержанности? Такие вопросы отображают конфликт, который испытывает сама Анна; простые ответы «да» и «нет» не подходят для них. Такие вопросы обнаруживают много о впечатлениях от прочтения «Анны Карениной». В отличие от романа «Война и мир», который медленно разворачивает свои разнообразные, но взаимосвязанные нравственные описания человеческих состояний, роман «Анна Каренина» выводит из равновесия и разрушает чувство уверенности или определенности. Анна моделирует эту неустойчивость, и пока читатель будет размышлять о вопросах личной свободы и ответственности перед семьей, она всегда будет вовлечена в этот конфликт. Роман «Анна Каренина» побудил поколения читателей размышлять и бесконечно возвращаться и по новому открывать природу женских переживаний. Роман Толстого воплотил его самое глубокое исследование непреодолимой власти и разрушительной мощи сексуального желания, как мужского, так и женского. После этого эротический конфликт, который характеризует поиск Анны, перешел к мужчинам, но Толстой никогда больше не пишет о сексуальности с такой сложностью и драматической силой. Более того, женские характеры после Анны в большинстве случаев сведены к простому изображению женщины как условный сосуд желаний, и их поиски становятся все более схематичны. В «Крейцеровой сонате» (1889), например, сексуальность принимает характер привыкания, в бешенстве Позднышев убивает свою жену – сосуд греха, чтобы подавить свой сексуальный конфликт, но как бы ему не казалось, что он чего-то достиг, ему не удалось победить плоть. Он проводит остаток дней в бесконечных путешествиях в поисках аудитории, чтобы оживить свою драматическую историю. В двух вариантах окончания незавершенного «Дьявола», также написанного в 1898 году, виновный в супружеской неверности герой Иртенев попеременно вытягивает себя из пучины сексуальных удовольствий: 1) переполненный сознанием вины, убивает себя за предательство жены и уступку животной страсти 2) убивает безвинную, но похотливую крестьянку, которая вызывает его желание. Что более важно для женского вопроса, нравственное власть, прежде отданная добродетельным матерям, более не рассматривается. Его безвинная и ничего не подозревающая жена, возможно, и безгрешна, но, как и её тезка в романе «Война и мир» - болезненная Лиза, склонна осложнениям во время беременности и не способна выносить ребенка, и таким образом не может служить образцом материнства или силы семейной любви. Только в «Воскресении», где происходит полный отказ от сексуальности, мужчины и женщины вместе могут достичь гармоничных взаимоотношений друг с другом и с самими собой. В «Воскресении» (1899) Толстой отрицает прежние иллюзии семейного счастья и добродетельного материнства, которые он так настойчиво утверждал в своих ранних романах. Истинная любовь, которую прославляет «Воскресение», - в безбрачии. Это освобождает женщину от нуклеарной семьи и освобождает и мужчину, и женщину от неизбежного разложения отношений под действием сексуальной составляющей. Поскольку гордиев узел смело разрублен, чувственная любовь ликвидирована, то женский вопрос вообще не выносится на обсуждение. Любовь, рассматриваемая в «Воскресении», не цельная и незавершенная, но она искажает разрушающую силу секса. Бывшая проститутка Катюша воплощает это качество. Подобно Маше, Наташе и Китти до неё, она соблазнена силой эротической любви, но в отличие от них, ей приходится с этим жить. Подобно Анне выносит обвинения общества на свою запрещенную любовь. Но в отличие от Анны, Катюшины испытания как проститутки приводят её к лицемерному пресмыканию перед сексуальными желаниями и становится униженной и беспомощной его жертвой. Во вступлении к этой части мы говорили «о поисках женщины, преодолевающих укрепленные барьеры обычаев своего пола». Анна пытается, но умирает в этом поиске. Катюша решает этот вопрос, но доводит его до абсурдных крайностей. Под влиянием утопических представлений, которые направляют её соучастника, Катюша добровольно принимает безбрачие, таким образом освобождая себя от разрушающего влияния хищничества мужских желаний, но и ребенок и муж и семья выброшены, как и младенец с водой. Это неправдоподобное решение неразрешимой проблемы. Джордж Клэй. Толстой в XX веке126. Романы «Война и мир» и «Анна Каренина» были написаны более, чем 130 лет назад и, цитируя Лайонеля Триллинга, скажем: с конца XIX века «литературная продукция была бесконечно выдающейся и бесконечно уместной»127. Уместной в век Эйнштейна, Фрейда, русской революции, двух мировых войн, Великой депрессии, Холокоста, атомной бомбы, Вьетнама, холодной войны, кинематографа, телевидения и в наш нынешний электронный век. Эта эпоха произвела на свет поразительные художественные произведения таких писателей, как Пруст, Джойс, Манн, Вулф, Кафка, Хемингуэй, Фолкнер, Боуэн, Уэлти и Портер: писателей, которые в период между 1900 и 1950 годами, добились психологизации и включения в художественную ткань внутреннего монолога и других техник потока сознания. Как же тогда Толстой подходит этой модернистской сети? Он находится как раз в центре её. Например, то, что называется «монолог на смертном ложе» - в таких произведениях XX века, как «Смерть в Венеции» (1912) Томаса Манна, «Обретенное время» (1927) Марселя Пруста, «Путешествие» (1931) Дороти Ричардсон, «Снега Килиманджаро» (1936) Эрнеста Хемингуэя, «Бледный конь, бледный всадник» (1939) Кэтрин Энн Портер, «Смерть Вергилия» (1945) Германа Броха, «Малон умирает» (1951) Сэмюэля Беккета, «Смерть Артемио Круса» (1962) Карлоса Фуэнтеса, «Белый отель» (1981) Д.М.Томаса – такие монологи могут быть прослежены до смерти Праскухина в «Севастополе в мае», а также до потока сознания серьёзно раненого князя Андрея в «Войне и мире» (ПСС 11: 385-88), последней поездки Анны в «Анне Карениной» (ПСС 19: 336-43) и, конечно, «Смерти Ивана Ильича». Если рассматривать состояние, пограничное со сном, как точную копию предсмертного состояния, тогда в этот список можно добавить ещё дежурство на карауле Николая Ростова в ночь перед Аустерлицем (ПСС 9: 322-23), когда, снова и снова, он почти что засыпает, сидя на коне, в то время как его внутренний монолог переходит в поток сознания. И, возможно, наиболее известный в модернистской литературе пример пред-сонного монолога, напоминающего толстовские, это разговор с собой Молли Блум в конце «Улисса» (1919-22) Джеймса Джойса. Сlay G.R. Tolstoy in the twentieth century// The Cambridge companion to Tolstoy:Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 206 – 221. 127 Lionel Trilling, The opposing self (New York: Viking press, 1955),p.71. 126 Толстой экспериментировал с техникой потока сознания уже тогда, когда писал быстро брошенную им «Историю вчерашнего дня» (1852), а затем «Детство, Отрочество, Юность» (1857), но уже и тогда Толстой не был первым, кто использовал подобные приёмы психологизации. Как ни раз указывалось, в большей или меньшей степени все писатели – новаторы старались передать нюансы внутренней жизни своих персонажей. За примерами монологов, написанных задолго до Толстого, можно обратиться к «Тристраму Шенди» Лоренса Стерна (1759-67), «Робинзону Крузо» Даниэля Дэфо (1719) и к «Гамлету» (1600-01). Но толстовские монологи не являются, или не вполне являются, внутренними монологами: герои говорят с собой, подобно Гамлету – облекая в словесную форму идеи, уже сформированные в сознании, и обращаются к читателю или к аудитории. В самых своих смелых попытках Толстой пытается предать психологический процесс сам по себе: спонтанный, хаотичный, быстро текущий или сверхъестественно замедленный процесс изменения чувств и мыслей, как они развертываются в изумляющие новые чувства или, возможно, в мимолетные воспоминания, которые возвращаются к самим себе, объединяя реальное с фантастическим сплавом прошлого, настоящего и будущего. Приводим пример из главы, включающей дежурство на карауле Николая Ростова перед Аустерлицем: «Ростов поднял голову, которая опустилась ещё до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал? – не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то – это завтра… Да, да! Наташку, наступить… тупить нас – кого? Гусаров! А гусары и усы… По Тверской ехал этот гусар с усами, ещё я подумал о нём, против самого Гурьева дома… Старик Гурьев… Эх, славный малый Денисов! Да, всё это пустяки. Главное теперь – государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел… Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное – не забывать, что я нужное-то думал, да. На-ташку, нас – тупить, да, да, да. Это хорошо». – И он опять упал головой на шею лошади». (ПСС 9:322-23). А вот пример дневного, бодрствующего сознания из «Анны Карениной». Анна едет в «покойной коляске, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами» к своей невестке Долли Облонской, чтобы поверить ей свою тайну и попросить совета: «Она начала читать вывески. «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли всё. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я всё скажу ей. Она любит меня. И я последую её совету. Я не покорюсь ему, я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А Мытищенские колодцы и блины». И она вспомнила, как давно, когда ей было ещё семнадцать лет, она ездила с теткой к Троице». (ПСС 19: 336-37). Выделенные курсивом предложения показывают нам Толстого – всеведущего писателя XIX века, которые направляет своего читателя, используя логические общие мысли (концепты), понятные для всех. Но в остальном, в каждом из приведенных отрывков, Толстой с перерывами использует ту технику, которая позднее будет применяться Джойсом, Вулф и всеми последующими мастерами внутреннего монолога. Таким образом, Толстой будучи величайшим реалистом, когда случай того требует, использует модернистские техники потока сознания. Главная из них (предвосхищающая дискуссию Фрейда по этому поводу) – метод свободных ассоциаций: «А гусары и усы… По Тверской ехал этот гусар с усами, ещё я подумал о нём, против самого Гурьева дома… Старик Гурьев… Эх, славный малый Денисов!»; «Филиппов, калачи. Говорят, они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А Мытищенские колодцы и блины». Другой прием – слова, которые порождают другие слова, развертывающиеся в идеи: «Наташку, наступить… тупить нас – кого? Гусаров! А гусары и усы». Подобно Толстому, Джойс меняет направление от реализма в сюрреализму. Вот пример поворотов мысли Леопольда Блума, размышляющего о любовнике своей жены Блейзе Бойлане: «Мистер Блум осмотрел ногти у себя на левой руке, потом на правой руке. Да, ногти. Что в нем такого есть что они она видит? Наваждение. Ведь хуже не сыщешь в Дублине. Этим и жив. Иногда они человека чувствуют. Инстинкт. Но этакого гуся. Мои ногти. А что, просто смотрю на них: вполне ухожены. А после: она, раздумывает. Тело не такое уже упругое. Я бы заметил по памяти. Отчего так бывает наверно кожа не успевает стянуться когда с тела спадет. Но фигура ещё на месте. Ещё как на месте. Плечи. Бедра. Полные. Вечером, когда одевалась на бал. Рубашка сзади застряла между половинок»128. И хотя Толстой не был первым европейским писателем, обратившимся к технике внутреннего монолога, он наверняка был первым, кто использовал её так часто и так целенаправленно; до Джойса ни один писатель не может сравниться с Толстым в его действительно модернистских ухищрениях. В этом отношении интересно сравнить Толстого с двумя важными предмодернистами: Генри Джеймсом и Марселем Прустом. Джеймс, например, в своем романе «Послы» (1903) подошел, с одной стороны, к модернизму ближе, чем Толстой, но с другой - далеко отстоит от него. Он ближе к модернизму в том, подобно Джойсу и Вулф, что он использует точку зрения одного персонажа, своего протагониста Ламберта Стретера, в течение всего романа, таким образом переключая драматический центр с внешней стороны, где Толстой в значительной степени его держит, во внутреннюю, уменьшая роль видимого автора до относительно (если не полностью) косвенной. Джеймс стоит, так сказать, как раз за левым плечом своего протагониста, выбирая, кого и что герой заметит, кому будет представлен, у кого чему-либо научиться… и так далее. Но он не в такой степени модернист, как Толстой, в том, что касается внутреннего монолога на до-разговорном уровне: это даже отдаленно не затрагивало творческое Джеймс Джойс. Улисс: Роман/Перевод с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего. – СПб.: «Симпозиум»,2002. Стр.90. 128 внимание Джеймса. Как заметил Ричард Блэкмур, «Неточность любого описания, на уровне ли замысла или воплощения, он презрительно 129 ненавидел» . <…> Даже ужасающие умственные движения Пруста не подходят так близко к внутреннему монологу Джойса, как толстовские. В романе «В поисках утраченного времени» (1913-27), Пруст использует лишь одну точку зрения (свою собственную), но в отличие и от Джойса, и от Толстого, он не делает попыток передать душу в роли души. Он интересуется только способностью памяти к самосознанию – её способностью воспроизвести прошлое таким образом, чтобы показать нам расщепленное парижское общество. Однако же, он знакомит нас с одним из выдающихся достижений модернизма, предшествуя даже Джойса в том, что называется «музыкализацией» романа: замена линейно разворачивающегося сюжета то двигающимся вперед, то поворачивающим вспять тематическим развитием. Однако до Джойса никто не достиг, а тем более не превзошел толстовского уровня внутреннего монолога. И неизвестно, насколько сильно влияние предшественника на Джойса, мы точно знаем, как велико было его восхищение Толстым: он находил удовольствие в «их общем интересе к мелочам жизни» и «к тайнам сознательной и бессознательной жизни». Джойс чувствовал, что Толстой был «вторым по величине […] после таких знаменитостей как Ибсен, Данте и Шекспир». И однажды Джойс даже сказал, что «Много ли человеку земли нужно» Толстого – «величайшая история, которую знает мировая литература»130. Как не раз указывалось, разница между потоком сознания у Толстого и у Джойса не в характере, а в степени использования. Отрывки, подобные процитированным выше из «Войны и мира» и «Анны Карениной», представляют собой образцы внутреннего монолога, вкрапленного в реалистические повествовательные рамки каждого романа, чаще всего перед смертью или перед отходом ко сну, а если в период бодрствования – то в состоянии кризиса. У Джойса на протяжении двух весьма обширных его романов – «Улисс» (1918-22) и «Поминки по Финнегану» (1928-39) внутренний монолог непрерывен, с минимальным вмешательством автора. Когда поток сознания используется в таком большом объеме, писатель сталкивается с теми проблемами, который Толстой не мог даже представить себе. Проще говоря, главным вопросом для Джойса стало передать свободно текущую, совершенно личную (и следовательно, бессвязную для остальных) душу своего героя, но сделать это способом, позволяющим читателю добраться до того, что имеет смысл. Как изложил это Дерек Аттридж, Джойс последовательно предоставлял «благоразумно организованные самородки информации, которые создают движение вперед к откровению и 129 Henry James, The Art of the Novel, intro. Richard Blackmur (New York: Charles Scribner & Sons, 1947), p. xvi. 130 Neil Cornwell, James Joyce and the Russians (Basingstoke: Macmillan, 1992), p.28. разрешению»131. Такие «самородки» не были нужны Толстому, который использовал поток сознания время от времени, и это истинно, по тем же причинам, для Манна, Вулф (кроме «Волн») и до многом для Фолкнера. После Джойса и Вулф, не вербализированный монолог постепенно вернулся к тому, чем он был у Толстого: использовался время от времени – и с большим мастерством у, например, Элизабет Боуэн и Кэтрин Энн Портер. С невероятной изобретательностью, Джойс таким образом разрабатывает техники, которые могут придать смысл (достаточно смысла) его по существу бессмысленным романам, чтобы у читателя возникали некоторые точки отсчета, как скалы в горных цепях, в свободном течении душ героев. Один из его главных механизмов ещё аристотелевский: единство времени, места и состава действующих лиц. Действие «Улисса» разворачивается на протяжении восемнадцати часов, в одном городе, с тремя героями; «Поминок по Финнегану» - также в одном городе, оно передано через мечтающий дух одного персонажа на протяжении одной ночи. Другой прием Джойса – лейтмотив: он наполняет свой роман, подобно музыкальному произведению, повторяющимися образами, словами, символами и фразами, которые связаны с особенной идеей или возможно даже с темой, которая проходит через весь роман, такой как (в «Улиссе») раскаяние Стивена Дедала в том, как он вел себя около умирающей матери. Джойс также рассказывает нам такие обыденные детали, как то, какие песни поют его герои и как много заплатили они за свои покупки. Возможно, самый важный проясняющий путницу прием, как становится ясно из заглавия «Улисса», - гомеров прототип Джойса – «Одиссея». Блум – это Одиссей, Стивен Дедал – его сын Телемак, Молли Блум – Пенелопа. Все, что делает Блум в течение этого июньского дня и ночи в Дублине, связано некоторым образом с тем или иным приключением Одиссея у Гомера … часто таким образом, что это становится бурлеском. Рационализирующие техники и приемы Джойса позволяют читателю постоянно возвращаться к надежным точкам отсчета, несмотря на «Jabberwocky» поток сознания (термин Эдмунда Уилсона, из «Сквозь стекло» Льюиса Кэрролла). И они также, по словам Уилсона позволяют Джойсу спускаться «на уровень ниже разборчивого языка […] в ту область, откуда происходят все языки и где импульсы всех действий имеют корни»132. Одним словом, Джойс, в «Улиссе» и «Поминках по Финнегану», изменил ранее принятые связи между языком и повествованием, языком и читателем, языком и миром … так же, как и изменил соотношение между обыденным и героическим, таким образом, что каждое выступает в защиту другого. И в достижении этих фундаментальных сдвигов Джойс, конечно, радикально отходит от надежного и всеведущего повествователя, консенсуального языка, 131 Derek Attridge (ed.), The Cambridge Companion to James Joyce (Cambridge University Press, 1990), p.8. 132 Edmund Wilson, Axel’s Castle (New York: Charles Scribner & Sons, 1959), p. 205. вполне устойчивого мира, где ценности и подлинность личности принимаются как должное, как это было у Толстого. Однако несмотря на эти огромные различия в подходе к реальности у двух писателей, у «Улисса» и «Войны и мира» есть на удивление много общих основных аспектов – настолько много и таких важных, что нельзя не почувствовать, что Джойс научился у Толстого гораздо большему, чем только приему потока сознания. Начнем с того, что оба писателя восстали против традиционного романа своего времени. Толстой сознательно отказался от традиционных элементов «хорошо сделанного» европейского романа с его хорошо подогнанным и крепко сбитым привычным сюжетом, который неизбежно развивается в сторону какой либо печальной или радостной концовки: свадьба Элизабет и Дарси в «Гордости и предубеждении», смерть Эммы в «Мадам Бовари». В таких романах, время преобладающе психологично. Судьба героя и героини определяется скоростью, с которой проходит время: все сцены обусловливают конец, который разрешит некоторую проблему, поставленную в начале, а кульминация откроет судьбу главного героя – комическую или трагическую. Но время у Толстого (как и в природе) не истекает, а продолжается. Его романы, кажется, бессюжетны и заканчиваются открытым финалом, в них нет ни причинного движения вперед, ни четко обозначенной кульминации. Подобно «Войне и миру», роман у Джойса также имеет открытый финал; и поскольку в романе нет кульминации, к которой стремилось бы действие, время у Джойса толстовское – оно продолжается, а не истекает. И невозможно ли то, что толстовский в высшей степени структурированный недостаток структуры был, помимо прочих ресурсов, важной частью источника сведений Джойса? Я говорю «структурированный недостаток структуры», поскольку отход каждого писателя от традиции требует даже более строго организованной концепции, чем необходимо для романов меньшего размаха; и в обоих случаях их шедевры давали именно это, в форме сложной циклической структуры. Две основные темы в «Войне и мире» Толстого –война 1812 года и то, что критики назвали «марш поколений», - показывают нам, что циклический замысел Бога (или Природы) – это смерть и воскрешение: симбиоз жизни и смерти и их заменителей, включая не только войну и мир, но и такие предполагаемые оппозиции, как добро и зло, слезы и смех, правильное и неверное, солнце и тень, эгоизм и альтруизм, конечное и бесконечное, радость и грусть, восторг и отчаяние. Толстой был убежден, что такие взаимные оппозиции, суррогаты Жизни и Смерти, находятся в симбиозе: что одно не может существовать без другого, поскольку каждое заранее допускает существование противоположного. Образно говоря, нет смерти без воскрешения, и за каждым воскрешением идет следующая смерть и так до бесконечности. Этот замысел – «феникс» усиливается вторжение на восток Наполеона, которое началось в 1805 году и закончилось семь лет спустя битвой при Бородино, пожаром в Москве и гибельным отступлением французов. Россия «умерла», когда сгорела её древняя столица и возродилась, когда французы бежали от северной зимы. Что касается второй темы Толстого, «марша поколений», то цикл – «феникс» очевиден: как и каждое поколение, его главные герои поднимаются, когда из родители сходят со сцены, а затем в свою очередь постепенно угасают, когда их дети вступают в естественное наследование. Толстой начинает свой роман с 1805 года, когда Наташа, ещё тринадцатилетняя, схватывает свой первый поцелуй, и заканчивает сыном князя Андрея Николенькой, в четырнадцать лет мечтающим о славе – таково циклическое движение по орбите от созревания до созревания. Таким образом, превосходная организация исторического образца – «феникса» падения и подъема захваченного русского народа разыгрывается в рамках биологического «феникс» - цикла подъема и падения защищающегося поколения. Это сопоставленный и дважды повторенный план смерти и воскрешения, в рамках которого Толстой показывает взаимоотношения своих персонажей. И через эти отношения Толстой воспроизводит бесконечные вариации все того же «феникс» - образца, и все пятеро главных героев проходят через цепь мнимых смертей и воскрешений, непросто и тесно связанных с войной и с процессом взросления. Каждая смерть (физическая или духовная, действительная или символическая) приводит в перерождению, которое несет зародыши следующей смерти, которая с свою очередь превращается в другое перерождение, таким образом формируя цепь «феникс» - повторов, настолько тонко связанных и частично совпадающих, что это находится вне человеческого разумения. Усиливая эти повторы, Толстой воспроизводит свой циклический замысел того, что управляет жизнью, не только на примере пяти главных или даже многочисленных второстепенных героев, но на каждом, на всем и в любое время133. Чтобы убедить нас, что этот замысел – «феникс» и есть закон жизни, Толстому нужно создать целый мир вокруг своих пяти главных героев – модель достаточно большую для того, чтобы составить представление об облике человечества и его типичных интересах. В своей поразительной всеохватности, его поперечное сечение человечества дает действительно панорамный вид, который состоит из взглядов и ценностей, отражающих не только разнообразные человеческие типы, но и общественные позиции: от крестьян Каратаева и Дрона до управляющего графа Ильи Ростова Дмитрия, до добродушного «дядюшки», от Тушиных, Денисовых, Ростовых, Болконских вверх по шкале до Императора Александра. Все стадии военной George R. Clay, Tolstoy’s Phoenix: From Method to Meaning in “War and Peace” (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998). Здесь и далее отрывки цитируются или перефразируются из глав 2, 3, 10 и 11. 133 жизни представлены: от штаб - квартиры до передовой, от генералов до пехоты. Религиозные воззрения варьируются от безоговорочной веры и высшей степени духовности княжны Марьи до раздраженного атеизма её отца. Отношения отцов и детей показаны от старого графа Безухова до графини Ростовой, включая много других вариантов. Виды любви, или вожделения, или виды ненависти или враждебности необыкновенно разнообразны, так же как и виды дружбы, честолюбия, мужества, жадности, наслаждения. В «Улиссе» двойником поперечного сечения человечества у Толстого становится джойсовский Дублин, который, через сложно структурированное сознание трех главных героев, становится символическим сгущением всех возможных человеческих реакций. Как и «Одиссея» (хотя и в микрокосме) – этот роман открывает новую эру; и эпохальная форма, по определению, циклична. Его универсальность подразумевает повторение, воспроизводя все эти человеческие опыты снова и снова: джойсовские/гомеровские приключения за приключениями в конце концов приводят домой. Что касается «Поминок по Финнегану», роман начинается с середины предложения, которое станет последней половиной последнего предложения книги, таким образом выражая циклическую, а следовательно, безвременную природу романа. Более того, Джойс построил его вокруг циклической теории «Новой науки» Жанбаттиста Вико, в которой он исходит из того, что существует четыре бесконечно повторяемые эры: божественный век, за которым следует героический век, который, в свою очередь, приводит к веку человеческому, а в конце концов все завершается временем Ricorso или Возрождения, после которого следует божественный удар грома и этот цикл из четырех частей начинается снова. Каждая из четырех частей романа представляет одну из этих четвертей Вико. И следуя Вико, Джойс (подобно Толстому с его «феникс» - циклами) был убежден, что поскольку все комические или счастливо заканчивающиеся эры рано или поздно станут трагическими, такая перемена верна: каждый, кто прошел через мнимую смерть, воскреснет. Мы уже упоминали важный гомеровский элемент в «Улиссе». В «Поминках» тоже есть важный, не гомеровский, но элемент древних ирландских мифов, который соответствует замыслу смерти и воскрешения в «Войне и мире». Финнеган – неизвестный помощник каменщика из старинной ирландской баллады «Поминки по Финнегану» - падает с лестницы и умирает, затем, в балладе, какой-то добрый парень вливает виски в его уста, что возвращает его к жизни. «Поминки» начинаются концом мифической эпохи: это циклическая петля Вико. Поскольку оба романа Джойса цикличны, следовательно – бесконечны, поэтому в них нет того, что мы называем кульминацией. И нет чувства напряженного ожидания (suspense), поскольку именно оно, через причинное движение вперед, приводит к кульминации. И, как уже говорилось выше, такой же недостаток напряженного ожидания свойствен и «Войне и миру». Нас не побуждают с беспокойством ожидать, выживет ли князь Андрей после ранения при Аустерлице, будет ли убит Пьер на дуэли с Долоховым или под обстрелом Даву, избежит ли княжна Марья французского плена. Вместо чувства напряженного ожидания и в «Улиссе», и в «Войне и мире» есть то, что Генри Джеймс назвал «шок узнавания» («shocks of recognition»). Такого рода потрясения (внезапное, неожиданное понимание) – как раз то, что поддерживает любопытство читателя: что же случится дальше. Как сказал один критик, читая «Войну и мир», «мы не интересуемся причинами или последствиями события, мы вовлечены в непосредственно в происходящее (immediacy), абсолютное настоящее время этого творческого опыта»134. И такая «непосредственность» вполне применима и к «Улиссу». Как говорил Сэмюэль Беккет, произведения Джойса «не о чем-то, они и есть это что - то» («is not about something; it is that something»)135. Цель Толстого и Джойса была одна и та же: завоевать реальность и раскрыть вселенную. Но каждый делал это по – своему, и в высшей степени эффективно. Определяющим фактором у Толстого было изображение взаимоотношений его персонажей во всей их банальной сложности, на том уровне, где истина непреодолима – на уровне ненамеренных мыслей, привычных жестов, удивляющих и тайных чувств. Приводим два примера, взятых практически наобум. Первый отрывок – приезд шестнадцатилетнего Николая домой в первый отпуск из армии: «Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести чай, платок, трубку. Ростов был счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он всё ждал чего-то ещё, и ещё, и ещё». (ПСС 10: 6) Когда Наташа была помолвлена с отсутствующим князем Андреем, она с отцом впервые посещает Болконских. Их встретила княжна Марья, старавшаяся быть гостеприимной, однако чувствовалось и оказывалось, что она даже не дружелюбна. Почувствовав замешательство отца, Наташа залилась краской, «ещё более рассердилась за то, что покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну» (ПСС 10: 318). Николай, ждущий «чего-то ещё, и ещё, и ещё», Наташа, у которой за приливом смущения следует вызывающее поведение… все это всеобщие реакции, «шок узнавания», что показывает нам то, как и мы сами когда-то себя чувствовали. Толстой предполагает, что существует общий источник этих повседневных реакций, к который мы имеет доступ через наш личный опыт, и куда писатель приведет нас методом свободных ассоциаций, – их так 134 Richard Freeborn, The Rise of the Russian Novel (Cambridge University Press, 1973), p. 21. Joseph Wood Krutch, Five Masters: A Study in the Mutations of the Novel (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1959), p. 301. 135 много, что мы практически вступает в сотрудничество с автором в формировании универсального языка, основанном на соглашении с его поведенческими взглядами. А проникновение Джойса в до – сознательную жизнь (или жизни) разума кажется настолько бесконечно реальным, настолько универсальным, но только на совсем другом уровне. Больше, чем через сотрудничество, он вовлекает нас, давая невероятно искусные ключи, которыми он пытается раскрыть запутанные загадки внутри загадок внутри загадок. Возможно, определение «влияние» - слишком смелое слово, когда мы говорим о эффекте Толстого на Джойса. Но вполне можно предположить, что поскольку Джойс так восхищался произведениями Толстого, то сами произведения Джойса во многом обогатились приемами и техниками, подходами и задачами Толстого, который особенно интересовали его: открытый финал, циклическая структура и значение «Войны и мира» в сочетании и бесконечными подробностями – сфокусированность на микрокосме деталей наряду со вселенским охватом событий; поперечное сечение человечества; натурализм, цель которого – истина; всесторонность; ошеломляющее разнообразие точек зрения; то, как он представляет читателю столько различных подходов в жизни, что всё становится значимым; бесконечная подлинность непосредственного переживания, которая замещает накал событий; эпохальная точка зрения. Я потратил столько времени на сравнение разных аспектов «Войны и мира» и «Улисса», поскольку влияние Джойса на наш век всепроникающе. По словам Дерека Аттриджа: «Воздействие его [Джойса] литературной революции было таково, что немногие значительные писатели после него в какой бы то ни было стране избежали её последствий, даже когда они старались воздерживаться от парадигм и приемов Джойса […] Даже те, кто немного читают, встречаются с влиянием революции Джойса каждую неделю, если не каждый день, на телевидении и по радио, в фильмах, популярной музыке, в рекламе – все это отмечено как современные жанры использованием джойсовских приемов пародии и пастиша, мозаики слов и образов, повествования с открытым финалом, множественностью точек зрения. [Также:] беспрецедентная точность, с которой он вводит обыденные элементы повседневной жизни»136. Выделенные курсивом фразы можно также легко приложить к «Войне и миру». В той степени, насколько творчество Толстого повлияло на Джойса, таково и влияние Толстого на мир в двадцатом веке, на который так сильно воздействовал Джойс. 136 The Cambridge Companion to James Joyce, р. I. Влияние Толстого на писателей прошлого века не ограничивается лишь Джойсом. По мнению Томаса Манна, «чистое повествовательное влияние его работ беспрецедентно». В 1939 году, говоря об «Анне Карениной», Манн написал: «Это гомеровский элемент, я имею в виду, что история продолжается и продолжается, искусство и природа вместе, наивная, величественная, материальная, объективная, бессмертно разумная, бессмертно реалистическая! Все это было сильно в Толстом, сильнее, чем у многих других создателей эпических произведений»137. Несомненно, эти качества Толстого Манн держал в голове, когда создавал «Будденброков». И, как было сказано выше, финал «Смерти в Венеции» напоминает толстовские монологе на смертном одре. В недавней биографии «Марсель Пруст: Жизнь» Жан – Ив Тади рассказывает нам, что Толстой был «одним из любимейших писателей Пруста»; что, несомненно, на него повлияла повесть «Смерть Ивана Ильича»; что он не раз перечитывал «Анну Каренину»; и что он «чувствуются толстовские модуляции в некоторых пассажах его книги «Утехи и дни»138. Широта и всеохватность «Войны и мира» внушала Вирджинии Вулф благоговение. Она писала: «Едва ли есть хоть какая-то грань человеческого опыта, которая осталась незатронутой». Но нечто иное повлияло на её собственное творчество: то, как Толстой воспроизводил растущее сознание своих героев – их постепенно приобретаемое интуитивное чувство целостного божественного замысла, его «феникс» - образец. «Вулф», говорит Роберт Хамфри, - «верила, что важная вещь в человеческой жизни – это индивидуальный поиск смысла жизни и самоидентификации, а её путь её героев закончен только тогда, когда они готовы к получению этого видения». Таким образом, подобно Толстому, она пишет о подготовке своих персонажей к этому заключительному пониманию. И так же, как он, она выражает «особенное чувство постоянного видения», особенно в своих романах «Мадам Дэллоуэй» (1925) и «На маяк» (1927)139. <…> Что же касается Эрнста Хемингуэя, его первостепенный интерес, по мнению Хью Маклина, был в отношении Толстого к охоте и к войне. «Война и мир», - говорил Хемингуэй, - «лучшая книга, которую я знаю», Толстой «более удивительный писатель, чем многие из известных мне, за исключением Шекспира». Помимо «Войны и мира», рассказывает нам Маклин, у Хемингуэя было два экземпляра «Анны Карениной», а также том, содержащий «Казаков» и «Севастопольские рассказы». В 1000-страничный том избранного под названием «Люди на войне», который Хемингуэй Mann, Essays of Three Decades, trans. H.T. Lowe – Porter (New York: Alfred A. Knopf, 1947), p. 177. 138 Jean-Yves Tadie, Marcel Proust: A Life (New York: Viking/Penguin, 2000), pp. 178, 196-97, 219 (n.). 139 Robert Humphry, Stream of Consciousness in the Modern Novel (Berkley, CA: University of California Press, 1954), p. 13. 137 редактировал в 1942 году, он включил три отрывка из «Войны и мира»: «Действия арьергарда Багратиона», «Бородино» и «Народная война» (партизанская война в тылу у французов). <…> Во вступлении к книге, говорит Маклин, хвастовство Ростова перед Борисом и Бергом об атаке кавалерии напоминает Хемингуэю урапатриотическое отношение журналистов и историков к Первой мировой войне – войне, которая была «самой колоссальной, убийственной, плохо управляемой мясорубкой, что когда-либо случалась на земле»140. Итак, роман «Война и мир» научил его не отвлекаться от того, что происходит на самом деле, на войне или за её пределами; передавать самым простым языком, что его герои говорят, делают и думают – только голые факты, которые выстроятся таким образом, что будут говорить сами за себя, и таким образом будут выражать больше и более живо, чем искусные, но недвусмысленные развязки неточных концовок традиционного романа. Его цель (в отличие от Толстого) была в том, чтобы показать те невыразимые чувства, между которыми колеблются его персонажи в его очень коротким и необычайно выразительных рассказах, таких как «Там, где чисто, светло» и «Холмы, белые как слоны». Не только Пруст, Манн, Джойс, Вулф и Хемингуэй почитали Толстого: на протяжении двадцатого века писатели и критики считали его одним из величайших романистов всех времен. В начале 20-ых Перси Лаббок назвал его «самым гениальным из романистов»141. Подобным же образом отзывались о нем Джон Голсуорси и Хью Уолпол. Ссылаясь на «Анну Каренину», Лайонель Триллинг писал: «В литературе случаются такие моменты, когда дают никакой загадки своей силы, на любом языке […] время, когда литературным критикам ничего не остается делать, а просто указывать»142. В 1942 году Симон и Шустер выпустили специальное издание «Войны и мира» с предисловием Клифтона Фадимана, который указывал на аналогию между наполеоновскими кампаниями 1805 и 1812 года, так, как их описывал Толстой, и в то время продолжающуюся гитлеровскую кампанию. В феврале 1942 года, пишет Фадиман, «London Sunday Graphics» выпустила комикс, где изображался Гитлер и Геринг, салютующие армии и самолетам, движущимся на восток. Гитлер говорит: «У Вас никогда не появлялось чувство, что все это когда-то уже случалось, Герман?» Позади пары поднимается призрак Наполеона»143. Это издание стало бестселлером в Америке. В России, во время осады Сталинграда (когда большая часть населения, отрезанная от ресурсов, погибала от голода), было продано больше, чем миллион экземпляров «Войны и мира». Hugh McLean, “Hemingway and Tolstoy: A Pugilistic Encounter ”, Tolstoy Studies Journal II (1999), 20-24. 141 Percy Lubbock, The Craft of Fiction (New York: Peter Smith, 1947), p.24. 142 The opposing self, рр.72-3. 143 Leo Tolstoy, War and Peace (New York: Simon and Schuster, 1942), p, xxxix. 140 После окончания Второй мировой войны, после Холокоста, затем атомной бомбы с её возможностью моментального глобального разрушения, постмодернистские писатели, подобные Сэмюэлю Беккету, пребывали, казалось, в состоянии ступора. В 1941 году Беккет присоединился к французскому подполью и, едва не будучи пойманным нацистами, начал скрываться в 1942 году. Не удивительно, что разговаривая в 1949 году с художником – абстракционистом Жоржем Дютюи, Беккет произнес следующее: «нечего изображать, нечем изображать, неоткуда изображать, нет сил изображать, нет желания изображать, но вместе с тем есть обязательство изображать»144. В 1952 году он выполнил это обязательство одним из величайших в мире проявлением силы (tours de force): «В ожидании Годо» - это двухактная пьеса, в которой, как сказал кто-то «ничего не происходит, дважды». Ничего кроме этого, и блестяще преувеличивая затруднительное положение человека, он показывает безнадежную безвыходность в комическом свете. В начале 50-ых не только литература, а все виды искусства, казалось, пребывают в состоянии шока. Мы прибыли в эпоху антиискусства и сумбурной музыки, а также антипоэзии, романов с отрывными листами, которые читатель может собирать в новой порядке, пьес, которые не играют. Такие художники, как Давид Раушенберг, Джаспер Джонс, Ойвинд Фальстром и Ян Тингли отвергали всю идею замысла – исполнения и замещали её целью регистрации реальности не включаясь в неё: ставя на первое место самовыражение, до такой степени, как сказал Раушенберг: «художник становится просто другого рода материалом на картине, вступая в сотрудничество и другими материалами»145. Отсюда его белые полотна, картина, которая становится тенью, которые отбрасывают на неё прохожие, облака и так далее. И отсюда, в музыке, «Беззвучная пьеса» Джона Кейджа, где пианист безмолвно сидит перед клавиатурой, в то время пока публика «устраивает концерт» из звуков пододвигаемых стульев и откашливаний. Эти работы пытаются устранить человеческий элемент, выдвинуть вещи и случайные звуки на уровень предметов, создаваемых аудиторией, передать Вещь во всей её Вещности. Мы пришли к постмодернизму, и даже больше, чем можно было ожидать. «Наивысшая цель», - сказал Джон Кэйдж, - «не иметь совсем никакой цели»146. Это авторитетное мнение вполне описывает цель, а также общий эффект большинства постмодернистских произведений: романов и рассказов с 1950 и по сегодняшний день, написанных не только такими писателями, как Беккет, но и Аленом Роб – Грийе, Натали Саррот, Маргерит Дюрас, Томасом Пинчоном, Джоном Бартом, Доналдом Бартельми, Хорхе Луис Борхесом, а Mark Schorer, “Technique as Discovery”, in William Van O’Connor (ed.), Forms of Modern Fiction (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1961), p.24. 145 Calvin Tomkins, “Moving Out” (New York: The New Yorker February 29, 1964), p. 61. 146 Ibid., p.66. 144 также такими молодыми писателями, как Давид Фостер Уоллос и Марк З. Данилевски. <…> Почему же, заваленный такими яркими свидетельствами нетолстовского мира, в котором мы живем сейчас, мы все же читаем и перечитываем два великих романа Толстого? Доказано, ему недостает того, что Генри Джеймс называл «воображение бедствий» («the imagination of disaster»). «Для многих из нас», - пишет Триллинг, - «мир сегодня выглядит как роман Достоевского, каждое мгновение которого – кризис, каждая деталь которого – проекция обостренной чувствительности и слепой, раненой воли»147. Мы живем в атмосфере хаоса и какофонии. Тем не менее, все ещё есть сильное противоположное течение истины, по наблюдению Гертруды Стайн, в её книге о Пикассо: «Люди в действительности не изменяются от одного поколения к другому, и, насколько мы знаем историю, люди всегда таковы, какими и были, у них те де потребности, те же желания, те же добродетели и те же качества, те же изъяны действительно, от одного поколения к другому ничего не меняется, кроме того, как смотрят на вещи и этот взгляд формирует поколение, можно сказать, что ничто не меняется в людях из поколения в поколение, кроме того, как они видят и как увидены (the way of seeing and being seen)»148. В «Улиссе» разговор с собой Молли Блум забавляет и увлекает нас. Мы загипнотизированы проницательностью Джойса, но мы никогда не чувствуем, что мы сотрудничаем с Джойсом, или с Кафкой, с Фолкнером, или с Фланнери О’Коннором. Зачастую мы даже до последнего момента не знаем, что они хотят выразить, иногда даже и после этого. Мы настолько переполнены глубиной и искусностью таких писателей, их экспериментаторской жаждой. Но, возможно, то, что нам также нужно, после стольких проявлений изобретательности, это не то, чтобы нам бросали вызов на разрешение ещё одной психологической детективной истории. Возможно, мы хотим разделять реакции героев – то, что Толстой позволяет нам с таким сопереживанием, что мы способны, как сказал Триллинг, «прожить» его романы. «Прочитать его снова, - сказал Томас Манн, - значит найти путь домой, к защите от опасностей притворства и болезненной траты времени, домой к подлинности и жизнеспособности, ко всему фундаментальному и святому внутри нас»149. Может быть поэтому в свои восемьдесят Уильям Максвелл – писатель и долгое время редактор беллетристики в «The New Yorker» сказал, что его единственное сожаление перед приближающейся смертью – то, что он будет лишен возможности перечитывать «Войну и мир»150. 147 148 149 150 The opposing self, р.71. Gertrude Stein, Picasso (London: B.T. Batsford, 1938), p.10. Mann, Essays of Three Decades, р. 177. Publisher’s Weekly, 3 April 1995, vol.242, no.4, p. 11 (1). В этой главе я, из соображений экономии места, остановился на «Войне и мире», однако сказанное Лайонелем Триллиногом о парадоксальной уместности Толстого в наше время можно легко приложить к «Анне Карениной»: «Удивительный факт: хотя многие писатели смогли рассказать нам о муках в жизни, фактически ни один не был способен рассказать о боли языком возможной радости, и хотя многие изобразили затухание или извращение человеческих взаимоотношений, едва ли кто-либо был способен сказать, каковы нормальные отношения. Но у Толстого семья – это реальность; родительство (parenthood) – действительное, а не символическое состояние; привязанность на самом деле существует и о ней можно говорить без смущения; любовь растет и тает, она нежна или полна раздоров, но всегда – нечто большее, чем просто метафора; биологическая непрерывность – факт простой и неизбежный, а не как у Джеймса Джойса трогательное схематическое утверждение. Это, можем сказать мы, по причине низкого уровня воображения бедствий, который Толстой представляет нам, поскольку он напоминает нам о том, что такое нормальная действительность жизни»151. «Подслушивая» мысли и чувства своих многочисленных героев в «Войне и мире», Толстой создает для нас общий фонд понимания человеческого поведения – фонд, куда мы может добавить наши сходные воспоминания, таким образом делая частные подробности этого романа одновременно и личными и всеобщими. Общая цель – пропитать нас тем, что один критик назвал «ненормальная нормальность». Мы мчимся за «гением обыденности» Толстого и обнаруживаем, что отвечаем на «улыбки, пожатия рук» героев, так же, как они сами152. Действительно, кажется, что они действуют от нашего имени. Мы «теряем […] чувство дистанции между нами и персонажами, но не потому, что нас пересаживают в их эпоху, а потому, что их пересаживают в нашу»153. Мы чувствуем, что мы убегаем не от реального мира, а в него: в мир, где Николая не может понять, зачем француз может захотеть убить такого приятного человека, как он сам; где Наташа, на первом балу, отказывается танцевать с членами своей семьи; где княжна Марья просыпается, к своему ужасу, с надеждой, что её отец умер ночью. The opposing self, р. 171. Malcolm Jones, “Problems of Communication in Anna Karenina” in Malcolm Jones (ed.), New Essays on Tolstoy (Cambridge University Press, 1997), p.89. 153 Dmitri Merejhkowski, Tolstoy as Man and Artist (New York” G. P. Putnam’s Sons, 1902), p.192. 151 152 Заключение. Книга Эмилия Диллона, рассмотренная нами в первой главе дипломной работы, актуальна и сегодня. В непрекращающихся спорах о Льве Толстом к мнению Диллона апеллируют и по сей день. В 1995 году вышел сборник «Духовная трагедия Льва Толстого», составители которого и автор предисловия - И.М.Концевич154 заняли четкую позицию по отношению к отлученному от Церкви Л. Толстому, заявив: И. М. Концевич, (1893 – 1965) –духовный писатель, историк, авторитетный исследователь темы «Оптина Пустынь и русские писатели», автор книг «Оптина Пустынь и ее время», «Стяжание Духа Святого в Древней Руси». В книге «Оптина Пустынь и её время» И.М. 154 «Состав настоящего сборника определен жесткими целевыми рамками: показать на фоне эпохи противостояние православного сознания натиску богоборчества, выразившемуся в одном из своих ответвлений — толстовстве. Из великого множества материалов, связанных с этим событием русской жизни, были отобраны и включены в книгу лишь наиболее существенные с православной точки зрения. Таковыми помимо непременных документов — "Определений" Святейшего Синода и сопутствующей ему переписки должны были быть публичные заявления и обличительные Слова виднейших церковных деятелей и духовных писателей. Из раздела "Откликов" читатель почерпнет представление о реакции на событие среди людей самых разнообразных профессий и интересов. Показательны и отзывы зарубежной прессы. Осуждение еретических исканий Льва Толстого нисколько не умаляет его художественных дарований и свершений. Когда Гений и Истина входят в разлад, Христова Церковь назидает познать выход из противоречия. И обыкновенно выход находят. К сожалению, Лев Николаевич Толстой таким назиданием упорно пренебрегал». Работа И.М. Концевича «Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого», приведенная в качестве предисловия к сборнику, впервые была напечатана в Мюнхене в 1960 г. В его работе цитируется мнение Э. Диллона о Л. Толстом, но ссылки ни в тексте предисловия, ни в примечаниях нет. Сравнив фрагменты из работы И.М. Концевича с книгой Диллона, мы пришли к выводу, что автор работы «Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого» действительно опирается на книгу английского журналиста «Граф Лев Толстой. Новый портрет». Вот некоторые из цитируемых Концевичем отрывков: "Он считал религию необходимой, но не верил в божество Христа, в бессмертие души и даже в существование Бога. В религии Толстой был Концевич рассказывает о русских писателях, посещавший пустынь – Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском. сам собственным богом"155. Или: "Во время утреннего умывания на задворках яснополянской усадьбы я услышал гневный голос графа, который ругал (выражаясь мягко) каких-то мужиков. Навыкнув слышать от него призывы, к братским чувствам к меньшим братьям, я был поражен и возмущен этой сценой"156. И.М. Концевич – вовсе не яростный противник Л. Толстого, он не слепо клеймит его, а со своих позиций пытается проанализировать духовный опыт русского писателя и мыслителя, но далеко не апологетическое мнение Диллона о Л. Толстом кажется ему авторитетным. И как нам кажется, пока люди будут обращаться к философскому, художественному и публицистическому наследию русского писателя, будут длится и споры о нем, и будут высказываться мнения pro et contra. О восприятии Л. Толстого в современном англо-американском литературоведении свидетельствуют мнения ученых, чьи статьи мы привели во второй главе нашей дипломной работы. Хотелось бы отметить повышенный интерес исследователей к теме, обозначенной Эдвиной Круз: к проблемам женщины, сексуальности и семьи у Л. Толстого. Назовём лишь некоторые из тех работ по данному вопросу, что вышли за последние десятилетия за рубежом: «Женщины у Л. Толстого: идеал и эротика» Р.К. Бенсон157, «Структура «Анны Карениной»: Л. Толстой, женский вопрос и викторианский роман» Эми Манделкер158, «Идеальная женщина у Л. Толстого: роман «Воскресение» самой Э. Круз159. Этот интерес не удивителен: объяснение ему, на примере романа «Анна Каренина», можно найти в статье Э. Круз: «Роман «Анна Каренина» побудил поколения Dillon E. J. Count Leo Tolstoy...р. 13. Ibidem., p. 205. 157 Benson, Ruth Crego. Women in Tolstoy: The Ideal and the Erotic. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1973. 158 Mandelker, Amy. Framing Anna Karenina: Tolstoy, the Women Question and the Victorian Novel. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1993. 159 Cruise, Edwina Jannie. “The Ideal Women in Tolstoi: Resurrrection” // Canadian – American Slavic Studies II, no. 2 (Summer 1977), 281-86. 155 156 читателей размышлять и бесконечно возвращаться и по-новому открывать природу женских переживаний». А «глубокое исследование непреодолимой власти и разрушительной мощи сексуального желания, как мужского, так и женского» в «Войне и мире», «Семейном счастье», «Крейцеровой сонате», «Воскресении» и других произведениях Л. Толстого кажется особенно актуальным в нашу эпоху. Долгое время в англоязычном литературоведении преобладало мнение, что Ф. Достоевский – предтеча литературного модернизма, тогда как Л. Толстой противопоставлялся экспериментированию в литературе ХХ века. Эта точка зрения мешала увидеть безусловное новаторство русского писателя в художественной прозе, как в отношении формы, так и в отношении содержания. Положение стало коренным образом меняться только с начала 1980-х годов. Статья Джорджа Клэя – убедительный аргумент в пользу того, творчество Л. Толстого более чем уместно в контексте литературы ХХ века. Американский исследователь указывает на прямую связь русского писателя с такими писателями ХХ века, как Джеймс Джойс, Марсель Пруст, Вирджиния Вулф, Томас Манн. В своих произведениях Л. Толстой предвосхитил и по - своему разработал один из главнейших приемов в литературе модернизма – технику «потока сознания»: Л. Толстой экспериментировал с техникой потока сознания уже тогда. Когда писал незаконченную им «Историю вчерашнего дня», а затем «Детство, Отрочество, Юность». На протяжении двадцатого века писатели и критики считали Л. Толстого одним из величайших романистов всех времен. Автор статьи задается вопросом: почему же в эпоху антиискусства, сумбурной музыки, антипоэзии – в эпоху постмодернизма, в изобилующим катастрофами, хаотическом двадцатом веке, – мы все равно обращаемся к произведениям Л. Толстого? «Возможно, мы хотим разделять реакции героев – то, что Л. Толстой позволяет нам с таким сопереживанием, что мы способны, «прожить» его романы». Суть «парадоксальной уместности» Л. Толстого – его извечный призыв «ко всему фундаментальному и святому внутри нас», он «напоминает нам, что такое нормальная действительность жизни». Библиография. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.29. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.46. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.51. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.52. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.66. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное изд. М., ГИХЛ, 19281958. Т.87. Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-х т. М.: Худож. лит., 1983. Т.15. Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-х т. М.: Худож. лит., 1983. Т.16. Толстой Л.Н. Пора понять. Избранные публицистические статьи 1880 – 1910 гг. М.: Изд-во МГУ, 2003. Абросимова В.Н. «…рассказать жизнь, как она была» (Из писем Эмилия Диллона в Л.Н. Толстому) // Вопросы литературы. 1989. № 11. С. 124-172. Апостолов Н.Н. Живой Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 2001. Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М., 1993. Бабаев Э.Г. Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого. М.: Изд-во МГУ, 1978. Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М., 1922. Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1828 – 1890. М.: ГИХЛ, 1958. Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891 – 1910. М.: ГИХЛ, 1960. «Гражданин», 12 марта 1982 г. Духовная трагедия Л.Толстого. М.,1995. Диллон Э. Мое первое посещение Ясной Поляны // Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т.1. С. 473-478. Дневники С.А. Толстой. 1860-1891. Издание М. и С. Сабашниковых. М., 1928. Э. Диллен, Немецкая наука на почве России // «Санкт – Петербургские ведомости», 1880, №112. Ковалев В.А. Творческий путь Л. Н. Толстого. М.: Изд-во МГУ, 1978. Ламздорф В.Н. Дневник. В 2-х томах. М. –Л., 1934. Т. 2. Лакшин В.Я. Интервью и беседы с Л. Толстым. М., 1978. Лёвенфельд Р. Гр. Л.Н. Толстой: Его жизнь, произведения и миросозерцание. Перевод с немецкого С. Шклявера. СПб., 1896. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М.: Изд-во МГУ, 2002. Линков В.Я. Комментарии // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: 1978. Т.12. Л.Н. Толстой: pro et contra. Личность и творчество Л. Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 2000. Лев Толстой и русская печать. Сборник статей. 1902 – 1903 гг. М.: Издво МГУ, 2003. Л.Н. Толстой и Н.Н. Ге. Переписка. Л.: Изд-во Academia, 1930. Ломброзо Ц. Мое посещение Толстого. Женева, 1902. «Московские ведомости», 12 марта 1892 г. «Московские ведомости», 15 марта 1892 г. Новоселов М.А. Догмат и мистика в православии, католичестве, протестантстве. М.: «Лепта - пресс», 2003. Олейник В.Т. Англоязычная критика второй половины 70-х годов о Л.Толстом // Л.Н.Толстой и всемирная литература. М.,1980. «Русская жизнь», 9 марта 1892г. Русские мыслители о Льве Толстом. Тула: Ясная Поляна, 2002. Серых Е.С. Основные направления анализа творчества Л.Н.Толстого в современном американском литературоведении. Автореферат диссертации. М., 1990. Сорочан А., Строганов М. Tolstoy Studies Journal // НЛО 2003, № 64. Скафтымов А.П. Образ Кутузова и философия истории в романе Толстого «Война и мир» // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 182-217. Толстовский ежегодник. 2001. Толстой и о Толстом. Материалы и исследования. Выпуск 2-й. М.: ИМЛИ РАН, 2002. Чертков В.Г. О последних днях Льва Николаевича Толстого. М., 1911. Эткинд А. Новый историзм, русская версия // НЛО 2001, № 41. Rowe W.W. Leo Tolstoy. Boston, 1986. Morson G.S. Hidden in the plain view: Narrative and creative potentials in “War and Peace”. Stanford, 1987. Hugh McLean, “Truth in Dying” // In the shade of the Giant: Essays on Tolstoy: Ed. By Hugh McLean. Berckley, L.A., L., 1989. John M. Kopper, “Tolstoy and the Narrative of Sex: a reading of “Father Sergius”, “The Devil”, and “The Kreutzer Sonata” // In the shade of the Giant: Essays on Tolstoy: Ed. By Hugh McLean. Berckley, L.A., L., 1989. The Russian Novel from Pushkin to Pasternak. New Haven, 1983. American contribution to the VIII international congress of slavists (ZagrebLjublijana, 3-9 sept., 1978).-Columbus (Ohio): Slavica publ., 1978.- Vol.2. Literature/ Ed. by Terras V. Gustafson R.F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger. A study in fiction and theology. Princeton, New Jersey, 1986. // Густафсон Р.Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Л. Толстого. СПб., 2003. Critical essays on Tolstoy. Boston, 1986. Wilson A.N. Tolstoy. N.Y., L., 1988. Gunn L. A daring coiffeur. Reflection on “War and Peace” and “Anna Karenina”. L., Chatto a. Windus, 1971. Speirs L. Tolstoy and Chekhov. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. Lampert E. Tolstoy // Nineteenth – century Russian literature. Studies of ten Russian writers. L., 1973. Greenwood E.B. Tolstoy: the comprehensive vision. L., 1975. Wasiolek E. Tolstoy’s major fiction. Chicago: University of Chicago press, 1978. Cain T.G.S. Tolstoy. L.: Elek, 1977. Hanah M. Dostoevsii versus Tolstoi: A struggle against subjective idealism // Canadian – American Slavic Studies, Montreal, 1978, vol.12, №3, р. 371 –376. Tolstoy Studies Journal, Toronto, 1988 – 2004. Dillon E.J. Count Leo Tolstoy. A new portrait. N.Y.,1972. Dillon E.J. Russia today & yesterday, Lnd. – Toronto, 1929. Dillon E.J. Count Tolstoi’s faith and practice // The Review of Reviews, Jan.,1892, vol.V, no.25, pp. 35-37. Dillon E.J. Count Tolstoi – his disciples and traducers. A Russiun literary causerie // The Review of Reviews, Apr.,1892, vol.V, no. 28, pp.414-416. The dictionary of national biography. The concise dictionary. Part II. 19011950. Oxford,1961. The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Orwin D.T. Introduction: Tolstoy as artist and public figure // The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 49-61. Cruise E. Women, sexuality, and the family in Tolstoy // The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 191-205. Сlay G.R. Tolstoy in the twentieth century // The Cambridge companion to Tolstoy: Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 206 – 221. Benson R.C. Women in Tolstoy: The Ideal and the Erotic. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1973. Mandelker A. Framing Anna Karenina: Tolstoy, the Women Question and the Victorian Novel. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1993. Cruise E. “The Ideal Women in Tolstoi: Resurrrection” // Canadian – American Slavic Studies II, no. 2 (Summer 1977), 281-86.