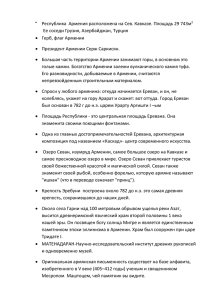Разговор об Арменииx
advertisement
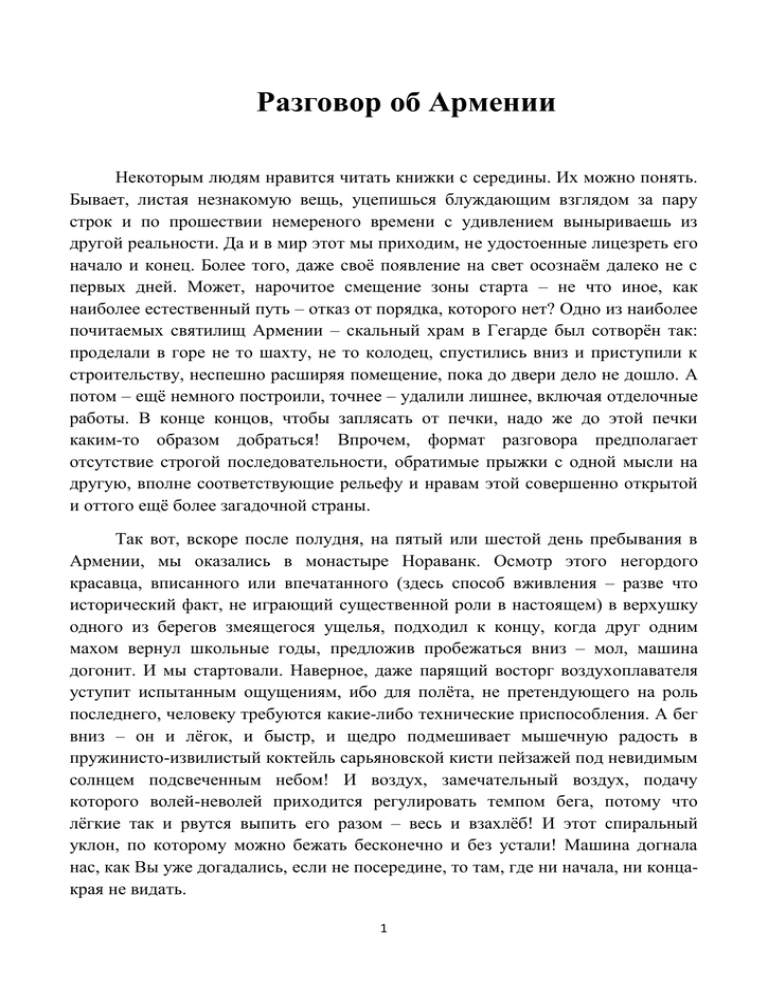
Разговор об Армении Некоторым людям нравится читать книжки с середины. Их можно понять. Бывает, листая незнакомую вещь, уцепишься блуждающим взглядом за пару строк и по прошествии немереного времени с удивлением выныриваешь из другой реальности. Да и в мир этот мы приходим, не удостоенные лицезреть его начало и конец. Более того, даже своё появление на свет осознаём далеко не с первых дней. Может, нарочитое смещение зоны старта – не что иное, как наиболее естественный путь – отказ от порядка, которого нет? Одно из наиболее почитаемых святилищ Армении – скальный храм в Гегарде был сотворён так: проделали в горе не то шахту, не то колодец, спустились вниз и приступили к строительству, неспешно расширяя помещение, пока до двери дело не дошло. А потом – ещё немного построили, точнее – удалили лишнее, включая отделочные работы. В конце концов, чтобы заплясать от печки, надо же до этой печки каким-то образом добраться! Впрочем, формат разговора предполагает отсутствие строгой последовательности, обратимые прыжки с одной мысли на другую, вполне соответствующие рельефу и нравам этой совершенно открытой и оттого ещё более загадочной страны. Так вот, вскоре после полудня, на пятый или шестой день пребывания в Армении, мы оказались в монастыре Нораванк. Осмотр этого негордого красавца, вписанного или впечатанного (здесь способ вживления – разве что исторический факт, не играющий существенной роли в настоящем) в верхушку одного из берегов змеящегося ущелья, подходил к концу, когда друг одним махом вернул школьные годы, предложив пробежаться вниз – мол, машина догонит. И мы стартовали. Наверное, даже парящий восторг воздухоплавателя уступит испытанным ощущениям, ибо для полёта, не претендующего на роль последнего, человеку требуются какие-либо технические приспособления. А бег вниз – он и лёгок, и быстр, и щедро подмешивает мышечную радость в пружинисто-извилистый коктейль сарьяновской кисти пейзажей под невидимым солнцем подсвеченным небом! И воздух, замечательный воздух, подачу которого волей-неволей приходится регулировать темпом бега, потому что лёгкие так и рвутся выпить его разом – весь и взахлёб! И этот спиральный уклон, по которому можно бежать бесконечно и без устали! Машина догнала нас, как Вы уже догадались, если не посередине, то там, где ни начала, ни концакрая не видать. 1 Поговорим же об Армении. Хотя к этому разговору сразу и не приступишь, ибо вся она сдвинута, приподнята, подпрыгнута, наконец, и для беседы на равных приходится привести себя в такое же состояние. Свидетельствуя вооружённым глазом фотографа, Армению следует начинать Параджановым и заканчивать Сарьяном. Параджанов – величайший ковёрный этой страны, он готовит зрителя к невообразимым чудесам, с избытком исполняя самые невероятные обещания. Шаманство его коллажей раскупоривает не один десяток органов чувств, открывает неведомые поры, позволяющие Армении влиться в тело иноземца, насытить и исцелить его. И когда всё это уже произошло, перед самым прощанием, Сарьян выступает в роли фиксатора. Он завязывает ниточки на каждом из наполнивших тебя воздушных шариков, чтобы легче летелось, чтобы так и жилось. Так теперь и живём. Для русского языка Армению открыл Мандельштам. Он же её и закрыл. Закрыл настолько ловко и искусно, что даже сам в армянской прозе не смог подступиться к идеальному двенадцатигранному (по числу месяцев? апостолов? колен израилевых? – остаётся только гадать) стихотворному храму собственной постройки. И никто не смог. А я и пытаться не буду. Так, поброжу вокруг, полюбуюсь, да дерзну воспользоваться его вечными и безотказными рецептами. Этому доктору вполне можно доверять – следуя заветам Гиппократа, он, в первую очередь, исцелился здесь сам, и после пятилетней же немоты, тонкой издёвкой над современниками, привыкшими «пятилеткой жизнь мерить», к нему вернулись стихи. Да как вернулись! Первым словом он сказал об Армении всё. Настолько всё, что на популярные вопросы «Где?» и «Когда?» даны вечные ответы: в Армении, всегда. Лишь по поводу «Что?» можно немного порассуждать – заняться толкованиями во имя приобщения к первоисточнику. Сколько не сопротивляюсь, но математический склад ума исподволь подталкивает к измерению «алгеброй гармонии». В путешествиях – особенно. Почуяв благостное место, я тут же пытаюсь не то чтобы исчислить, но сформулировать для себя (не заботясь, впрочем, об абсолютной точности слов) его суть, осознать осязаемое, увидеть сокрытую изюминку. Так, моя Венеция – это рукотворный идеальный мир, или материализованная мечта о нём; сердцевина Праги с присадками Вильнюса – вечный город, концентрат человеческого поселения, Корфу же – напротив, триумф самобытной природы. Пока я читал об Армении, по мере роста её описательной привлекательности, всё больше беспокоило именно это ускользающее понимание, пришедшее чуть ли не сразу по прибытии, в Гегарде: равновеликость человека и природы. 2 Именно равновеликость, а не равенство, хотя математически равенство даже сильнее. Великая природа и великий человек. И ни в коем случае одно для другого. Вот ещё: отсутствие подчинённости, удивительная соразмерность, сообразность. Из Гегарда мы поехали в Гарни – очень разумная последовательность, ненавязчиво подчёркивающая устойчивое превосходство характерного (специально не ставлю ударение) армянского храма в сравнении с античным, языческим. Естественно, у входа-выхода существенно превышающее спрос предложение фруктов, мёда, лаваша, лепёшек, сувениров. Посмотрелипоглазели, но ничего не купили. И когда уже садились в машину, одна из (даже не знаю, как сказать: торговок – грубо, армянок – общо… вот, нашёл!) жриц культа прихрамового бизнеса передала экскурсоводу подарок для нас – мешочек с абрикосами. Для начала поразил сам факт дарения, каковое, по нашим понятиям – необязательный удел состоявшегося покупателя. В мешочке оказалось ровно восемь отборных абрикосов, по два каждому. Опять же точность: по одному – скуповато, не распробовать, по три – уже на неоплаченную покупку потянет, исподволь обернувшись долгом, а по два – идеальный дар. Золотое сечение. Абрикосы были все как один – солнечные, без намёка на пере- или недозрелость, размером – побольше грецкого ореха и со вкусом лёгкой медовой прохлады. Стоит ли говорить, что именно абрикос считается символом Армении?! «Солнца персидские деньги щедро раздаривающая – // Армения, Армения!» «Не развалины – нет – но порубка могучего циркульного леса, // Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного христианства, // Рулоны каменного сукна на капителях, как товар из языческой разграбленной лавки…» Да простят мне нескончаемые вереницы благочестивых и не очень предков, но проживи я сколь-нибудь длительный срок в Армении, совершенно не исключаю принятия христианства. При собственной гипертрофировано болезненной реакции на любую заорганизованность, в местной религии я не почувствовал ни капли навязчивости или вычурности. Дважды прозвучала фраза «В Армении можно всё» – один раз от торговца из Араратской долины, у которого мы покупали опять же абрикосы, а второй – от нашего экскурсовода Давида, как характеристика армянской церкви. «Она очень мягкая и терпимая, – сказал Давид, – и никого не заставляет делать что-либо». Давид сопровождал нас в наиболее культовые места – Гегард-Гарни и Эчмиадзин. Едва увидев его, не успевшего ещё рот открыть, мы с женой переглянулись, как лёгким током ударенные – настолько попадание было в 3 точку. Реальный экскурсовод чуть превзошёл наше представление об экскурсоводе идеальном. Развивая тезис равновеликости и соразмерности, мы получили в его лице представителя армянской интеллигенции и гражданина мира; человека, естественно оппозиционного действующей, если не бездействующей, власти и влюблённого в собственную страну; прекрасно информированного эрудита, чуть играющего опаску перед нашей образованностью. Давид просто показывал, скупыми комментариями предоставляя нам возможность делать самостоятельные выводы, словно не до конца уверенный в их однозначности. И этот высший класс был настолько уместен, что воспринимался как нечто, само собой разумеющееся. Мы касались самых разных тем, в том числе и весьма болезненных – геноцида, территориальных уступок Турции, Арцаха (именно так следует называть Горную Армению, а штампу «Нагорный Карабах» впору соседствовать в зарубежных книгохранилищах с проспектом 25-го октября). Но при всей эмоциональности беседы (а покажите мне хоть одного равнодушного армянина! Они ведь не к конкретным событиям – они к жизни неравнодушны!) не ощутили даже намёка на злобу. Сначала почудился благожелательный оттенок фразы об Иране. Памятуя века вражды армян с персами – вспомнить хотя бы историю гибели Грибоедова, – я удивлённо переспросил, не ослышался ли, и получил ответ: «А что Иран? Мы с Ираном дружим!». Чуть погодя прозвучало, что, естественно, Армения дружит и с Америкой, и с Россией. «Хотя зачем Ленин отдал Турции в 1921 году нашу территорию, включая Арарат, а Тихонов в 1982 году этот договор переподписал – я до сих пор не понимаю. Но сейчас вы же помогаете охранять наши границы!». Даже в адрес Турции и Азербайджана не было ожидаемых враждебных выпадов. «В Турцию мы ездим, но через Грузию. А с Азербайджаном вроде бы войны сейчас нет, но каждый день там кто-то из наших ребят погибает…». Подшучивая над «братьями меньшими», живущими по ту сторону границы с Грузией, одной лишь улыбкой он показывал, что осознаёт неизбежное зеркальное восприятие в обратную сторону, а также то, что подобный подход оставляет в зазеркальи разнонаправленное меньшинство во славу инвариантного братства. Люди – они ведь все, в общем-то, братья. Откуда берутся такие люди?! Гегард назван по ивритскому слову, означающему наконечник копья. Того самого римского копья, пронзившего распятого Иисуса. Говорят, подлинный наконечник. По крайней мере, если так можно выразиться, наиболее подлинный из четырёх известных кандидатов. Наконечник этот много веков прятали в 4 Гегарде, а потом переместили в Эчмиадзин, в главный, так сказать, офис. И близко не претендуя на роль кощунственного путеводителя, попробуем приделать к этому наконечнику мысленное древко, свободное от отпечатков убийственных пальцев, дабы брошенное копьё перед благопристойным приземлением в застеклённой витрине эчмиадзинского музея облетело все увиденные нами храмы и монастыри, нанизав их в единый собирательный образ армянской церкви. А прежде чем выпустить копьё из Гегарда, позволим себе в нём ненадолго задержаться. «Плечьми осьмигранными дышишь // Мужицких бычачьих церквей». Какова должна быть мощь этого дыхания, если Мандельштам смог его так точно ощутить в годы храмовой гибели и гонений на веру?! А ведь церкви в Армении именно такие. Простые, неброские, издали кажущиеся неказистыми, они настолько органичны в обрамлении пейзажа, что совершенно не подавляют. Это – уютная ниша между парчовой тяжестью с золотыми куполами, гнетущими входящего своим величием, и остроконечной устремлённостью в горние вершины, показывающей человеку всю его суетность и бренность; самой природой возвышенное убежище, где нет ничего лишнего и надуманного. Была вот в Гегарде скала, вынули из неё всё избыточное, и получился храм. Без быта, без сбыта, как и подобает. Приземистые разлапистые колонны надёжно и упорно держат на себе праведно почерневшие своды. Келейные каморки тесны, но не затхлы. Наружная миниатюрность на фоне окрестных гор соразмерно компенсируется тем более неожиданным внутренним простором. Особенно сильно это свойство ощутилось в Татеве, где самая длинная и высокая в мире канатная дорога по-над крестом развёрстыми каньонами доставила нас в притулившийся над обрывом монастырь – просветительский центр XIII-XIV веков. И там под стандартной, не помню уж, конической или пирамидальной, но поросшей непременной растительностью, крышей центрального строения открылся непомерно огромный именно в силу своей неожиданности сферический купол с тяжелющей железной цепью, отдыхающей от маятного движения. Кажется, на этот раз она была без лампы. Приземлённая вселенская мощь, проступающая даже там, где не хранятся мощи. И око Божье – ердык – круглая дыра в потолке, этакий всегда светлый пункт обмена солнечной или лунной, но неизменно – небесной силы на поднебесную молитвенную энергию. Кто угодно, но не бес может снизойти с небес. Поразительное ощущение – каждый встреченный храм был уместен. Кажется, единственное, что соблюдалось свято – это соединительный принцип. 5 Церковь – посредник между человеком и природой, человек – между природой и церковью, природа преподносит храм человеку. Лебедь рак и щука издревле убыли в антрепризу дедушки Крылова. Здесь же – орлы над горами и аисты на телеграфных столбах, форели в Севане и ящерицы у монастырской ограды. И, конечно, бесконечные стада на склонах и проезжей части, всей своей пасущейся леностью не пасующие перед всесильными правилами дорожного движения, о которых – чуть позже. Христианство в Армении ведёт отсчёт с 301 года – его принятие на государственном уровне опередило даже Рим. Первенцу дозволено многое. Явные признаки запустения на поверку оказываются нескрываемым естеством, и отнюдь не означают заброшенности. Просто, например, ласточки, свившие под сводами многочисленные гнёзда, столь же полноправно влетают в двери, дабы накормить разевающих рты младенцев, как и прихожане, явившиеся собственных младенцев окрестить. Особенный шик при этом – попотчевать отменными шашлыками из жертвенных животных как можно большее количество непричастных к мероприятию людей – чем больше, тем успешнее считается жертва. Не только человеку угодно то, что угодно Богу, но и наоборот. Ещё один, завуалированный во избежание кощунственных мыслей, намёк на равновеликость? Высшее таинство службы – в отсутствии внешних признаков таинства. Местом её может быть любой храм – от помпезного Кафедрального собора в Эчмиадзине до нехотя восстанавливающегося из руин Кобайра. Отдаю предпочтение последнему – нелёгкий сокровенный подъём к нему, полуразрушенные стены с недореставрированными фресками вкупе с аркой к пропасти, в которой теряется соседствующий водопад, настолько захватывают дух, что церкви остаётся лишь грамотно распорядиться этим безропотным пленником. Хорошо, когда тебя не возвышают и не принижают, а дарят, возвращают гармонию, пользуясь незатейливым, но очень действенным камертоном. Магический северный треугольник, вершинами которого совместно с вышеупомянутым Кобайром являются Санаин, где воспитывался великий поэт Саят-Нова, и Ахпат, где жизнь его закончилась в заточении. И пока Кобайр восстанавливает свои силы, Санаин с Ахпатом с напускной сварливостью переглядываются через ущелье, оспаривая преимущественные права на СаятНова. Спор этот – что переводы с армянского – чистое недоразумение. Если хватит дыханья, предлагаю окунуться в посвящённый поэту фильм Параджанова, а коль не хватит, так прогуляйтесь не спеша по одноимённому 6 проспекту Еревана. Только сначала – Ахпат с Санаином. И непременно – Кобайр, где даже надписи типа «Здесь был я» умиляют в силу своей вековой уже с гаком давности. Кстати, пока мы ещё в Гегарде, просто разговор наш своей бессистемностью превзошёл все мои опасения. Да и Бог с ними. О храмы армянские, могут ли наскучить уроки вашего каменного красноречия! Небесный свет, наперекор всем естественным законам присущий исполинской земной мощи, рождает неземную прохладу. Фрагменты чёрного, розового, рыжего, белого камня мозаично примыкают друг к другу подобно частям единого монолита. Да он и есть монолит, ненадолго в сравнении с вечностью распавшийся когда-то и скреплённый вновь. Из узких окошек просторных залов окрестные холмы кажутся миниатюрными, коль скоро не заберёшься на них, дабы неторопливо смаковать игрушечные изящные постройки у подножия. Армяне радуются своей церкви и её обрядам как дети цирковому представлению. Встречаются презабавные картинки. Так, один из посетителей эчмиадзинского музея потребовал от спутницы (видимо, дочери) запечатлеть его на фоне каждого из нескольких десятков наиболее досточтимых экспонатов. В этом деятеле трудно было заподозрить продвинутого пользователя электронной информации. Скорее всего, заветный картонный альбом в эксклюзивной кожаной обложке, посвящённый себе любимому и досточтимому, пополнится серией фотографий «Я и обломок Ноева ковчега». Лет тридцать назад нечто подобное творили митьки, правда, с куда большей долей самоиронии. При этом глубоко внутри каждого, или почти каждого армянина есть, как жемчужина в раковине образованное, понимание, что эта церковная конструкция – скелет нации. Последний день блужданий по Еревану включал в себя закупку сувениров в местном, так называемом, вернисаже, оказавшемся чуть продвинутой барахолкой с восточным колоритом. Для дочки, весьма неравнодушной к национальной самоидентификации, мы выбрали деревянный армянский нос, размахом уступающий разве что гоголевскому, но не иудейскому, в миру служащий держалкой для очков. На задней стенке изделия автор нанёс свои инициалы и крестик. Когда мы заявили о принадлежности к иной конфессии, он только развёл руками: «Я – христианин». Без пафоса, без гордости, просто – не могу, мол, иначе. Стоит ли говорить, что после такого жеста нос был куплен тотчас же и без торгов?! В Армении особенно остро ощущаешь, насколько лжива «мысль изречённая» (к Мандельштаму – не относится, исключение подтверждает 7 правило). Не столько даже лжива, сколько избыточна. По дороге на север мы должны были проехать пару монастырей – Ованаванк и Сагмосаванк. Накануне, как водится, почитали путеводитель, описание реликвий. А потом, по месту, сопоставляли увиденное с вычитанным, как кусочки паззла. Но стоит ли мастерить себе новые шоры лишь ради будущего избавления от них?! Оставим впредь лишние имена любителям кроссвордов, ибо здесь отсутствие названий не препятствует идентификации, а даже напротив – способствует целостности. Ну на кой чёрт на неидеально сохранившемся барельефе XIII века пытаться отличить приближенных к Христу мудрых дев от неразумных? А увидев явные признаки каменной растительности на лице, усомниться, да девы ли это? Помутнение сие начало рассеиваться здесь же, когда удалось разглядеть в полуразрушенной нише именно валявшийся чудесный угольно-карандашный слепок отрубленной мужской головы. На вопрос, Олоферн это, или Иоанн Креститель, местный привратник – единственный из оказавшихся поблизости храмовых деятелей – ничтоже сумняшеся изрёк: «Святой Карапет». Вопрос запомнили для Давида, который на следующее утро, чуть улыбнувшись, разъяснил: «Конечно, Иоанн Креститель. А Святой Карапет, или Сурб Карапет – это имя церкви, разрушенной ещё в XIII веке в Нораванке». Так погибла страсть к туристическим штампам. Ярлык неуместен в краю, где ердык меняет подсветку у каменных книг. Копьё наше, тем временем, миновало Сурб Рипсиме в Эчмиадзине – предпоследнюю ступеньку армянского язычества, и чуть задержалось на последней, в Хор-Вирапе, у самого подножия Арарата. А может, поменять их, эти ступеньки, ведь сказочный формат последней страницы армянского язычества допускает такую возможность? Долго ли, коротко ли, но жил-был царь Трдат, и был в его царстве некий Григорий. Интрига заключалась в том, что много лет назад отец Григория убил отца Трдата, своего родственника, и сам был убит. Ничего личного, типичные политические дрязги и борьба за власть, инспирированная забугорными персами. К тому времени, когда молодых людей посвятили в отцеубийственные подробности, Григорий был убеждённым христианином, Трдат же больше сосредоточился на вопросах государственных, скорее по инерции оставаясь язычником. Получив важную информацию, он потребовал от Григория клятвы верности в храме верховного идола, в ответ на что получил отказ по причине христианства. Далеко не каждому государю под силу ощущать безопасность, держа в свите иноверца, то есть, человека, живущего по непонятным правилам, чей отец, 8 вдобавок, убил его собственного. Не долго думая, Трдат повелел бросить Григория в яму, что на территории нынешнего Хор-Вирапа. Знатное, надо сказать, узилище. Спустившись туда через узкий вертикальный лаз по лестнице, напоминающей пожарную, мы оказались в каменном мешке, диаметром тричетыре метра. Из плюсов здесь было отсутствие затхлости, грызунов и слизняков. Из минусов – отсутствие всего остального, включая свет. В этой яме Григорий провёл тринадцать лет, то есть буквально до скончания века (третьего от Рождества Христова). Провёл бы и больше, но в эту пору в Армению прибыла группа христианок, спасавшихся от имперского преследования за веру. Трдат был не прочь приютить симпатичных барышень, на самую красивую из которых у него появились вполне определённые виды, только римлянка эта по имени Рипсимэ (в римском варианте – Рипсим) предпочла остаться невестой Христовой. Христианки пытались бежать от Трдата, да были пойманы и побиты камнями. Дело для того времени обычное, но Трдат вскоре заболел ликантропией, изрядно его обезобразившей. Когда без особого успеха перепробовали все известные лекарства, сестрица посоветовала государю освободить Григория, который предстал не только живым, но вполне дееспособным. Царя исцелил, христианство привил на государственном уровне, храм Сурб Рипсимэ заложил на месте гибели римлянок и церковь армянскую на четверть века возглавил, снискав всем этим известность как Григорий Просветитель. Вот и добрались мы до Кафедрального Собора в Эчмиадзине. Место помпезное, нечего сказать. Внутри – вышеупомянутый музей, где долетевший до цели наконечник нашего копья разместился среди других значимых артефактов. Во дворе – забавная новостройка, появившаяся по случаю празднования 1700-летия христианства лет десять назад. Приятное и необременительное решение. Подобно деревенским торжествам, когда за неимением домов, способных вместить всех гостей, праздновали во дворе, а то и на улице, здесь, предвидя количество участников мероприятия, решили служить под открытым небом. В Армении, напомню, можно всё. Но в целом претенциозность Кафедрального Собора обратно пропорциональна произведённому на меня эффекту. Из всех значимых экспонатов впечатление подлинного, по-хорошему заряженного, осталось лишь от фрагмента Ноева ковчега, кусочек которого был подарен в знак благодарности нашей Екатерине II. Избыток цвета нарушал гармонию каменной симфонии, напоминая усердно раскрашенный чёрно-белый от рождения фильм. Разве что цветная роспись по мрамору, прошедшая сквозь века, могла показаться интересной, но специалисту, 9 а не зрителю, и не более того. Зачастую расширение арсенала средств выражения идёт в ущерб самой выразительности. Но бывает и наоборот. Вам не приходилось погружаться в море музыки? Площадь Республики – это гордость Еревана. Размахом своим и арочной окаймлённостью она напоминает нашу Дворцовую, разве что столпа не хватает. Вместо Эрмитажа – Национальная галерея, у подножия которой то самое море музыки и разливается. Мы столкнулись с этим чудом первым же субботним вечером, двинувшись, как полагается, на зов далёкой дудочки. Дудочка обернулась полноценным оркестром, разноцветной водяной феерией. Действо происходило в огромном прямоугольном бассейне, где светились фонтаны всевозможных конструкций. То была подлинная оркестровая яма, водяные труженики которой с весёлым радужным блеском отыгрывали все темы, которые властно вёл величайший из дирижёров – сама музыка. А Вы бы видели зрителей! Смешайте в одном человеке слушателя торжественного концерта и созерцателя праздничного салюта! Дайте ему внимать прекрасное, и не сдерживать эмоций! Выньте его из тяжеловесных и душных плюшевых кресел, и поместите прямо на сцену! А декорациями – мягко и дружелюбно подсвеченные величественные здания на фоне деликатно темнеющего ереванского неба! Хватит восклицательных знаков. Я ведь вот что хотел обсудить. Люди на нашем земном шарике, как известно, не подвержены разительным переменам, да и с квартирным вопросом, тьфу-тьфу, полегче стало. Но появились у них принципиально новые возможности. Речь идёт не о материальных возможностях, хотя по части путешествий, например, они довольно-таки существенны (вспомним, что Пушкину, чтобы доехать до Армении, требовался месяц, Мандельштаму – неделя, а нам хватило нескольких часов, причём более чем значимо повысилась не только скорость, но и доступность такого перемещения). Речь о коммуникационных новшествах, когда с помощью персонального мобильного устройства можно практически в любой момент с кем угодно пообщаться, обменяться фото- и видеоматериалами, получить доступ к любому разделу человеческих знаний. Темпы развития соответствующей техники таковы, что спустя каких-нибудь несколько лет можно будет, например, видеть мир глазами любого собеседника, где бы он ни находился, и затраты на всё это удовольствие сделают его практически общедоступным. А коль уж у людей меняются и стереотипы перемещения, и стереотипы общения, культуре на месте естественным образом не устоять. Боюсь, что в 10 нынешнем своём обличьи быть ей пассажиром неспешной развозки по специализированным музеям разных городов и весей. Жизнь человеческая переходит в экспресс-формат, не вмещающий долгих путевых раздумий, обстоятельных писем и романов с медленно раскручивающимся или закручивающимся сюжетом. При схожей внешности суть меняется, и неторопливая спираль оборачивается лихой пружиной. Неэлектронная почта кажется уже дремучим архаизмом, доклады заменяются чтением презентаций, песни – клипами, видеоряд которых беззастенчиво отодвигает на второй план собственно звучание… Глупо пытаться обуздать или игнорировать все эти тенденции; наоборот, в них следует очень внимательно разобраться, дабы экспресс не стал синонимом эрзаца. Так вот, будучи в Ереване, мы не только окунулись в море музыки, но и посетили вполне классическую оперу «Ануш». И ведь слова дурного не могу сказать ни о постановке, ни об исполнении – музыка хороша, костюмы замечательны, а артисты, в них облачённые, несмотря на изрядную духоту, работали на совесть, но… Сейчас во многих туристических центрах можно проехаться в шикарном фаэтоне, запряжённом парой, а то и четвёркой лошадей. Только в сознании это средство передвижения классифицируется как развлекуха, аттракция, но никак не транспорт. Нет, конечно, для знатоков и любителей есть ипподромы и турпоходы верхом, но это удел ограниченного контингента. Так и музыка в массе своей вырывается наружу из стен оперных театров и концертных залов, готовая разлиться у ног очарованных слушателей, завораживая их не только звуком, но и чудесными водяными инструментами. Если сейчас водная аранжировка – скорее инженерное решение, под музыку в лучшем случае подлаживающееся, то вскоре появится разнообразнейший спектр фонтанирующих оркестрантов музыкального бассейна со специфическими сочетаниями типа движения и силы света, напора и рисунка воды, цвета, собственного звука, наконец. Конечно, я не откажу себе в удовольствии время от времени появляться «в старинном многоярусном театре», дабы отдать должное классическим формам. Но это видится гурманством, тогда как пищей – водяная бездна музыки, сияние и зарево музыки, брызги музыки, вкус и запах её! Да простят мне профессионалы, у которых достало сил, преодолевая естественную брезгливость, продираться сквозь эти плебейские восторги, но я – за пропитку людей музыкой таким вот прекрасным способом. Как знать, не на этом ли морском берегу пройдёт детство нового Моцарта? 11 Чу, не притаился ли рояль в кустах? А как же, здесь он, родимый. Настоящий рояль, поросший заботливо остриженной травкой. А рядом вдохновенный пианист. Только армяне могут ставить такие памятники своим гениям. Гротескные черты, в любом другом месте прозвучавшие бы издёвкой, если не злым шаржем, здесь лишь усиливают ауру несказанного обожания. Не надо ничего говорить об этом человеке. Нужно лишь набрать побольше воздуха и поставленным голосом конферансье громко, звучно, смачно произнести «Арно Бабаджанян» чтобы, неторопливо откланявшись, удалиться за кулисы и оставить его наедине со зрителем. Занавес. И если звуки здесь рождают образы, то почему бы образам не родить звуки?! Я, собственно, подобрался к армянскому алфавиту. «Как люб мне язык твой зловещий, // Твои молодые гроба, // Где буквы – кузнечные клещи, // И каждое слово – скоба…». О гробах, молодых и не очень, мы поговорим своим чередом, а кузнечная мастерская расположилась под открытым небом, в чистом поле, где стрекочут кузнечики, у самого поворота к подножию Арагаца. «О поле, кто тебя усеял?» – Месроп Маштоц и почитатели его, – прозвучал ответ. Чистое поле, где стрекочут кузнечики, у самого поворота к подножию Арагаца, усердно усеяно буквами армянского алфавита, а сзади – Маштоц, его изобретатель, подобный зоркому и доброжелательному отцу-пастуху, застыл, изучая повадки своего послушливого выводка. Представьте себе, что язык этот ещё более мощный, чем сказал Мандельштам, и совершенно не зловещий. Он удивительно созвучен Армении, в этом его счастье и беда, которая, в конечном итоге – всё равно – счастье. Бывает так, что незнакомый язык притягивает силой слова. Не знаю, как у Вас, а у меня до описываемого визита, наверное, только латынь вызывала подобные чувства, но только в том случае, когда слова произносились. То есть, мне надо было латинскую фразу одновременно увидеть и услышать, чтобы ощутить, насколько она сильнее притулившегося рядом перевода. Так вот, армянские слова достаточно было только видеть. Даже отдельные буквы. Их графика – продолжение армянских очертаний. Звуки же, обозначаемые ими, – это отдельная серенада (хотел сказать – ария, но долой арийские ассоциации, им здесь – не место!) воздыханий под балконом взыскательной госпожи Фонетики. Возьмём, например, простое, заурядное даже армянское имя Мкртыч. (Кто ж не любит Фрунзика Мкртчяна?! Мы тут, блуждая по Еревану, наткнулись на памятник, где легко его опознали. А сам памятник, как оказалось, был не артисту, а фильму, где он снимался). Давайте произнесём это имя по-русски. В 12 народной, если так можно выразиться, транскрипции мы услышим растянутое и дополненное «Мыкырытыч». Макарыч, так сказать. Филологически продвинутая личность сотворит отхаркивающий лингвистически точный выдох «Мкртыч» и победоносным взором окинет недоумевающую аудиторию. А армянин будет смаковать каждый звук. Согласные украсятся короткими, длинными и совсемсовсем короткими придыханиями, задержкой дыхания, и когда, наконец, слово будет произнесено, на фоне невыразимого кайфа от самого совершенно недолгого звучания, исподволь удивляешься, какое же оно ёмкое по своему звуковому (в том числе – невысказанному) составу. Если, конечно, его произнести правильно. Совсем правильно. На пастбище букв нас привёл Апрес, тот, что не только организовал наше пребывание в Армении, но и по несколько раз в день тщательнейшим образом его отслеживал. (Не за какие-то деньги. Просто принимал в гости в своей стране. Это нормально.) Апрес прочитал нам четверостишие Туманяна. Потом стал его переводить в какой-то липкий и стылый ком манной каши. Движимый пока не оформившейся, но очень важной мыслью, я, извинившись, прервал декламатора просьбой перечитать оригинал. И ещё что-нибудь, только без перевода. То был миг прозрения, миг, когда я услышал симфонию армянского звука. То было счастье. Есть звуки, которые чуткое ухо пристрастно вербует в империю слуха. Потом мы неоднократно обсуждали и с Апресом, и с Давидом, что на беду свою, армянская письменная культура обречена на заточение своим же языком. Дело в том, что практически любой текст смотрится и звучит на армянском языке красиво, независимо от смысловой составляющей; графики и фонетики с избытком хватает, чтобы удовлетворить эстетическое чувство самого взыскательного ценителя, и замысловатые сюжетные линии, так почитаемые в художественной литературе, здесь выглядели бы неоправданным наворотом. В переводе же аристократические армянские фоны и графы неизбежно исчезают, оставляя читателя наедине с незатейливым, если не бессмысленным в отрыве от единственно возможного средства его выражения, сюжетом. Апрес на прощание подарил нам по сборнику стихотворений Туманяна. С переводами. К чёрту переводы! Не ведал он, что жёны наши выучили уже почти весь алфавит, а в ручной клади на почётном месте покоился самоучитель армянского. Далеко не каждый чужой язык так хочется узнать, осмысленно пропуская зримую его часть через гортань и уши. И отнюдь не каждая страна настолько почитает и свой язык, и его конструктора-изобретателя. Это ж додуматься надо до памятников буквам! Именем Месропа Маштоца названы улицы, по-моему, в каждом городе 13 Армении. И не какие-нибудь, а самые что ни на есть центральные. А вот в России, где язык, на самом деле, – это «наше всё», что-то, увы, не припомню я улиц Кирилла и Мефодия. Зато улиц, названных в честь кастрировавших его большевиков, хватает. Минута молчания. Одна из главных магистралей Еревана носит имя… Конечно, Месропа Маштоца – кто бы сомневался. «Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек калёный, // Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны». Нам не довелось увидеть город, который посетил Мандельштам. Ну, почти не довелось. Разве что на нескольких картинах Сарьяна, да ещё – когда из музея Параджанова неумолимо потянуло вглубь и ввысь в действительно «кривые вавилоны», и мы интуитивным образом оказались в старейшем районе Еревана – Конде. В Праге есть пешеходная улочка, на которой загорается светофор, когда по ней идёт человек, ибо двоим там не разминуться. В Конде цельный клубок таких улочек и проулочков. Естественно, без светофоров. И встречные люди там не разминаются, а останавливаются поговорить. Окружённый прозекторскими прожекторами неодобрительно смотрящих на него высоток, Конд напоминает рыбачий посёлок, стекающий с холма к центру современного города. Тем удивительнее смотрятся под крышами из глины и чуть ли не тростника спутниковые тарелки и автомобили представительского класса. Когда б на наших глазах один из таких монстров не выкарабкался, подобно скалолазу, в город, мы бы решили, что машины заброшены сюда с неба в качестве предметов интерьера. «Вавилон» сей, живописнейшим образом олицетворяющий свершившееся уже всеобщее смешение, упорно отстаивает право на жизнь в центре Еревана. Ничего большеротого я здесь не увидел. А вот на картинах Сарьяна улицы с выдвинутыми наподобие вставных челюстей балконами, и впрямь разинули рты. Город изменился, но волей-неволей вынужден соответствовать своему ставшему каноническим описанию. В восхитительной бессистемности расставлены скульптуры, каждой из которых можно полюбоваться не как шедевром, а застывшим кусочком души. Недостроенный Каскад, уже, впрочем, превзошедший своими габаритами Потёмкинскую лестницу. Совершенно неожиданный памятник жертвам холокоста. «Мы, как никто, понимаем евреев. Холокост – это же как геноцид,» – на ходу поясняет Давид. Стадион «Раздан», который по всем признакам превращается в храм – не современен, не функционирует, разрушается, но как вписан в окружающий мир, и какая 14 история! Здания из розового камня, которые так хороши именно в этом городе! Даже набившие оскомину хрущёвки, облицованные этим камнем, теряют всю свою привычную унылость. «Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала, // Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?» И люди – неотъемлемая часть и главное сокровище этого города, 98 процентов населения которого – армяне. Разговор об армянах – один из самых непростых, как любой разговор, так или иначе затрагивающий национальные вопросы. Особенно с учётом имеющихся стартовых позиций. Родившийся и выросший в Ленинграде, я видел только «экспортных» армян, армян без Армении, в силу различных обстоятельств временно или безвременно «играющих на чужом поле». Позитивный фон создавал лишь прочитанный в том возрасте, когда мальчишки читают всё почти без разбора, эпос «Давид Сасунский». «Давид Сасунцы», как дважды, мягко, но настойчиво поправит меня впоследствии тёзка главного героя. Всё остальное шло «в минус». Анекдоты формировали образ недалёкого полуграмотного торгаша, безжалостно коверкающего русские слова, который со своими средневековыми манерами не по чину удостоился цивилизованной революционной колыбели. Органически присущая армянам эмоциональность, столь естественная в Армении, воспринималась в нашем северном городе как элементарная невоспитанность. И когда немалая группа армянских болельщиков на матчах «Зенит» – «Арарат» начинала скандировать «Арарат – гуп тур!», в ответ им неслось многократно превосходящее, и, как тогда казалось, вполне заслуженное: «Арарат Ереван – стадо диких обезьян!». «Ты розу Гафиза колышешь // И няньчишь зверушек-детей» – это пришло потом. И проза об Армении – тоже потом. А «в те поры» я хорошо помню собственное ощущение звериной радости, когда «Зенит» обыгрывал именно «Арарат», и желательно покрупнее (в начале восьмидесятых нередкими были победы, когда мы забивали по пятьшесть мячей). Как классно было прореветь в толпе, временно разделяющей твои чувства: «Такое бывает только в футболе: они нас – на рынке, а мы их – на поле!». Эта формула казалась отражением высшей социальной справедливости. Стоит ли напоминать, с каким презрением говорили о торговцах в советский период? Оно и понятно – чтобы заработать на продаже в условиях тотального дефицита, считалось, большого ума не надо. А тут – месть диким чужестранным барышникам. Да такая сладкая. Да в прилюдном честном открытом бою! Это ли не счастье?! 15 Зачем мне понадобилось столь подробно погружаться в юношеские воспоминания, которые и «милыми»-то не назовёшь? Возможно, чтобы у когото сменились или сместились засевшие на подкорке стереотипы, ибо всё, что написано в предыдущем абзаце, – отнюдь не мой собственный единичный случай. Я не буду сейчас, подобно иллюзионисту, на взмахе платка превращать чёрное в белое, а плохое – в хорошее. Да и не стоит давать целому народу такие оценки. Я хочу отметить другое – то, что я почувствовал ещё в аэропорту, то с чего я мог начать, если бы не перепрятал начало в середину: армяне – это порода. Армяне составляли большинство пассажиров нашего рейса, и, не знаю, как это передать словами, но на подкожном уровне я ощутил, скажем так, приподнятый уровень благородства вокруг. Армянство, «растворённое в крови», совершенно не уступало прославленному «арбатству». Я долго потом анализировал, что же произошло, откуда взялось это чувство. Возможно, мне передались ощущения людей, летящих на долгожданную Родину; а может, самолёт, наподобие посольства, воспринимался уже ими как территория Армении. В любом случае, окружение армян, классифицированных Мандельштамом как «большеротые люди, с глазами, просверленными прямо из черепа», завораживало. Я вдруг почувствовал опосредованное прикосновенье большой и мощной чужой Культуры, которая только и могла вывести эту породу. Книги настраивали на симпатию, но я не ожидал её так быстро и разом. Какой-то давно заряженный переключатель сработал и исчез за дальнейшей ненадобностью. А потом пришло понимание равновеликости человека и природы. А потом я уже себя самого почувствовал диким человеком из дикого леса на фоне тех самых ребячески естественных «зверушек-детей» с нечеловечески развитым чувством человеческого достоинства, горделиво (но без гордыни) шагающих по своей горной стране. Армяне – это не только порода, это ещё и стиль. Стиль в манере одеваться и двигаться, встречаться и прощаться, говорить и слушать, показывать и угощать, создавать и продавать – множество направлений, проявившихся в забавных мелочах, сплелись в неразделимый клубок, прыгучий мячик восхитительного качества. В «калёном орешке» – раскалённом Ереване немыслим мужчина в шортах, а отличный от чёрного цвет брюк – явный признак опасного вольнодумства их владельца. А чего стоят сцены, когда армяне ведут между собой не предназначенный для посторонних ушей разговор на русском, одинаково чужом для всех участников беседы языке, о чём 16 свидетельствует их ястребиный неистребимый акцент?! Фантастическая порой бедность, ничуть не принижающая человеческое достоинство? Естественная галантность и врождённая артистичность? Возможность открыто явить свои нравы без страха суда – это высшее право. На музыкальной площади, как в любом нынче уголке земного шара, где водятся туристы, шустрые распространители цветов предлагают мужчинам осчастливить своих дам. Но как это было проделано здесь! Наряженный в шкуру какого-то мохнатого зверя, кажется – медведя, торговец, коленопреклонённо вручив нашей Тане розу, с полминуты кружил вокруг неё в немом восхищении, а потом по очереди приобнял меня и Вадика, призывая расстаться с жалкой купюрой во имя сохранения мировой гармонии. Естественно, такой драмтеатр стоил запрашиваемой за него тысячи драм. Второй драм – это армянская денежная единица. Уж не знаю, может ли такая мелочь свидетельствовать о щедрости, то бишь – не мелочности народной, но монеты номиналом менее десяти драм (это чуть меньше нынешнего рубля) в обиходе просто отсутствуют, хотя цены существенно, порой – на порядок, ниже наших. Опять прощай, копейка? Лучше сначала поздороваемся, хотя… Один из дней предполагалось почти полностью (за исключением осмотра нескольких приозёрных достопримечательностей) посвятить пляжному отдыху на Севане. Судьбе было угодно, чтобы вначале мы посетили общедоступный, а затем – элитный пляж. С первого на второй мы перемещались, пытаясь осмыслить, как в такой невообразимой даже для аборигена коммуналок толчее люди умудряются держать дистанцию и сохранять подчёркнутое взаимное уважение. Нечаянные соприкосновения, грозящие в родных пенатах гарантированным словесным конфликтом с явственной рукоприкладственной перспективой, здесь происходили без оттенка озлобленности. А нравы пляжного волейбола увенчали для меня диковинную социальную картинку. Представьте себе площадку с провисшей сеткой, даже в местах наивысшего подъёма едва достигающей двухметровой высоты. Разметка хаотично брошенными предметами гардероба в местах предполагаемых углов. Отсутствие таких понятий, как расстановка, переход и даже пас. И, с одной стороны, всяк входящий, не оставляя надежды на победу, обменивается обязательными продолжительными рукопожатиями и поцелуями с каждым игроком своей и чужой команды, но с другой – практически каждый разыгранный мяч оканчивается ожесточённейшими спорами, перемериванием площадки и перекладыванием полеобразующих предметов. При этом счёт как таковой вряд 17 ли кого интересует, но ведётся вне всяких правил; однако время от времени объявляется окончание очередной партии, победу в которой вполне может одержать команда, проигравшая несколько последних розыгрышей. К слову, описанная выше картинка мужских приветствий отнюдь не свидетельствовала о нетрадиционной сексуальной ориентации её персонажей – спутницы большинства из них находились неподалёку и время от времени проявляли сдержанный интерес к ходу игры. А повторение этого поцелуйнорукопожательного мероприятия мне довелось увидеть… в туалете оперного театра. Романтика, одним словом. В Хор-Вирапе колоритнейший каменотёс, при виде усов которого мои бессильно поникли, выдалбливал ступеньку с помощью молотка и зубила. Завороженный местом, работой и исполнителем, я попросил у него инструменты. После первого удара он попробовал поправить мне технику. После второго, чуть покачав головой, произнёс: «Твоя работа – не эта». Невзирая на неудовлетворительную оценку, даже не сама сценка восхитила меня как зрителя и немножко участника, но его неизменное олимпийское, нет, араратское спокойствие. В Армении можно всё. Так, когда мы спускались с Арагаца, Апрес запел. Я, отстав метров на десять-пятнадцать, наслаждался этим нечаянным подарком, отчётливо понимая неповторимость происходящего. То было высшее искусство, не терпящее искусственной атмосферы. Действо неумолимо должно соответствовать установленным декорациям или отсутствию оных. Представив себе Апреса, окованного парадным костюмом и исполняющего тот же репертуар на сцене, в торжественной обстановке, я предпочту отсутствовать в зрительном зале. И это – во всём. Как армянский язык по сути своей непереводим, так и армяне – не переносимы. В том смысле, что вне Армении они временно или навсегда превращаются в каких-нибудь франкоармян или американоармян, ассимилируют или погибают. Минувшей весной среди писавших конкурсную работу по математике был один армянский мальчик. Во дворе тем временем гоняли мяч, не слишком заботясь о литературной обработке громогласных комментариев к игровым моментам. При каждом таком возгласе, юноша поглядывал на меня, безмолвной выразительностью приглашая в клуб единомышленников по осуждению невоспитанных футболистов. Он не решил ни одной задачи, оказавшись отверженным и школой, и улицей. Быть может, с годами этому молодому человеку удастся мимикрировать. Да надо ли? И всё-таки, не даёт мне покоя мысль, как образуется такая замечательная порода людей? Ищущий практически применимых закономерностей в этой 18 области, рискну привести следующую цепочку рассуждений. Давайте попробуем перемешать математику с воображением. Любое объединение людей, от семьи до нации, имеет свой набор общих ценностей. Своего рода наибольший общий сомножитель, состоящий из личностей, событий, традиций, обрядов, почитаемых всеми без исключения членами объединения. В математике такую общность принято выносить за скобки, я же предлагаю ещё более сильный ход – использовать её как показатель степени, в которую следует возвести всё рассматриваемое сообщество для определения его мощности. Внешне выглядящий как флажок, знамя, такой показатель будет тем больше, чем больше компонент его образует, и чем больше величина каждой из них. А величина эта измеряется лишь возрастом соответствующего множителя, то есть временем, прошедшим с момента обретения им всеобщего статуса. Так крепкое племя чтит не только вождя и шамана, но и определённые, из тьмы времён бережно передаваемые, ритуалы их действий и регламенты преемственности. Конечно, кто-то новый и наглый обманом или силой может подчинить это племя себе и установить новые законы, порой даже лучше предыдущих. Только по прошествии сравнительно небольшого времени племя, как таковое, исчезнет. Останутся небольшие группки, всё более тщетно удерживаемые владыкой от взаимной грызни, и рыщущие взглядами по сторонам в поисках более комфортного социума. Общий показатель не только увеличивает мощность сообщества, но, как минимум, скобками, за которые он вынесен, скрепляет само объединение людей. Могу ошибаться, но мне кажется, что, недолго думая, любой, практически, армянин с гордостью предъявит не один десяток объектов, формирующих показатель, знамя нации. Это – и гора Арарат, и храм в Гегарде, и озеро Севан; Григорий Просветитель и Месроп Маштоц, Давид Сасунцы и маршал Баграмян, Сергей Параджанов и Мартирос Сарьян, Фрунзик Мкртчян и Хорен Оганесян, Ованес Туманян и Саят-Нова… Даже я, познакомившийся с Арменией, прямо скажем, шапочно, с ходу припомнил более десяти. На предложенный показатель, а, значит, и на мощность сообщества в такой модели влияют три аспекта (не путать с источниками и составными частями марксизма!). Во-первых, как уже говорилось, количество составляющих его сомножителей. Я не могу удержаться от параллелей со своей родной страной. Пушкин. Гагарин. День Победы. И… Волга? Но что она камчадалу? Озеро Байкал – является ли оно несомненной ценностью для псковитянки? Дмитрий Донской казанцу – как Мамай москвичу или Иван Грозный 19 новгородцу. Прямо скажем, негусто. Едем дальше. Второе – это возраст, добавляющий вес соответствующему сомножителю. Григорий Просветитель жил семнадцать веков назад, Месроп Маштоц – шестнадцать и т.д. Пушкин – два, Гагарин – чуть ли не современник; со Дня Победы и века не прошло, а уже слышны голоса последователей побеждённого противника. Поймите правильно, далёкий восхищения или порицания, я не сопоставляю, но пытаюсь понять, как образуется неповторимая человеческая порода, как сформировать некую абсолютную величину, чтобы получить не столько оценку, сколько – пищу для размышлений и руководство к действию! В Ереване установлен памятник былинному герою Давиду Сасунцы, есть станция метро, названная его именем. Представьте себе станцию метро «Илья Муромец» на проспекте Добрыни Никитича близ памятника Алёше Поповичу. Картинка разве что для града Китежа, но откуда там метро возьмётся, он же не миллионник?! Наконец, третье. Верховенство общей героики над локальной разобщённостью. В столице Армении могут соседствовать улицы имени пламенного революционера Камо и не менее пламенного антисоветчика – выдающегося полководца Первой Республики, вечного скитальца Гарегина Нжде. Скажите на милость, мыслимо ли пересечение проспектов Чапаева и Колчака даже в одном отдельно взятом Лбищенске? Переулок Котовского близ бульвара Деникина? Для живительного тока истории необходима полярность; признающие лишь односторонних героев обречены любоваться разве что муляжом лампочки Ильича в бронированном опломбированном вагоне триединого божества Ким Чен Ира – отца, вождя и сына. А когда общих сомножителей нет, показатель степени, водружённый нашими усилиями на флагшток, пренебрежимо равен единице; знамя безвольно провисает за отсутствием объединения, как такового. Может, поэтому человечество до сих пор пребывает в первобытно-разобщённом состоянии? Не явился ли причаливший Ноев ковчег перстом, указующим на то, что у жителей земли этой будет чему поучиться? Не тупо скопировать или презрительно отвергнуть, но что-то перенять из отношения к стране и истории, гостям и врагам, религии и обычаям? Перечислять можно долго. Как людям, презрев состояние сброда, не став коллективом, сплотиться в породу? Вот, например, когда на дороге появляется селение, первым делом видны могилы. Здесь лежат парни, ушедшие на последнюю войну. Настоящими 20 добровольцами. Страна бедствовала, непривычная к независимому существованию в кольце недругов, и молодые люди на свои деньги кое-как вооружались, обзаводились провиантом, разношёрстным обмундированием и отправлялись сражаться за неё. За Армению. За Арцах. Без намёка на официальную мобилизацию. На зависть соседям и страх врагам. По тем дорогам, над которыми ныне покоятся. С поэтической точки зрения прекрасны дороги армянские. Но Бог Вас упаси позаимствовать у армян отношение к правилам дорожного движения и всей области человеческих отношений, с ними увязанной. Для того чтобы описать армянский автомобилизм, человеку, соприкасавшемуся с ним вплотную хотя бы несколько дней, достаточно сокрушённо-безнадёжным голосом произнести известное местное междометие «Вах!..», и этим всё уже будет сказано. Поясню для непосвящённых. Автомобили в Армении бывают трёх типов – обгоняющие, обгоняемые и, так сказать, переменной ипостаси, в зависимости от обстоятельств. Тип автомобиля при этом определяется отнюдь не маркой машины, каковым в местном парке несть числа, но исключительно характером водителя. Вагик, с которым за десять дней мы исколесили страну не только вдоль и поперёк, но и вверх и вниз, оказался водителем третьего типа. Это дало нам возможность понаблюдать весь спектр дорожных ситуаций, дополнив его незначительным ереванским пешеходным опытом. Для разгона начнём с обгона. Сложилось впечатление, что зеркала заднего вида в Армении – некий рудимент, которым пользуются лишь в экстренных случаях и даже как-то воровато, словно извиняясь за свой вопиющий непрофессионализм. Поэтому, когда обгоняющая машина приближается к обгоняемой, она испускает короткий гудок, мощь которого определяется норовом рулевого. Здесь неважно, находится обгоняемый экипаж в этой же полосе или неспешно передвигается справа. (Вагик, кстати, не зная – он будет ближайшее время обгонять или его, предпочитал держаться посередине независимо от разметки.) Когда гудок прозвучал, возможны три ситуации: обгоняемая машина ускоряется, уступает, либо справа внезапно возникает ещё один желающий её обогнать – по-видимому, за компанию. В первом и третьем случаях следует дать от двух до пяти гудков (больше не довелось услышать), выражая тем самым крайнюю озабоченность ситуацией, а во втором – приступить к обгону. Правила хорошего тона предписывают, когда салоны поравняются, чуть снисходительно взглянуть на обгоняемого водителя – видишь, мол, брат, предупреждал, что обгоню – и обгоняю, вот оно как в жизни21 то случается. В качестве бонуса допускается правой рукой высказать мнение, как он вёл себя при обгоне. Ну и наконец, закончив обгон, прощальноблагодарственно-покровительственно гуднуть. Кстати, комментировать дорожную обстановку и возникающие попутно ситуации водителю надлежит также правой рукой, как бы вкручивая в невидимый потолок иллюзорную лампочку и добавляя «Вах!» в совсем уж экстренных случаях. А вот на что при обгоне, да и вообще здесь, видимо, не следует обращать внимание, так это на дорожную разметку. Дороги, надо сказать, способствуют – при вполне сносном качестве отдельных и достаточно протяжённых участков могут встретиться даже внезапные провалы с перепадом высот до полуметра, объехать которые можно лишь по обочине (кому-то – по встречной). Когда мы в первый же день по дороге в Гегард удивились подобной коллизии, Давид невозмутимо пояснил, что место тут довольно-таки оползневое, и ремонтировать его особого смысла нет – всё равно рано или поздно придёт в негодность. «Вон,» – показал он на обочину, – «лет десять назад целый магазин на несколько метров провалился, что уж говорить об этих поверхностных мелочах…». Соответственно, двойная сплошная не пользуется уважением ни в черте города, ни вне её. Если на встречной качество дороги лучше, глупо игнорировать этот факт, надо лишь вовремя зазевавшиеся встречные машины протяжным гудком предупредить, что они едут небезопасно. А самый доооооооооооолгий гудоооооооооок нам довелось услышать в туннеле, во время северного турне. Там на протяжении нескольких километров дорога пролегает в ущельи, параллельно горной речушке, и имеются три туннеля. Построены они были двухполосными, да обветшали со временем, качество полотна ухудшилось, а освещение и в лучшие времена было предусмотрено исключительно естественное, если не считать попутновстречных габаритных огней. И вот при таком естественном освещении, то есть, в полной темноте, достигнув середины пути, мы услышали могучий встречный гудок. Не надо быть лингвистом или автомобилистом, чтобы понять его недвусмысленный намёк: «Прочь с дороги, я еду!» Наш водитель сумел довольно искусно попятиться, чтобы пропустить фуру, прочистившую собой туннель как шомполом. Мы поинтересовались, как быть, если такая фура поедет здесь не одна, а в потоке, или если две подобные колонны встретятся на этом участке дороги. Вагик развёл руками, и вторая попытка преодоления туннеля оказалась более успешной. А в остальном – спокойная такая езда, если не обращать внимания на 22 животных, одиночно и стадно переходящих дорогу, а то и вразвалочку бредущих по ней. Их не то, что сбивать, их даже пугать – дурной тон. Но это всё за городом. Городские же реалии гораздо прозаичнее. Езда по встречной в городской черте – сравнительно редкое явление. Гораздо чаще, например, едут на красный. Правда, только – если уверены, что это – безопасно. Ну, или оченьочень спешат. Зато поворачивают в любую сторону из любого ряда. Вкупе с тем, что разрешительные сигналы перпендикулярных направлений меняют друг друга без даже секундной паузы, пешеходам требуются определённые навыки. Впрочем, сами пешеходы не теряются. В первый день, переходя одну из центральных улиц Еревана (как полагается – по пешеходному переходу, на зелёный свет), мы несколько удивились машине, самозабвенно и целеустремлённо двигавшейся поперёк. Сопровождавший нас Давид пояснил, что мы очень уж неуверенно идём. Хорошо. Стали вырабатывать безапелляционную походку, наблюдая и практикуясь, и вот что увидели вечером того же дня. На зелёный сигнал, неторопливо беседуя, улицу вальяжно пересекают три дамы почтенного возраста. При этом сам стиль их движения безапелляционно демонстрирует, что останавливаться на середине пути они не намерены, а скорость движения такова, что вкупе с остатком «зелёного» времени им придётся секунд пять-десять идти на красный. Если, конечно, не передумают. В безнадёжной попытке предвосхитить подобное развитие событий, стоящие пока ещё на своём красном водители начинают оживлённо сигналить. Одна из дам, не меняя ни темпа перехода, ни тембра беседы, царственным, на зависть стареющей Ахматовой, жестом обозначает движение рукой в их сторону, и машины замолкают. И терпеливо ждут чуть ли не половину своего зелёного, дабы, не дай Бог, не потревожить нить разговора уважаемых пешеходок. Неделю нас мучил вопрос, как они выживают при такой езде?! Возвращаясь дождливым субботним вечером в Ереван, убедились, что, увы, не выживают. Только на одном коротком кусочке трассы мы проехали мимо трёх аварий, из которых как минимум две – с человеческими жертвами. И тут же не желающие выстраиваться в одну полосу автолюбители спешат объехать места катастрофы по встречной. ГАИ безмолвствует. Впрочем, была у нас парочка контактов с представителями этого славного ведомства. Один окончился интернационально-привычным побором за какую-то бумажку или её отсутствие, а второй оказался мимолётным и забавным. Машина стражей дорожного порядка поравнялась с нашей, и сидевший рядом с водителем инспектор молча 23 подёргал себя за ремень безопасности. Соседствовавший с Вагиком Давид ответил симметрично. За сим блюстители путевой нравственности развернулись и убыли восвояси. «Летучая проверка,» – пояснил Давид. И всё-таки, как мы благодарны Вагику и армянским дорогам! Если былые путешественники довольствовались преимущественно Ереваном с окрестностями да Севаном, то нашему взору предстало всё от Ахпата до Татева, от Араратской долины до Севана, от Ластивера до Арагаца. И ещё. Дороги дали нам почувствовать явственную трёхмерность этой страны, когда реальный путь оказывается в два-три раза длиннее расстояния по карте за счёт витиеватых горных подъёмов и спусков. Но настоящее ощущение третьего измерения могут дать только собственные ноги. Нам просто необходимо было спуститься в ущелья и пещеры Ластивера. За недоступностью Арарата, мы не могли не залезть на Арагац! Впрочем, ещё как могли. Ибо Арагац – это испытание, несмотря на всю его летнюю посильность. Худо-бедно – четырёхтысячник. Естественно, стартовали мы не от уровня моря, но с вполне комфортной высоты в 3200, однако оставшиеся семь-восемь сотен метров нужно было выбрать своими ногами, с небольшим рюкзаком, в одежде, взятой лишь на этот случай… Если Параджанов раздвигал горизонт, манипулируя сокрытыми клавишами души, то Арагац действовал напрямую, через тело. Он одаривал нас порывистым дыханьем и мелким дождиком, ударял громом, сыпал секущий град при почти нулевой видимости, вертел ветреные снежинки над каменными осыпями, короче, развлекался, как мог. Наконец, было просто холодно! Из привычных уже тридцати с чем-то градусов тепла мы попали в незначительный плюс под аккомпанемент ветра, свистящего отовсюду. Конечно, профессионалу наш маршрут напомнил бы разве что утреннюю зарядку, но барсами соответствующего ранга могли считаться лишь Вадик с Апресом. И когда, спустя четыре часа, вершина была достигнута, ощущение полновесной победы не терпело даже виртуальных посягательств. Тем более, мысль повернуть назад возникала не раз и не два. Апрес впоследствии заметил, что по неофициальной статистике Арагац не покоряется каждому десятому. Впрочем, говорить, что мы покорили Арагац, или он покорился нам, было бы не очень честно. На протяжении всего пути именно гора пребывала хозяином положения, диктовала свои условия и правила игры. И восхитительные виды сверху, когда солнце то помогало нам протыкать облака, то поочерёдно демонстрировало игру света и тени на окрестных вершинах, а то вдруг 24 охватывало всё вокруг и отражалось в низлежащем озере у базовой станции, – скорее дарованный бонус, нежели заслуженная награда. Это было прекрасно – спускаться, перекусывая на ходу, вслед за поющим Апресом, соскальзывать вниз по снежникам, согреваться с каждым шагом, чтобы распластаться наконец в ледяном озере, напитанном талыми водами. И, несмотря на активный протест черепной коробки, вполне справедливо и долговременно уже негодующей по поводу высокогорья без акклиматизации, отведать хаш. (По словам Апреса, здесь единственное место во всей Армении, где его правильно готовят). Естественно, под водочку, хаш иначе – не впрок, а башка всё равно раскалывается. И чуть досадовать, понимая, что Арагац в этом действе исполнил роль, отведённую Арарату. Оставим вопрос, Кем отведённую. Будем уповать на временность замены главного исполнителя. Ведь если в стране достаточно долгое время можно всё, рано или поздно в ней станет возможно всё. Разве не так? Подмена отнюдь не всегда есть эрзац; я рад, что залез на твой пик, Арагац! Так или иначе, но Арагац включил ноги, которые охотно поднимались к Кобайру и бежали от Нораванка, облазили водопады и ущелья близ Джермука и Татева; там же миновали Чёртов мост с тем, чтобы под конец вывести их обладателей к пещерам Ластивера. Мы примкнули к сформированной Апресом туристической группе выходного дня, и, вскарабкавшись на машине где-то за Дилижаном на очередную возвышенность, устремились вниз. Вроде бы ничего особенного, но потребовалось не меньше пары часов, чтобы с уровня парящих неподалёку орлов спуститься в низину, где не без определённой сноровки удалось искупаться в горной реке, более похожей на ступенчатый водопад. А дальше произошло вот что: сначала – выдох, мол, все путевые трудности закончились, остался подъём наверх по уже известному пути, а потом – невинное с виду предложение одного из местных ребят (в хижинах, разместившихся на деревьях, их жило человек десять, с женщинами и детьми) показать нам окрестные пещеры. Тут же прокляв себя за автоматически вырвавшееся согласие, я утешался лишь тем, что отказ смотрелся бы очень уж не по-мужски. Вскарабкавшись метров на двадцать по почти отвесному холму, мы оказались на крохотной площадке. Приставная лестница подступала к лазу в пещеру, располагавшемуся прямо над нами на высоте баскетбольного кольца. Дальше лаз сей изгибался внутри холма, приглашая не столько залезть, сколько застрять, что мне с блеском удалось. Совершенно незабываемое ощущение – поиск ступеньки для сведённой судорогой ноги в условиях основательно зажатого в районе поясницы корпуса. Стоит добавить, что Апрес готовил нас не 25 к туристскому походу, а к увеселительной прогулке с купаньем – одежда была соответствующей, и сохранность её стала первой жертвой. «Это – наше зимнее жилище,» – невозмутимо произнёс проводник, демонстрируя свои археологические трофеи, найденные неподалёку – монеты, черепки, сосуды и пр. Покинуть гостеприимную обитель было чуть проще – сказался опыт проникновения и возросшее пренебрежение собственной опрятностью, однако о необходимости совершать такой влаз-вылаз ежедневно и зимой думалось с содроганием – разве что очень большая нужда погонит. «А теперь,» – провозгласил наш Сусанин, пока я раздумывал о весьма небезопасном пути вниз, обратно, к Апресу, к людям, – «поднимемся ещё чуток, к пещере, где жило древнее, совсем уже доисторическое, племя». «За что,» – взмолился я беззвучно, с ужасом припоминая некоторое количество польской крови в жилах собственной жены. Оказывается, путь вниз был относительно безопасен, ибо «чуток» оказался несколькими метрами отвесного пути, преодолеть которые предстояло, цепляясь всеми конечностями за невнятные выступы камней. Однако, несмотря даже на отсутствие Москвы в тылу, отступать было некуда. Вторая пещера явила нам первобытные наскальные рисунки и кучки обглоданных костей довольно-таки могучих, судя по останкам скелета, существ. Дорога в Ереван стелилась фоном жарких диспутов о подлинности увиденных артефактов. Мы предполагали на обратном пути искупаться в Севане, но было уже поздно, пошёл дождь, и воды озера подменились думой о нём. Я видел три великих озера – Кинерет, Байкал и Севан. И по произведённому впечатлению Севан замыкает эту тройку. Увы, я не дотягиваю до среднестатистического армянина, который чужд ранжирования. «Не сравнивай, живущий несравним!». Это – Мандельштам. Армяне, мне кажется, особенно глубоко постигли столь неочевидную истину. Как и в случае с дарёными абрикосами, Севан очень сообразен Армении. Он полностью отвечает представлению о красивом, огромном высокогорном озере, единственном в своём роде и на своей территории, не предлагая никаких излишеств. Но разве этого мало? Севан – свой, но есть люди, которым другие озёра родные. Вроде бы так просто гордиться своим абсолютно, не возвышая его над иным, но с уважением относясь к этому иному. Прививку, может, такую выработать? Сколько заразы погибнет в зародыше! Вернулись к Севану, точнее, к окрестностям его. В день знакомства с этим 26 озером мы побродили по ритуальному месту, расположенному неподалёку. Я ведь намеренно пропустил пару посещённых нами Севанских церквушек, чтобы поговорить о скоплении хачкаров близ одной из них, подбираясь к кладбищенским историям. Хачкар – это камень-крест. «Хачкар – это правильно,» – сказал Давид накануне – «Есть крест на камне, имя человека и даты жизни. Ничего лишнего. Так и следует хоронить.». «А как неправильно?» – спросил кто-то из нас. «Увидите,» – ответил экскурсовод и приостановил разговор на эту тему. Увидели. И вот настала пора продолжить его и попробовать докопаться до самых разных пластов, ибо «время жить, и время умирать», значит, и время хоронить нельзя игнорировать. Древние хачкары интересны, прежде всего, фактами существования. Самые старшие датируются V веком, когда только-только объединились местные христианство и письменность. Выцветшие и выгоревшие на солнце плиты преимущественно терракотового цвета камня. Явственно выкованные литеры. «Орущих камней государство» – это отсюда. На наиболее помпезных присутствует рисованное жизнеописание. Родились – женились – пришёл монгол и всех порешил – демонстрирует далёким потомкам трагедию той поры хачкар XIII века. Сюда подвозят и спасённые экземпляры из Турции и Азербайджана, где вековую годовщину геноцида встречают уничтожением камней. Армяне же дорожат каждым из них, как человеком. Некогда, облачённые в доспехи, хачкары эти наравне с воинами дезинформировали неприятеля о численности защитников селения и тем помогли одолеть сильного врага. Сейчас рядом со старыми хачкарами соседствуют новые. И современная часть кладбища – главный повод для непростых раздумий, на которые намекал Давид. С одной стороны, впечатляют совсем свежие захоронения – сам гроб здесь некоторое время не закапывают в землю, и он – алый, с белой изнанкой – ещё издалека смотрится разверстой раной. С другой стороны, увы, процветает соревнование в поминальном роскошестве. Стоит ли могильной плитой мерить значимость усопшего, а точнее, – его здравствующих родственников? Кем востребовано, а главное, – кому адресовано это неуместное щёгольство? Себе любимому с отдалённым назиданием потомкам? Соседям? Случайным прохожим? В эпоху зарождения хачкаров такой камень в подавляющем большинстве случаев был единственной памятью о закончившем жизненный путь человеке. Сейчас, когда вся информация, в том числе – кладбищенская, переведена в 27 электронный вид (кстати, куда более сообразный бестелесной ипостаси), потуги обратной трансляции видятся, мягко выражаясь, не совсем естественными. И, насколько впечатляют при въезде в селение могилы его поселенцев, погибших, преимущественно, в последней войне, настолько удручают вопиющие детали современных надгробий. Близ тысячелетнего Ахпата захоронена семья из четырёх человек, сорвавшаяся (как свидетельствует художественная гравировка на камне) на автомобиле в пропасть. Люди! Дорогие! Я понимаю, что кому-то электронная форма информации интуитивно всё ещё не кажется надёжной. Но, будем честны, человечество уже достигло той стадии развития, когда потерять накопленные данные оно может лишь в результате столь масштабной катастрофы, каковая поставит жирный крест (увы, не хачкар!) на его существовании. Так не лучше ли оставлять о людях сведения, с которыми запросто сможет ознакомиться любой желающий, не совершая вояж к месту захоронения, украшенному описанием гибельного сюжета, отнюдь не всегда являющегося главным достоинством покойного? И ещё. Пусть это всего лишь символ, но мне странно и страшно смотреть на кладбищенские памятники живым людям. Очень часто встречаются могилы с фотографией человека и, как сказали бы авиаперевозчики, открытой датой смерти. У первого такого обелиска невольно вспомнился анекдот о просьбе тёщи к зятю похоронить её у кремлёвской стены «Мама, я всё устроил, но ложиться надо сегодня». Жуткое ощущение – портреты мужа и жены на камне, только он умер, а она ещё нет, авансом, так сказать, почтительно анонсирована. Может это намёк на принятый некогда у разных народов обычай хоронить особо выдающихся деятелей с гаремом? Хотя для Армении такое отношение к женщине, в принципе, не свойственно. «И крови моей не волнуя, //Как детский рисунок просты, // Здесь жёны проходят, даруя // От львиной своей красоты». В этом плане за восемьдесят лет мало что изменилось. Попробую пояснить, опираясь на собственные впечатления. Армянки фантастически, божественно красивы, но, как бы это поточнее сказать, – в массе своей, в том смысле, что не поодиночке. И за порхающей неподалёку стайкой девушек, и за проплывающими мимо матронами просто невозможно наблюдать без восторга. Но стоит только выделить одну из них, как очарование начинает улетучиваться, оставляя набор гипертрофированных черт. Это не то, чтобы плохо, но обычно, как везде… Как будто увидел совершенно обворожительную красавицу, стоишь, любуешься, а вечно услужливая Мефистофелева рука навязывает тебе бинокль, который 28 переводишь с пористой кожи на склеившееся ресницы, бородавку с волосом на кончике носа, пытаясь в ужасе понять, куда же делся «чистейшей прелести чистейший образец». К чёрту бинокли и прочую порочную оптику! Одарённым здесь можно быть лишь крупной, могучей, царственной, львиной красотой – для этого чужим жёнам надо дать пройти, оставаясь сторонним наблюдателем, хладнокровным зрителем. Попытка даже не сблизиться, а приблизиться сделает чужестранного сластолюбца счастливым обладателем разве что дырки от бублика. Это как будто начнёшь не догадываться, а отчётливо понимать, о чём они между собой говорят; но типичное для любой такой группки практически в любой стране ворковательно-щебетательное пустословье в Армении огорчит гораздо сильнее, поскольку не оправдает самому себе выданного аванса. Будучи настроенным на волну праздника, возможно, – нежданного и отнюдь не обещанного, я интуитивно страшусь ощутить под разноцветными одеждами будничную сущность. При этом я бы не стал говорить о какой-то повышенной недоступности армянских женщин. Даже исключив из рассмотрения профессионалок, каковых здесь если и меньше, чем в любом другом цивилизованном месте, то ненамного, думаю, что поиск краткосрочной подруги не является неразрешимой задачей. Дело в другом. Даже попытка доступа предполагает подъём на собственноручно сооружённый иллюзорный пьедестал, каковой, в силу своей природы, не рассчитан на подобные нагромождения. Если же предмет гипотетического вожделения самостоятельно снизойдёт, спустится с этого пьедестала (что для нашего эмансипированного века вполне в порядке вещей), то вышеописанный бинокулярный эффект кажется неизбежным. Хотя… На моих глазах некий местный молодой человек позволил себе обратиться к местной же девушке со старым как мир предложением в устоявшейся для нынешней молодёжи форме и незамедлительно, как принято говорить на том же сленге, «огрёб» весьма увесистую оплеуху. Наверное, жизненной прозы не надо в условиях, созданных для серенады. Поэтому абстрагировавшись, в строгом соответствии с выданными рекомендациями, от волнующего кровь восприятия, я лучше расскажу, как нас здесь кормили, точнее – угощали и, чаще всего, – женщины. Еда из рук армянской женщины – как минимум, двойное удовольствие, заслуживающее отдельного описания. В этом плане особенно привлекательны придорожные рестораны. Ведь, в лучшем случае, на что рассчитываешь, опираясь на 29 домашний опыт: подойдёт официантка симпатичная, опрятная и расторопная (опции приведены в порядке уменьшения их вероятности), выдаст лаконичные комментарии к меню и, спустя разумное время ожидания, принесёт заказ. В Армении – не то. Здесь каждая официантка, независимо от реального её статуса, – не меньше, чем хлебосольная, точнее – лавашезеленная полноправная хозяйка представляемого ею заведения. Независимо от заказа, следом за меню она приносит огромный поднос и расставляет, нет, украшает стол лавашем, зеленью и всевозможными мисочками, плошечками, блюдечками с нарезанными травами, овощами, по отдельности и вперемешку, соленьями и малосоленьями, сметанкой и мацуном. Под сенью такой душевной хлопотливости сразу ощущаешь себя в Доме, и при этом – наиболее желанным для хозяйки очага гостем. Мы отведали шашлыки и хинкали всех возможных видов, мясо, рыбу – речную и севанную, и ни разу нам не было невкусно. Да что там! Еле сдерживались, чтобы не заказать ещё и ещё, благо демократические драматичные цены более чем позволяли это сделать, а слюнки всё текли, игнорируя симптомы насыщения. Не без оснований полагаю, что попавший в Армению гурман рискует не увидеть здешних красот, ибо местная пища, равно как и сама страна не может приесться! Однажды трактирщица предложила нам тушёного кролика, ибо ничего больше (из основных, естественно, блюд) не стала готовить под вечер в виду малой посещаемости её высокогорного придорожного шалмана. Кролик был прекрасен. Но ещё восхитительнее было отчаянное раскаяние в бездонных глазах из-за отсутствия полноценного выбора для дорогих гостей. Доводилось ли Вам видеть, как зияющие пустоты в меню могут причинять чуть ли не физическое страдание подателю его? А Ластивер?! Мы предполагали, как обычно, подкрепиться по пути и не взяли с собой ничего съестного – кто ж кроме Апреса знал, что весь световой день планируется блуждать по чуждым цивилизации местам? А его собственная группа была вполне подготовленной. И вот во время обеденного привала наши попытки остаться в стороне от приёма пищи были гневно пресечены превосходящими силами попутчиков. Каждый был взят на поруки, точнее – на прокорм, группой туристок, каковые, судя по обилию и качеству припасов, собирались провести вдали от очага не менее пары дней, к чему основательно подготовились. Нам оставалось лишь обмениваться впечатлениями и, сыто переваливаясь, воображать рецепты. О, кухня армянская и жрицы твои! Всего одну ночь мы провели вне съёмной ереванской квартиры – путь в 30 Татев и обратно не укладывался в день-деньской, поэтому в горном городишке с названием, соответствующим рельефу местности – Горис, близ монастыря, была арендована гостиница, расположенная, как оказалось, на проспекте Маштоца. Понимая, что прибудем туда затемно, мы запаслись в пути овощами, сыром, лавашем, вином и полагали перед сном наскоро перекусить в одном из номеров. Куда там?! Хозяйка, у которой я спросил штопор, немедленно направила нас в ресторан – ради Бога, мол, ешьте своё, но в человеческих условиях, на человеческой посуде и без всякой дополнительной платы… Как же дорог, и отнюдь не в денежном выражении, такой сервис! Он не бесплатен, он бесценен!!! Как показывает многовековой опыт, пресытившийся удовольствиями человек на пике блаженства тщится остановить мгновение. Я не стал исключением, и на этой растянувшейся в гребень высшей точке принялся рассуждать о формуле счастья. Но не одномоментного, а продолжительного, этакого стайерского, если не марафонского счастья. Конечно, хочется избежать банальностей типа сама жизнь – это уже счастье. Кто бы, как говорится, возражал, но когда в реальности будничным утром дождь за окном, дома внезапно отключили горячую воду, проезжавшая мимо машина щедро поделилась содержимым ближайшей лужи, а возлюбленное создание пару дней назад уведомило, что предпочитает другого, согласитесь, не каждый отыщет повод для затяжного оптимизма, даже если сильнейшее расстройство желудка не застигнет врасплох. Так вот. Мне кажется, что счастье и лингвистически, и по сути состоит из двух частей. Первая – глобальная составляющая, свидетельствующая о том, что всё в жизни потенциального счастливца в целом его устраивает. Есть, конечно, досадные мелочи, но – из числа исключений, подтверждающих общее правило. Без этой первой части любая радость человека думающего обречена на мимолётность. Вторая – это те самые радости, которые, в свою очередь, весьма относительны и поодиночке недолговечны. Относительны, ибо, например, даже излюбленное лакомство вряд ли вдохновит пациента стоматолога в стадии активной санации ротовой полости, а долгожданный после трудного дня здоровый сон с приятными сновидениями не уместен, скажем, за рулём движущегося транспортного средства. То есть ловец счастья волей-неволей вынужден либо сам диспетчеризировать поток разного рода благ, заботясь об их своевременности, либо положиться на череду внешних обстоятельств, если кому-то претит воля Божья. А эта последняя одаривает гостей Армении столь 31 щедро, что грех жаловаться. Впору лишь вспомнить Шаламова, выстрадавшего идею невозможности полного счастья без тонкого привкуса боли. Такая боль с рождения ведома и видима каждому армянину, и имя ей – Арарат. «А в Эривани и в Эчмиадзине // Весь воздух выпила огромная гора, // Её бы приманить какой-то окариной // Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту. // Снега, снега, снега на рисовой бумаге, // Гора плывёт к губам. // Мне холодно. Я рад». Ближе всего к Арарату мы были в Хор Вирапе – том самом, где Григор Лусаворич, ещё не ставший Григорием Просветителем, был заточён на чёртову дюжину лет. Поскольку сам Хор Вирап возвышается над араратской долиной, до одноимённой Горы показалось как раз рукой подать, ну – три, четыре, от силы – пять километров до подножия. Не зря Арарат предыдущие дни напускал на себя облака да туманности – именно для того, чтобы близость его стала настолько ошеломляющей. Он напоминал добродушного великана, обманным путём одурманенного и уведённого в рабство, но даже из-за иллюзорной границы продолжающего оберегать свою страну. Естественно, я понимаю все тезисы о большой геополитике, хрупкости мира, незыблемости границ и прочая, и прочая; но подобно высшей справедливости, есть, наверное, и высшая несправедливость, когда одна страна пополняется очередным географическим объектом, а другая, тем самым, теряет своё больше чем всё?! Мечта о возвращении Арарата кажется родственной кульминации Песаха в диаспоре, когда глава дома произносит заветную фразу: «На будущий год – в Иерусалиме!». Если, наперекор доводам разума, я, чужак, глядя на Арарат, ощущал щемящую боль, то каково армянам жить под её ежедневным гнётом?! И ведь живут, счастливцы! Трудятся, а некоторые и отдыхают. «Говорят, что бедные армяне отдыхают в Турции, средний класс – в Грузии, а самые богатые – в Армении,» – улыбнулся как-то к слову Давид. Если только испытываемая гамма чувств может называться отдыхом. Или свои привыкли? В нашей ереванской квартире в неравной борьбе с жаром местного лета задыхался всего один кондиционер, и тот в гостиной; поэтому в особо душные ночи я иногда выходил просто посидеть под ним, и незаметно впечатления начали складываться в этот разговор. Будучи записанным на бумагу, он неизбежно и ожидаемо разросся подробностями и ответвлениями – они плодятся и множатся под стать урокам армянского, которые жена тем временем постигает по самоучителю. То вспомнится ужасающее своей бедностью местечко под Дилижаном – мы остановились там в поисках туалета, и нам с неописуемым 32 благородством предоставили нечто похожее на собачью будку – не разогнуться, – ветхий каркас которой был неплотно обвешан рваной клеёнкой, а поперёк небывало ароматного отверстия в земле красовалась непонятного назначения жёрдочка. А то – магазинчик напротив нашего балкона, который энергичная владелица ежедневно открывала ни свет, ни заря, а потом, за естественным отсутствием покупателей, в компании представителей окрестных бутиков того же пошиба, превращала в активно действующий филиал Гайд-парка. Или танго чуть ли не на траве, в открытом ресторане, где великолепный квартет изобретал попурри из Пьяццолы ночью накануне нашего отлёта. Не продолжайте, Ваша честь, я знаю, что всего не счесть… «Лазурь да глина, глина да лазурь, // Чего ж тебе ещё? Скорей глаза сощурь, // Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, // Над книгой звонких глин, над книжною землёй, // Над гнойной книгою, над глиной дорогой, // Которой мучимся как музыкой и словом.» Вот и поговорили. Или у Вас есть что добавить? 33