Глава четвертая - Ты выдумал меня
advertisement
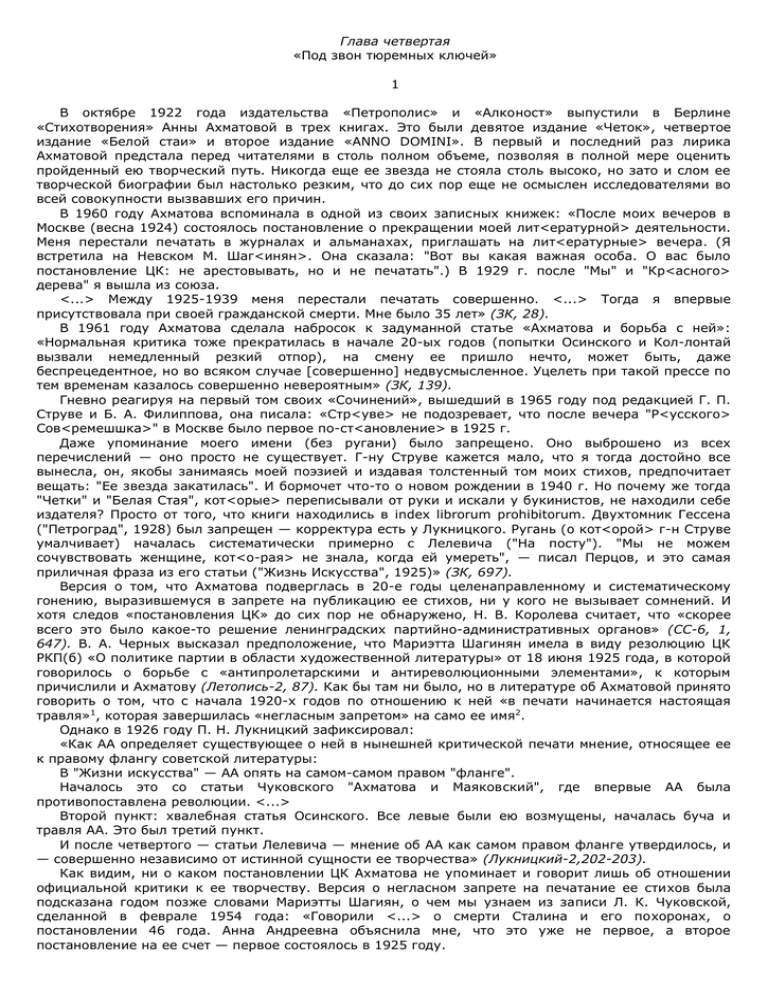
Глава четвертая «Под звон тюремных ключей» 1 В октябре 1922 года издательства «Петрополис» и «Алконост» выпустили в Берлине «Стихотворения» Анны Ахматовой в трех книгах. Это были девятое издание «Четок», четвертое издание «Белой стаи» и второе издание «ANNO DOMINI». В первый и последний раз лирика Ахматовой предстала перед читателями в столь полном объеме, позволяя в полной мере оценить пройденный ею творческий путь. Никогда еще ее звезда не стояла столь высоко, но зато и слом ее творческой биографии был настолько резким, что до сих пор еще не осмыслен исследователями во всей совокупности вызвавших его причин. В 1960 году Ахматова вспоминала в одной из своих записных книжек: «После моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление о прекращении моей лит<ературной> деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на лит<ературные> вечера. (Я встретила на Невском М. Шаг<инян>. Она сказала: "Вот вы какая важная особа. О вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать".) В 1929 г. после "Мы" и "Кр<асного> дерева" я вышла из союза. <...> Между 1925-1939 меня перестали печатать совершенно. <...> Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет» (ЗК, 28). В 1961 году Ахматова сделала набросок к задуманной статье «Ахматова и борьба с ней»: «Нормальная критика тоже прекратилась в начале 20-ых годов (попытки Осинского и Кол-лонтай вызвали немедленный резкий отпор), на смену ее пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но во всяком случае [совершенно] недвусмысленное. Уцелеть при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным» (ЗК, 139). Гневно реагируя на первый том своих «Сочинений», вышедший в 1965 году под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, она писала: «Стр<уве> не подозревает, что после вечера "Р<усского> Сов<ремешшка>" в Москве было первое по-ст<ановление> в 1925 г. Даже упоминание моего имени (без ругани) было запрещено. Оно выброшено из всех перечислений — оно просто не существует. Г-ну Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла, он, якобы занимаясь моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать: "Ее звезда закатилась". И бормочет что-то о новом рождении в 1940 г. Но почему же тогда "Четки" и "Белая Стая", кот<орые> переписывали от руки и искали у букинистов, не находили себе издателя? Просто от того, что книги находились в index librorum prohibitorum. Двухтомник Гессена ("Петроград", 1928) был запрещен — корректура есть у Лукницкого. Ругань (о кот<орой> г-н Струве умалчивает) началась систематически примерно с Лелевича ("На посту"). "Мы не можем сочувствовать женщине, кот<о-рая> не знала, когда ей умереть", — писал Перцов, и это самая приличная фраза из его статьи ("Жизнь Искусства", 1925)» (ЗК, 697). Версия о том, что Ахматова подверглась в 20-е годы целенаправленному и систематическому гонению, выразившемуся в запрете на публикацию ее стихов, ни у кого не вызывает сомнений. И хотя следов «постановления ЦК» до сих пор не обнаружено, Н. В. Королева считает, что «скорее всего это было какое-то решение ленинградских партийно-административных органов» (СС-6, 1, 647). В. А. Черных высказал предположение, что Мариэтта Шагинян имела в виду резолюцию ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года, в которой говорилось о борьбе с «антипролетарскими и антиреволюционными элементами», к которым причислили и Ахматову (Летопись-2, 87). Как бы там ни было, но в литературе об Ахматовой принято говорить о том, что с начала 1920-х годов по отношению к ней «в печати начинается настоящая травля»1, которая завершилась «негласным запретом» на само ее имя2. Однако в 1926 году П. Н. Лукницкий зафиксировал: «Как АА определяет существующее о ней в нынешней критической печати мнение, относящее ее к правому флангу советской литературы: В "Жизни искусства" — АА опять на самом-самом правом "фланге". Началось это со статьи Чуковского "Ахматова и Маяковский", где впервые АА была противопоставлена революции. <...> Второй пункт: хвалебная статья Осинского. Все левые были ею возмущены, началась буча и травля АА. Это был третий пункт. И после четвертого — статьи Лелевича — мнение об АА как самом правом фланге утвердилось, и — совершенно независимо от истинной сущности ее творчества» (Лукницкий-2,202-203). Как видим, ни о каком постановлении ЦК Ахматова не упоминает и говорит лишь об отношении официальной критики к ее творчеству. Версия о негласном запрете на печатание ее стихов была подсказана годом позже словами Мариэтты Шагиян, о чем мы узнаем из записи Л. К. Чуковской, сделанной в феврале 1954 года: «Говорили <...> о смерти Сталина и его похоронах, о постановлении 46 года. Анна Андреевна объяснила мне, что это уже не первое, а второе постановление на ее счет — первое состоялось в 1925 году. - Я узнала о нем только в 27-м, встретив на Невском Шагинян. Я тогда, судя по мемуарам, была поглощена "личной жизнью" <...> и не обратила внимания. Да я и не знала тогда, что такое Ц.К...» (Чуковская-2,90). Ахматова, безусловно, была права в оценке той роли, которую сыграла в ее судьбе лекция Корнея Чуковского «Ахматова и Маяковский», прочитанная 20 сентября в Доме искусств в Петрограде и 2 ноября 1921 года — в Политехническом музее в Москве. Лектор именовал Ахматову «бережливой наследницей всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры», а Маяковского — «порождением нынешней революционной эпохи». И хотя Чуковский выразил надежду на «синтез этих обеих стихий», Ахматова в его трактовке оказывалась поэтом дореволюционного прошлого3. Но в начале 1920-х годов оценка Чуковского еще не стала устойчивой критической тенденцией. Более того, критики самой разной идейной ориентации, ценившие и понимавшие стихи, склонны были отводить Ахматовой вакантное место первого современного русского поэта после смерти Блока. Часть восхищенных отзывов я уже цитировал в предыдущей главе; к ним можно добавить еще некоторые, не менее выразительные. В 1922 году Надежда Павлович делилась с читателями своими впечатлениями от литературного вечера альманаха «Лирический круг»: «Я помню последний вечер в "Лирическом кругу". Софья Парнок читала свою статью об Анне Ахматовой. И центр этой статьи был — люди, к нам идет большой человек — Анна Ахматова. В этой радости от прихода нового человека, прежде всего — человека, был центр блестящей полемической статьи С. Парнок»4. В том же году в «Правде» была опубликована статья Н. Осинского (Валериана Оболенского), в которой давалась оценка ахматовской лирике. Предлагая Ахматовой пойти по пути отказа от «груды православно-религиозных предрассудков» и стать «одним из любимых поэтов нового читателя», он заключал, что в любом случае она «останется тем, что она есть — лучшим русским поэтом нашего времени»5. Н. Осинский был членом РСДРП с 1907 года, занимал посты зам. наркома земледелия и зам. председателя ВСНХ с 1921 года, так что его мнение имело значительный политический вес. Годом позже Александра Коллонтай в своей известной статье «О "Драконе" и "Белой птице"» (из цикла «Письма к трудящейся молодежи») писала о том, что в стихах Ахматовой выразила себя «женщина нового склада», появившаяся «в годы великой революции» 6. И ее статус тоже был нешуточным — член РСДРП с 1915 года, зав. женским отделом ЦК РКП (б) с 1920 года, первая в мире женщина-посол с 1923 года. Иное дело, что эти положительные оценки, принадлежавшие людям власти и партии, были для Ахматовой куда более опасными, чем статья Корнея Чуковского. Они провоцировали нападки влиятельной напостовской критики, которая никогда не смогла примириться с мыслью об Ахматовой как значительном современном поэте. У напостовцев, озабоченных созданием пролетарской литературы, была совершенно иная шкала ценностей. Как ни странно, но о литературной кончине Ахматовой первыми поторопились объявить вовсе не напостовские критики, а те, кто окружал ее в начале ее литературного пути и продолжал быть тесно связанным с культурой 1900-1910-х годов. Ведущую роль здесь играл круг Михаила Кузмина, отводивший в начале 1920-х годов место первой русской поэтессы Анне Рад-ловой. В 1922 году в альманахе «Абраксас» Ахматова могла прочесть о себе буквально следующее: «От мертвой Ахматовой, кроме благородных перепевов, более нечего ждать» 7. Сам Кузмин год спустя выразил ту же мысль в чуть более осторожной и даже изящной форме, заявив, что находит в новых стихах Ахматовой «повторение излюбленных тем и приемов» 8. Валерий Брюсов, некогда столь благожелательно встретивший «Вечер», теперь писал о ее послереволюционном творчестве как о «пародии на Ахматову» и сетовал, что близкие друзья не отговорили ее «от печатания (и — увы — перепечатания!) многих ее последних стихов»9. И если даже полагать, что оценки Михаила Кузмина и Валерия Брюсова Ахматову не могли серьезно задеть, поскольку обоих к тому времени она числила своими литературными недоброжелателями, то гораздо сложнее было игнорировать, например, мнение бывшего аполлоновского критика Валериана Чудовского, отзыв которого о своей книге «Вечер» она всегда ценила очень высоко. В 1922 году В. Чудовский опубликовал рецензию на книгу Анны Радловой «Корабли», объявив ее стихи единственно подлинным выражением новой, послереволюционной эпохи: «Какова бы ни была оценка событий, семь лет ниспадающих на нас, как дождь небесного огня, каково бы ни было конечное их разрешение, достоверно одно: эти события — второе рождение России. Но для многих лучших уже поздно, слишком закончено и зрело их высокое мастерство. Ни Анна Ахматова, неизлечимо больная зарей вчерашнего "Вечера"; ни зачарованный собственной свирелью Кузмин; ни опьяненный фимиамами Федор Сологуб и Вячеслав Иванов; ни давно запутавшийся в чащах Андрей Белый; ни даже столь непоправимо умудренный Александр Блок не найдут новых слов на новых дорогах. <...> Анна Радлова первая приявшая крещение пламенем и кровию, первая увидевшая эти события" изнутри. Сейчас она среди поэтов единственный "современник" семи последних лет». Валериан Чудовский исходил из исчерпанности символистской поэтики, суть которой он определил как «ассоциативный модернизм». Он провозгласил поэтику элементарного, конкретного ощущения реальности, которую назвал «апперцептивным примитивизмом», а выразителем ее объявил Анну Радлову. «С Анной Ахматовой, — писал В. Чудовский, — ее связывает почти один лишь автоматизм критиков, видящих в А. Ахматовой родоначальницу всех стихотворящих женщин»10. И хотя ахматовская лирика никак не подходила под определение «ассоциативного модернизма», ибо была предельно конкретна, психологична и неметафорична, удар В. Чуловского был достаточно точен. Суть его претензий к Ахматовой заключалась в том, что революция не нуждается в изощренной психологической лирике, ибо принесла с собой грубые, элементарные ощущения, требующие совершенно иных принципов выражения. Удар был нанесен в самую точку: больше всего на свете Ахматова боялась равнодушия современников и последующего забвенья, о чем позднее (по совершенно иному поводу) сказала так: Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу. И хотя позже она с некоторой долей высокомерия воскликнет: «Забудут — вот чем удивили!», — это было итогом преодоленного страха и твердой уверенностью в «победе моей над судьбой». В начале 1920-х годов опасность выпадения из современности была вполне реальной и страшила ее. Даже Осип Мандельштам, бывший соратник по Цеху Поэтов и акмеизму, объявил психологическую лирику Ахматовой исчерпанной. Сравнив узость, по его мнению, ахматовского поэтического словаря с таким же скудным словарем символистов, этих «столпников стиля», он писал: «Но это по крайней мере были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине — это уже паркетное столпничество» (Мандельштам, 2,300). Все это было разительным контрастом в сравнении с теми высочайшими оценками, которые в течение 1917-1921 годов давались «Белой стае», «Подорожнику» и «ANNO DOMINI MCXXI». Удары наносились людьми той культуры, в которой Ахматова сформировалась как поэт, и это было куда горше и страшнее нападок официальной критики. Ситуацию, в которой Ахматова оказалась в начале 1920-х годов, с замечательной чуткостью понял Борис Пастернак, назвавший ее «жертвой непрошенных и никогда не своевременных итогов и схем»11. Если итоги поэтическому творчеству Ахматовой подводили люди 1910-х годов, то схемы активно строились новым поколением критиков, идеология которых строилась на постулате создания пролетарской литературы. Признать Ахматову поэтом современной России они не хотели и не могли. Вот почему полемика, развернувшаяся вокруг статей Н. Осинского и А. Коллонтай, имела своим предметом не просто проблему критериев оценки ахматовского творчества, но и оценки всей современной литературы. В начале 1920-х закладывались основы новой литературной иерархии, в которой Ахматовой не находилось места. Однако в 20-е годы никто всерьез не считал Ахматову политически неприемлемой фигурой, видя в ее поэзии, как выразился в 1923 году видный напостовец Георгий Лелевич, «небольшой красивый осколок дворянской культуры». По его утверждению, Ахматова выражает переживания очень «узкого круга женщин», она делает это «с большой силой, пользуясь очень ограниченным количеством слов, но умело варьируя их смысловые оттенки и тем придавая им огромную выразительность»12. Как ни странно, в этой оценке Ахматовой «марксист» Г. Лелевич совпадал с цитированным выше «немарксистом» Корнеем Чуковским. Именно на оценки подобного рода отреагировала Ахматова горестным признанием: «Нет настоящего — прошлым горжусь». Критика начала 20-х годов склонна была воспринимать лирику Ахматовой как идеологически чуждое явление, которое, несмотря на несозвучность эстетическим устремлениям революционной эпохи, имело несомненную художественную ценность. Так, Валериан Правдухин в «Сибирских огнях» характеризовал «Четки» как «классическую книгу современной, чуть-чуть надушенной и искусившейся Лизы Тургенева из "Дворянского гнезда"»13. А Борис Арватов в «Молодой гвардии» писал, что «вся поэзия Ахматовой носит резко выраженный <...> страдальчески-надрывный, смакующе-болезненный характер»14. Однако никто не мог отрицать, что имеет дело с сильным и выразительным поэтом. Даже П. Виноградская, резко выступившая против статьи А. Коллонтай в «Красной нови» и назвавшая Ахматову «певцом индивидуалистически настроенных, растерявшихся интеллигентов, женщин последнего предреволюционного десятилетия», — и та делала характерную оговорку: «Ахматова пишет просто про любовь. Любовь не чужда и пролетариату <...>. Она (любовь. — В. М.), вероятно, будет такой прекрасной, глубокой и богатой, какой она сейчас даже не может быть. И поскольку Ахматова пишет именно о любви, о ее силе, о ее радостях, муках, постольку она есть и верно остается нечуждой пролетариату, но пролетариату в целом, как его женской, так и его мужской части»15. Когда же в 1925 году спор об Ахматовой ввязался Вяч. Полонский (редактор журнала «Печать и революция», а с 1926 года — редактор «Нового мира»), то его полемика с Г. Лелевичем снова вернулась к проблеме марксистского метода в области литературной критики. Суть «наших разногласий», писал Вяч. Полонский, заключается в том, что речь должна идти не просто о дворянском происхождении автора «Четок», но о «талантливой женщине из буржуазно-дворянской среды, которая своей поэзией делает для нас видимой, осязаемой, оматериализованной трагическую обреченность и свою личную, и обреченность своего общества»16. При этом ни Г. Лелевич, ни Вяч. Полонский ничуть не сомневались в чисто художественных достоинствах ахматовской лирики. Так что не следует безоговорочно принимать на веру слова Ахматовой, говорившей в 1926 году П. Н. Лукницкому, что официальная критика отнесла ее к «правому флангу советской литературы» (Лукницкий-2, 202). Утверждения, что с середины 20-х годов она подверглась «государственному остракизму и изоляции» (СС-6, 1, 640), а «в печати начинается настоящая травля Ахматовой» 17, следует признать, по меньшей мере, преувеличенными. Творчеству Ахматовой отводилась исключительно область интимных переживаний, а сама она воспринималась как фигура идеологически чуждая, но политически не опасная. Позднее, в 1946 году, разгневанный Сталин пренебрежительно назовет ее «поэтессой-старухой»18. Это была характеристика не столько возраста Ахматовой, сколько ее политического лица, невозможности для нее шагать в ногу с современностью. Позиция официальной критики 1920-х годов по отношению к Ахматовой резко изменилась лишь после ее участия в «Русском современнике» - журнале, который попытался объединить на внепартийной основе лучшие литературные силы Советской России. Главным редактором его был старый друг и литературный соратник Максима Горького А. Н. Тихонов, а членами редколлегии — К. И. Чуковский и Е. И. Замятин. В первом номере было объявлено, что журнал выходит «при ближайшем участии Горького», которому, таким образом, отводилась роль собирателя независимой русской литературы. Власть не могла допустить, чтобы инициатива такого собирания исходила от эмигранта Горького и беспартийных литераторов. 12 мая 1924 года К. И. Чуковский сделал в своем дневнике следующую запись: «Первый номер "Современника" вызвал в официальных кругах недовольство: - Царизмом разит на три версты! - Недаром у них обложка желтая. Эфрос спросил у Луначарского, нравится ли ему журнал. - Да, да! Очень хороший! - А согласились бы вы сотрудничать? - Нет, нет, боюсь. Троцкий сказал: не хотел ругать их, а приходится. Умные люди, а делают глупости» 19. После третьего номера Максим Горький потребовал, чтобы с обложки журнала было снято объявление о его участии20. И хотя А. Н. Тихонов отверг требование Горького изъять его имя из числа ближайших сотрудников, это не спасло положения. После четвертого номера «Русский современник» перестал выходить, а его редактор в январе 1925 года был арестован и выпущен из тюрьмы только в феврале21. Таким образом, участие Ахматовой в этом журнале выглядело как политический проступок, а стихи ее сразу получили политический резонанс. Ситуация подогревалась тем, что в апреле 1924 года в Москве триумфально прошли два ее публичных выступления. Первое — в Московской консерватории на вечере «Литературное сегодня», который был посвящен только что созданному «Русскому современнику». Второе.— в Политехническом музее, где Л. П. Гроссман, произнесший восторженное слово об Ахматовой, назвал ее лирику «творчеством трагического стиля» 22. Образцами «трагического стиля», безусловно были «Новогодняя баллада» и «Лотова жена», напечатанные в первом номере «Русского современника». Именно эти стихи Г. Лелевич, в 1923 году снисходительно писавший об ахматовской лирике как осколке дворянской культуры, в 1924-м расценил как «доказательство глубочайшей нутряной <i>антиреволюционности</i> Ахматовой»23. В начале ноября 1924 года первые три номера «Русского современника» получили грубую негативную оценку в «Правде»: «В "Русском современнике" нэповская литература показала свое подлинное лицо. "Русский современник" не попутчик, даже не правый попутчик, потому что попутчик все-таки "принял" революцию, потому что "попутчик" пытался и пытается честно и искренне, по мере данных ему мелкобуржуазной природой сил и средств разобраться и объяснить происходящее. Попутчик двойственен и непостоянен как мелкий буржуа, идеологическим представителем которого он является. <...> Как маятник, качается попутчик между двумя основными борющимися классами современности. <...> "Русский современник" не принял революции, не принял Октября, для него только "сегодняшнее", преходящее, как преходящ сегодняшний день, и так же покрывается "современностью", как день — эпохой. <...> "Русский современник" живет вчерашним и завтрашним, которое, он думает, будет походить на вчерашнее, но только не сегодняшним. <...> Какой же свободы хочется "Русскому современнику"? Очевидно, буржуазной. И, прежде всего, свободы выйти на перекресток и кричать: "Долой советскую власть", "Долой ГПУ и уплотнение!" <...> И "Русский современник" поучает нас, как и о чем нужно писать: <...> И праведник шел за посланником бога... (Ахматова)»24. Все это, действительно, ставило ахматовские стихи на «правый фланг» современной литературы. Более всего Ахматову задела статья молодого критика В. Перцова (будущего маститого исследователя Маяковского), в которой прозвучала печально известная фраза: «Новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть» 25. Но В. Перцов лишь следовал в фарватере оценок «Большевика» и «Правды», демонстрируя свою политическую верноподанность. Если оценки, данные партийной прессой, не слишком задевали ее поэтическое самолюбие, то статья В. Перцова была напечатана в «Жизни искусства» — органе, задачи которого носили эстетический характер, а сам автор принадлежал к молодежи 1920-х годов. Итак, в 1924-1925 годах официальная критика, в сущности, повторяла приговоры, вынесенные Михаилом Кузминым, Валерием Брюсовым и Валерианой Чудовским в 1921-1923 годах. Эстетические оценки превращались в политические, что заставляло Ахматову быть предельно осторожной и сторониться публичного участия в современной литературной жизни. Ее позднейшее утверждение, будто ее перестали «приглашать на литературные вечера», не вполне соответствует действительности. Так, 15 февраля 1926 года ей пришло приглашение от московского Союза поэтов: «Читать. 150 рублей и оплата за проезд и за пребывание в Москве» (Лукницкий-2, 45). Она послала в Москву телеграмму с отказом (Летописъ-2, 96). 10 мая она снова ответила отказом на приглашение Всероссийского союза писателей участвовать в литературно-художественном вечере в Большом зале Ленинградской филармонии (Лукницкий-2, 154-155). 30 апреля 1927 года Ленинградское отделение Союза писателей устроило «Вечер поэзии А. А. Ахматовой» со вступительным словом Б. М. Эйхенбаума, и снова она отказалась выступать на Нем (Лукницкий-2, 245-46). 3 июня она ответила отказом на приглашение выступать в Пятигорске, сославшись на болезнь (Летописъ-2, 123). Говоря иначе, Ахматова после 1925 года сознательно отстраняется от активного участия в литературной жизни. Это было проявлением осторожности, уроки которой были усвоены ею в самом начале десятилетия. Если Мандельштам, вступив в конце 1920-х годов в неравную тяжбу с влиятельными редакционно-издательскими кругами, пытавшимися обвинить его в плагиате, отчаянно боролся за свое положение в литературе, то Ахматова сознательно не захотела идти этим путем. И не в последнюю очередь потому, что ее в большей мере заботила судьба двухтомника, который намеревалось издать ленинградское кооперативное издательство «Петроград». Договор был заключен в июле 1924 года, но история с «Русским современником» бросила тень на политическую репутацию Ахматовой и заставляла ее избегать каких-либо публичных выступлений. Она не хотела привлекать к себе общественное внимание. Слова Шагинян о запрете на ее творчество, столь категорически истолкованные Ахматовой, были, вероятно, отголоском слухов, ходивших по поводу цензурных придирок к двухтомнику, издание которого, несмотря на подготовленную корректуру, застопорилось. Осенью 1927 года Издательство писателей в Ленинграде попыталось выкупить у военной типографии уже подготовленную верстку (Летопись-2, 117). Но дело так и не сдвинулось с места даже после попытки К. А. Федина весною 1929 года обратиться с письмом к властям, в котором говорилось о необходимости иметь на книжном рынке стихи поэта, стоящего в одном ряду с «Тютчевым, Блоком, Хлебниковым» (Летопись-2, 128). Вряд ли это, однако, было следствием негласного запрета на печатание Ахматовой. Цензура руководствовалась, скорее всего, не конкретными указаниями сверху, а общими установками. Ахматовский двухтомник этим установкам явно противоречил. В него входила лирика 1909-1922 годов, и при этом ни одно из стихотворений, созванных за пять первых послереволюционных лет, не было посвящено советской действительности. А отсутствие стихотворений после 1922 года должно было казаться подозрительным молчанием. Напомню, что в 1924 году Маяковский пишет поэму «Владимир Ильич Ленин», а в 1927 году — «Хорошо!». Есенин в 1924 году создает «Песнь о великом походе», посвященную обороне Петрограда, а в 1925-м — «Анну Снегину». Пастернак в 1926-м завершает поэму «Девятьсот пятый год», а в 1927-м — «Лейтенант Шмидт». Мандельштам, который еще в 1918 году воспел «поворот руля», в стихах 1922-1924 годов сделал попытку примирения с «веком»; его автобиографическая проза «Шум времени» и «Египетская марка» диктовались стремлением найти свое место в эпохе в качестве «разночинца», которому небезразличен моральный смысл революции. Визитной карточкой современного поэта становилось присутствие в его творчестве революционной темы. Составленный же Ахматовой двухтомник ярко свидетельствовал о том, что она не сделала ни одного шага в этом направлении. И все же в 1920-е годы власть не имела в руках ничего, что бы в политическом отношении серьезно компрометировало Ахматову. Ее позиция никогда не имела четко выраженной политической окраски. В ней не просматривалось никакой близости к платформам тогдашних литературных группировок. Даже журнал «Русский современник», задуманный как внепартийное и независимое издание, вызывал у нее чувство отталкивания. 15 июня 1924 года Н. Н. Пунин записал в дневнике: «Сегодня долго был в редакции "Русского современника" — тягостное и мучительное чувство. Торгуют. Литературой. У Ахматовой "кол в горле" после того, как она поговорит с Тихоновым <...>»26. Установки Ахматовой носили не политический, а исключительно нравственный характер, что хорошо описал в дневнике за тот же 1924 год Пунин: «Ан. была недавно на "Орфее" Глюка. Сегодня сказала, смотря на один старый дом: "Когда я думаю или вижу XVIII век, я всегда чувствую, что вся эта беспечность, легкомыслие и жизнерадостность — только кажущиеся; им хотелось быть жизнерадостными и веселыми, но такими они не были; для меня эти барашки и пастушки неотделимы от революции, а парики всегда и тотчас же напоминают мне головы в париках на пиках, такими мы их и знаем". Все это, сказанное Ан., очень для нее характерно и вовсе не мрачностью ее мироощущения, а ее чувством морали. В сущности, она веселый, даже очень веселый человек (если только здорова), но ее моральное чувство ответственности настолько глубоко и выработано (серьезно), что она уже никогда, ни в каком кажущемся благополучии не может забыть о том, что страдания мира неустранимы, ничем не могут быть уменьшены. Из этого строится вся система ее отношений к людям и к "политике". Меня всегда удивляет, до какой степени ее искусство, родившееся в кругу густого эстетизма (Гумилев, Вяч. Иванов и пр.) — насквозь морально, нравственно в смысле внутреннего оправдания жизни»27. В «Записных книжках» Ахматова категорически утверждала: «Между 1925-1939 годами меня перестали печатать совершенно» (ЗК, 28). Но ей, в сущности, нечего было предложить советской печати. До 1934 года она написала чуть более десятка стихотворений, большинство из которых свидетельствовали о трагической отъединенности от новой жизни страны. Вряд ли бы она захотела опубликовать, например, эти стихи: Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал... И вот уж о невозвратимом Скрипач безносый заиграл. " В середине 1929 года стало окончательно ясно, что издание двухтомника не состоится, Ахматова позволила себе жест публичного характера. В сентябре 1929 года «Литературная газета» начала травлю Евгения Замятина и Бориса Пильняка (первого — за роман «Мы», второго — за повесть «Красное дерево»), она написала заявление о выходе из Союза писателей (Летописъ-2, 130). Кроме возмущенной реакции на травлю собратьев по Цеху, здесь сказалось твердое намерение уйти из литературы, в которой ее творчество сочтено ненужным. И хотя П. Н. Лукницкий не отдал его по назначению, Ахматова считала себя вышедшей из писательской организации. 31 декабря 1929 года П. Н. Лукницкий записал свой разговор с Ахматовой: «Много говорили о литературе и о том, как можно писать в современных условиях. Взгляд ее категорический: "настоящей литературы сейчас быть не может"»28. И все же литературная репутация Ахматовой на протяжении всех 1920 годов оставалась достаточно высокой — даже вопреки истории с «Русским современником» и невыходом двухтомника. В четвертом томе «Большой советской энциклопедии», опубликованном в 1926 году, она была названа «выдающейся русской поэтессой», а ее творчество получило следующую оценку: «Примкнувшая в начале своей деятельности к поэтическому движению акмеистов <...>, А. восприняла несколько ценных черт этого направления — внимание к конкретной действительности, точность и разговорность стихотворной формы, четкость образа. Господствующей в лирике А. является тема любви, заметно осложняемая в последних книгах ее темой смерти и проблемой современности. Социальный облик поэтессы вполне определен: произведения А. — яркий образец поэзии эпохи гибели дворянских гнезд, впитавшей в свое творчество все лучшие художественные традиции усадебной поэзии от Пушкина и до Блока. Сюда же тяготеет и эмоциональноидеологический состав поэзии А., напр. — религиозные мотивы: иконы, молитвы, церкви, обеты, греховность и пр. обильно представлены в стихах А. Впрочем, религиозные мотивы не глубоки у поэтессы; здесь скорее эстетическая форма старинного помещичьего уклада, чем настоящая религиозность»29. В первом томе «Литературной энциклопедии» (1929) Ахматова именовалась «поэтессой дворянства, еще не получившего новых функций в капиталистическом обществе, но уже потерявшие старые, принесенные из общества феодального». Ее называли представительницей «сложившейся веками дворян-ско-помещичьей культуры», которая обречена на уход «в узкую область интимнейших эротических переживаний». При этом эстетическая оценка ахматовской лирики оставалась по-прежнему чрезвычайно высокой: «Касаясь формально художественной оценки творчества Ахматовой, следует сказать, что в ее лице мы имеем поэта с чрезвычайно сильным дарованием»30. Путь вхождения в советскую литературу для Ахматовой вплоть до открытия 1-го съезда Союза Советских писателей в 1934 году был вовсе не заказан. Но после ареста Мандельштама она еще раз разыграла акт разрыва с советской литературой, о чем позже вспоминала так: «В это время шла подготовка к первому съезду писателей (1934 г.), мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака <...>, обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе» (Кралин, 2, 168-169). Но Бухарин ни словом не обмолвился о поэте, который сам поставил себя вне советской литературы. Ахматову никто не замалчивал — она замолчала сама. Ее поздняя убежденность, что в докладе о поэзии на 1-м Всесоюзном съезде Советских Писателей ее должны непременно «обругать», диктовалась задачей построения собственной биографии — «ахма-товского мифа», который включал в себя сюжет персональной травли автора «Вечера» и «Четок» на протяжении десяти лет. Ахматова компенсировала то равнодушие к собственному творчеству, которое наступило в советской литературе в середине 1920 годов и длилось вплоть до конца 1930-х. «Ахматовский миф» нуждался в героическом начале, и Ахматова черпала эта начало не столько из реальной жизни, сколько из своего творческого воображения. Что касается этой самой реальной жизни, то в 1920-е годы она складывалась более или менее благополучно в личном плане. В ноябре 1926 года Ахматова выписалась из квартиры В. К. Шилейко и переехала к Н. Н. Пунину в Фонтанный Дом (Летопись-2, 105). Несмотря на то, что Пунин не развелся с А. Е. Арене и юридически не оформил брака с Ахматовой, рядом с ней оказался духовно близкий, заботливый и любящий человек. Это позволяло ей внешне хорошо держаться: «Как стройна и прекрасна...», — записал Н. Н. Пунин в феврале 1926 года31. В начале 1925 года появилась составленная Э. Голлербахом антология «Образ Ахматовой». И хотя, по свидетельству П. Н. Лукницкого, Ахматова о ней «неодобрительно отзывалась» (Лукницкий1, 18), все же это было яркое (и вряд ли ей безразличное) свидетельство ее популярности. Беда была в другом. Она остро ощущала, как вокруг нее тают люди, с которыми она поддерживала в той или иной степени духовные или просто дружеские связи. В октябре 1924 года уехала за границу О. А. Глебова-Судейкина, с которой она сроднилась за время их совместной жизни на Фонтанке, 18. В феврале 1926-го пришло известие о смерти Ларисы Рейснер, с уходом которой оборвалась одна из нитей, связывающих ее с Гумилевым. В декабре 1927 года умер Федор Сологуб, по-старчески нежно относившийся к Ахматовой. В мае 1928 года умерла ее подруга Н. В. Рыкова, адресат стихотворения «Все расхищено, предано, продано...... В октябре 1930 года умер В. К. Шилейко. О том, какие мысли это рождало в ее сознании, можно догадаться по позднему письму сыну от 29 апреля 1955 года: «Ты забываешь, что мне 66 лет, что я ношу в себе три смертельные болезни, что все мои друзья и современники умерли. Жизнь моя темна и одинока <...>» 32. В 20-е годы старость еще была далеко, смертельные болезни пока не надвинулись, но одиночество уже давало о себе знать. Она оставалась вне культурной среды, которая могла бы ее подпитывать и поддерживать. 8 февраля 1925 года Н. Н. Пунин записал в дневнике: «В политическом отношении мы чувствуем сейчас себя как бы за концом, должен был быть уже давно конец, а его все нет — от этого пустота; в отношении культуры мы отброшены лет на 50 назад — от этого духота»33. [А 18 февраля:] «Нигде ничто не "вертится", все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается... неужели это может тянуться десятилетие? — от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории»34. «Люди уходят сквозь пальцы <...>, — говорила она П. Н. Лукницкому в апреле 1925 года. — Это — последние островки культуры... Подрастает новое поколение, но какая это будет культура, мы еще не знаем...» (Лукницкий-1, 195). Начиная со второй половины 20-х годов, общественная жизнь стремительно мельчала, и творческому человеку в ней становилось все труднее дышать. Так что главной бедой для Ахматовой были отнюдь не критические нападки, лишь подтверждающие ее значение как поэта, а равнодушие общественно-литературной среды и собственная «аграфия». Впрочем, это была ситуация, в которой оказалась вся русская лирика в целом. В 1925 году, отвечая на анкету «Ленинградской правды», Борис Пастернак писал: «Стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима» (Пастернак, 4, 619-620). Сказанное Пастернаком символически совпало по времени с самоубийством Есенина. Записи П. Н. Лукницкого дают нам возможность представить себе реакцию Ахматовой на то, что случилось в гостинице «Англетер» в декабре 1925 года: «Есенин... О нем долго говорили. Анну Андреевну волнует его смерть. "Он страшно жил и страшно умер... Как хрупки эти крестьяне, когда их неудачно коснется цивилизация... Каждый год умирает по поэту... Страшно, когда умирает поэт..." — вот несколько в точности запомнившихся фраз. Из разговора понятно было, что тяжесть жизни, ощущаемая всеми и остро давящая культурных людей, нередко их приводит к мысли о самоубийстве. Но чем культурнее человек, тем крепче его дух, тем он выносливее... Я применяю эти слова, прежде всего к самой АА. А вот такие, как Есенин — слабее духом. Они не выдерживают» (Лукницкий-1,312). В этой записи четко различимы две стороны отношения Ахматовой к трагической смерти Есенина. С одной стороны, речь идет о «хрупкости» крестьянина, которого «неудачно» коснулась цивилизация. Но, с другой — о том, что «каждый год умирает по поэту». Ахматова остро ощущала не только неблагополучие и неустойчивость судьбы поэта, но и ее ненужность в новой исторической эпохе. В стихотворении, которое Ахматова много позже назовет «Памяти Сергея Есенина», она написала об «ужасе», который <...> лапою косматой Из сердца, как из губки, выжмет жизнь. Поскольку, как свидетельствует П. Н. Лукницкий, эти стихи Ахматова читала в феврале 1925 года на вечере в Капелле (Лукницкий-1,35), то В. Я. Виленкин, а вслед за ним и Л. К. Чуковская справедливо предположили, что в действительности речь здесь идет о Гумилеве, а не о Есенине (Чуковская-2, 246). Но правильнее было бы видеть в них дальнейшее развитие темы страха, начатой стихами, пророчески предчувствующими смерть Гумилева. Самоубийство Есенина лишь подтверждало ахматовское восприятие эпохи. Через пять лет смерть Маяковского обобщила и суммировала судьбы непохожих друг на друга поэтов. Ахматова ощущала в трагических концах Гумилева, Есенина и Маяковского нечто родственное: По Таганцевке, по Есенинке Иль большим Маяковским путем. Эти строки уже предсказывает образ Поэта, который «полосатой наряжен верстой» (в «Поэме без героя»), только там этот мотив имел пушкинский «путеводительный» характер (ср.: «Только версты полосаты // Попадаются одне»), а здесь речь шла о дороге, ведущей в гибель. Тем не менее, Ахматова приняла эпоху, в которой ей выпало жить, с полным самообладанием. Она предчувствовала, что ей предстоит участь летописца и свидетеля, о чем ясно сказала в стихотворении «Муза» (1924): Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостью с дудочкой в руке. И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Отвечает: «Я». «Страницы ада» еще только-только начали ей диктоваться, а в том относительно бытовом благополучии, которое пришло с Пуниным, уже все начинало становиться ненадежным и зыбким. Но главное было в том, что сюжет ее любовной лирики ощущался оборванным. Биографические прототипы мужской партии в этом сюжете выбывали из эпохи по разным причинам: кто был убит, подобно Гумилеву или Герасиму Фейгину; кто задохнулся, подобно Блоку; кто оказался в эмиграции, как Анреп или Лурье. Позднее это аукнется в странном названии ее центральной вещи — «Поэма <i>без героя</i>» (курсив мой. — В. М.). Жизнь с Пуниным оказалась творчески непродуктивной, и только их разрыв с ним дал в ЗО-е годы лирическую тему бездомности и предательства. В 1920-е годы Ахматова попыталась преодолеть творческую паузу тем же самым способом, который избрали для себя многие поэтысовременники, то есть попробовать себя в эпическом жанре. Борис Пастернак, к которому она, безусловно, прислушивалась, говорил о себе в 1926 году: «В наше время лирика почти перестала звучать, и здесь мне приходится быть объективным, от лирики переходить к эпосу» (Пастернак, 4, 621). А годом позже повторил эту формулу еще более категорически: «Я считаю, что эпос внушен временем <...>» (Пастернак, 4, 621). В апреле 1925 года П. Н. Лукницкий сделал следующую запись: «АА читает мне отрывок из неоконченной поэмы "Трианон", 10-я строка отрывка: И рушились громады Арзерума, Кровь заливала горло Дарданелл...* <...> АА говорит, что это поэма, что "тут и Распутин, и Вырубова — все были"; что она начала ее давно, а теперь "Заговор Императрицы" (написанный на ту же, приблизительно, тему) помешал ей, отбил охоту продолжать... Я говорю АА, что у нее, по-видимому, много ненапечатанных поэм... АА: "У меня только 2 поэмы и есть: одна петербургская, а другая вот эта — "Трианон"...» (Лукницкий-1, 129-130). Название поэмы — «Русский Трианон» — актуализировало ассоциации с Великой Французской революцией, которые уже прозвучали в стихотворении 1921 года «Страх» мотивами топора и помоста. О «петербургской» поэме мы ничего не знаем, кроме сохранившихся отрывков, но отголосок этого замысла, возможно, звучит в подзаголовке первой части «Поэмы без героя», названой, как известно, «Петербургской повестью». Насколько можно судить по сохранившимся строфам «Русского Трианона», Ахматова пыталась осмыслить историческую катастрофу, которая привела к крушению империи. Но поэма не пошла, и позднее Ахматова объясняла, что на одной из строф она «спохватилась, что слышится <u>онегинская интонация</u>, т. е. самое дурное для поэмы 20 в.» (ЗК, 177). Работа над поэмой тянулась вплоть до 1935 года и осталась незавершенной. В июле 1925 года она поделилась с П. Н. Лукницким своими впечатлениями от «Курса русской истории» В. О. Ключевского и, в частности, о том, как ярко описана у него эпоха Ивана Грозного: «АА восхищается Иваном Грозным — так гениально управлял государством, такую мощь создал и умел давать ее чувствовать, так организовал и т. д. Приводила примеры из истории царствования Ивана Грозного...» (Лукницкий-1, 202). * П. Н. Лукницкий неточно цитирует незавершенную поэму Ахматовой «Русский Трианон»: И рушилась твердыня Эрзерума, Кровь заливала горло Дарданелл. Это была реакция на измельчавшую современность, плохо совместимую с лирикой «трагического стиля». Чуть раньше Осип Мандельштам опубликовал в журнале «Прожектор» свои переводы из Огюста Барбье. В предисловии к публикации он писал, что в творчестве французского поэта поражает «контраст между величием пронесшегося урагана и убожеством достигнутых результатов» (Мандельштам, 2, 303-304). Ахматова потом назовет период между 1925 и 1936 временем «страха, скуки, пустоты, смертного одиночества». И все же она твердо решила врастать в жизнь своей страны, как бы тяжело и страшно это ни было. Ее звала с собой заграницу О. А. Глебова-Судейкина, а чуть позже, в 1925 году ее знакомые И. И. и Л. Я. Рыбаковы предложили ей ехать с ними за границу «с чтением стихов в Париже, Лондоне, Праге, Вене». Она ответила отказом (Летописъ-2, 77-79) и — более того — перед отъездом Рыбаковых в Париж «не дала им никаких поручений» (Лукницкий-1, 173), решительно отрезав себя от эмиграции. 2 Изменения в литературно-общественной жизни страны, начавшиеся с конца 1920-х годов, а точнее, с так называемого «года великого перелома» — 1929), не могли не затронуть Ахматову. В 1930-е годы были уничтожены критики, задававшие тон в 1920-е, а судьба писателей «с именем» будет напрямую зависеть от единоличной воли Сталина. 23 октября 1935 года были арестованы Николай Николаевич Пунин и Лев Гумилев, а 1 ноября Ахматова обратилась к Сталину с личным письмом, текст которого стоит, чтобы быть процитированным полностью: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом. 23 октября, в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У). Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. Я живу С.С. <С>Р. с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печа<та>ются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не пала духом; в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто по долгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не смогу перенести. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября 1935 года». Сталин мгновенно отреагировал на это письмо резолюцией: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Лунина и Гумилева и сообщить об исполнении»35. Уже 3 ноября Н. Н. Пунин и Л. Гумилев были освобождены, а Ягода, в свою очередь, вынужден был отказать начальнику УНКВД по Ленинградской области в санкции на арест Ахматовой. По странному стечению обстоятельств запрос об ее аресте был датирован тем же числом, что и ахматовское письмо к Сталину. Террор, обрушившийся на ленинградскую интеллигенцию после убийства Кирова в декабре 1934 года, заставил Ахматову ощутить свое неустойчивое социальное положение, которое в любой момент могло обернуться арестом. В ее решении обратиться напрямик к вождю прослушивается не только отчаяние жены и матери, но и решимость пустить в оборот единственный капитал, которым она располагала, - репутацию большого лирического поэта. Именно общепризнанность таланта спасла в 1930-е годы от гибели Бориса Пастернака, Михаила Булгакова и Осипа Мандельштама. Сталин не собирался разбрасываться ценными писательскими кадрами — он намеревался использовать их в политических целях. В общем-то он ее достиг: Пастернак напечатал в «Известиях» стихи о Сталине (цикл «Художник» с панегириком вождю), Булгаков написал «Батум», Мандельштам — «Оду». Освобождая сына и мужа Ахматовой, Сталин проявлял отнюдь не великодушие или жалость, а политический расчет. Не случайно под его резолюцией об освобождении Пунина и Гумилева на копии ахматовского письма стояла подпись Молотова36. И вряд ли без оглядки на это чудесное освобождение Льва Гумилева восстановили бы на истфаке ЛГУ в 1937 году. Однако Ахматова не отблагодарила власть, продолжая хранить поэтическое молчание. Вскоре ей напомнили о затянувшемся долге. 10 марта 1938 года Лев Гумилев был арестован по обвинению в участии в руководстве молодежной антисоветской террористической организацией и в подготовке террористического акта против А. А. Жданова. В сентябре того же года он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества, а его подельники — студенты ЛГУ Н. Ерехович и Т. Шумовский — по 8 лет. Все трое написали кассационные жалобы, по которым Военной коллегией Верховного Суда ССР было вынесено странное определение. Жалоба Льва Гумилева была отклонена, но приговор всем троим был тем не менее отменен «в отношении Гумилева за мягкостью и в отношении Ереховича и Шумовского за недоследованностыо дела» 37. Назначенное дополнительное расследование имело очевидную цель — ужесточить приговор Гумилеву, что в тех условиях означало смертную казнь. Дело было сфабриковано исключительно ради сына Ахматовой; недоказанность вины Н. Ереховича и Т. Шумовского была только предлогом для пересмотра дела относительно одного человека. Всех троих на самом деле давно списали счетов и, не дожидаясь конца доследования и нового приговора, отправили в декабре 1938 года в лагерь на Беломоро-Балтийский канал. Публикаторы следственного дела Л. Н. Гумилева склонны видеть в этом «противоречия в работе судебной системы тех лет»38, но, думается, никакого противоречия здесь нет. Как свидетельствовал О. Калугин, на одном из допросов Лев Николаевич «видимо, после избиения, сказал: "Мать неоднократно говорила мне, что если я хочу быть ее сыном до конца, я должен быть прежде всего сыном отца"»39. Поэтому в 1939 году на Ахматову было заведено дело с формулировкой «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения» 40. Таким образом, судьба сына контрреволюционера Гумилева была решена, а дальней целью ленинградских чекистов, безусловно, всегда была Ахматова. Тронуть ее без санкции свыше не позволял статус большого поэта, официально подтвержденный Сталиным в 1935 году. Ахматова, интуитивно понимая размеры надвигающейся опасности, сначала попыталась действовать официальным путем. 3 февраля 1939 года она обратилась с письмом к прокурору, в котором содержалась следующая просьба: «Так как приговор моему сыну Льву Николаевичу Гумилеву отменен (17 ноября) и дело направлено на переследование в НКВД, я прошу вернуть в следственную тюрьму моего сына, который находится в Б.Б.К 14 отделение»41. Как ни странно, но письмо подействовало — в марте Льва Гумилева затребовали в Ленинград на пересмотр дела, но срок следствия при этом продлили. Смерть на лесоповале отодвинулась, но новый приговор мог оказаться куда более опасным и беспощадным. И тогда 6 апреля Ахматова снова обратилась с письмом к Сталину. Как утверждала Л. К. Чуковская, ее письмо на этот раз «не оказало действия» (Чуковская-1, 17). Сам Л. Н. Гумилев описывал эту ситуацию следующим образом: «Мама, наивная душа, как и многие другие чистые в своих помыслах люди, думала, что приговор, вынесенный мне, — результат судебной ошибки, случайного недосмотра. Она не могла первоначально предположить, как низко пало правосудие. <...> Мамино письмо, если оно и дошло до Сталина, было оставлено без последствий. На этот раз выручил меня не Сталин, а счастливое стечение обстоятельств. <...> Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. Это меня спасло» 42. Однако оба они ошибались. Ленинградские чекисты не решались предпринять каких-либо окончательных действий против Ахматовой, которой однажды уже помог Сталин, и, будучи вынуждены вернуть ее сына в тюрьму, затягивали с пересмотром дела. Разрешить ситуацию могло только указание из Москвы, и здесь письмо Ахматовой к Сталину оказалось более чем своевременным. Вот что она писала: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, Обращаюсь к Вам с просьбой о спасении моего единственного сына Льва Николаевича Гумилева студента IV курса исторического фак. Ленинградского ГУ. Сын мой уже 13 мес. находится в тюрьме, его судили, приговор затем был отменен и теперь дело вновь в первоначальной стадии (уже 5-ый месяц). Столь длительное заключение моего сына приведет его и меня роковым последствиям. За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь (рак лица). С мужем я рассталась и отсутствие сына самого близкого мне человека отнимает у меня всякую жизнеспособность. Мой сын даровитый историк. Акад. Струве и проф. Артамонов могут засвидетельствовать, что его научная работа, принятая к печати заслуживает внимания. Я уверена, что сын мой ни в чем не виновен перед Родиной и Правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое Вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 г. С великим смущением и чувствую всю громадность моей просьбы я опять обращаюсь к Вам. Иосиф Виссарионович! Спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать. Анна Ахматова»43. Письмо попало в аппарат ЦК ровно через 10 дней, а еще через неделю было спущено из Особого сектора ЦК ВКП(б) в секретариат генерального прокурора СССР А.Вышинского с припиской: «Пересылается полученное на имя тов. Сталина заявление Ахматовой А. для рассмотрения. О последующем распоряжении просьба сообщить заявителю» 44. Нет никаких оснований сомневаться в том, что Сталин прочитал письмо Ахматовой. В нем для него не было ничего нового: жалобы на болезни и уверения в том, что она не переживет смерти близких людей. Растрогать вождя всем этим было нельзя, и дважды повторять одну и ту же резолюцию он не захотел. Но так как автор письма смертельно боялся за судьбу сына, то последнего следовало не освобождать и не убивать, что напоминало знаменитое сталинское распоряжение относительно арестованного в 1934 году Мандельштама: «Изолировать, но сохранить». В этом случае Ахматова оказалась бы на коротком поводке. Судя по всему, Ахматова написала Сталину сразу после вынесения приговора сыну в сентябре 1938 года, но медлила с отправлением письма. 10 ноября 1938 года она прочла Л. К. Чуковской вслух наизусть его первоначальную редакцию. Лидия Корнеевна запомнила самую выразительную фразу этого текста: «Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно» (Чуковская-1, 16). И только после того, как поняла, что повторный приговор может оказаться еще хуже, рискнула обратиться к вождю. Э. Г. Герштейн, вспоминая обстоятельства ареста Л. Н. Гумилева, пишет: «Мне иногда казалось, что она (Ахматова. — В. М.) недостаточно энергично хлопочет о Леве, Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Анна Андреевна возразила: "Но тогда меня арестуют". "Ну что ж, и арестуют", — храбро провозгласила я. "Но ведь и Христос молился в Гефсиманском саду — "да минует меня чаша сия", — строго ответила Анна Андреевна. Мне стало стыдно»45. Из эпизода, описанного Э. Г. Герштейн, может показаться, что Ахматову в ее хлопотах за сына останавливал страх за собственную жизнь. Между тем фраза: «Но тогда меня арестуют», — означала одну очень простую вещь: в случае ареста ее никаких шансов на спасение сына просто не останется. Ахматова вовсе не была «наивной душой», как думал Л. Н. Гумилев, и прекрасно осознавала суть происходящего, ощущая себя, может быть, ненадежным, но единственным гарантом того, что сын уцелеет в лагере, и в итоге выиграла поединок с властью за его и свою жизнь. Ситуация, в которой она оказалась, была чрезвычайно опасной. Еще во время первого ареста Н. Н. Пунин показал на допросе, что она «всегда была настроена антисоветски», а сын произнес фразу, которая однозначно компрометировала ее в глазах власти: «Мать неоднократно говорила мне, что если я хочу быть ее сыном до конца, я должен быть прежде всего сыном отца». В 1938 году ленинградские чекисты потребовали санкции на арест Ахматовой. И хотя Сталин такой санкции не дал, на нее завели «Дело оперативной разработки» («ДОР») — «высшую категорию дела», после чего «следует санкция прокурора на реализацию: арест или официальное предупреждение» 46. О том, что сын стал разменной монетой в игре, которую затеяли с нею наверху, Ахматова могла догадаться по тому, что 31 мая 1939 года ей позвонили из редколлегии только что созданного «Московского альманаха» с просьбой дать стихи для публикации (Чуковская-1,29). К. Симонов, бывший членом редколлегии альманаха, даже поехал за ее стихами в Ленинград. И хотя позже он уверял, будто идея обратиться к Ахматовой пришла ему в голову самостоятельно, в это трудно поверить. Вряд ли он рискнул бы на этот шаг, если бы не был уверен в его полной политической уместности, а для этого нужна была какая-то «подсказка» свыше. Дело в том, что 10 мая было завершено доследование дела Льва Гумилева и составлено обвинительное заключение. Характер приговора, по-видимому, зависел от поведения Ахматовой, перед которой приоткрыли дверь в советскую литературу. Конечной целью затеянной с нею игры было не желание напечатать ее стихи, а выявить ее готовность быть советским поэтом. Как только согласие было получено, А. Фадеев настойчиво предложил редакции «Московского альманаха» отказаться от публикации ахматовских стихов. Но зато и приговор сыну, вынесенный 26 июля 1939 года, был смягчен — он получил 5 лет вместо 10ти. Причем вынесению приговора предшествовало одно немаловажное обстоятельство: 3 июня письмо Ахматовой Сталину было направлено из секретариата А. Вышинского прокурору Ленобласти с формулировкой: «Направляем Вам на распоряжение жалобу Ахматовой А. О результатах сообщите жалобщику»47. В этом сюжете отчетливо просматривается руководящая воля Сталина, по указанию которого сын Ахматовой превращался в политического заложника, что делало ее поведение однозначным и предсказуемым. 17 или 18 августа Лев Гумилев был отправлен по этапу в норильский лагерь, где условия содержания были лучше, чем на Беломорканале и где, как пишет биограф Л. Н. Гумилева, он получил возможность вырасти «от землекопа до горняка меднорудной шахты, потом — геотехника, а к концу срока (в марте 1943 г.) стал даже лаборантом-химиком»48. 11 сентября 1939 года Ахматова написала заявление с просьбой принять ее в Союз писателей СССР (Летописъ-3,36). 3 октября она заполнила «Личную карточку члена Союза советских писателей СССР» (Летописъ-3,37), а в ноябре Президиум ССП СССР принял постановление «О помощи Ахматовой» (Летописъ-3,37), в котором ставился вопрос о выделении ей квартиры и пенсии. И хотя квартиры она так и не получила, в ее социальном положении наметились некоторые сдвиги. 5января 1940 года ее приняли в Союз писателей, а 16-го ленинградское отделение Гослитиздата заключило с ней договор об издании книги стихов объемом 4000 строк и тиражом 10 000 экземпляров (Летопись3, 39). Из Москвы вскоре прислали «три тысячи единовременно», а ежемесячная пенсия была «повышена до 750 рублей» (Чуковская-1, 65). В марте Ахматова читала стихи в доме культуры Выборгского района, а в апреле выступила на вечере в ленинградской Академической капелле. Она возвращалась в литературную жизнь, но, главное, у нее появились творческие импульсы, столь мощно заявившие о себя к 1940 году, когда были написаны стихи, составившие позже «Реквием», поэма «Путем всея земли» и началась работа над «Поэмой без героя». Поведение Ахматовой дало ощутимые результаты. В апреле 1940 года Главный военный прокурор направил прокурору Ленинградского военного округа распоряжение о проверке обоснованности приговора по делу Гумилева, Ереховича и Шумовско-го. 30 июля помощник прокурора ЛВО составил заключение «на предмет опротестования постановления» ОСО, в котором, в частности, говорилось: «Таким образом, сейчас в деле нет доказательств виновности Гумилева, Ереховича и Шумовского в к/р деятельности <...>». О самом Льве Гумилеве было сказано следующее: «Мать его является членом Союза Советских писателей, получает персональную пенсию и репрессиям со стороны органов НКВД не подвергалась»49. У Ахматовой появилась надежда добиться отмены приговора и освобождения сына. Самым обнадеживающим в этой ситуации было разрешение вождя на печатание ее стихов, которое было дано в типично сталинской манере: на одном из совещаний он как бы мимоходом поинтересовался, «почему не печатается Ахматова» (Летописъ-3, 49-50). В самом деле, если власть дала добро на принятие Ахматовой в Союз Советских писателей, то советский писатель должен печататься. Вскоре стихи Ахматовой появились на страницах советских журналов. 16 января 1940 года сдан в набор, а 23 февраля подписан к печати журнал «Ленинград», в котором напечатаны 5 стихотворений Ахматовой: «Одни глядятся в ласковые взоры...», «От тебя я сердце скрыла...», «Художнику», «Воронеж» (без последней строфы о «ночи», которая «идет, не ведая рассвета»), «Здесь Пушкина изгнанье началось...»50. 19 апреля сдан в набор, а 10 июня подписан к печати «Литературный современник» с «Клеопатрой» и «Сказкой о черном кольце» 51. Но самой знаковой публикацией были стихи в ленниградском журнале «Звезде», сданном в набор 23 апреля и подписанном к печати 10 июня. Номер открывался текстом приветствия от ЦК ВКП (б) в честь 50-летия В. М. Молотова, на обороте которого было помещено стихотворение Ахматовой «Маяковский в 1913 году» 52. Не заметить этого стихотворения было нельзя ни Молотову, ни Сталину. А само оно красноречиво говорило о том, на какой общественно-политической платформе стоит его автор: Все, чего касался ты, казалось Не таким, как было до тех пор, То, что р азрушал ты, - разрушалось, В каждом слове бился приговор. < > И еще не слышанное имя Молнией влетало в душный зал, Чтобы ныне, вей страной хранимо, Зазвучать, как боевой сигнал. Эти строки явно корреспондировали с оценкой, которую Сталин дал Маяковскому в декабре 1935 года: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»53. В том же номере «Звезды» была напечатана подборка материалов о Маяковском — статьи Александра Дымши-ца «Владимир Маяковский (творческий путь поэта)», В. Бакинского «Подвиг Маяковского» и воспоминания Риты Райт «Двадцать лет назад»54. Редакция «Звезды» сделала все для создания благоприятного впечатления об общественнополитическом лице Ахматовой, а сама она постаралась максимально согласовать свое представление о раннем Маяковском (всегда остававшееся неизменно высоким) с тем политическим контекстом, в котором воспринимались его стихи в 1940 году, то есть в десятилетний юбилей со дня смерти поэта. Не случайно она прочла эти стихи на вечере в ленинградской Капелле (апрель 1940 г.). Подборка чисто лирических произведений Ахматовой была отнесена в том же номере «Звезды» на стр. 74: «Борис Пастернак», «Годовщину последнюю празднуй...» (без строфы о «тюремном бреде»), «От других мне хвала что хула...», «Когда человек умирает...», «Мне ни к чему одические рати», «А я росла в узорной тишине...», «И упало каменное слово...». Стихотворение о Маяковском было единственным шагом Ахматовой, продиктованным стремлением показать свою лояльность, и не удивительно, что оно носит отчасти вымученный характер. Она полагала, что этого шага будет вполне достаточно, — и ошиблась. В мае 1940 года «Советский писатель» выпустил ее сборник «Из шести книг» тиражом в 10 000 экземпляров (до сих пор тиражи ахматовских книг не превышали 2000). Это было настолько очевидным благоволением к Ахматовой на самом верху, что, как свидетельствовал В. Виленкин, «еще не вышедшая книга, вернее ее верстка, стала предметом горячего обсуждения на заседаниях литературной секции недавно созданного Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства. <...> За нее горячо ратовали, причем с явным удовольствием, А. Н. Толстой и Н. Н. Асеев, которых поддерживал А. А. Фадеев, да и все остальные члены секции были твердо "за"» 55. Приехав в конце августа в Москву, Ахматова, по словам Л. К. Чуковской, была поражена «тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию» (Чуковская-1,189). Но она ни слова не сказала Л. К. Чуковской о своем визите в Прокуратуру СССР. Мы знаем об этом со слов Э. Г. Герштейн: «Когда ее вызвали к прокурору, я ждала ее в холле. Очень скоро, слишком скоро, дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами, тычась в разные двери, не находя дороги к выходу»56. Реакция прокурора легко объяснима. Отношение к Ахматовой на самом верху внезапно поменялось, и прокуратура, намеревавшаяся довести пересмотр дела Льва Гумилева до отмены приговора, видимо, получила выволочку. 28 сентября 1940 г. Главный военный прокурор Красной Армии направил в адрес военного прокурора ЛВО письмо, в котором говорилось: «С Вашим представлением о внесении протеста на отмену постановления Особого Совещания при НКВД СССР с прекращением дела Гумилева я не согласен». В том же письме Гумилев характеризовался как «выходец из социально чуждой среды» и сын «активного участника контрреволюционного заговора»57. Ахматова была уверена, что причиной изменившегося отношения к ней была гневная реакция Сталина на сборник «Из шести книг». И хотя у нас нет прямых свидетельств сталинского гнева, на зато есть косвенные. В конце сентября 1940 г. А. А. Жданов получил докладную записку управляющего делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крупина о том, что в этой книге нет «стихотворений с "революционной и советской тематикой"» (Летописъ-3, 49). Ахматова обманула ожидания вождя, и тут же по мановению его руки заработала аппаратная система, ужесточая ситуацию вокруг непонятливого автора. В конце октября постановлением Секретариата ЦК ВКП(б) сборник «Из шести книг» был изъят из обращения (Летопись-3, 50). Критические отзывы о книге с комплиментарных быстро сменились на проработочные. В декабре «Литературная газета» подвела окончательный итог, заявив, что главное «несчастье» Ахматовой состоит «в том, что ее "чувство времени" и память самым печальным образом связаны с прежним временем и старым миром»58. Критика возвращала Ахматову на то место, куда она была поставлена в 1920-е годы - в исторически отжившее прошлое. Но для нее это уже не имело значения. Она покончила с «аграфией», о чем позже вспоминала так: «<...> В 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит подругому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, кот<орый> чем-то напоминает апокалипсического Бледного Коня или Черного Коня* из тогда еще не рожденных стихов. * Речь идет о стихотворении И. Бродского «Черный конь» (прим. редактора). Возникает "Реквием" (1935-1940). Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже — судить не мне. 1940 — апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь: разные и иногда, наверно, плохие. В марте "Эпилогом" кончился "R<equiem>". В те же дни — "Путем всея земли" ("Китежанка"), т. е. большая панихида по самой себе, осенью одновременно — две гостьи: Саломея ("Тень") и моя бедная Ольга ("Ты в Россию пришла ниоткуда"), и с этой таинственной спутницей я проблуждала 22 года» (ЗК, 311). Большой террор и надвинувшаяся большая война стимулировали творчество Ахматовой. Несмотря на изъятие сборника «Из шести книг» и попытку доказать, что ее стихи несовременны, ее творчество оказалось невозможным игнорировать. Нет ничего удивительного в том, что сразу после начала Великой Отечественной войны ее голос зазвучал с необыкновенной твердостью. В «Ленинградской правде» от 19 июля 1941 года была напечатано ее четверостишие: Вражье знамя Растает, как дым, Правда за нами, И мы победим. У этих строк есть два удивительных обертона. Во первых, Ахматова не могла не помнить ни того, что 19 июля 1914 года началась Первая мировая война, ни того, что в 1916 году она написала стихотворение «Памяти 19 июля 1914». Если переставить единицу и четверку местами, то «1914» меняется на «1941». Эта зеркальная перекличка двух дат многое определит в «Поэме без героя». Во-вторых, свой доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями Москвы Сталин закончил словами, кажущимися едва ли не цитатой ахматовских строк: «Наше дело правое, — победа будет за нами!»59. Оставляя в стороне возможные спекуляции, отмечу только, что интонационно и Лексически фраза вождя поразительно совпадала со стихами Ахматовой. Осознал ли Сталин это совпадение — неизвестно, но в сентябре 1941 года ей позволили выступить по ленинградскому радио. А из Ленинграда вскоре ее эвакуировали по списку, составленному А. А. Фадеевым, в который, как утверждает устная традиция, включил ее туда по личному распоряжению Сталина. Точно выработанная и единственно спасительная линия поведения Ахматовой в 1930-е годы позволила ей с абсолютной естественностью обрести статус современного поэта и вернуться в общественно-литературную жизнь. Разумеется, при этом Ахматова решала собственные творческие задачи, далеко не совпадающие с теми, что ставил перед писателями Сталин. Она уверенно выигрывала свой поединок с властью, и этот выигрыш носил стратегический характер. Из пятнадцатилетнего молчания Ахматова выходила полная сил и замыслов — вопреки аресту сына, недовольству власти, нищете, болезням. К ней пришло второе дыхание. 3 Если в центре ранних ахматовских книг стояла «характерно современная женщина», то, начиная с «Библейских стихов», на первый план выдвигалась культурная, «архетипическая» основа ее личности, что приводило к появлению лирических двойников, названных Т. В. Цивьян «зеркалами Ахматовой»60. Это создавало новые ресурсы поэтического слова, пролагая путь к будущей «Поэме без героя» с ее аллюзивностью и сложными, разветвленными ассоциациями. В 1962 году Анна Андреевна записала: «Итак, поздняя А<хматова>: выход из жанра "любовного дневника" ("Четки") — жанра, в кот<ором> она не знает соперников и кот<орый> она оставила м.б. даже с некоторым сожалением и оглядкой <...>. "Клеоп<атра>", "Данте", "Мелхола", "Дидона" — сильные портреты. Их мало, они появляются редко. Но они очень выразительны. Исполнены каждый по-своему. Горчайшие» (ЗК, 253). Стихотворения, названные «портретами», которые на самом деле являются «автопортретами», не только в еще большей степени подчеркивали ролевую, «театральную» природу лирики Ахматовой, но и позволяли ее лирической героине дистанцироваться от послереволюционной действительности с ее унизительными бытовыми обстоятельствами, уродливыми социальными нормами, а, главное, с отсутствием героического. Ахматова стремилась нащупать в современности контуры величественного драматического сюжета — с тем, чтобы найти в нем свою роль. Ведь, как я уже сказал, вторая половина 1920-х -первая половина 1930-х были тяжелы для нее вовсе не государственным преследованием, а равнодушием эпохи, которая сбрасывала ее со счетов за ненадобностью. Появление «двойников» в творчестве Ахматовой давало возможность игры с оглядкой на «вековые прототипы» (Пастернак). В центр ее лирики выдвигалась проблема поведения лирической героини в настоящем и «поздней оценке» в будущем. Ахматовское отношение к истории может быть охарактеризовано словами Пастернака, сказанными, возможно, не без оглядки на Ахматову: «Человек — действующее лицо. Он герой постановки, которая называется "история" или "историческое существование"» (Пастернак, 4, 671). «Лотова жена» была не первым шагом в этом направлении: достаточно вспомнить стихотворение «Плотно сомкнуты губы сухие...», лирическая героиня которого отождествляла себя с «княжной Евдокией», вдовой Димитрия Донского. Но именно начиная с «Библейских стихов» культурноисторические двойники Ахматовой стали устойчивой формой выражения ее духовного мира. В начале 1930-х годов Ахматова начинает переводить шекспировского «Макбета», и, как справедливо заметил Р. Д. Ти-менчик, к этой работе «приурочивается стихотворение "Привольем пахнет дикий мед..."»61 (1934). Сквозным, определяющим мотивом его является «кровь», которая пахнет «только кровью». В тексте вслед за упоминаем о Понтии Пилате, тщетно пытающимся смыть с рук кровь распятого Христа, неожиданно и, на первый взгляд, нелогично возникает «шотландская королева», то есть шекспировская леди Макбет: И напрасно наместник Рима Мыл руки пред всем народом Под зловещие крики черни; И шотландская королева Напрасно с узких ладоней Стирала красные брызги В душном мраке царского дома... ■ Но эта нелогичность заставляет почувствовать некую — еще менее объяснимую — связь между персонажем шекспировской драмы и лирической героиней Ахматовой. Э. Г. Герштейн вспоминала о том, как в 1935 году, после ареста Льва Гумилева и Н. Н. Лунина, она везла Ахматову на такси к Лидии Сейфуллиной, чтобы передать ей письмо Сталину с просьбой о помиловании: «Всю дорогу она вскрикивала: "Коля... Коля... кровь...". Я решила, что Анна Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. <...> Через очень много лет, в спокойной обстановке Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. "Мне кажется, что давно вы мне его уже читали", — сказала я. "А я его сочиняла, когда мы с вами ехали к Сейфуллиной", — ответила Анна Андреевна»62. В первой публикации этого эпизода Э. Г. Герштейн добавила: «К сожалению, эти стихи пропали. Никто их не помнит» (Воспоминания, 257). Позднее она предположила, что к ним относится отрывок «За ландышевый май // В моей Москве кровавой...» 63. Однако сомнительно, чтобы в тот момент Ахматова, действительно, сочиняла стихи. Очевидно лишь то, что ее состояние было тесно связано с какими-то стихами, в которых был важен мотив «крови». Это был психологический комплекс «леди Макбет», столь сильно проявившийся в ее «бредовом» состоянии. Достаточно вспомнить стихотворение «Я гибель накликала милым» с его темой трагической вины в крови близких людей или ошеломляющее признание: «В крови невинной маленькие руки». Мотив «шотландской королевы» оказывался не только объективной характеристикой эпохи, проливающей невинную кровь, но и самохарактеристикой лирической героини (с комплексом трагической вины). Это был шаг, сделанный в сторону «Поэмы без героя», где прологом к гекатомбам двадцатого века служило самоубийство «глупого мальчика», вина за которое падала на Героиню. Кроме Библии и Шекспира, в сознании Ахматовой важное место занял Данте, которому было посвящено одноименное стихотворение 1936 года Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог ее забыть, Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной... Р. И. Хлодовский обратил внимание на то, что строчка «Этот, уходя, не оглянулся» отсылает к коллизии стихотворения «Ло-това жена», героиня которого, напротив, оглядывается перед тем, как навсегда расстаться с родиной. Он также отметил, что последняя строфа стихотворения точно описывала обряд покаяния, который требовался от гениального флорентийца: «Покаянный путь Данте по Флоренции должен быть закончиться в баптистерии, где ему надлежало принять прощение города, как своего рода второе крещение»64. Ахматова хорошо была осведомлена о позорном обряде, через который предстояло пройти Данте"» случае его возвращения во Флоренцию, и восхищенно изобразила его безоглядный, гордый уход. Следует лишь уточнить ту трактовку образа Данте, которую дает Р. И. Хлодовский: «Данте пришел в творчество Анны Ахматовой не из книг, не из той художественной, зачастую эстетской атмосферы, которая окружала прерафаэлитов, Валерия Брюсова и в какой-то мере даже молодого Блока, — он пришел из самой русской жизни 30-х годов, из ее бесчисленных человеческих драм и из ее великой народной трагедии» 63. Эта внешне логичное утверждение противоречит принципу, который лежал в основе лирического «двойничества» Ахматовой, а именно — ориентация на некий образец, взятый не из «жизни», а из традиции, для того, чтобы снова внести его в «жизнь». Исайя Берлин вспоминал, как Ахматова говорила, что черпает поддержку не из современности, а «из литературы и из образов прошлого», в том числе и из «великой панорамы итальянского Возрождения»: «Я спросил, представляет ли она себе Возрождение в виде реального исторического прошлого, населенного несовершенными живыми людьми или в виде идеализированного образа некоего воображаемого мира. Она ответила, что, конечно, как последнее. Вся поэзия и искусство были для нее — и здесь она употребила выражение, принадлежавшее Мандельштаму, — чем-то вроде тоски по всемирной культуре, как ее представляли себе Гёте и Шлегель, культуре, которая бы претворяла в искусство и мысль природу, любовь, смерть, отчаяние и мученичество, своего рода внеисторическая реальность, вне которой нет ничего»66. Поэтому вполне правомерно утверждать, что Данте пришел к Ахматовой, так же, как к Брюсову или Блоку, именно «из книг», поскольку современность отнюдь не давала ей подобных образцов. Правда, трезвомыслящий сэр Исайя Берлин интерпретировал отношение Ахматовой не без снисходительности к слабостям поэта, отметив, что речь идет об «идеализированном образе некоего воображаемого мира». Это было не совсем так, а вернее — совсем не так, о чем ниже еще пойдет речь. Данте у Ахматовой выступает как некий эталон творческого поведения, однако, остается не вполне понятным, в каком качестве она противопоставляет его Лотовой жене: «Этот, уходя, не оглянулся». Н. В. Королева полагала, что «симпатии Ахматовой в 1936 году <i>уже</i> на стороне не оглянувшегося Данте, в 1924 году — <i>еще</i> на стороне оглянувшейся Лотовой жены». При этом она поясняла, что библейская героиня делает свой выбор как женщина, а Данте — как мужчина: «Данте — "уходя не оглянулся", Беатриче — наверное, оглянулась бы»67. На самом деле Лотова жена и Данте представляли собой разные аспекты единой коллизии. Оба — нарушители наложенных на них запретов и оба за это наказаны: первая превращена в соляной столп, второй изгнан из родимой Флоренции. И, наконец, оба они для Ахматовой — символ поведения личности в унизительных и безжалостных обстоятельствах: Лишь сердце мое никогда не забудет Отдавшую жизнь за единственный взгляд. -----Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песнь пою. Разница была в лишь том, что в 1924 году речь шла о нежелании предавать собственное прошлое, в 1936-м — об отказе каяться за совершенный выбор. В композиции своей шестой (не вышедшей) книги «Тростник» Ахматова рядом со стихотворением о Данте поставила написанное в феврале 1940 года стихотворение «Клеопатра», героиня которого переживала ситуацию невыносимого позора: Уже целовала Антония в мертвые губы, Уже на коленях пред Августом слезы лила... И предали слуги. Грохочут победные трубы Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла. И входит последний плененный ее красотою, Высокий и статный, и шепчет в смятении он: «Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет пред собою...» Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон. Н. Я. Мандельштам вспоминала о разговорах ссыльного Мандельштама и приехавшей к нему в гости Ахматовой: "Поэзия это власть", — сказал он в Воронеже Анне Андреевне, и она склонила длинную шею»68. Это был тот самый «шеи лебяжьей наклон», что и у Клеопатры, — выражающий непреложное ощущение своей правоты. Ахматовская Клеопатра выразительна той же отчетливой пластикой жеста, что и лирическая героиня «Вечера» или «Четок»: целует Антония в «мертвые губы»; льет слезы «на коленях пред Августом»; и, наконец, кладет черную змейку на грудь «равнодушной рукой». Но все же задачей этого стихотворения было не изображение «некоего высшего уровня чувств и переживаний»69, а утверждение определенного типа поведения, заданного традицией, или как сказал бы Пастернак, «преданием». Ахматовские двойники представали перед читателем в кульминационные моменты своих судеб — перед лицом надвинувшейся опасности или гибели, — и в их облике преобладала сгущенная, подчеркнутая сценичность, рассчитанная на оценку. Лотова жена оглядывается перед гибелью; леди Макбет тщетно пытается стереть кровь с узких ладоней; Данте уходит, не оглядываясь, в неизвестность; Клеопатра с демонстративным спокойствием кладет змейку на грудь. Это спокойствие заставляет вспомнить рассказ Светония о гибели Юлия Цезаря, который под кинжалами убийц «накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят»70. Вряд ли, создавая свою «Клеопатру», Ахматова не помнила о «Клеопатре» Блока из «Второй книги» стихов (цикл «Город»). Но даже если не помнила, блоковский контекст многое проясняет в ее стихотворении. У Блока египетская царица — восковая фигура, которую неторопливо жалит в грудь искусственная змея, приводимая в движение специальным механизмом. Корней Чуковский вспоминал историю создания этого стихотворения: «Я помню, что тот "паноптикум печальный", который упоминается в блоковской "Клеопатре", находился, на Невском, в доме № 86, близ Литейного, и что больше полувека назад, в декабре, я увидел там Александра Александровича и меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке — с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь, к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно»71. Блок создал стихотворение о встрече легендарной красоты с пошлостью современной массовой жизни. Причем пошлость — в духе романтических парадоксов — оказывалась травестированной формой существования той же самой красоты: «Тогда я исторгала грозы. Теперь исторгну жгучей всех У пьяного поэта — слезы, У пьяной проститутки — смех». Пьяный поэт плачет над тем, что грозная царица любви превратилась в восковой манекен. А пьяная проститутка смеется потому, что понимает любовь не иначе, чем в виде дешевой продажной услуги, представляя собой, в сущности, деградировавшую Клеопатру. В докладе «О современном состоянии русского символизма», прочитанном в Обществе ревнителей художественного слова 8 апреля 1910 года, Блок сказал: «Но Клеопатра была Bάσίλίςέων Bάσίλέων (Царица Царей. — В. М.) лишь до того часа, когда страсть заставила ее положить на грудь змею. Или гибель в покорности, или подвиг мужественности» (Блок, 5,435). Самоубийство Клеопатры было, по Блоку, безвольной уступкой страсти, превратившей царицу в слабую женщину. Восковая кукла, открытая для обозрения толпе, — такое же роковое следствие этой слабости, как и проституирование любви. Лирический герой Блока трагически переживает невозможность стать героем бессмертного любовного сюжета. Его разговор с царицей — это всего лишь игра воображения «позорного и продажного» жителя большого города, который, будучи наделен воображением «поэта», способен на минуту представить себя «царем». Ахматова же возвращает своей Клеопатре то, в чем ей отказывает Блок, но возвращает именно то, что последний хотел бы в ней видеть: статус трагической героини, способной на «подвиг мужественности». В стихах, названных ею «портретами», Ахматова создает особую лирическую структуру, в которой автор выступает в роли восхищенного «зрителя» по отношению к своему двойнику: «Лишь сердце мое никогда не забудет / Отдавшую жизнь за единственный взгляд»; «Этот, уходя не оглянулся, / Этому я песнь пою». В «Клеопатре» такая оценка заложена в структуре последней строфы: «О, как мало оеталось / Ей дела на свете...... Позднее тот же принцип ляжет в основу стихотворения о Дидоне из цикла «Шиповник цветет», где трагическая пластика жеста («Ты забыл те в ужасе и муке / Сквозь огонь протянутые руки») требует сочувственного отношения зрителя. Различие между «Лотовой женой» и «Клеопатрой» в том, что библейская героиня отдает жизнь «за единственный взгляд», робко брошенный в сторону погибающего «родного Содома». Эта женщина переживает непоправимую катастрофу, и соляной столп, в который она [превратилась] — фигура отчаяния и ужаса. «Клеопатра» и «Данте», напротив, звучат торжественно и победоносно. В этих стихах речь идет о поединке одинокой женщины с легионами Августа, о несогласии поэта со своими немилосердными согражданами, о победе духа над силой. Арест сына и мужа в 1935 году, окончательный разрыв с Луниным в 1937-м, тюремные очереди в 1938-1939-м, но вместо подавленности и растерянности — интенсивность восприятия мира, твердый голос, трагедийная патетика. В конце 30-х годов Ахматова пишет четверостишие, в котором беда оборачивается коронованием, позор — торжеством, спуск — подъемом, помост — троном: Мне, лишенной огня и воды, Разлученной с единственным сыном... На позорном помосте беды Как под тронным стою балдахином... В конце 1920-х годов, после смерти Гумилева и Блока, она была на грани утраты чувства «сцены», ощущая себя лишней в собственной стране: Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал... И вот уж о невозвратимом Скрипач безносый заиграл. Но с любопытством иностранки, Плененной каждой новизной, Глядела я, как мчатся санки, И слушала язык родной. Теперь же, когда судьба наносила ничуть не меньшие удары, Ахматова вела себя с самообладанием героя античной драмы. Вместе с тем, ориентируясь на Данте и Шекспира, она хорошо понимала, насколько русская история отличается от европейской. Формуле из стихотворения «Данте»: Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел, — не случайно предшествовали годом ранее написанные строки: Нам покаянные рубахи, Нам со свечой идти и выть. Русская история не оставляла лирической героине Ахматовой иного выбора, как соглашаться на позорную процедуру примирения с выпавшей участью. В конечном итоге, для нее был заказан и жест Клеопатры, а все стихотворение о «царице царей» было пронизано не только восхищением, но и горькой завистью к своему античному двойнику с его потрясающей, недостижимой свободой от «всего» — даже от детей, которых завтра «закуют». Об этой невозможности уйти из собственной страны и собственной истории она сказала в стихах, датированных 1937 годом: Я знаю, с места не сдвинуться От тяжести Виевых век. О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век. С душистою веткой березовой Под Троицу в церкви стоять, С боярынею Морозовой Сладимый медок попивать. А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть... Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь? У русской истории не находилось такой эпохи, где можно было бы хотя бы мысленно спокойно попивать «сладимый медок». Провоз в дровнях по навозному снегу не шел ни в какое сравнение с величественными жестами Данте и Клеопатры. Даже любимый Петербург теперь представлялся всего лишь пересадочным пунктом по пути на лагерный Восток: Не столицею европейской С первым призом за красоту – Душной ссылкою енисейской, Пересадкою на Читу, На Ишим, на Иргиз безводный, На прославленный Акбасар, Пересылкою в лагерь Свободный, В трупный запах прогнивших нар... Могучие фигуры Данте и Шекспира, с одной стороны, задавали норму поведения, с другой — резче подчеркивали всю ее невыполнимость для русского поэта в XX веке. В конце 1930-х годов Ахматова оказывалась необыкновенно близка творческой философии Анненского, который писал: «<...> это действительность, только без возможности куда-нибудь от нее уйти и за нее не отвечать. Это — действительность, в которой, если быть последовательным и смелым, даже нельзя жить <...>». Анненского волновала «мысль о <i>дерзании</i> и <i>мужестве</i>, которые даже больше нужны для жизни, чем чтобы с нею покончить <...>» 72. Именно с конца 1930-х годов она приходит к мысли о нем, как об Учителе. Что касается творческого освоением действительности, в которой «нельзя жить», им стали стихи, собранные позже в «Реквием». 3 «Реквием» в творчестве Ахматовой занимает ни с чем не сравнимое место уже в силу того смертельного риска, которому она подвергла себя и сына. Это был тот случай, когда за стихи убивают, что и делает разговор о «Реквиеме» как о <i>стихах</i> особенно сложным. Гражданский поступок не может быть исчерпывающе оценен в эстетических категориях, поскольку этический смысл оказывается доминирующим над любыми эстетическими оценками — положительными или отрицательными. По свидетельству А. Наймана, сама Ахматова боялась, что гражданская и политическая сторона стихов «Реквиема» в восприятии читателя перевесит художественную, и не склонна была доверять читательским восторгам: «Когда за границей собеседник стал неумеренно восторгаться ими как поэтическим документом эпохи, она охладила его репликой: "Да, там есть одно удачное место — вводное слово: "к несчастью" — там где мой народ, к несчастью, был", — напомнив, что это все-таки стихи, а не только "кровь и слезы"»73. Чтобы отрешиться от чисто политического аспекта «Реквиема», важно представить его в общем контексте ахматовской лирики. Вл. Муравьев в своих устных воспоминаниях об Анне Ахматовой высказал предположение, что стихотворение, получившее заглавие «Приговор» («И упало каменное слово...») не имеет никакого отношения «ни к «Реквиему», ни к политическому событию»: «Здесь налицо состав типично ахматовского любовного переживания. И я воспринимал его как хорошее любовное стихотворение. Я даже сказал Анне Андреевне: "А это как в "Реквием" попало?» — "А это отсюда", — ответила она. А я его знал еще из сборника "Из шести книг", где оно было опубликовано без названия»74. Комментируя это высказывание, О. Е. Рубинчик обратила внимание на дневниковую запись Ю. Г. Оксмана от 9 декабря 1962 года: «Я очень удивился, прочитав в цикле политических стихов то, что считал прощанием с Н. Н. Луниным, — "И упало каменное слово...". А.А. рассмеялась, сказав, что она обманула решительно всех своих друзей. Никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда. (Я все-таки не совсем уверен, что это так)» (Воспоминания, 643)15. Перед нами — один из типичных случаев ахматовской склонности к мистификации, в логике которой необходимо разобраться. Это стихотворение было напечатано в журнале «Звезда» в 1940-м году (№ 3-4), как полагает Н. В. Королева, «с неверной датой — 1934» (СС-6,1,911). Позднее Ахматова ставила под ним разные даты — 1938,22 июня 1939, 23 июня 1939,1939. С заглавием «Приговор» оно было напечатано в журнале «Октябрь» (1987, № 3) в составе «Реквиема». Если исходить из предположения, что поводом для создания этого стихотворения был вынесенный Льву Николаевичу Гумилеву приговор, то о каком именно приговоре может идти речь? После ареста 10 марта 1938 года приговор ему выносился дважды. 27 сентября 1938 года он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, а после пересмотра решением Особого совещания при НКВД от 26 июля 1939 года — к 5 годам. Л. К. Чуковская стала первым слушателем стихотворения «И упало каменное слово...», которое Ахматова прочла ей 29 июля 1939 года (Чуковская, 1, 37). В этот день она еще не знала о приговоре: известие о том, что Леву отправляют в лагерь дошло до нее только в августе. Значит, речь может идти только о сентябрьском приговоре 1938 года. Но этому противоречит датировка стихотворения 22-23 июня 1939 года. Обращает на себя внимание, что 29 июля 1939 года Ахматова прочла Лидии Корнеевне вместе со стихотворением «И упало каменное слово» другое — «Годовщину веселую празднуй...». Так что проблема адресата и датировки имеет непростой характер. Известно, что последнее стихотворение сначала имело посвящение «В. Г. Гаршину» и дату «1939»; в «Беге времени» Ахматова поставила дату «1938», а в экземпляре сборника 1958 года, подаренном В. С. Срезневской, Ахматова проставила посвящение Пунину — «Н. П.» (Кралин, 1,401). Рискну предположить, что оба стихотворения изначально имели отношение к разрыву с Пуниным, который состоялся в сентябре 1938 года. Косвенным аргументом в пользу этого является, что Ахматова прочла их Л. К. Чуковской вместе — как своего рода микроцикл. В начальном варианте стихотворения «И упало каменное слово...» были строки с отчетливым мотивом утраты дома: Я давно предчувствовала этот День последний и последний дом. Это подтверждает догадку Вл. Муравьева, что изначально «Приговор» был любовным стихотворением. Что же касается даты 22 (или 23) июня 1939 года, то она носит в большей мере символический характер и вовсе не означает, что стихотворение было написано именно в эти дни. Это день наступающего 50-летия- рубеж, на котором подводится неутешительный итог, сделанный еще раньше, в 1936 году: «Ты уюта захотела, Знаешь, где он — твой уют?» Стихотворение, скорее всего, тоже было изначально обращено к Пунину. Вряд ли Ахматова, ставя под стихотворением «Годовщину последнюю празднуй...» дату «1938» и посвящение «Н. П.», намеревалась мистифицировать друга юности В. С. Срезневскую. Речь идет о чуде, каким была эта ночь с любимым человеком на заснеженной Мойке. Год спустя Ахматова перепосвятила эти стихи В. Г. Гаршину, а потом восстановила имя его начального адресата. Тем не менее, есть своя логика в том, что стихотворение «И упало каменное слово...» оказалось в составе «Реквиема», получив совершенно иную направленность уже одним своим новым названием — «Приговор». Она ушла от Лунина 19 сентября 1938 года, неделю спустя, 27 сентября, был вынесен приговор сыну. Изменив концовку стихотворения: Я давно предчувствовала этот Светлый день и опустелый дом, Ахматова придала ему совершенно иной смысл. Получились стихи не о разрыве с любимым человеком и утрате «последнего дома», а об «опустелом доме», в котором больше нет сына. Это подчеркивало тотальный характер потерь, предсказанных еще в 1915 году: «Отними и ребенка, и друга». Если бы это стихотворение изначально было написано по поводу приговора, вряд ли бы Ахматова рискнула напечатать его в «Звезде» и включить в сборник из «Шести книг». Стихи будущего «Реквиема» она строго хранила в тайне. Перемена датировок и адресатов у Ахматовой означала строительство собственной биографии — такой, какой она должна была окончательно предстать в глазах читателя. Она имела полное право — даже вопреки очевидности — возражать против того, чтобы считать «Приговор» любовным стихотворением. Ахматовой было чрезвычайно важно ощутить себя не женщиной из прошлого, которая забыла или не успела вовремя умереть, а современным поэтом, стихи которого имеют прямое отношение к жизни сограждан. Как точно выразился цитированный выше Вл. Муравьев, «без "Реквиема" Ахматовой <...> обойтись было нельзя, и это она уловила поэтическим чутьем исторической реальности»76. В. Я. Виленкин вспоминал, как в июле 1938 года на званом обеде у И. А. Рыбакова Ахматова прочла два стихотворения, обращенные к Пунину («Я пью за разоренный дом...» и «От тебя я сердце скрыла...»), и «еще одно стихотворение 20-х годов, тогда же затерявшееся, как она сказала, в каком-то журнале, — "Многим"»77. Стихи, действительно, были забыты ее читателями, вряд ли помнившими о первой и единственной их публикации в малоизвестном журнальчике «Свирель Пана» (1923, № 1). Однако в них уже был намечен прообраз той коллизии, которая во всей своей исчерпывающей полноте предстанет в «Реквиеме». Позднее Ахматова назвала это стихотворение одним из своих «ключевых» (Чуковская-3, 173). Однако в отличие от «Реквиема», адресатом «Многих» является отнюдь не «народ», а, говоря словами Э. Г. Герштейн, «неведомые читатели, обволакивавшие всегда ее поэзию тайным пониманием»78. Заявленное здесь единство со «многими» соседствует с острым ощущением своей особости. Формула «напрасных крыл напрасны трепетанья» отсылает к традиционному романтическому представлению о несовместимости поэта с толпой, .в которое русская лирика успела внести весьма существенные коррективы еще в XIX веке. Достаточно вспомнить тютчевские стихи, вряд ли Ахматовой незнакомые: Толпа вошла, толпа вломилась В святилище души твоей, И ты внезапно устыдилась И тайн, и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья Души, парящей над толпой, Ее спасали от насилья Бессмертной пошлости людской! Человек в этих стихах не только не в состоянии уберечь «святилище души» от любопытства «толпы», но и сам, принадлежа «толпе, не может не разделять ее верований и принципов. Поэтому застигнутый ею врасплох, он начинает стыдиться своей потаенной жизни, словно выставленной напоказ наготы. В ахматовском стихотворении «живые крылья» души названы «напрасными», поскольку лирическая героиня делает выбор в пользу «многих» («Ведь все равно я с вами до конца»). Но это вовсе не отменяет конфликта публичного и сокровенного: Вот отчего вы любите так жадно Меня в грехе и немощи моей, <...> И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. Отделить свое сокровенное «я» от «многих» можно лишь в одном случае — стать забытой ими: Как хочет тень от тела отделиться, Как хочет плоть с душою разлучиться, Так я хочу теперь — забытой быть. Забвение избавляет от невыносимого заглядывания в душу, о котором позже Ахматова скажет: И мимоходом сердце вынут Глухим сочувствием своим. Но так как поэзия не существует вне связи со «многими», то забвение оборачивается творческим поражением — той самой немотой, которой Ахматова мучилась, начиная с середины 1920-х годов. Соответственно, отказ от этой связи предстает убийственным разлучением тени и тела, плоти и души. Романтическое сознание своей «крылатости» и антиромантическая установка на то, чтобы быть голосом, дыханьем и лицом «мнотих», образуют две стороны ахматовской лирики в послереволюционную эпоху. В ситуации, которая вызвала к жизни стихи «Реквиема», лирическая героиня Ахматовой оказалась «трехсотой с передачею» в тюремной очереди. Поэтому ей не оставлено иного выхода, как стать голосом и лицом «многих»: «Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): - А это вы можете описать? - И я сказала: - Могу». Тема личного горя возникает в «Реквиеме» только после лирического плача по подругам «двух моих осатанелых лет», сгинувшим где-то в «сибирской вьюге»; по Ленинграду, болтающемуся «ненужным привеском» возле своих тюрем; наконец, по «безвинной Руси», корчащейся «под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь». И уж затем следует стихотворение «Уводили тебя на рассвете...». А. Найман, пытаясь сформулировать, чем «Реквием» отличается от всей предыдущей ахматовской лирики, писал: «Собственно говоря, "Реквием" — это <i>советская поэзия</i>, осуществленная в том <i>идеальном</i> виде, какой описывают все декларации ее. Герой этой поэзии — народ. Не называемое так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть. Его язык почти газетно прост, понятен народу, его приемы — лобовые: "для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов". И эта поэзия полна любви к народу»79. В «Реквиеме» Ахматова предстала в полном смысле слова современным поэтом, то есть поэтом сталинской эпохи (поскольку другой страны и другой эпохи у нее не было). С тою, однако, разницей, что «народ» был изображен не героем-строителем, а пассивной жертвой, чьи страдания лишены даже намека на катарсис: Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жесткие страницы Страдание выводит на щеках, Как локоны из пепельных и черных Серебряными делаются вдруг, Улыбка вянет на устах покорных, И в сухоньком смешке дрожит испуг. В этой ситуации не было места героическому, что для Ахматовой с ее трагедийным лирическим даром оказывалось сложнейшей творческой проблемой. Для понимания главной коллизии «Реквиема» чрезвычайно важно второе (в авторской нумерации) стихотворение цикла «Тихо льется тихий Дон», которое, несмотря на свою кажущуюся простоту, остается мало проясненным да, в сущности, по-настоящему и непонятым: Тихо льется тихий Дон, Желтый месяц входит в дом. Входит в шапке набекрень. Видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Лирическая героиня Ахматовой предстает здесь женой и матерью, рискованная просьба которой: «Отними и ребенка и друга» (в «Молитве» 1915 года), — оказалась исполненной — муж и сын были отняты. Неважно, что в 1938 году, когда писались эти строки, Николай Николаевич Пунин был жив и до его смерти в Абезьском лагере оставалось еще целых 15 лет. «Мужа в могиле» мы безошибочно идентифицируем с расстрелянным Николаем Гумилевым, а тот, кого «уводили на рассвете» (1-е стихотворение цикла), безусловно, Пунин. Эта биографическая нестыковка лишь сильнее подчеркивает символически обобщенный характер самой ситуации. Но вот «тихий Дон» вызывал недоумение уже у первых слушателей стихов будущего «Реквиема». В июле 1939 года Л. К. Чуковская записала: «Когда мы шли по набережной, я спросил ее о реке (т. е. о "тихом Доне". — В. М.). - А вот Николай Иванович догадался, — вместо объяснения ответила она. — Он удивительно понимает стихи» (Чуковская-1, 84). Позже Э. Г. Герштейн спросила ее, «почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон». «Она ответила уклончиво: "Не знаю, может быть, потому, что Лева ездил в экспедицию на Дон?.." Она сказала также, что "Тихий Дон" Шолохова был любимым произведением Левы. "А вы не знали?" — удивилась она. Я действительно не знала этого»80. В своих воспоминаниях Э. Г. Герштейн вспоминает, как однажды Лева, действительно, зашел к ней в Москве, будучи там проездом «из экспедиции откуда-то с Дона»81. Не удивительно, что Ахматова направила ее по этому следу, уверенная в том, что это для Эммы Григорьевны будет "вполне правдоподобно. Для Л. К. Чуковской, которая была далека от экспедиционных дел Льва Николаевича, Ахматова использовала таинственную ссылку на Н. И. Харджиева. Но какой-то особой любви к творчеству к творчеству Шолохова вряд ли приходится говорить. Правда, С. Лавров в книге «Лев Гумилев. Судьба и идеи» сообщает, что в 1938 году М. Шолохов «сам прислал к А.А. человека с предложением хлопотать» 82, что совершенно невероятно, по крайней мере, в силу двух обстоятельств. Во-первых, подобный факт отразился бы в записках Л. К. Чуковской, которая начала общаться с Ахматовой с ноября 1938 года. Во-вторых, в 1938 году Шолохов сам подвергался опасности быть арестованным и искал у Сталина защиты от Ростовского НКВД83. Из воспоминаний Э. Г. Герштейн мы знаем «о поездке Анны Андреевны к М. А. Шолохову и о его согласии принять участие в деле ее сына в июле 1955 года» 84. Ахматова в октябре того же года рассказывала Л. К. Чуковской об этом визите так: «— Он был совершенно пьян. Ничего не понимал и не помнил. Но я должна быть ему благодарна, он твердо помнил две вещи: что я хорошая и что мне он действительно обещал. И обещанное он исполнил, хотя, с пьяных глаз, перепутал все, что мог» (Чуковская-2, 160). Так что, конечно, Николай Иванович Харджиев «догадался» отнюдь не о том, что Лева Гумилев был в экспедиции на Дону и не о том, что за него якобы хлопотал Шолохов, а о каком-то ином, более глубинном слое мотива «тихого Дона». Р. Тименчик полагает, что мотив этот является исходным для всей структуры «Реквиема», поскольку в 1938 году во время свидания в тюрьме Лев Николевич Гумилев процитировал бло-ковские строки: Я не — первый воин, не последний, Долго будет родина больна, — которые когда-то Николай Гумилев надписал Ахматовой на обороте своей фотографии, присланной с фронта (см. выше гл. 2). Из этого Р. Тименчик сделал вполне определенный вывод: «Взятое сыном для прощанья завещание русского воина перед Куликовым полем объясняет появление "тихого Дона" в полуколыбельной о муже в могиле и сыне в тюрьме. Понятно, почему Н. И. Харджиев, осведомленный о подробностях "тихого Дона", сразу же понял, по какой причине "тихо льется тихий Дон"» 85. И все же эти аргументы не объясняют, почему Ахматова так настойчиво уклонялась от прямых вопросов Л. К. Чуковской и Э. Г. Герштейн, а последнюю даже намеренно запутала ссылками на какую-то экспедицию и роман «Тихий Дон». Все становится на свои места, если предположить, что стихи о «тихом Доне» перекликаются не только с циклом Блока «На поле Куликовом», но и с давним стихотворением из «Четок» —«Плотно сомкнуты губы сухие...» — героиня которого («княжна Евдокия») имела прямое отношение к Куликовской битве. Говоря иначе, ситуация сталинского террора в «Реквиеме» была пережита Ахматовой как историческое поражение России, которая некогда одержала победу на Куликовом поле. Героиня цикла осталась одна, без поддержки мужчин, которые погублены могилой и тюрьмой. Свидетель трагедии, воссозданный Ахматовой, — «желтый месяц», который видит ее опустевший дом и безлюдные берега Дона. [Точно так же переживает свое одиночество лирический герой цикла «На поле Куликовом», уподобленный «волку под ущербной луной».] Странная, на первый взгляд, характеристика месяца («в шапке набекрень») несет слабое, но ощутимое воспоминание о той удали и силе, которая когдато проявила себя в XIV веке. Теперь же, в ХХ-м, Россия терпит страшное поражение, но не от внешней силы, а от собственной — безумной и жестокой — власти. Отношение к этой власти Ахматова исчерпывающе выразила в «Стансах», датированных апрелем 1940 года: В Кремле не надо жить — Преображенец прав, Там зверства древнего еще кишат микробы: Бориса дикий страх и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь взамен народных прав. В 1956 году, когда решался вопрос о публикации этого стихотворения, Л. К. Чуковская, увидевшая в двух последних строчках «полный и точный портрет Сталина», записала следующий диалог с Ахматовой: «— Как вы думаете, все догадаются, что это его портрет, — спросила Анна Андреевна. — Думаю, все. — Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву» (Чуковская-2,207). В этой фразе сказалось нежелание «охаивать» человека, который был, безусловно, повинен в причиненном ей и сыну тягчайшем горе, но которому оба они оказались обязаны жизнью. Лирическая героиня «Реквиема» переживает тот же психологический комплекс, что и лирический герой цикла «На поле Куликовом». С одной стороны, это чувство беспомощности, которое рождает соблазн ухода в смерть или безумие (восьмое и девятое стихотворения т «К смерти» и «Уже безумие крылом...»). С другой — обретение воли к преодолению собственной слабости. У Блока это выражено императивной концовкой последнего, пятого стихотворения цикла: Теперь твой час настал. — Молись! Так состоялось еще одно обращение к Блоку с его даром претворения личного духовного опыта в символы национально-исторической значимости. В «Реквиеме» ярко заявила о себе театральная природа ах-матовской лирики: все действие в нем происходит на сценической площадке, представляющей собой симбиоз театра и лобного места («позорный помост беды»): Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, Пусть черные сукна покроют, И пусть унесут фонари... Ночь. Даже в предельном страдании героиня этих стихов ощущает себя под пристальным взглядом «зрителей», и знает, что ее поведение подлежит оценке и оправданию. Более того, она постоянно двоится, распадаясь на «зрителя» и «актера», видя себя со стороны: Показать бы тебе, насмешнице И любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, Что случилось с жизнью твоей. Как трехсотая с передачею, Под Крестами будешь стоять И своей слезою горячею Новогодний лед прожигать. «Трехсотая с передачею» — это «я» и одновременно «кто-то другой», и здесь Ахматова максимально оказывалась близка к Анненскому, полагавшему, что поэт мыслит и чувствует всех, ибо знает о «<i>реальности совместительства</i>, бессознательности жизней, кем-то помещенных бок о бок в одном призрачно-цельном я»86. Лирическое «двойничество» в «Реквиеме» заключалось в принципиальном отождествлении себя с человеком из «толпы», с одним из «многих». Вот почему героиня стихотворения «Уводили тебя на рассвете...» неожиданно оказывалась «стрелецкой женкой»*. Отсюда чуть позже протянется нить к стихотворению «Я знаю, с места не сдвинуться...» с его желанием «откинуться в какой-то семнадцатый век» и уподоблением себя боярыне Морозовой. Как я уже сказал выше, в безымянном месиве * Видимо, эта фраза — следствие авторской аберрации, след прочтения по памяти, а не по тексту. У Ахматовой: «Буду я, как стрелецкие женки, /Под кремлевскими стенами выть». Логика уподобления стрелецким женкам здесь совершенно очевидна, неожиданного «перевоплощения» в стрелецкую женку в этом стихотворении нет (примеч. редактора). сталинской эпохи Ахматова искала драматическую структуру и собственную роль в ней: от «царскосельской веселой грешницы» до «трехсотой с передачею» и «стрелецкой женки». Подобная метаморфоза уже была намечена в одном из ее стихотворений 1922 года: Таких в монастыри ссылали И на кострах высоких жгли. Героиня «Реквиема», подобно Клеопатре, в одиночку противостояла жестокой и слепой силе внешних обстоятельств. Точной рукой и с потрясающим самообладанием мастера, Ахматова отбирала для этого сюжета крупицы собственного психологического опыта игдичных впечатлений. Так Кутафья башня Московского Кремля, в окошко которой было передано письмо Сталину осенью 1935 года после первого ареста сына и мужа, превратилась в «кремлевские башни» под которыми, подобно «стрелецким женкам», собиралась «выть» лирическая героиня. Когда в «Эпилоге» мы читаем: И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною, И в лютый холод, и в июльский зной, Под красною ослепшею стеною, то «красная ослепшая стена», с одной стороны, отсылает к кирпичным стенам «Крестов», с другой — к кремлевской стене, ослепшей от пролитой крови стрельцов. Ощущение себя «трехсотой с передачею» ставило лирическую героиню в общий ряд бессмысленных жертв, муки которых были лишены исторического смысла. Здесь требовалась символика, которая совместила бы исключительность трагического героя (той же Клеопатры) с выпавшей ему участью безымянной жертвы. Так Ахматова пришла к символике «страстного» действа, подсказанной, не в последнюю очередь, вполне реальной деталью — названием «одной из старейших и огромнейших тюрем Петербурга: пятиэтажным зданием, построенным в форме креста» (Чуковская-1,35). В диптихе «Распятие» Ахматова создала головокружительно лаконичную (восемь строк) вариацию на евангельский сюжет и сплавила мотивы, взятые из самых разных сфер христианского культа. Эпиграф к «Распятию» («Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи»), как не раз отмечалось комментаторами, был взят из литургического обихода и представлял собой не вполне точную цитату из ирмоса IX песни канона Великой Субботы («Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе»). Ахматова повторила эти слова в первой части диптиха в несколько усеченном виде: Хор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал: «Почто Меня оставил?» А Матери: «О, не рыдай Мене...». Эти же строки отсылали к тексту Евангелия, в котором Иисус обращается с последними словами к Отцу: «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама савахфани? то есть: Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (Мф, 27, 46). В контаминации мотивов, взятых из евангельского и литургического текстов, угадываются ассоциации иконописного характера. Обе части диптиха напоминают композицию «Распятия с предстоящими», в которой по сторонам голгофского креста изображаются Богоматерь с женами и апостол Иоанн, а над распятым Иисусом парят ангелы. Соответственно иконописному канону, в ахматовском «Распятии» присутствует и хор ангелов, славящих «великий час», и предстоящие — Мать, жены (метонимически замещенные Магдалиной) и любимый ученик (Иоанн): Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. Центральное положение здесь занимает не Иисус, а Богоматерь, и, таким образом, все стихотворение оказывается изображением «страстей Богородицы», которые более невыносимы, чем муки Сына, ибо Она остается жить. Эта «иконопись» адресована идеальному зрителю, которому предлагается посмотреть туда, куда не смеют взглянуть окружающие. Чуть позже Ахматова испбльзует тот же принцип в «Клеопатре»: царица умирает, оставшись один на один с «черной змейкой», но незримо присутствующий в структуре поэтического текста идеальный зритель способен оценить трагическое величие ее последнего жеста. Литургические и иконописные мотивы были самым тесным образом связаны с личным опытом автора, так что Лев Николаевич Гумилев мог без труда угадать, кого «оставил» отец и о ком «рыдает» мать. Первая часть диптиха представляла собой нечто вроде образка, переданного матерью (Анной Андреевной Ахматовой) сыну (Льву Гумилеву) как напоминание о высоком религиозном смысле происходящего с ним. Вот почему лирическая героиня «Реквиема» переживает свой позор как величайшее торжество. Л. К. Чуковская в декабре 1939 года, выслушав новые стихи Ахматовой, записала: «И опять у меня от этого настоя горя ощущение такого счастья, что нету сил перенести» (Чуковская-1, 64). «Реквием» и сопутствующая ему лирика 30-х годов были творческим счастьем Ахматовой — претворением невыносимой муки в духовную победу. Они соответствовали сути христианства, которое Ахматова исповедовала как человек и поэт. Однако ее стремление выразить свой личный опыт как всеобщий натыкалось на ряд непреодолимых препятствий. Обстоятельства, выпавшие на ее долю, были несопоставимы с реальностью тюрьмы и лагеря, норма поведения, как я уже сказал, не укладывалась в образцы, продиктованные Клеопатрой и Данте. Там главным был величественный жест отречения, тогда как в «Распятии» у Богородицы вообще не могло быть никакого «жеста», поэтому ее страдание изображалось фигурой умолчания: для него не находилось «зрителя»: «так никто взглянуть и не посмел». В «Реквиеме» Ахматова впервые столкнулась с реальностью, которая оказалась за пределами ее творческой эстетики и для которой не годились средства, блистательно оправдавшие себя в «Библейских стихах», «Данте» и «Клеопатре». Кроме того, у нее не было опыта Варлама Шаламова или Анны Барковой — художников куда меньшего дарования, но уникальных в силу их личного опыта. Отсюда — постоянный спор Шаламова и Барковой с «литературой», отсюда — пиетет Ахматовой к весьма скромному [по своему художественному дарованию] писателю Александру Солженицыну и совершенно неоправданнее именование себя «хрущевкой». Судьба подержала ее над «бездной», но не дала, по счастью, туда упасть. «Реквием» претендовал не на то, чтобы выразить некий фрагмент сталинской эпохи, а всю ее — как целостность, и поэтому Ахматова вынуждена прибегнуть к чисто риторическим средствам, которые должны были восполнить нехватку запредельного — тюремного и лагерного — опыта: Перед этим горем гнутся горы, Не течет великая река, Но крепки тюремные затворы, А за ними «каторжные норы» И смертельная тоска. Здесь откровенно присутствует цитата из пушкинского «Во глу* бине сибирских руд»: Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас. Но у Пушкина «каторжные норы» входили в семантическую оппозицию политического насилия и поэтической свободы («каторжные норы» — «свободный глас»). Это был поэтический язык XIX столетия. Л. К. Чуковская вспоминает, как, вернувшись из тюрьмы, А. И. Любарская прочитала ей две пушкинские строки из «Полтавы»: И первый клад мой честь была, Клад этот пытка отняла. Услышав об этом, Ахматова «на минуту прижала руки к лицу: "Откуда он знал? Откуда он все знал?"» (Чуковская-1, 28). Ей было важно, что Пушкин «все знал», и, следовательно, традиция дает поэту возможность выразить то, что не пережито им в личном опыте. Но в реальности это оборачивалось риторичностью, разительно противоречащей выстраданным стихам «Приговора» и «Распятия». Очень трудно представить себе, как могут «гнуться» горы или остановиться течение «великой реки». Та же литературность дает знать о себе и в «Эпилоге» с его горделивым заявлением: И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомильонный народ... «Стомильонный народ» вовсе не «кричал», как не «кричала» и сама Ахматова, вынужденная тщательно скрывать стихи, грозящие ей и сыну немедленной гибелью. Вл. Муравьев резонно заметив, что это «как бы даже некоторое преувеличение», не менее резонно объяснил, что она «пытается найти слова, подходящие для этого масштаба»87. Нехватка «подходящих» слов восполнялась за счет литературной традиции. Подобная же нехватка ощущается и в «Эпилоге» с его темой памятника под стенами ленинградских «Крестов»: А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне, Согласье на это даю торжество, Но только с условьем: не ставить его Ни около моря, где я родилась (Последняя с морем разорвана связь), Ни в царском саду у заветного пня, Где тень безутешная ищет меня, А здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов. Памятник Анне Андреевне Ахматовой в тюремном дворе никак не мог быть «торжеством» для «каторжанок» и «стопятниц». Он был слишком персонален для того, чтобы символизировать их безымянные судьбы. Риторическая формула «триста часов», эффектно напоминала о «трехсотой с передачею», но на этом и исчерпывался ее художественный смысл. В сумме триста часов составляют чуть более десяти суток чистого времени. Если, следуя точно логике стихотворения, разделить эту цифру на количество месяцев, проведенных героиней «Реквиема» в тюремных очередях («Семнадцать месяцев кричу, / Зову тебя домой»), то в среднем получится чуть более семнадцати с половиной часов в месяц, или полчаса в день. Даже если в какой-то из этих дней для нее «не открыли засов», само по себе это было недостаточным основанием для закладки памятника под стенами тюрьмы. Есть своя закономерность в том, что хлебнувший лагерного опыта Лев Николаевич Гумилев искренне считал судьбу матери вполне благополучной и несоизмеримой с тем, что пережил сам. Фраза Ахматовой: «Ни одна мать не сделал для своего сына того, что сделала я», — расшифровывается ее же собственными словами, выкрикнутыми, как выразилась Э. Г. Герштейн, «в пароксизме отчаяния»: «Я пожертвовала ради него мировой славой!!» 88. В их взаимном непонимании сказывалась несоизмеримость лагерного опыта с опытом жизни в социуме, даже таком безумном и порочном, как сталинское государство. С точки зрения зэка, сама идея памятника тому, кому посчастливилось остаться в живых и на воле, была непонятной, пусть даже этот памятник является символическим выражением «мировой славы». Бессмысленно и безнравственно ставить в вину Ахматовой нехватку опыта, который Варлам Шаламов справедливо считал исключительно отрицательным, но столь же непозволительно закрывать глаза на риторические пустоты в «Реквиеме». Попытка внести в структуру цикла героическое начало оказалась неудачной. Эстетика европейской трагедии и этика евангельской жертвы вступали друг с другом в непримиримое противоречие: фигура страдающей Матери оттесняла распятого Сына на второй план. В результате тема памятника, которая, по замыслу Ахматовой, увенчивала собою «Реквием», резко диссонировала с тем опытом унижения и страха, который переживал «стомильонный народ». Понимала ли это сама Ахматова, сказать трудно, но для выражения своей эпохи она скоро найдет уникальнейшее художественное решение в «Поэме без героя». 1. Гончарова Н. «Фаты либелей» Анны Ахматовой. С. 42. 2. Муравьева Ирина. Анна Ахматова. 1889-1966. Биографический очерк. СПб., 1988. С. 16. 3. Чуковский К. Ахматова и Маяковский // Дом искусств. 1921. № 1. С. 42. 4. Павлович Надежда. Московские впечатления // Литературные записки. 1922. № 1. С. 8. 5. Осинскип Н. Побеги травы (Заметки читателя). 3. Новая литература // Правда. 1922. 4 июля. 6. Коллонтай А. Письма к трудящейся молодежи. Письмо 3-е. О «Драконе» и «Белой птице» // Молодая гвардия. 1923. № 4/5. С. 162-163. 7. Тизенгаузен О. Салоны и молодые завсегдатаи Петербургского Парнаса// Абраксас. 1922. № 1. С. 60. 8. Кузмин М. Парнасские заросли // Завтра. I. [Петербург] - Берлин. 1923. С. 118. 9. Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. № 2. С. 144. 10. Чудовский В. По поводу одного сборника стихов («Корабли» Анны Радловой) // Начала. 1921. № 1. С. 209-210. 11. Пастернак Борис. Из переписки с писателями / Предисл. и публ. Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Новые исследования и материалы / Ред. Тома Н. А. Трифонов. М., 1983. С. 654. 12. Лелевич Г. Анна Ахматова // На посту. 1923. № 2/3, Стлб. 202. 13. Правдухин Валериан. Письма о современной литературе // Сибирские огни. 1922. № 1/2. С. 143. 14. Арватов Б. Гражд. Ахматова и тов. Коллонтай // Молодая гвардия. 1923.. № 4/5. С. 150. 15. Виноградская П. Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай // Красная новь. 1923. № 6. С. 213. 16. Полонский Вяч. К вопросу о наших литературных разногласиях. Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича «На литературном посту» // Печать и революция. 1925. № 4. С. 48-70. См. также: Лелевич Г. Снова о наших литературных разногласиях (По поводу статьи Вяч. Полонского в № 4 «Печати и революции») // Печать и революция. 1925. № 8. С. 69-88; Полонский Вяч. Критика ради критики (Ответ т. Лелевичу) // Там же. С. 88-101. 17. Муравьева Ирина. Анна Ахматова. 1889-1966. Биографический очерк. С. 16. 18. Цит. по: Хроника того августа. Заседание правления Ленинградского отделения Союза Советских писателей от 19 августа 1946 г. (фрагменты стенограммы) // Петербургский журнал. 1993. № 1. С. 34. 19. Чуковский К. Дневник. (1901-1929). С. 274. 20. Очерки по истории русской советской журналистики. 1917-1932 / Ответств. ред. А. Г. Дементьев. М., 1966. С. 184. 21. Примочкина Н.Н. М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 368. 22. Гроссман Л. Анна Ахматова // Свиток. Сборник литературного общества «Никитинские субботники». М., 1926. С. 311. 23Лелевич Г. Несовременный «Современник» // Большевик. 1924. № 5/6. С. 146. 24 Розенталъ К. Русский современник. Кн. 1, 2, и 3 // Правда. 5 ноября 1924. № 253. С. 8. 25.Перцов В. По литературным водоразделам. 1. Затишье // Жизнь искусства. 1925. № 43. С. 6. 26. Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. С. 212. 27. Там же. С. 211-212. 28. Лукницкая Вера. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 120. 29. Большая советская энциклопедия. 1-е издание / Под общей ред. Н. И. Бухарина и др. Гл. ред. О.Ю. Шмидт. Т. 4. М., 1926. Стлб. 162. 30. Литературная энциклопедия / Ред. колл. П.И. Лебедев-Полянский и др. Ответств. ред. В.М. Фриче . Т. 1. М., 1929. Стлб. 162. 31. Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. С. 263. 32. Цит. по: Лавров Сергей. Лев Гумилев. Судьба и идеи. М., 2000. С. 93. 33. Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. С. 233. 34. Там же. С. 234. 35. «Освободить из-под ареста и Лунина и Гумилева и сообщить об исполнении» / Публ. Владимира Гончарова, Владимира Нехотина // Источник. 1999. № 1. С. 77. 36. Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве) // Звезда. 2002. № 8. С. 131. 37. Там же. С.119. 38. Там же. С. 120. 39. Калугин Олег. Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М., 1994. С. 75. 40. Там же. С. 74. 41. Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве). С. 120. 42. Цит. по: Лавров Сергей. Лев Гумилев. Судьба и идеи. С. 69-70. 43. Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве). С. 122. 44. Там же. С. 123. 45. Герштейн Эмма. Мемуары. СПб., 1998. С. 264. 46. Калугин Олег. Дело КГБ на Анну Ахматову. С. 74-75. 47 Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве). С. 122. 48. Лавров Сергей. Лев Гумилев. Судьба и идеи. С. 72. 49. Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве). С. 127-128. 50. Ленинград. 1940. № 2. С. 9. 51. Литературный современник. 1940. № 5-6. С. 48. 52. Звезда. 1940. № 3-4. С. 3-4. 53. Правда. 1935. 5 декабря. 54. Звезда. 1940. № 3-4. С. 187-212. 55. Виленкин В. В сто первом зеркале. Издание второе, дополненное. М., 1990. С. 17. 56. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 283. 57. Головникова О.В., Тархова И.С. «И все-таки я буду историком!» (о новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном архиве). С. 128-129. 58. Б/п. Некоторые итоги дискуссии // Литературная газета. 1940. 22 декабря. 59. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1943. С. 33. 60. Цивъян Т.В. Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — зеркала Ахматовой // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 29-33. 61. Ахматова Анна. Отрывок из перевода «Макбета» / Публикация и подг. текста Н. Г. Князевой. Предисловие Р. Тименчика // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 18. 62. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 218. 63. Там же. 64. Хлодовский Р.И. Анна Ахматова и Данте // Тайны ремесла. Ахматовские чтения. Вып. 2 // Редакторы-составители Н. В. Королева, С. А. Коваленко. М., 1992. С. 80-87. 65. Там же. С. 88-89. 66. Берлин Исайя. История свободы. С. 481-482. 67. Королева Н.В. «Могла ли Биче, словно Дант, творить...». Проблема женского в творчестве Ахматовой // Тайны ремесла: Ахматовские чтения. Вып. 2. С. 97. 68. Мандельштам Н.Я. Воспоминания / Текст подг. Ю. Л. Фрейдин. М., 1989. С. 159. 69. Цивъян ТВ. Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — зеркала Ахматовой. С. 30 70. Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Перевод с лат., предисл. и примеч. М. Л. Гаспарова. М., 1988. С. 47. 71. А.А.Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. / Составл., подг. текста и коммент. В. Орлова. Т 1. М, 1980. С. 219-220. 72. Анненский Инокентий. Книги отражений. С. 65, 71. 73. Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. С. 135. 74. Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова / Составление, комментарии О. Е. Рубинчик. СПб. 2001. С. 52-53. 75. Там же. С. 163. 76. Там же. С. 53. 77. Виленкин В. В сто первом зеркале. С. 13. 78. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 323. 79. Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. С. 134. 80. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 264. 81. Там же. С. 216. 82. Лавров Сергей. Лев Гумилев. Судьба и идеи. С. 94. 83. Писатель и вождь. Переписка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. 1931-1950 годы. Сборник документов из личного архива И.В. Сталина / Составитель Юрий Мурин. М., 1997. С. 76-127. 84. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 363. 85. Тименчик Р. К генезису ахматовского «Реквиема» // Новое литературное обозрение. 1994. № 1. С. 215. 86. Анненский Иннокентий. Книги отражений С. 109. 87. Анна Ахматова: последние годы. С. 65. 88. Герштейн Эмма. Мемуары. С. 323.