РАССКАЗЫ Приветливый щенок.
advertisement
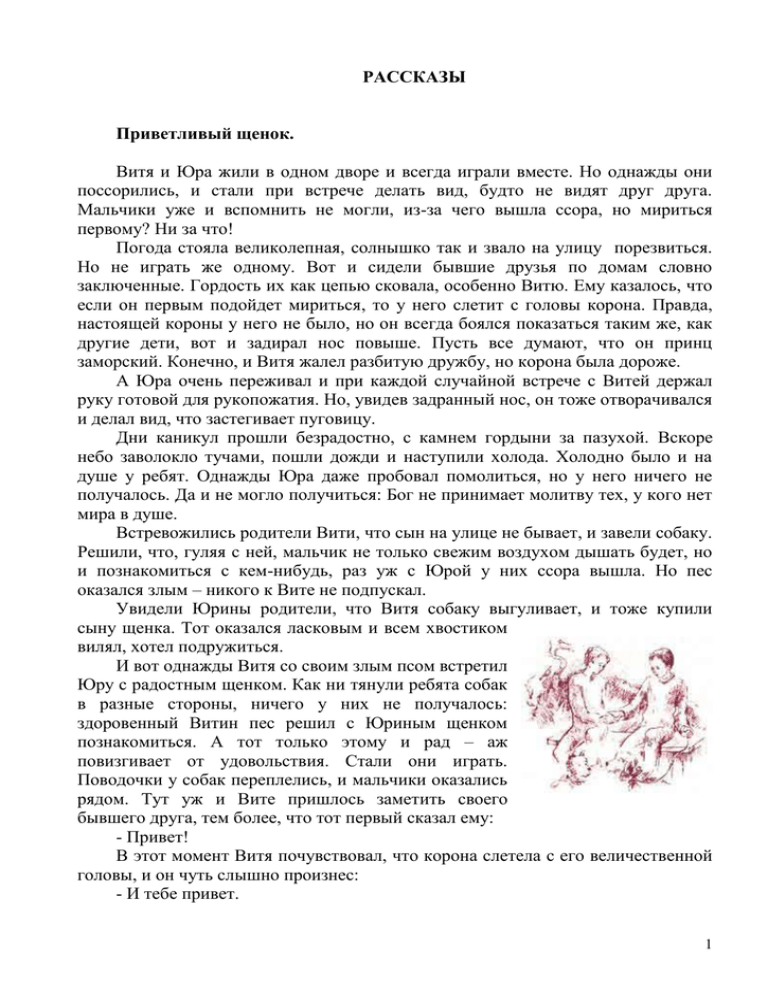
РАССКАЗЫ Приветливый щенок. Витя и Юра жили в одном дворе и всегда играли вместе. Но однажды они поссорились, и стали при встрече делать вид, будто не видят друг друга. Мальчики уже и вспомнить не могли, из-за чего вышла ссора, но мириться первому? Ни за что! Погода стояла великолепная, солнышко так и звало на улицу порезвиться. Но не играть же одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам словно заключенные. Гордость их как цепью сковала, особенно Витю. Ему казалось, что если он первым подойдет мириться, то у него слетит с головы корона. Правда, настоящей короны у него не было, но он всегда боялся показаться таким же, как другие дети, вот и задирал нос повыше. Пусть все думают, что он принц заморский. Конечно, и Витя жалел разбитую дружбу, но корона была дороже. А Юра очень переживал и при каждой случайной встрече с Витей держал руку готовой для рукопожатия. Но, увидев задранный нос, он тоже отворачивался и делал вид, что застегивает пуговицу. Дни каникул прошли безрадостно, с камнем гордыни за пазухой. Вскоре небо заволокло тучами, пошли дожди и наступили холода. Холодно было и на душе у ребят. Однажды Юра даже пробовал помолиться, но у него ничего не получалось. Да и не могло получиться: Бог не принимает молитву тех, у кого нет мира в душе. Встревожились родители Вити, что сын на улице не бывает, и завели собаку. Решили, что, гуляя с ней, мальчик не только свежим воздухом дышать будет, но и познакомиться с кем-нибудь, раз уж с Юрой у них ссора вышла. Но пес оказался злым – никого к Вите не подпускал. Увидели Юрины родители, что Витя собаку выгуливает, и тоже купили сыну щенка. Тот оказался ласковым и всем хвостиком вилял, хотел подружиться. И вот однажды Витя со своим злым псом встретил Юру с радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные стороны, ничего у них не получалось: здоровенный Витин пес решил с Юриным щенком познакомиться. А тот только этому и рад – аж повизгивает от удовольствия. Стали они играть. Поводочки у собак переплелись, и мальчики оказались рядом. Тут уж и Вите пришлось заметить своего бывшего друга, тем более, что тот первый сказал ему: - Привет! В этот момент Витя почувствовал, что корона слетела с его величественной головы, и он чуть слышно произнес: - И тебе привет. 1 Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки мгновенно подружились и не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить их на прогулку одновременно. А, прощаясь, даже пожали друг другу руки. На душе было светло и радостно. Пришел Юра домой, стал молиться и почувствовал, что Бог слышит его. А. потапова. Мое. Коля залез в песочницу, растопырил руки и заявил: - Моё! - Почему твое? - робко возразила маленькая Лариса, отряхивая от песка руки. - Потому что мое! - грозно сказал Коля и растоптал домик, построенный из песка Ларисой. Девочка вылезла из песочницы и пошла к клумбе нюхать цветы. Коля слепил кулич, насыпал холмик, прорыл канавку, все время поглядывая на Ларису. Она стояла возле клумбы и разглядывала красивый красный пион. Кряхтя, выбрался Коля из песочницы и направился к клумбе. Он отодвинул Ларису плечом, наклонился к пиону и сказал: - Моё! Лариса ничего не успела ответить, как из пиона вылетел огромный коричневый шмель. Он ударил Колю прямо в лоб, сердито зажужжал и, растопырив мохнатые лапы, собрался впиться ему в щеку. - Ай-яй-я-ай! - закричал Коля, закрывая лицо руками, и кинулся к воспитательнице, которая сидела на скамеечке. - Испугался? - спросила Анна Ивановна, когда Коля уткнулся ей в колени. - А чего он? - пожаловался Коля. - Он прожужжал: "Моё-ё!" - ответила Анна Ивановна, - совсем как ты в песочнице. Встал Коля, подошел к Ларисе, взял ее за руку: - Идем, я тебе покажу, как крепость лепить. Потом оглянулся на воспитательницу и крикнул: - Но я же не жужжал! Оторвали мишке лапу… Появился в группе плюшевый Мишка. Как он здесь оказался? Мишка и сам удивлённо смотрел на ребятишек и чуть-чуть им улыбался. Малыши гурьбой кинулись к нему. Каждый тянул к себе, кто за ухо ухватился, кто за шею... - Я хочу! - Мой Мишка! - Отдай! – раздавались детские голоса. 2 Даже кто-то кого-то толкнул, кто-то – заплакал. И вдруг – треск... Все замерли, а потом, увидев, что у медвежонка отлетела лапа, стали возвращаться к своим игрушкам. Брошенный Мишка смотрел на ребят и продолжал им чуть-чуть улыбаться. К нему подошла девочка Лена. Хотя Леночка была маленькая, но сердце у неё было большое. Когда все малыши набросились на новую игрушку, она пыталась их остановить. Ей казалось, что Мишке больно. Она чувствовала его боль, как будто это её раздирали на части. Но её голосок тонул в общем гаме. Когда все бросили Мишку, и он, искалеченный, валялся на полу, она прижала его к себе: - Не плачь, Мишенька, не думай, что ты никому не нужен! Я буду с тобой дружить. Потом, когда Леночка выросла и у неё появилась маленькая дочка, она рассказывала ей о своем детстве и читала замечательные стихи: Уронили Мишку на пол, Оторвали Мишке лапу. Всё равно его не брошу, Потому что он хороший. И маленькая дочурка, учась утешать, лепетала: Всё равно его не брошу, Потому что он хороший. О чем молиться? Хорошо учился Гриша, да вот беда – хотелось ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша места себе не находил – так ему хотелось, чтобы тот ошибся. Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике. Он ответил на ''отлично'' и успокоился: знал, что пятерок у него много, и на следующий день его не спросят. А потому даже урок готовить не стал. На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел на него и шептал про себя: - Ну, ошибись, ошибись. Гриша стал к Богу взывать: 3 - Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты – Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а еще лучше – двойку. В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратился к Грише: - Ну-ка, помоги ему. Наш герой даже дар речи потерял. - Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша покраснел и не двинулся с места. - Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил голову. - Давай дневник! И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку. Шел он домой и с упреком говорил: - Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя, чтобы новичку двойку поставили, а поставили - мне. И что теперь делать? Пятерки в четверти не видать, мама будет переживать, папа – ругать. Ведь сам говорил: ''Просите, и дано будет вам''… Не понимал, о чем можно просить Спасителя, а о чем нельзя, и один крестьянин в прошлом веке. Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими, и повез его в Вятку продавать. Получив огромную прибыль, он на радостях зашел в собор и заказал благодарственный молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа, чтобы голод продолжался и цены выросли еще больше. Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о несчастии народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил злую мечту в пепелище. Сорная трава. Одна благочестивая мать, вместе со своими маленькими дочерьми, занималась в своем небольшом огороде вырыванием сорной травы. Работа шла скоро и весело; дочери поспешно рвали сорную траву, росшую среди овощных растений, и не замечали, как текло время, потому что кроме своей работы они были заняты рассказами матери о древних христианских подвижниках. Перед окончанием работы младшая девочка окинула своим взглядом очищенное место, и ей жаль стало той травы, которая так красовалась прежде среди гряд, испещряя весь огород разнообразными цветочками. “Милая матушка, - сказала она, - я не буду полоть всей этой гряды. Мне грустно взглянуть теперь на наш огородик: тут так прекрасно расцветали и 4 репейник, анютины глазки, и клевер, а теперь все как будто мертво, и нечем мне полюбоваться”. Мать согласилась и уважила желание своей еще мало понимавшей дочери: полугряда огурцов осталась покрытою сорными травами. Недели через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из девочек более всех томилась ожиданием, - когда же придет возможность сорвать свеженький огурчик или выдернуть вкусную морковку… каково же было ее удивление, когда на оставленной ею не выполотой грядке она не нашла ничего, кроме отцветшей, потому и не красивой более травы! С печальным видом возвратилась она к своей доброй матери… “Милая мама! - сказала она со слезами на глазах. - Ты знаешь, что я прежде радовалась, смотря на грядку, которую ты мне позволила оставить покрытою сорной травой… теперь на ней ничего нет, кроме почти засохшей травы, тогда как наш огород и зелен, и свеж, и уже приносит плоды!..” “Слушай же, мое милое дитятко, - помни, что огород подобен нашей душе. Как в огороде, так и в нашей душе есть много доброго; но есть в нем и худое. Что добрые растения в огороде, то добрые желания в нашей душе; сорная трава - это наши грехи и желания. Как тебе грустно было смотреть на очищенный огород, потому что он сделался пустым: так грустно и тяжело человеку оставить свои худые привычки: без них ему жизнь кажется постылой… он не оставляет их, не старается истребить - и что же? Они приводят его на край гибели; все доброе в нем умирает; он перестает любить Бога, ближних, своих родителей… вот смерть лишает его жизни, он является перед Богом, и нет у него ничего, никаких добрых дел; и самые пороки, как тебе теперь трава, не кажутся ему более приятными; но после смерти нет покаяния. Он подвергается вечному осуждению. Откроем, дети, Евангелие от Матфея: “Уже и секира при корне дерева лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь”. - Дерево, не приносящее плодов, - то же, что сорная трава. Оно означает человека, не делающего добрых дел, - человека, преданного пороку. Бегайте же греха, этого сорного растения, которое так часто заглушает в людях все доброе”. Маленькие Евы. Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: - Папа, если бы мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не разрешил его трогать, правда, папа? - Правда, - улыбнулся отец и уложил детей спать. На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. 5 Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник отрытого окна в кухне и сказал: - Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру. Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя – очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов, старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. - Мы только одним глазком глянем и закроем, - сказала она. Папа даже не узнает. Но как только Леночка приподняла крышку, воробушек вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа, и увидев, что кастрюлька пуста, сказал: - Ну что, маленькие Евы, - не выдержали, выпустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. - Папа, что это было за дерево такое, и почему с него нельзя было кушать, спросила Маша. - Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому, что всякое зло начинается с непослушания, а с послушания всё доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам. Монахиня Елена. Как Сережа победил страх . У хозяина дачи был козел, который пасся на лужайке в лесу, крепко привязанный прочной цепью к вбитому в землю столбу. Он был страшно злой, так как его беспощадно дразнили и обижали мальчишки, и он не выносил детей. Сережа узнал у хозяина, что козел любит сахар и капусту, и решил приручить его. Решили идти с мамой вдвоем. Как только стали приближаться к козлу, его глаза свирепо загорелись, налились кровью, он бросился с цепью вперед, наставил рога и приготовился к бою. Сережа испугался и невольно остановился. Но мама настойчиво велела не отступать, а идти прямо на козла, который заметался, стремясь сорваться с цепи и броситься на врагов. Однако маме удалось крепко схватить его за рога, а Сережа сразу подсунул ему к морде сахар и капусту. Козел не устоял против искушения, схватил кусок сахара, затем и капусту. Мама придала Сереже духу, прошептав: - Не бойся, я держу его крепко, попробуй смело потрепать его по шее, пока он ест капусту. 6 Сережа, преодолев страх, выполнил указание. На следующий день пришли снова, показывая козлу издали капусту. Он был настроен менее свирепо. Через несколько дней козел уже подружился с мамой и, особенно, с Сережей. Рискнули поэтому не хватать его за рога. Животное почувствовало человеческую ласку и сменило свой бурный гнев на доверие. Сережа был в восторге и уже кормил козла со смелой уверенностью, ласково обнимая его мохнатую шею. Несколько дней спустя, утром, мама Сережи вдруг услышала в лесу страшные вопли. Она бросилась через окно прямо в лес. Оказалось, что козел, которого дразнила молодежь, сорвался с цепи и бросился на людей. Сережа, который был недалеко, бросился к козлу и схватил его сзади за рога, круто остановил и повел перед собой. Козел почувствовал знакомую уверенную детскую руку и подчинился. Джесси Стюарт. Любовь Перевод с английского Татьяны Потапенко Вчера, когда яркое солнце безжалостно обжигало поникшие всходы кукурузы, мы с отцом обходили новый участок земли. Мы примеряли, как поставить забор. Коровы, возвращаясь с пастбища, шли через молодую каштановую рощу на краю оврага и топтали кукурузу. Отец шёл между рядами кукурузы. Боб, наш колли, бежал впереди. Бурундуки пересвистывались через овраг, прячась среди мертвых верхушек деревьев, срубленных на участке под пашню. - Взять, Боб, взять его, – крикнул отец. Он поднял с земли поникший стебель кукурузы и оглядел высохшие корни. Его подкопал бурундук, чтобы съесть сладкое зёрнышко, оставшееся на нежных корешках. Весна была сухой, и зерна остались в земле, выбросив вверх только слабый росток. Бурундуки их очень любили. Они подкапывали целые ряды кукурузы, чтобы полакомиться сладким зерном. Но побеги погибали, и кукурузу приходилось пересаживать. Отец все натравливал Боба на бурундуков. Боб прыгал через ряды. Вот и опять, увидев бурундука, он бросился за ним. Я побежал за псом. Боб что-то нашёл – он прыгал и лаял. Пыль поднималась маленькими клубками за нашими ногами. Поднялось целое облако пыли. - Это самец чёрной змеи, – сказал отец. – Взять его, Боб! Кончай его! Боб прыгал, пытаясь разозлить змею и заставить её драться. Этой весной Боб убил двадцать восемь мокасиновых змей. Он умел убивать змей. Он делал это не спеша, с большим умением. - Может, не надо её трогать, пусть живёт, – сказал я. – Это безобидная змея. Она убивает ядовитых змей. Она убивает мокасиновых змей. Она ловит больше полевых мышей, чем кошка. Было видно, что змея не хотела драться. Она хотела уйти. Боб не давал ей уйти. Интересно, зачем ей понадобилось ползти к куче темного суглинистого 7 песка на уступе холма? Зачем выползла она из гущи каштанового молодняка и терний шиповника? Я смотрел, как змея поднимала свою красивую голову в ответ на каждый прыжок Боба. - Это не самец, – сказал я. – Это самка. Посмотри на белое пятно на горле. - Змея – враг для меня, – резко ответил отец. – Ненавижу змей. Кончай её, хватит играться. Боб повиновался. Я с отвращением смотрел, как он схватил её за горло. Она красиво извивалась в солнечных лучах. Боб схватил её за горло там, где было белое пятно. Её тело кнутом щёлкало в воздухе. По красивому изгибу шеи хлынула кровь. Что-то легко ударило о мою ногу, как будто хлебный катыш. Боб швырнул змею на землю. Я нагнулся посмотреть, что это ударило о мою ногу. Оказалось - змеиные яйца. Боб вытряхнул их из тела змеи. Она направлялась к куче песка, чтобы отложить яйца – чтобы солнце, как заботливая наседка, согревало их своим теплом, пока не появятся на свет малыши. Боб снова схватил змею. По темной земле текла красная кровь. Тело всё ещё извивалось от боли, как семечко дрока, брошенное в огонь. Боб злобно бил ею о землю. Изувеченное тело корчилось в воздухе. Наконец оно повисло беспомощно, как шнурок ботинка. Боб кинул искусанное тело на песок. Змея дрожала как лист на слабом ленивом ветру, пока ее изувеченное тело не замерло окончательно. Кровь обагрила землю вокруг мёртвого тела змеи. - Смотри - яйца, – сказал отец. Мы насчитали тридцать семь яиц. Я взял одно и положил на ладонь. Ещё минуту назад в нём была жизнь. Яйцо было недозрелым. Оно не выживет, если положить его в землю. Солнце не сможет отогреть его своим материнским теплом. Яйцо на ладони было размером в перепелиное. Стенки тонкие и твердые, а середка, просвечивающаяся сквозь скорлупку, водянистая. - Ну что, Боб, видишь, почему эта змея не могла драться, – сказал я. – Такова жизнь. Сильный убивает слабого даже среди людей. Собака убивает змею. Змея убивает птиц. Птицы убивают бабочек. Над всем этим стоит человек. Человек тоже убивает – ради забавы. Боб тяжело дышал, высунув язык. Он бежал впереди нас. Он устал. Ему было жарко под шубой косматой шерсти. Язык почти касался сухой земли, и с него падали клочья пены. Мы направлялись домой. Шли молча. Я всё ещё думал о мёртвой змее. Солнце садилось в каштановую рощу. Пел жаворонок. Слишком поздно для жаворонка петь в такую пору. Красные вечерние облака висели над одинокими соснами на краю оврага. Отец сошёл с тропинки и остановился. Ветер шевелил его черные волосы. Лицо было красным в синих сумерках уходящего дня. Он смотрел на заходящее солнце. - Мой отец ненавидит змей, – подумал я. Я думал, в какой агонии рожают женщины. Как им приходится бороться за жизнь своих детей. И я думал о змее. Наверное, глупо было так думать. Сегодня утром мы с отцом встали с петухами. Отец всегда говорил, чтобы всё успевать, надо вставать рано. Мы взяли лопату, топор и мотыгу и отправились на участок. Боб не пошёл с нами. 8 На кукурузе лежала роса. Отец шагал, перекинув через плечо лопату. Я шёл впереди. Дул ветер. Ветер был свежим, и дышалось легко – ветер, наполняющий силой – такой, что казалось, горы можешь свернуть. Я нашёл ряд, по которому мы шли вчера. Впереди под ногами что-то зашевелилось. Что-то похожее на огромную черную лебёдочную верёвку. - Осторожно, – быстро сказал я отцу. – Здесь самец чёрной змеи. Он подошёл ближе и остановился. От изумления он широко раскрыл глаза. - Ты видел что-нибудь подобное? – спросил он. - Это самец чёрной змеи, – ответил я. – Ты только посмотри! Он обвился вокруг неё. Он её нашёл. Вчера, наверное, всё время шёл за ней. Он шёл за ней до конца. Он пришёл ночью, под покровом звёздного неба, когда луна освещает зелёным светом дрожащие ночные облака. И нашёл её мёртвой. Он обвил возлюбленную своим длинным телом, но она была мертва. Самец поднял голову и следил за нами, пока мы обходили мёртвое тело змеи. Он, наверное, дрался бы с нами насмерть. Он и с Бобом схватился бы насмерть. - Возьми палку, – сказал отец, – и брось его на ту сторону, чтобы Боб не нашёл. Ты видел что-нибудь подобное? Я слыхал про такое, но вижу в первый раз. Я взял палку и перебросил змею через насыпь в ряды мокрых от росы побегов на краю оврага. Пятачок (из сборника «Два хлебных зёрнышка» (в сокращении)) Часов в восемь утра весеннее солнышко заглянуло и в маленькую, бедно обставленную, но чистенькую комнату, где спал разрумянившийся Коля, мальчик лет восьми. – Вставай, Коля! – будила мальчика мать. – Одевайся да беги в булочную за хлебом, а для праздника купи твоего любимого, с маком. Выбежал Коля на улицу и остановился, очарованный. Весна творила чудеса… Коля бегом пустился через улицу, перепрыгивая через ручьи и лужи. Весело было Коле! По дороге лавки он врезался в стаю голубей, спугнул дремавшую на солнышке собачонку, и та, поняв, что с ней играют, бросилась за убегавшим Колей, стараясь схватить его за штаны. Вот он почти у булочной, и видит Коля, что ее плотную дверь отворяет какой-то рабочий, и он ещё скорее пустился бежать, чтобы успеть попасть в отворённую дверь, но не успел. Дверь захлопнулась, скрыв за собой рабочего, а к ногам Коли со звоном упал медный пятачок и покатился по тротуару. Коля поднял пятачок, спрятал его в карман и вошёл в булочную. – Мне два фунта хлеба с маком, – сказал Коля булочнику и отошёл, раздумывая: отдать или нет пятачок. Честен был Коля, но ему редко приходилось иметь такие большие деньги, да и велик соблазн! На прилавках заманчиво красовались шоколадные, сливочные пирожные, осыпанные сахаром, крендели, и прямо на Колю смотрели чёрными глазами из изюмин румяные жаворонки. 9 – Хлеб готов! – сказал булочник, обращаясь к рабочему. – Пожалуйста, деньги. Рабочий спокойно опустил руку в карман, потом как-то сразу засуетился и начал шарить по всем карманам. – Потерял, последний пятачок потерял, – с дрожью в голосе говорил он и растерянно смотрел на булочника, но тот молча взял из рук рабочего хлеб и бросил молча на прилавок. – Вот тебе и порадовал мальчонку, – говорил рабочий, – болен он у меня, малыш-то, а раньше был такой же шустрый,— и он ласково посмотрел на Колю печальными и добрыми голубыми глазами. И стыдно, и больно стало Коле от этого взгляда, к глазам подступили слёзы, но ещё хуже было сознаться при булочнике, что он утаил пятачок. – На улице отдам, – подумал Коля. – А нынче-то он и говорит, – продолжал рабочий, – ситного хочу, папка, купи, говорит, ситного, а у меня денег-то один пятачок, последний, значит. Эх, горе, горе! – и он, махнув рукой, медленно направился к двери и вышел на улицу. – Готов, мальчик, и тебе хлеб-то. Коля схватил хлеб и бросился к двери. – Деньги-то, деньги! – крикнул булочник. Коля отдал деньги и выбежал на улицу, оглянулся кругом, но рабочего нигде не было. Тогда Коля в надежде найти его забежал в ворота первого дома, второго, третьего, добежал до первого сворачивающего с улицы переулка, но всё было напрасно: рабочий исчез. И Коля, огорчённый, еле сдерживая слёзы, побрёл домой. Не радовали теперь его ни яркое солнце, ни ликующий шум весны. И казалось ему, что все на него смотрят и знают, что он утаил пятачок, а в глубине большого колокола Коля ясно слышал: “Украл, украл, украл!”. – Что ж так долго ходил? – спросила мать, встречая Колю. – Что с тобой случилось, мой милый мальчик? Но Коля мочал. Затем, не поднимая опущенных глаз, он бросился к матери, закрыл лицо в складках её платья и горько-горько заплакал. – Что с тобой, Коля? – ласково, но с беспокойством спрашивала мать. – Я украл, украл, мама! Последний пятачок у крал у дяди, а у него мальчик маленький, больной, хлеба просил! – и Коля, всхлипывая сквозь слёзы, рассказал матери всю историю с пятачком. …Большой вырос Коля, но так и не смог забыть историю с пятачком, и будто наяву видел он иногда ласковые, печальные глаза рабочего. В. М. Волков. Кнут. Дед сидел на низенькой скамеечке и отбивал косу. – Дедушка, смотри, какой я кнут нашёл. 10 Дед поднял очки на лоб. – Ишь ты — ремённый! И никак в шесть концов сплетённый. Я взмахнул кнутовищем и звучно щёлкнул. – Ловко... И где же ты его нашёл? – А на дороге. – И ты не знаешь, чей это кнут? Я как можно натуральнее пожал плечами. Хотя я, конечно, знал, чей это кнут. Деда Егора! Он как раз вчера ездил на станцию и, видимо, обронил его, под хмельком возвращаясь вечером. Я слышал, как он пел про “златые горы и реки, полные в ина”, когда проезжал мимо нашего дома. Дед вздохнул: – День только начался, а ты у же дважды согрешил: кнут чужой взял и мне соврал. И снова принялся отбивать косу. Закончив, позвал меня: – Эй, Вовка, я вот всё думаю, где же ты будешь кнутом этим щёлкать. На улице нельзя. Вдруг Егор увидит иль ребята. И скажут ему. В саду разве что? Но там не размахнёшься – простора нет. Вот и получается – спрятать его надо. Вечером за самоваром дед опять заговорил о кнуте: – Ну, ты надумал, где прятать-то его будешь? В сарае или в риге? А может, в кровати своей? Под подушкой оно вроде надёжней всего... Я покраснел. Я как раз раздумывал именно над этим – где спрятать кнут. А дед продолжал, неторопливо прихлёбывая из блюдца: – Взять чужую вещь – дело нехитрое. Тут ума много не надо, а вот спрятать её так, чтобы хозяин не увидел, – тут надобно крепко покумекать. Но ты же у нас головастый. Мать говорит – на одни пятёрки учишься... Красный и потный – не от чая горячего, а от дедовских насмешливых глаз – я медленно слез с лавки, вышел из горницы, в сенцах взял кнут и вышел за огороды. Щёлкнул там напоследок, причём без всякого удовольствия, и побрёл заогородной тропкой к дому деда Егора. А потом вдруг побежал: так мне захотелось поскорее избавиться от этого злополучного кнута. Прот. Николай Агафонов. Щенок Засоня. Главной мечтой в моей жизни было заиметь собаку. Не скрою, я очень завидовал своим товарищам, имевшим собак. Но моя мама была категорично против собаки в доме. И все мои слезы, и уговоры на нее действовали плохо. На моей стороне была родная тетка, мамина сестра. Тетя Зина, так ее звали, не раз говорила маме: 11 — Ты неправильно воспитываешь ребенка. Нельзя в них подавлять хороших побуждений. Просит сын собаку, значит, она ему нужна. Ему нужен друг, о ком он мог бы заботиться. — Знаю я эти заботы. Повозится день, два, а потом матери убирай и корми, и гуляй с собакой. Как будто мне больше делать нечего. Но вот пришел мой день рождения и случилось чудо. Мамин начальник подарил мне маленького щенка. Я был на седьмом небе от счастья. А мама причитала: — Какой же вы догадливый, Петр Игнатьевич, ведь именно о таком подарке мечтал мой сын. Признайтесь же дорогой, Петр Игнатьевич, что вы обладаете телепатическими способностями. — Да никакой здесь телепатии нет, — смущенно улыбался Петр Игнатьевич, — просто ваша сестра, Зинаида Николаевна, мне подсказала. — Ну, спасибо сестра, — церемонно поклонилась мама тете Зине и из-за спины Петра Игнатьевича, показала ей кулак. Щенок был презабавный: толстенький, лохматый совсем как медвежонок и к тому же ходил, смешно переваливаясь. Я налил ему в блюдце молочка. Щенок полакал, затем обошел всю комнату и все обнюхал. Сделал на полу лужицу. Еще немного походил, затем улегся возле моей кровати на коврик и заснул. Я быстро вытер лужицу, пока не заметила мама, и лег с ним на коврик рядом. Казалось, что никто мне не нужен на всем белом свете кроме этого пушистого, мягкого и теплого комочка. Я его поглаживал осторожно рукой, а он иногда приподнимал свою морду и благодарно смотрел мне в глаза. Люди так смотреть не умеют. Этот доверчивый взгляд переворачивал всю мою детскую душу. «Вот существо, — говорил я себе, — которое меня понимает лучше всех на свете. Надо придумать, как его назвать. Я лежал возле щенка пока сам не заснул. Проснулся я утром в своей постели оттого, что меня кто-то лизнул в нос. Открываю глаза, а это мой щенок. «Вот так бы просыпаться каждое утро», — подумал я радостно и целуя моего щенка в нос. День был воскресный, в школу идти не надо и я весь день мог провести со своим новым другом. Щенок оказался очень сонливым. Он просыпался, только чтобы поесть и сделать лужицу и снова засыпал в любом положении. За это я прозвал его Засоня. То, что он спал, меня не очень тревожило. Вот, думаю, отоспится хорошенько, и будем с ним играть. Я его носил весь день на руках, а он спал. Когда на следующий день мне нужно было идти в школу, я вновь ощутил себя несчастным человеком. Мне ужасно не хотелось расставаться с Засоней. Я стоял над своим щенком в глубокой и печальной задумчивости. Засоня, даже не догадываясь о моих душевных муках, мирно посапывал во сне. Когда о чем-то очень глубоко задумываешься, то обязательно в голову придет какая-нибудь хорошая мысль. Такая мысль посетила и меня. Я решил взять Засоню с собою в школу. Между мыслью и делом у меня всегда было расстояние не больше одного шага. Потому я решительно шагнул к своему школьному ранцу, не менее решительно выложил из него все учебники и положил туда своего Засоню. «Зачем мне учебники?» — размышлял я, — ведь у моей соседки по парте Ленки 12 Заковыкиной всегда учебники в полном наборе. Она даже лишнего набирает. Как только не надорвется такой портфель тяжелый носить?» Придя в класс, я незаметно засунул своего щенка в парту. Тот даже не проснулся. «Спи спокойно, — шепнул я ему, — у нас сегодня всего пять уроков, а два последних — физ-ра, и мы с тобой сбежим. Ведь когда убегаешь от чего-то, это что-то вроде физкультуры. У нас на физ-ре, только и делают, что бегают. Так не все ли равно где бегать?» Первый урок, Засоня благополучно проспал. На перемене дежурные стали выгонять всех из класса, чтобы его проветрить. Но я так уцепился за парту, что меня можно было унести только с ней из класса и никак иначе. Дежурные Колька Семкин и Ванька Бирюков всю перемену пытались оторвать меня от парты. Сопели, кряхтели, но ничего у них не вышло. Когда прозвенел звонок, они сказали, что на следующую перемену позовут Саньку Пыжикова из четвертого класса, известного на всю начальную школу силача и тогда посмотрят, как я смогу удержаться. «Ничего, — успокаивал я себя, — скоро мой Засоня вырастет, как рявкнет, ваш Санька от страха под парту залезет. А пока буду держаться, как могу». — Ты чего это учебники не принес? — недовольно проворчала Ленка, когда наша учительница попросила раскрыть учебники и переписать упражнение. — А тебе, что, жалко?» — огрызнулся я. — Жалко у пчелки, а пчелка на елке, а елка в лесу, — при этих словах Ленка высунула язык. «Ну и противная же это девчонка, — подумал сердито я, — как бы мне поменяться с кем-нибудь местами. Кольке Семкину она правится, вот ему и предложу. Пусть только на перемене ко мне не пристает». Но вскоре мои мысли приняли другой оборот: «Вот у меня в парте лежит живая собака, и никто в целом классе не знает, а жаль». — Слушай, Ленка, — вдруг неожиданно прошептал я, — отгадай, кто у меня в парте лежит? — Во-первых, не кто, а что, — назидательно поправила меня Ленка, — кто, можно говорить только об одушевленном предмете. — Тоже мне умница нашлась, — язвительно сказал я, — у меня как раз одушевленное и лежит. — Лягушка! — округлив от страха глаза, чуть не вскрикнула Ленка. — Сама ты лягушка, — засмеялся я, — у меня кто-то покрупнее. — А кто? — уже заинтересовано спросила Ленка. — Дед Пихто, вот кто. Сама отгадай. — Заковыкина, Понамарев, перестаньте разговаривать, а не то я вас выведу из класса, — строго сказала Клавдия Феофановна, наша учительница. Мы примолкли. Ленка поерзала — поерзала в нетерпении, но потом все же не выдержав, попросила: — Лешенька, ну, пожалуйста, скажи кто там у тебя? Я никому не скажу, честное слово. — У меня там собака, — прошептал я. — Врешь и не моргнешь. Ну и дурак, — обиделась Ленка. 13 — Не веришь? — прошептал я, — тогда сама протяни руку и пощупай. — И пощупаю, — сказала Ленка, и полезла рукой в парту. — Что это у тебя зимняя шапка? — сказала с ехидством она, продолжая шарить рукой. — Ой! — вдруг громко вскричала Ленка. — Заковыкина, встать! — взвилась со своего места Клавдия Феофановна, — что такое там случилось? — У Понамарева собака, вот я и испугалась, — чуть не плача сказала Ленка. — Какая такая собака? Понамарев встать! Что там у тебя за собака? Я встал и молча вынул Засоню из парты. Тот уже проснулся и с любопытством вертел головой, видно удивляясь такому большому количеству детей. — Господи! — Всплеснула руками учительница, — чего только не притащат в школу. Ты бы еще слона принес. Вынеси сейчас же собаку и возвращайся в класс. А завтра, без родителей в школу не приходи. Я подавленный горем вышел из класса. Пока я нес на руках своего Засоню, он опять задремал. Я вынес его во двор школы. Здесь в саду было одно потаенное место у забора школы за кучей досок. Я отнес туда своего щенка и, положив за досками, сказал: «Подожди меня Засоня здесь, я скоро за тобой приду». Вернувшись в класс, я еле дождался перемены и сразу опрометью бросился во двор. За мной побежали все ученики нашего класса. Даже дежурные, которые должны были проветривать помещение и те устремились следом. Сердце мое захолодело, когда я увидел, что Засони на месте нет. Я стал искать рядом. Весь класс принял участие в поисках. Мы перерыли все доски. Тут к нам подошел Сережка Скудельников из третьего «Б» класса. — Чего ищите? — спросил он. — Щенка ищем. Вот Лешка Понамарев его здесь оставил. — Бесполезно ищите, я сам видел, как Валерка-дурачек его взял и унес. Мы переглянулись в недоумении между собой. Валерка когда-то начинал учиться вместе с нами. Был тихим, забитым мальчиком. Школьную программу он освоить не мог и остался на второй год. Затем его перевели в специальную школу для умственно отсталых. Он иногда приходил в свою старую школу и сидел во дворе на досках наблюдая за нашими играми издалека. С Валеркой никто не дружил, считая для себя зазорным дружить с ненормальным. Его дразнили и обзывали, но он ни на кого не обижался, и потому дразнить его было неинтересно. Однажды когда мы играли в футбол, мяч отлетел в сторону Валерки. Кто-то из мальчишек закричал ему: «Эй, Валерка, давай сюда мячик». Валерка обрадовался, схватил мячик обоими руками и побежал к нам, но тут же споткнулся и, упав, выронил мяч. «Да ты его ногой пинай», — стали кричать ребята. Валерка поднялся и неуклюже пнул мяч, так, что он полетел в обратную сторону, еще дальше от нас. Все стали кричать на него, обзывая «придурком» и другими обидными прозвищами. Но он только улыбнулся и снова побежал за мечом. Когда Валерка поднял мяч и хотел его нести обратно к нам, к нему уже подбежал Игорь Пестряков, наш голкипер, и грубо отняв мячик, крикнул: «Пошел отсюда полоумок». Валерка стоял, улыбался и не уходил. Тогда Пестряков развернул его за плечи в обратную сторону и пнул ногой. Все ребята 14 засмеялись. Валерка побежал, оглянувшись, споткнулся, упал, чем еще больше рассмешил ребят. Поднявшись с земли, он, прихрамывая, снова побежал, но уже не оглядываясь. С тех пор Валерка никогда не приходил во двор школы. — Ну, я этому дураку покажу, — угрожающе сказал Вовка Бобылев, — куда он пошел, не видел? — Туда, в сторону железной дороги, — махнул рукой Сережка. Мы все ринулись к железнодорожному полотну, проходившему недалеко от школы. Когда выбежали на железнодорожную насыпь, то Ленка закричала: — Вижу, вижу, вон Валерка ненормальный идет и щенок у него на руках. Мы пригляделись, точно он. — За мной! — крикнул воинственно Вовка и все с улюлюканьем, как индейцы побежали по шпалам. Валерка обернулся и, увидев нас, тоже припустил вприпрыжку, смешно подбрасывая ноги. — Он и бегает по-дурацки, — захохотал Вовка. — Ничего себе, по-дурацки, — говорила запыхавшаяся Ленка, — вон как бежит, не догонишь. — Стой, — закричали все, — остановись Валерка, а то хуже будет. Но тот припустил еще сильнее. Позади нас послышался протяжный гудок. — Поезд! — закричала Ленка. Мы все посыпались с полотна дороги на крутую насыпь, словно горох. Поднялись, глянули, а впереди поезда бежит наш ненормальный Валерка. Поезд гудит, а Валерка еще пуще бежит. Завизжали тормоза поезда, но он, по инерции, продолжал надвигаться на Валерку. Мы в ужасе закрыли глаза. А когда открыли, то увидели, что поезд, продолжая гудеть, едет дальше. — Ну, все, — сказал Вовка, — нет больше нашего ненормального. Перерезало его поездом вместе с собакой. Ленка как зарыдает, а вместе с ней и мы все завыли. Промчался поезд. Смотрим, на той стороне насыпи к домам железнодорожников бежит наш Валерка со щенком на руках. Мы все закричим: — Ура! Ура! И давай друг друга обнимать на радостях. Я даже на время о щенке своем забыл. Радовался, что Валерка жив остался. Но потом вспомнил о Засоне и так мне грустно стало, что я чуть было не расплакался, да стыдно стало перед девчонками. Хотя до этого все плакали. Но одно дело все, а другое — на глазах у всех — одному. Ребята и так заметили мое состояние и стали утешать. Когда уж домой вернулся, то не выдержал и разревелся. Мама стала расспрашивать, что со мной случилось. Пришлось все рассказать без утайки. Конечно, она меня отругала, за то, что взял щенка в школу, но потом ей стало жаль меня и она сказала: — Ладно, не плачь сынок, я завтра в школе узнаю адрес этого Валерки, мы с тобой пойдем и заберем щенка. На следующий день мы пошли к Валерке. Жил он в деревянном ветхом двухэтажном доме железнодорожников. Открыла нам квартиру его бабушка. Узнав, по какому мы делу, сразу разохалась и разахалась: 15 — Да как же так, мои миленькие, нехорошо получилось, грех-то какой. Я его вчера спрашиваю: откуда у тебя собака? А он молчит и ничего мне не говорит. Ах, батюшки, грех-то какой. Сейчас, сейчас мои касатики, я пойду, поговорю с ним и верну вам собачку. Он ведь у меня круглая сирота, потому вы его должны простить ради Бога. С этими словами старушка из кухни, где мы стояли, пошла в соседнюю комнату. Оттуда хорошо было слышно, как она говорит Валерке: — Внучек, да разве так можно поступать. Это грех брать чужое. Сказано ведь в Священном Писании: «Не пожелай ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его». А ты, горемычный мой, собаку пожелал. Так ведь и собака скот, значит это грех. Не тобой положено, не тебе и брать. Давай, давай сюда собачку, я отдам ее мальчику, а то он расстраивается, переживает. Ведь это его собачка, не наша. Вскоре она вышла к нам, неся на руках моего любимого Засоню. Щенок как всегда спал. Я взял его на руки и, поблагодарив старушку, быстро пошел вслед за мамой из квартиры. Выйдя из подъезда дома, я оглянулся и увидел в окне Валерку. Он стоял и смотрел на нас широко раскрытыми глазами, а по щекам его текли крупные слезы. Но, увидев, что я смотрю на него, он, как-то нерешительно помахал мне рукой. Что-то дрогнуло в моем сердце и я помахал ему в ответ. И тогда он вдруг улыбнулся мне, вытер рукавом слезы и снова замахал рукой. Я поспешил вслед за мамой. — Мама, а что такое «круглый сирота»? — спросил я у матери, когда мы уже выходили со двора. — Это сынок, когда у ребенка нет ни отца, ни матери. Я еще раз оглянулся на окна Валеркиной квартиры. Он по-прежнему махал рукой. И такой он мне вдруг показался несчастный и одинокий, что в моем сознании промелькнула мысль: «А, ведь это не он у меня собаку украл, а наоборот, я у него сейчас ее краду». От этой мысли я остановился как вкопанный. — Ну, ты чего встал? Пойдем, — потянула меня мама за руку. — Подожди мама, я сейчас быстро вернусь, — крикнул я и побежал к подъезду. Забежав в квартиру, я столкнулся нос к носу с Валеркой, бежавшим ко мне на встречу. Он остановился, застенчиво поглядывая на меня. А потом, как бы нерешительно тихо сказал: — Можно мне еще разок погладить твою собачку? — Бери, — сказал я, — щенок твой, а зовут его Засоня. — Ты его отдаешь мне? — как бы не веря, в удивлении переспросил Валерка. — Да, он твой, — глубоко вздохнув подтвердил я свои слава. Глаза Валерки светились счастьем. Он поглядел на меня таким благодарным взглядом, что я подумал: «Люди так глядеть не могут, да и собаки, пожалуй, тоже». Валерка бережно взял из моих рук щенка. Признаюсь честно, что когда он забирал из моих рук Засоню, я на мгновение пожалел о своем поступке. Но, только на мгновение, а потом словно гора с плеч свалилась, и я ему говорю: 16 — Знаешь что, Валерка, к нам на школьный двор играть, вместе с Засоней, я никому не позволю тебя обижать. Валерка молча кивнул головой, затем повернулся и так ничего не сказав, пошел в комнату. А я с легким сердцем вышел на улицу к встревоженной маме. — Где твоя собака? — спросила она. — Я отдал ее Валерке, ведь у него нет родителей, а у меня есть и папа, и ты, мама, — сказал я, беря ее за руку. Мать остановилась и внимательно поглядела на меня, а потом вдруг порывисто обняла и, поцеловав, сказала: — Сегодня ты совершил очень важный в твоей жизни поступок, сынок, и я тобой горжусь. Галина Лебедева. Петельки. Я проснулся, слез с дивана и через прохладные сени выбежал на крыльцо. Здесь, на солнышке ступеньки были теплые. Я сел. Стайка стрижей вжикнула в синеве над березой, взвизгнула и пропала. Я грелся, зажмурясь, а сам думал про стрижей: почему они всегда взвизгивают, когда летают? Наверно, им становится весело и жутко, как и мне, когда летишь на санках с крутой горы: и-и-и-х! И еще я думал: почему тогда визжат только девчонки? А вот мальчишки нет. И ещё я хотел понять, как это так: если закрыть глаза и слегка на них нажать, то получается такой ярко-красный волшебный свет, а потом откроешь — и всё чёрно, будто ночь. Бабушка подошла, как раз в тот момент, когда в моих глазах растаяла темнота. - Привет, Колюня, выспался? Умылся? — и похлопала меня по спине. — Давай-ка, умывайся и за стол. Я наяривал щеткой зубы и смотрел, как течет из крана вода, переплетается, блестит на солнце прозрачными косичками. У мамы есть ваза. У нее на стеклянных боках такие же узоры, как-будто из воды косички. И если сквозь вазу смотреть на солнце и наклонять голову вправо-влево, то на узоре вспыхивают фиолетовые, красные и зеленые лучики. Вот теперь я смотрел на водяную струйку точно также, чуть наклоняя голову то в одну сторону, то в другую… Я увидел все цвета радуги: вот красный, фиолетовый, желтый, зеленый… Какое-то чудо! Я думал: как эта красота получается, из чего появляется это сиянье. И эти разноцветные искры… из ничего!? - Ты скоро? — послышался бабушкин голос. Сразу же все исчезло: и волшебная вода стала обыкновенной. - Вот копуша! — Она рассердилась. — Все остывает! Я сдёрнул полотенце с крючка, мазнул им по лицу и швырнул его на спинку стула. В два прыжка я уже был за столом. Бабушка успела напечь большую горку блинов. - А где деда? Ещё спит? 17 - Это мы с тобой лодыри-лежебоки, а дедушка наш труженик, с рассветом на ногах. Он на вечер дело не откладывает — уже всю лужайку за домом выкосил. А тут он и сам появился. Утираясь тем самым полотенцем, которое только что я куда-то кинул, он, будто медведь, говорил мне страшным голосом: - Кто брал моё полотенце и смял его?.. Кто намочил его?.. Кто бросил, как попало и не повесил на место? Съем того сейчас с косточками! Я, вскочив, хохотал и бегал от него вокруг стола. Он поймал меня в охапку и поднес к умывальнику: - Вот посмотри-ка, видишь где полотенце висело? Это его место, оно здесь живёт вместе со своей птичкой, – и дедушка бережно повесил его. А я-то думал, что это сучочек торчит из стены, а оказалось – это птичка с острым вздернутым носиком. К нам подошла бабушка: - Этот сучочек дедушка нашел в лесу, обточил, лаком покрыл. Вот и получилась птичка. Мне на память подарил. Глазок – видишь: пуговка черненькая – это от моей кофточки. Из ничего красоту может сделать. Вот какой наш дедушка. А дедушка уплетал яичницу, слушал и посмеивался: - Никому не разрешаю мое полотенчико брать, потому, что цены ему нет. Теперь такое полотенце не увидишь. Разве что в каком-нибудь музее. И не всякий красоту понять может. Потому берегу. Всем дай – и пропадет, в тряпку изотрут и выбросят. А вещь необыкновенная… Вот петушки красные вышиты. Петелька к петельке: какая работа! И все-все до ниточки – бабушкино рукоделие. А еще — это её мне подарок. Заветный! Можно сказать, что мы с ней подарками обменялись: она мне полотенце, а я ей – птичку. Понятно? Когда я перед обедом мыл руки, то, конечно же, вытирал их своим желтым полотенчиком с домиком и дедушкино полотенце брать не хотел, но мне все слышались дедушкины слова про красоту. Будто не всякий ее увидеть может. Мне захотелось еще разочек посмотреть: чего такого я не увидел на этом его полотенце. Ну да… вот еще тут по самому краю, после петушков – дырочки и буковки «Ж», будто в ряд стоят: получается кружевная полосочка из буквочек: ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ… Я растянул край полотенца во всю ширину. Ничего нового не было. Три красных петуха шли друг за дружкой. Первый выступал, гордо выпятив грудку, второй, будто клевал его в завиток хвоста, а сам и не видел, что третий петушок, точно такой же, щиплет его сзади за кончик пера. Я все смотрел, как это сделано: одна петелька цепляется за другую, а за нее третья, потом четвертая… Получается такая цепочка из красной нитки. Вот из этих-то петелек-то и сделаны все петушки! И на другом конце полотенца было все точь в точь такое же — и кружева, и буквы ЖЖЖЖЖЖ и три красных петушка. А еще я разглядел кончик нитки, торчащий из-под петельки, и потянул за него. А то, чего он вылез? А петелька-то: раз — и исчезла… Я потянул еще, и от хвостика последнего петушка, а потом и от него самого ничего не осталось. Он исчез прямо на моих глазах. Я удивился: как это? Куда же он делся? У меня в 18 руке была кудрявая красная нитка. Я намотал ее на пальцы и хотел оторвать. Дернул, и хвостик у второго петушка: трык-трык-трык – исчез. Я испугался. Что я наделал! Я хотел оборвать, откусить нитку, но это никак не удавалось. Я дергал, и третий петушок так же исчезал, как и его братья. А на крыльце уже были слышны голоса. Это дедушка пришел обедать и чтото рассказывал бабушке. И они смеялись. Я пододвинул стул. Вскочил на него, сдернул полотенце с птички,скомкал его и сунул под майку. Бабушка говорила на крыльце: – Колька уже обедает: я ему налила. Садись и ты. А я сейчас приду – вот только белье развешу. Тут я испугался еще больше. Майка пузырем торчала у меня на животе. Я вытащил полотенце и застыл в ужасе: что делать!? Сейчас дедушка будет умываться, а полотенце-то у меня. Вот оно. Я заметался. Надо его поскорее куданибудь спрятать. Я хотел вытянуть кухонный ящик, но он не поддавался… Может, в корзинку с картошкой? Нет… только не сюда… В бидончик!.. Там молоко… Куда, куда же?!! Я открыл холодильник и запихал скомканное полотенце за бутылки с кефиром. Как раз успел! Дедушка заглянул в дверь, а я уже как ни в чем не бывало сидел за столом и хлебал большими глотками, не соображая, что я ем. - Привет, Колян! Как щи, вкусные? - Угу! — выдохнул я и чуть не поперхнулся. Дедушка уже умывался. Я слышал его фырканье и плеск воды. - А полотенце-то мое где? Не вижу! Стирать что ли забрала? — крикнул он бабушке в окно. - Ой, не помню… вроде бы не стирала, — ответила она из сада. - Коль, ты не брал? — не унимался дед. - Не-е-ет… зачем мне? — выкрикнул я. Сердце у меня стучало где-то в горле. - Надо же мне чем-нибудь вытереться… Он опять сунулся ко мне. - Так, значит, не брал, говоришь. Куда ж оно подевалось? Вот ведь неприятность…Сам ли я куда дел, на старости лет память совсем потерял. - Он все шарил по бабушкиным полкам. Взял какую-то посудную тряпку с большой кастрюли, утерся, швырнул ее с досады на стопку тарелок и сел рядом со мной. - Ты чего это, а? Красный какой. Не заболел? — Он потрогал прохладной влажной ладонью мой лоб. — Вроде бы температуры нет. А что глаза у тебя испуганные? Натворил что ль чего? - Не-е-ет, ничего. - Ну, раз ничего… тогда ладно. А что сидишь как-то криво, и тарелка у тебя по столу ездит? Ты одной рукой-то ложку держи, а другой — тарелку, а то она у тебя со стола-то, глядишь, и соскочит. 19 Дедушка наливал себе щей, отрезал хлеб, а я под столом в это время стягивал с пальцев намотанную на них нитку. Наконец-то получилось, я сунул спутанный комочек в карман и стал освободившейся рукой придерживать тарелку, как велел дедушка. - А что без сметаны ешь? Сметана вроде была. Кончилась что ли? Дедушка привстал и нацелился на холодильник. Но я вскочил, опередив его, и крикнул: - Я сам! — бросился одним прыжком, открыл дверцу, выхватил банку сметаны и плюхнул дедушке в тарелку полную ложку с верхом. Сердце мое колотилось так громко, что, казалось, было и дедушке слышно. - Ишь ты… какой предупредительный… — удивился он. — С чего бы это? Ты, главное, себе-то не забудь положить. Мы прикончили молча котлеты. Я сполоснул свою тарелку и дедушкину тоже, ложки не забыл помыть. Выпили по кружечке компота. Дедушка все время посматривал на меня внимательно. - Вот… молодец, бабушке помог, — похвалил он меня. — Ты, давай, тут не балуйся, делом займись, книжку свою возьми. А меня пчелки ждут. Фу-у… Наконец-то дедушка ушел. Я быстро открыл холодильник, достал полотенце. Подумаешь, красота, ну и где здесь красота? Получается, что там, где вышитые петухи… кружева… и все такое, там — красота. Это на одном конце, а без всего этого другой конец никакой: обыкновенная тряпочка. Я сложил полотенце пополам, потом еще раз, и еще, пока оно не превратилось в толстенькую подушечку. - Ко-о-о-о-л-я-я ! Выходи! — послышался за окном Полинкин голос. Не до Полинки мне теперь, надо поскорей с полотенцем этим что-то придумать. За моим диваном, на коврике сидели: розовый заяц с повисшими ушами, большая лягушка с болтающимися лапами и высунутым языком. Возьмешь ее за язык — она затрясется вся, язык оттянешь до пояса, и он потом возвращается обратно. А лягушка все трясется и говорит откуда-то из живота: «Э-э-э-э»… Вообще-то смешно, но мне теперь было не до смеха. Еще сидел красный бегемот Биба с одним ухом, такой мягкий… С ним хорошо было ходить в обнимку: он клал свою большую голову мне на плечо. Я уткнул сложенное полотенце в самый уголок за диваном и посадил на него Бибу. За окном не унималась Полинка: - Ко-о-л-я-я-я.!….Ко-о-о-о-о-л-я-я-я-я!!! Я выглянул. Полинка стояла со своей куклой. Вот появилась некстати. Я разозлился… Ходит с уродкой своей, все никак на нее не налюбуется и ко мне то и дело пристает: «Посмотри какие у нее красивые глазки. Правда она красавица!» Нашла красавицу… Башка больше тела, а ножки – как макаронины. И что она все время ее переодевает и причесывает, и все время говорит: «Подержи мою дочку, а я пока ей постельку постелю»? А чего ее держать? Крутанешь ее разочек, чтобы она сальто сделала, Полинка опять: «Ой не крути ей ручки, не растягивай ножки… ей же больно!» В общем, не хотелось мне сейчас видеть Полинку, а её куколку и подавно. Она заметила меня в окне, обрадовалась: 20 - Ко-о-ль, выйдешь? - Не-а… мне нельзя. - А можно я к вам, у тебя поиграем… Ну да, еще не хватало. Сейчас придет — в игрушки сунется, увидит полотенце это несчастное… - Нельзя! — крикнул я. — Я наказан! В углу стою! Я спрятался за штору и смотрел, как она поплелась в сад и зависла там, одиноко свернувшись в гамаке. А я осмотрел свой уголок со всех сторон: заметно что-нибудь или нет. И для надежности посадил туда большую обезьяну. Обезьяна привалилась к Бибе и спокойно сложила кривые лапы на мохнатом животе. Она хитренько улыбалась и блестела глазками из-под оранжевой челки, будто была со мной заодно: «Полный порядок. Совсем не видно. Никто ничего не узнает». Как же мне было плохо. И гулять теперь не пойдешь. Я все время подходил к двери, прислушивался, что там делается в доме. И мне все казалось, что там ищут полотенце и говорят обо мне. И дедушка вот-вот войдет сюда и станет искать… и увидит его. Я брал одну книжку за другой, листал. Но мне было неинтересно… картинки какие-то… Я заводил новую машинку, но мне невесело было смотреть, как она носится под столом и под стульями, тараня их ножки. Долго тянулось время… Я так устал бояться. И когда начались «Спокойной ночи» и стемнело, я даже обрадовался: теперь только осталось выпить молоко, и все — кончится этот ужасный день. А завтра… завтра все как-нибудь само собой исправится… Может, дедушка про него позабудет и перестанет его искать. Но дедушка опять спохватился: - Коль, а Коль… Ты так и не нашел мое полотенце? - Не-е-ет… — испугался я, расплескал молоко и стал искать под руками у бабушки тряпочку, чтобы вытереть стол. А он к бабушке: - Где полотенце? Бабушка даже рассердилась на него: -Где-где… Ну, не знаю я, где… Замучил! Дел столько, что и не упомню всего. А он заладил своё! Вот! Возьми другое и отстань! Завтра найду! Вот на грех навел — кричать заставил, — гремя посудой, ворчала она. В это время кот вернулся с прогулки и по стеночке пробирался к своей миске в уголке. Да бабушке-то под ноги и попал. - А, чтоб тебя! — отпрыгнула она. — Чуть животину не придавила! Лезут тут все разом! А ну — брысь все отсюда! Дедушка виновато вздохнул и молчком ушел на крылечко. Кот вылетел на лестницу вслед за ним. А я потихоньку пошел спать. Я взял Бибу и понес его укладывать на свою подушку, к стеночке, как всегда. Вдруг я увидел, что спрятанное полотенце как-то зацепилось за его ногу, развернулось и тянется за мной по ковру. И тут вошла бабушка. Она всегда вечером крестит меня на ночь, обнимает и говорит: «Спаси-сохрани, моё дитё, Господи!». И сейчас она стояла на пороге, широко раскрыв глаза от удивления. 21 - Как?.. Ты?.. Зачем же ты?.. — удивилась она. — Господи, помилуй! Я заплакал. А бабушка закрыла дверь, придвинула к ней стул и села. Это чтобы дедушка не вошел. - Вот из-за тебя грех на душу беру, от него скрытничаю, ловчу, — сказала она сердито. — Давай-ка, рассказывай все по порядку, и по-честному, — и притянула меня к себе. — Ишь, сердечко-то как скачет. И я все-все рассказал. Про кончик ниточки, которую я потянул, про петельки, как они одна за другой стали уползать – и петушки исчезали – и оставили на полотенце пустое место. - А что сразу-то не признался? — строго спросила бабушка. — Сказал бы мне, ведь это же поправимо. - Я боялся. - Чего боялся-то, глупый? Тебя съели бы что ли за это? - Не-е-ет. Я представил себе, как бабушка с дедушкой меня едят, и мне самому стало смешно. - Эх… Трусишка-зайка серенький… — покачала она головой. — Это ж надо! Целый день ходил, душу свою мучил. А грехов-то, вранья-то сколько было… сам сосчитай! Взял дедушкино полотенце без спросу – это раз, — загнула она палец на моей руке. – Испортил чужую вещь – это два. Соврал, что не брал – это три. Дальше-больше. Спрятал, не сознался – это четыре. И Полинку-то обманул, обидел. Я глаза вытаращила, когда она пришла за тебя заступаться. Простите, говорит, Колю. За что он в углу стоит? Эх ты!.. Это пять. Вот гляди – полную горсть грехов набрал. А за твоими-то вслед и мои потянулись… Я на дедушку рассердилась, накричала на него, а он и не виноват. Загибай, загибай пальцы-то, на другую руку переходи… Один грех за другой цепляется, за собой следующий тянет. Это всегда так бывает. - Это… как петелька за петельку? — спросил я. - Ну да. Не остановишься сразу – и поехало. Дальше – больше, пока до конца не дойдет. Ты понял? Понял, что сразу надо было повиниться? - Понял… ну да… Это, как у меня петушки… один за другим… исчезали… Я плакал и ничего не мог объяснить, просто кивал головой. - Плачешь? Это хорошо. Ты кулак-то разожми, — сказала бабушка.- Теперь лоб перекрести. Она повернула меня лицом к углу, где перед иконами на цепочке висела стеклянная синяя чашечка с горящим в ней огоньком, и встала рядом со мной на колени. - Вставай на коленки и ты, повторяй за мной: согрешил, Господи, каюсь. Я повторил. - Врать больше не буду. Я повторил. Бабушка вместе со мной крестилась, искоса посматривала на меня, шептала: - Пресвятая Дева, Богородица, от злых дел спаси сохрани младенца Николая. Бабушка еще поклонилась, потом тяжело поднялась. 22 - А Богородица меня простит? - Тебя-то? А как же. Ты ведь прощенья попросил, и я за тебя тоже прощенья просила. Ты уж теперь держись, раз слово дал. – Она поцеловала меня. — Иди умойся. На крылечке сидел дедушка и разговаривал с котом. Кот увивался вокруг его локтя, совался мордочкой под мышку. Мурчал. - Ну что: мря-мря, попало и тебе, Котя? Под горячую руку мы подвернулись с тобой. Это ничего… Это не беда… Помиримся… Я сел рядом с дедушкой. - Это все из-за меня… Я во всём виноват. Дедушка приклонил к себе мою голову, посмотрел на меня: - А я знаю. Я сразу догадался. Только ждал, когда сам признаешься. От бабушки попало? Плакал? Я промолчал. Не хотел говорить… - Ладно. Не говори. Главное, что ты сам свою вину понял. Он поцеловал меня. Усами щекотнул щеку. - Ну. Иди. Иди теперь… спи спокойно. Я умылся. Улегся. И как же хорошо стало. Меня простили! Я смотрел на огонек перед иконами, на бабушку. Она не ушла к себе, а растянув край пострадавшего полотенца на коленях, рассматривала его, качая головой: - Эх. Кабы раньше-то сказал, ведь это все можно было бы спасти… А теперь и не знаю получится ли… До утра работы хватит. Она вздыхала. И опять качала головой, рассматривая полотно на свет настольной лампы. - А нитки-то целы? — спросила она. – Ты их не выбросил? А то совсем тогда плохо дело, у меня таких нет больше… - Целы! Я выпрыгнул из-под одеяла. Схватил со стула свои джинсы и вынул из кармана комочек ниток. Бабушка взяла их, расправила, потом ушла к себе и вернулась с деревянным ящичком. Я давно знал его: он был двухэтажный, и если потянуть в стороны два медных колечка на его крышке, то он раздвигался. Тогда открывались в его глубине отделеньица, а там были нитки всех цветов, иголки, пуговицы разные, крючочки. Я сел и, натянув одеяло до груди, стал смотреть. Мне было интересно, что бабушка будет делать. Еще она принесла деревянный обруч. Он был с секретом: одно кольцо входило в другое, и, как у фокусника, они разнимались на два. Я их катал по комнате, думал это просто так, ни для чего не нужно, а оказалось, что очень даже нужно – для рукоделия. - Это пяльцы, — объяснила бабушка. — Вот натяну сейчас полотенце на один кружок, другим накрою, а уж тогда и начну вышивать. Она взяла длинную иголку с тоненьким крючочком на конце и стала ею тыкать в дырочки, которые остались там, где были петельки. – Ба-а-б! Покажи… я хочу посмотреть. — Я вытянул шею и чуть не свалился с дивана. - Ну иди, иди. Смотри. 23 И я увидел чудо. Иголочка с крючочком втыкалась, уходила глубоко в туго натянутую ткань и, там зацепив красную нитку, вытягивала ее наверх. Получалась петелька. Потом снова. Так же иголка уходила вниз и через эту петельку вытягивала такую же новую. - Ну, посмотрел? Теперь иди, спи, — сказала бабушка. И я ее поцеловал и нырнул под одеяло. - А ты? - А я потом. Вот верну на место петухов – тогда. Глаза мои щурились… я засыпал. В форточку впрыгнул кот и по-хозяйски устроился у меня в ногах: «Мря-мря. Все хорошо. Все хорошо», — мурчал он. Свет настольной лампы золотил стены нашей маленькой комнаты. Кот жмурился на абажур. Бабушка сидела, склонившись над пяльцами, и он внимательно и удивленно смотрел, как цеплялись друг за дружку проворные петельки и на прежнее место один за другим возвращались красавцы-петушки. В.А. Осеева. Что легче? (рассказ для детей про ложь) Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: - Попадёт нам дома! Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? - Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться. - Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. - А я правду скажу, - говорит третий.- Правду всегда легче сказать, потому что она правда и придумывать ничего не надо. Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка- глядь, лесной сторож идёт. - Нет, - говорит, - в этих местах волка. Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идёт. Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила. В.А. Осеева. Плохо. 24 Cобака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам: - Как вам не стыдно! - А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. - Вот это и плохо! - гневно ответила женщина. В.А. Осеева. Почему? Мы были одни в столовой - я и Бум. Я болтал под столом ногами, а Бум легонько покусывал меня за голые пятки. Мне было щекотно и весело. Над столом висела большая папина карточка, - мы с мамой только недавно отдавали её увеличивать. На этой карточке у папы было такое весёлое, доброе лицо. Но когда, балуясь с Бумом, я стал раскачиваться на стуле, держась за край стола, мне показалось, что папа качает головой. - Смотри, Бум, - шёпотом сказал я и, сильно качнувшись на стуле, схватился за край скатерти. Послышался звон... Сердце у меня замерло. Я тихонько сполз со стула и опустил глаза. На полу валялись розовые черепки, золотой ободок блестел на солнце. Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, склонив набок голову и подняв вверх одно ухо. Из кухни послышались быстрые шаги. - Что это? Кто это? - Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. - Папина чашка... папина чашка... - горько повторяла она. Потом подняла глаза и с упрёком спросила: - Это ты? Бледно-розовые черепки блестели на её ладонях. Колени у меня дрожали, язык заплетался. - Это... это... Бум! - Бум? - Мама поднялась с колен и медленно переспросила: - Это Бум? Я кивнул головой. Бум, услышав своё имя, задвигал ушами и завилял хвостом. Мама смотрела то на меня, то на него. - Как же он разбил? Уши мои горели. Я развёл руками: - Он немножечко подпрыгнул... и лапами... Лицо у мамы потемнело. Она взяла Бума за ошейник и пошла с ним к двери. Я с испугом смотрел ей вслед. Бум с лаем выскочил во двор. 25 - Он будет жить в будке, - сказала мама и, присев к столу, о чём-то задумалась. Её пальцы медленно сгребали в кучку крошки хлеба, раскатывали их шариками, а глаза смотрели куда-то поверх стола в одну точку. Я стоял, не смея подойти к ней. Бум заскрёбся у двери. - Не пускай! - быстро сказала мама и, взяв меня за руку, притянула к себе. Прижавшись губами к моему лбу, она всё так же о чём-то думала, потом тихо спросила: - Ты очень испугался? Конечно, я очень испугался: ведь с тех нор как папа умер, мы с мамой так берегли каждую его вещь. Из этой чашки папа всегда пил чай. - Ты очень испугался? - повторила мама. Я кивнул головой и крепко обнял её за шею. - Если ты... нечаянно, - медленно начала она. Но я перебил её, торопясь и заикаясь: - Это не я... Это Бум... Он подпрыгнул... Он немножечко подпрыгнул... Прости его, пожалуйста! Лицо у мамы стало розовым, даже шея и уши её порозовели. Она встала. - Бум не придёт больше в комнату, он будет жить в будке. Я молчал. Над столом с фотографической карточки смотрел на меня папа... Бум лежал на крыльце, положив на лапы умную морду, глаза его не отрываясь смотрели на запертую дверь, уши ловили каждый звук, долетающий из дома. На голоса он откликался тихим визгом, стучал по крыльцу хвостом. Потом снова клал голову на лапы и шумно вздыхал. Время шло, и с каждым часом на сердце у меня становилось всё тяжелее. Я боялся, что скоро стемнеет, в доме погасят огни, закроют все двери и Бум останется один на всю ночь. Ему будет холодно и страшно. Мурашки пробегали у меня по спине. Если б чашка не была папиной и если б сам папа был жив, ничего бы не случилось... Мама никогда не наказывала меня за что-нибудь нечаянное. И я боялся не наказания - я с радостью перенёс бы самое худшее наказание. Но мама так берегла всё папино! И потом, я не сознался сразу, я обманул её, и теперь с каждым часом моя вина становилась всё больше. Я вышел на крыльцо и сел рядом с "Бумом. Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно поднял глаза и увидел маму. Она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. Тогда, боясь, чтобы она не прочитала на моём лице все мои мысли, я погрозил Буму пальцем и громко сказал: - Не надо было разбивать чашку. После ужина небо вдруг потемнело, откуда-то выплыли тучи и остановились над нашим домом. Мама сказала: - Будет дождь. Я попросил: - Пусти Бума... 26 - Нет. - Хоть в кухню... мамочка! Она покачала головой. Я замолчал, стараясь скрыть слёзы и перебирая под столом бахрому скатерти. - Иди спать, - со вздохом сказала мама. Я разделся и лёг, уткнувшись головой в подушку. Мама вышла. Через приоткрытую дверь из её комнаты проникала ко мне жёлтая полоска света. За окном было черно. Ветер качал деревья. Всё самое страшное, тоскливое и пугающее собралось для меня за этим ночным окном. И в этой тьме сквозь шум ветра я различал голос Бума. Один раз, подбежав к моему окну, он отрывисто залаял. Я приподнялся на локте и слушал. Бум... Бум... Ведь он тоже папин. Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабль. И когда папа уехал, Бум не хотел ничего есть и мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа вернётся. Но папа не вернулся... То ближе, то дальше слышался расстроенный лай. Бум бегал от двери к окнам, он зевал, просил, скрёбся лапами и жалобно взвизгивал. Из-под маминой двери всё ещё просачивалась узенькая полоска света. Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. И вдруг в моё окно с силой ударил ветер, крупные капли дождя забарабанили по стеклу. Я вскочил. Босиком, в одной рубашке я бросился к двери и широко распахнул её. - Мама! Она спала, сидя за столом и положив голову на согнутый локоть. Обеими руками я приподнял её лицо, смятый мокрый платочек лежал под её щекой. - Мама! Она открыла глаза, обняла меня тёплыми руками. Тоскливый собачий лай донёсся до нас сквозь шум дождя. - Мама! Мама! Это я разбил чашку! Это я, я! Пусти Бума... Лицо её дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежали к двери. В темноте я натыкался на стулья и громко всхлипывал. Бум холодным шершавым языком осушил мои слёзы, от него пахло дождём и мокрой шерстью. Мы с мамой вытирали его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все четыре лапы и в буйном восторге катался по полу. Потом он затих, улёгся на своё место и, не мигая, смотрел на нас. Он думал: "Почему меня выгнали во двор, почему впустили и обласкали сейчас?" Мама долго не спала. Она тоже думала: "Почему мой сын не сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью?" И я тоже думал, лёжа в своей кровати: "Почему мама нисколько не бранила меня, почему она даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не Бум?" В эту ночь мы долго не спали, и у каждого из нас троих было своё "почему". 27 В.А. Осеева. В одном доме. Жили-были в одном доме мальчик Ваня, девочка Таня, пёс Барбос, утка Устинья и цыплёнок Боська. Вот однажды вышли они все во двор и уселись на скамейку: мальчик Ваня, девочка Таня, пёс Барбос, утка Устинья и цыплёнок Боська. Посмотрел Ваня направо, посмотрел налево, задрал голову кверху. Скучно! Взял да и дёрнул за косичку Таню. Рассердилась Таня, хотела дать Ване сдачи, да видит - мальчик большой и сильный. Ударила она ногой Барбоса. Завизжал Барбос, обиделся, оскалил зубы. Хотел укусить её, да Таня - хозяйка, трогать её нельзя. Цапнул Барбос утку Устинью за хвост. Всполошилась утка, пригладила свои перышки. Хотела цыплёнка Боську клювом ударить, да раздумала. Вот и спрашивает её Барбос: - Что же ты, утка Устинья, Боську не бьёшь? Он слабее тебя. - Я не такая глупая, как ты, - отвечает Барбосу утка. - Есть глупее меня, - говорит пёс и на Таню показывает. Услыхала Таня. - И глупее меня есть, - говорит она и на Ваню смотрит. Оглянулся Ваня, а сзади него никого нет. "Кто хозяин?" В.А. Осеева Рассказ для детей Большую чёрную собаку звали Жук. Два пионера, Коля и Ваня, подобрали Жука на улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. - Собака моя, - говорил Коля, - я первый увидел Жука и подобрал его! - Нет, моя! - сердился Ваня. - Я перевязал ей лапу и кормил её. Никто не хотел уступить. - Моя! Моя! - кричали оба. Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: - Спасайся! Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. - Чья собака? - сердито закричал он. - Моя, - сказал Коля. Ваня молчал. В.А. Осеева. На катке. 28 День был солнечный. Лёд блестел. Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали коньки и смотрели на Витю. Витя выделывал разные фокусы - то ехал на одной ноге, то кружился волчком. - Молодец! - крикнул ему один из мальчиков. Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя испугался. - Я нечаянно... - сказал он, отряхивая с её шубки снег. - Ушиблась? Девочка улыбнулась: - Коленку... Сзади раздался смех. "Надо мной смеются!“ - подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. - Эка невидаль - коленка! Вот плакса! - крикнул он, проезжая мимо школьников. - Иди к нам! - позвали они. Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А девочка сидела на скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала. "Печенье" В.А. Осеева Рассказ для детей Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша уселись за стол. - Дели по одному, - строго сказал Миша. Мальчики выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. - Ровно? - спросил Вова. Миша смерил глазами кучки. - Ровно. Бабушка, налей нам чаю! Бабушка подала чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро уменьшались. - Рассыпчатые! Сладкие! - говорил Миша. - Угу! - отзывался с набитым ртом Вова. Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму - она мешала ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку хлеба... "Синие листья" В.А. Осеева Рассказ для детей про дружбу У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю: - Дай мне зелёный карандаш. А Катя и говорит: - Спрошу у мамы. Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена: - Позволила мама? А Катя вздохнула и говорит: - Мама-то позволила, а брата я не спросила. - Ну что ж, спроси ещё у брата, - говорит Лена. 29 Приходит Катя на другой день. - Ну что, позволил брат? - спрашивает Лена. - Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. - Я осторожненько, - говорит Лена. - Смотри, - говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много. - Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зелёную. - Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней: - Ну, что ж ты? Бери! - Не надо, - отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: - Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? - Карандаша зелёного нет. - А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: - Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих: - Надо так давать, чтобы можно было взять. В.А. Осеева. Три товарища. Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке. - Почему ты не ешь? - спросил его Коля. - Завтрак потерял... - Плохо, - сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. - До обеда далеко еще! - А ты где его потерял? - спросил Миша. - Не знаю... - тихо сказал Витя и отвернулся. - Ты, наверное, в кармане нес, а надо в сумку класть, - сказал Миша. А Володя ничего не спросил. Он подошел к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу: - Бери, ешь! В.А. Осеева. Обидчики. Толя часто прибегал со двора и жаловался, что ребята его обижают. — Не жалуйся, — сказала однажды мать, — надо самому лучше относиться к товарищам, тогда и товарищи не будут тебя обижать! 30 Толя вышел на лестницу. На площадке один из его обидчиков, соседский мальчик Саша, что-то искал. — Мать дала мне монетку на хлеб, а я потерял ее, — хмуро пояснил он. — Не ходи сюда, а то затопчешь! Толя вспомнил, что сказала ему утром мама, и нерешительно предложил: — Давай поищем вместе! Мальчики стали искать вместе. Саше посчастливилось: под лестницей в самом уголке блеснула серебряная монетка. — Вот она! — обрадовался Саша. — Испугалась нас и нашлась! Спасибо тебе. Выходи во двор. Ребята не тронут! Я сейчас, только за хлебом сбегаю! Он съехал по перилам вниз. Из темного пролета лестницы весело донеслось: — Вы-хо-ди!.. В.А. Осеева. Хорошее. Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денёк хороший. И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать. Вот сидит он и думает:"Что, если б моя сестрёнка тонула, а я бы её спас!" А сестрёнка тут как тут: - Погуляй со мной, Юра! - Уходи, не мешай думать! Обиделась сестрёнка, отошла. А Юра думает: "Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!" А няня тут как тут: - Убери посуду, Юрочка. - Убери сама - некогда мне! Покачала головой няня. А Юра опять думает: "Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!" А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: "Дай мне попить, Юра!" - Пошёл вон! Не мешай думать! Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты. А Юра к маме пошёл: - Что бы мне такое хорошее сделать? Погладила мама Юру по голове: - Погуляй с сестрёнкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору. В. Сухомлинский. Я хочу сказать своё слово (рассказ про осень). Катерина Ивановна повела своих малышей-первоклассников в поле. Было тихое утро ранней осени. Далеко в небе летела стая перелётных птиц. Птицы тихо курлыкали, и от этого в степи было грустно. Катерина Ивановна сказала детям: 31 - Сегодня мы будем составлять сочинение об осеннем небе, о перелётных птицах. Каждый из вас пусть скажет, какое сейчас небо. Смотрите, дети, внимательно. Выбирайте в родном языке красивые, точные слова. Дети притихли. Они смотрели на небо и думали. Через минуту послышались первые сочинения-миниатюры. - Небо синее-синее... - Небо голубое... - Небо чистое... - Небо лазурное... И всё. Дети снова и снова повторяли те же слова: синее, голубое, лазурное, чистое... В сторонке стояла маленькая синеглазая Валя и молчала. - А ты почему молчишь, Валя? - Небо ласковое... - тихо сказала Валя и грустно улыбнулась. Дети притихли. И в это мгновение они увидели то, чего не видели до сих пор. - Небо грустное... - Небо тревожное... - Небо печальное... - Небо студёное... Небо играло, трепетало, дышало, как живое существо, и дети смотрели в его грусные синие-синие осенние глаза. В.А. Сухомлинский. Стыдно перед соловушкой. Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели на траву отдохнуть и пообедать. Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки поели, недалеко от них запел соловей. Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели, боясь пошевельнуться. Соловей перестал петь. Лида собрала остатки своей еды и хлебные крошки и положила в сумку. - Зачем ты берёшь с собой этот мусор? - сказала Оля. - Брось в кусты. Ведь мы в лесу. Никто не увидит. - Стыдно... перед соловушкой,- тихо ответила Лида. Огрызок яблока и мандарин. Новенькую третировали ее одноклассницы. Дети порой бывают очень жестокими. Им казалось, ведет себя не так, одета не так... 32 И вот стоит бедная девочка в углу одна. Вдруг подбегает к ней стайка одноклассниц, и та, что является первой задирой, говорит: - Хочешь яблочко? Новенькая молчит, не зная, как здесь положено отвечать. А та роется в сумке, отыскивает яблоко, быстро откусывает от него кусок за куском и под смех остальных протягивает девочке огрызок. Растерянно смотрит на них новенькая. Но не кинула в лицо обидчице этот огрызок, не отвернулась гневно и не заплакала. Маленькая девочка, открыла свой ранец, достала мандарин и протянула насмешнице. Та вспыхнула и растерянно убежала, уводя за собой стаю. С того момента все переменилось. Ее уже не только не дразнили, но и приняли в свои верные подруги. Иногда нам бывает трудно представить, как можно подставить правую щеку, когда тебя ударили по левой щеке. Е.Пермяк. Бумажный змей. Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер бумажный змей высоко летает. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. Красота! Задумал Боря свой змей сделать. Лист бумаги у него был. И дранки он выстрогал. Да недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змей пускают. А у Семы большой моток ниток. Ему есть на чем змей пускать. Если бы он лист бумаги да мочала на хвост достал, тоже бы свой змей запустил. Мочало у Пети было. Он его для змея припас. Ниток только ему не хватало да бумажного листа с дранками. У всех все есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает. Сидят мальчики на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижимает. Сема свои нитки в кулак зажал. Петя свое мочало за пазухой прячет. Хороший ветерок дует. Ровный. Высоко в небо дружные ребята змей запустили. Весело он мочальный хвост развевает. Туго нитку натягивает. Красота! Боря, Сема и Петя тоже бы такой змей могли запустить. Даже лучше. Только дружить они еще не научились. Вот в чем беда. Вл. Даль. Терпение и труд всё перетрут. В одном селе жил мужик по имени Иван, а по прозвищу Терпигорев. Недаром досталось ему это прозвище: много он горя вытерпел на своём веку. Был он и смышлёный и работящий, да крепко не везло ему много лет сряду: то его полосу градом побьёт, то на скот падёж придёт, то ливнем всё сено подмоет и 33 в реку унесёт. Бился-бился мужик, работал за троих и чуть только из беды выбился, вдруг новая напасть! В самый Петров день, когда он с семьёю был на сенокосе, разразилась гроза над деревней и молния ударила в его избу. Изба Терпигорева сгорела дотла; осталась от неё только печка с трубою. Прибежал с поля Иван с женою и с ребятишками, посмотрел на своё горе и голову повесил... “Теперь я совсем гол и головы приклонить некуда”, – подумал он. Потужили соседи с Иваном и разошлись по домам, а бедному Ивану пришлось с семьёй в пустой овин перебраться. “Нет, видно, мне ни в чём ни доли, ни удачи не видать, – думал он. – Коли так, то и работать не стоит. Всё равно, работай или не работай, придётся мне с малыми ребятишками по миру ходить!”. В таких думах пролежал Иван до самого рассвета. Чуть только утро забрезжило, видит он над самою своею головою большого паука. У паука вчерашней грозой всю паутину порвало и попутало. И возится паук, работает изо всей мочи, тянет во все стороны свои тонкие прозрачные нити, прядёт и сучит их своими когтистыми лапками, то спускаясь, то вновь поднимаясь вдоль стенки овина. Вот, кажется, и совсем было сеть готова, только бы сесть ему в середине да выжидать залётных гостей — так нет же!.. Дунет ветерок в щель овина – и опять всё сорвал и запутал! И опять терпеливый паук пошёл вверх и вниз спускаться, и опять он пошёл сновать, сучить и прясть свои нити... И опять та же беда! Та же неудача! Залюбовался Иван работой паука, загляделся на неё, словно в первый раз видел. И видел Иван, как паук двенадцать раз обрывался со своей паутиной и двенадцать раз поднимался вновь вязать её и укреплять к потолку и стенам, пока, наконец, устояла паутина против напора ветра, и сам паук забился в своё гнездо на отдых. “Господи, Боже мой! – подумал Иван. – Ведь вот уж какая малая тварь, а какой в неё разум Бог вселил! Каким её терпением Господь наделил! Вот билсябился, двенадцать раз обрывался, а своего добился. Неужто меня паук разуму учить должен? Разве даром люди говорят: терпение и труд всё перетрут!”. И вышел он на другой день со всеми людьми на работу, и трудился что есть силы, всё лето. Дал Господь Бог ему урожай на хлеб, какого никогда ещё не было. Под осень люди помогли ему кое-какую избёнку сколотить. Иван не унывал, работал, не уставал: на зиму на печь не завалился, а вдаль от семьи на заработки ушёл. К весне вернулся Иван, опять хозяйством занялся и не хуже других поживать стал. В.Цветкова. Похлебка (быль). Дед мой не любил рассказывать о войне, а вот, по случаю моей приписки в военкомате, решил все-таки рассказать. «Привезли к нам однажды на позицию полевую кухню, но противник никак не давал ею воспользоваться. Лежим в окопах голодные, а головы поднять нельзя - немцы стреляют. Мой друг Филипп 34 кричит мне: «Не могу больше терпеть, ты как хочешь, а я поползу». Все стали его отговаривать, только он не послушался. Снаряд попал прямо в кухню, и Филипп погиб. Многих ранило... Вот ведь плоть наша какую власть имеет: даже жизнь заставляет променять на похлебку! Надо дух над плотью командиром поставить, внучок, тогда во всем победишь. Только делать это надо постепенно, сразу не получится. Святые сначала тоже были простыми людьми, такими, как мы с тобой. Говорят, один святой в сосуд с узким горлом насыпал сухариков, горсть наберет, а вытащить не может, не проходит рука, два-три сухарика всего вытаскивал. Так он себя укрощал в еде и потом голода не чувствовал». «Дедуль, а зачем это нужно? – спросил я его. – «А затем, что если от плоти отнимешь, от вредных привычек избавишься, то к душе прибавится, душа подлечится, дары духовные в ней откроются и не останется места греху. Будешь как ангел на земле и в Небесном Царстве житель, а если плоти будешь угождать, то станешь стрелы лукавого принимать, то есть если следить за собой не будешь ни в пище, ни в житейских делах, то отяжелеет плоть и все страсти соберет и в конце концов и себя, и душу погубит. Не взлетит обессиленная душа к Небу. Поэтому помощь ей нужна – подкрепить воздержанием плоти. «Дедуль, а в церкви посты тоже для этой цели даны?». «Да, Ваня, ты правильно подметил. В посты особенно необходимо работать над собой, дух подкрепить. И взлетишь тогда к Господу с повинной за первородный грех и скажешь: «Господи, как и Ты, я был искушаем сорок дней и победил свою плоть». Вот и помиримся с Богом, а больше от нас ничего и не требуется. Смотри, внучек, разумно живи, ведь к самостоятельной жизни приступаешь. Отечеству будешь служить, а ему нужны праведные, святые люди». Инна Сапега. Чужая вещь. Валька приходит домой раскрасневшийся, с блестящими глазами. В руках что-то прячет за спиной. - Что там у тебя? – спрашивает мама в синем фартуке в горошек, встречая сына в коридоре. - Ничего… - мнется Валька. - Ничего? - удивляется мама. Маму не проведешь! Валька вздыхает и показывает матери руки. Там, в его маленькой розовой ладошке, лежит и красуется машинка. У неё красные лакированный бока и темные зеркальные стекла. Загляденье! – любуется Валентин. - Откуда у тебя машинка? – спрашивает мать. - Во дворе нашел. – важно заявляет мальчишка. – В песочнице. 35 - В песо-о-о-чнице? – растягивает мама и снова глядит на машинку. – Красивая. Валька тоже смотрит. Машинка кажется ему еще прекраснее. Гоночная, наверное, вон у неё какие фары круглые, а нос тупой – чтобы она не ехала, а летела! Сейчас как разгонюсь у себя в комнате, мечтает Валька. Мать же продолжает: - Но ведь она чужая…Её, возможно, потерял какой-нибудь маленький мальчик. Машинка поблескивает в руке. Явно совершенно новая модель. Неужели чужая? Валька зажимает ладошку и снова прячет руку за спину. Он знает, что чужие вещи брать нельзя. - Во дворе никого кроме меня не было. – быстро говорит он. И авторитетно добавляет: – Я посмотрел, прежде чем взять машинку себе. Нет, нет чужую он бы никогда не взял. Но ведь машинка была ничья! Вальке хочется побыстрее улизнуть в свою комнату. Но мама стоит перед ним и качает головой. - Во дворе-то, может, и не было никого… А ты представь, тот мальчик, который её потерял, пришел сейчас домой, и его родители спрашивают: «Где машинка?» Он поищет её во всех карманах, а потом вспомнит, что оставил её в песочнице. Он прибежит во двор, а его машинки нигде нет. И он будет горько плакать. Валька молчит, крепко сжимая свою находку. Машинка в руке нагрелась от его тепла и стала совсем родной. Молчит и мама. - Ладно, - мама поправляет свой фартук. – Ты уже большой и сам принимаешь решения. Но мне кажется, лучше всего будет, если ты отнесешь машинку обратно в песочницу. - Но её возьмет кто-то другой! – почти кричит Валька, с обидой глядя на свою мать. - Ну и что. Это будет уже не на твоей совести, и тебе и мне будет спокойно. Валька опускает глаза, надувая губы. Эти взрослые никогда ничего не понимают. Мать жмет плечами и идет на кухню. Когда мама уходит, Валька снова раскрывает ладошку и долго смотрит на игрушку. Машинка замечательная. Такой у него никогда не будет… Минут через пять мать на кухне слышит стук входной двери. Она подходит к окну. Сын долго не выходит из подъезда. Наверное, он идет три этажа пешком, думает мать – она волнуется. Ну, вот и Валентин! Что он будет делать? Мальчик останавливается, спустившись с лестницы, и оглядывается вокруг. Во дворе пусто. Мальчик быстро бежит к песочнице, кладет что-то в песок и, не оглядываясь, бежит обратно к подъезду. Мама ждет его в дверях. Валька вбегает в квартиру, кидается к матери и плачет. Мама обнимает сына. У неё самой заплаканное лицо. Они стоят в коридоре, крепко держась друг за друга и вытирая друг другу слезы: мать и сын. И отчего-то им обоим очень хорошо. А чужая красная машинка лежит в песочнице. 36 Лия Ленн. Подарок. - А собаку продайте, пожалуйста. Таня встала на цыпочки и, дотянувшись до прилавка, выложила смятую десятирублевую бумажку. - Какую собаку? Где твоя мама? Лен, тут ребенок потерялся! Люди, чей ребенок? - Вон ту черную. В углу и правда между картонных коробок пригрелся маленький щенок. - Девочка, это продуктовый магазин. Здесь собаки не продаются. Хочешь конфету? Чупа-чупс? Жвачку могу продать. Девочка помотала головой и с мокрой шапки посыпались снежинки. - Собаку хочу. - Да пусть забирает. Все равно же выгоним – Зашептала продавец из мясного, – Бери, девочка, бери. И деньги забирай. Мы тебе ее дарим. - Спасибо. Таня размотала шарф и закутала заскулившего щенка. - А, если мама заругается? - Нет, она у меня очень добрая. Дверь хлопнула и в магазине запахло зимой. - Мой тоже маленьким был, все собаку просил. Где сейчас интересно? Год уже ни слуху, ни духу. Как женился, уехал на север, так и пропал. Пьет поди. Застучал мясной нож. - Эх, попадет ей от мамки. - Да нет у нее никого. Ни отца, ни матери. Соседка это наша Танюшка, с седьмого этажа. С бабушкой живет. Пять лет, а смотри и в магазин сама ходит, и в садик всегда сама. - А я дочку до шестого класса везде провожала. Кстати, обещала ко мне на Новый Год в гости приехать. У нее сейчас новый какой-то. На черном мерседесе. Поскорей бы уж замуж вышла. Внуков хочется…Тоже раньше все щенка выпрашивала… Эх…Надо было ей с собой обрезков колбасных дать для собаки. - Да, подожди. Завтра обратно принесет. Не разрешит ей бабка собаку держать. Это ж помесь с овчаркой. Огромной вырастет. А им самим есть толком нечего. - Надо было яблоко дать. В магазин снова ворвался морозный воздух, и выстроилась очередь. *** - Бабушка, хлеба не было. Смотри, что я тебе принесла. Помнишь, ты сказку рассказывала, о своей детской мечте? Таня размотала шарф и выпустила щенка. - С Днем Рождения, бабулечка. 37 Уродливый Каждый обитатель квартиры, в которой жил и я, знал, насколько Уродливый был уродлив. Местный Кот. Уродливый любил три вещи в этом мире: борьба, поедание отбросов и, скажем так, любовь. Комбинация этих вещей плюс проживание без крыши оставила на теле Уродливого неизгладимые следы. Для начала, он имел только один глаз, а на месте другого зияло отверстие. С той же самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то сломана и срослась под каким-то невероятным углом, благодаря чему создавалось впечатление, что кот все время собирается повернуть за угол. Его хвост давно отсутствовал. Остался только маленький огрызок, который постоянно дергался… Если бы не множество болячек и желтых струпьев, покрывающих голову и даже плечи Уродливого, его можно было бы назвать темно-серым полосатым котом. У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та же реакция: до чего же уродливый кот. Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в него камни. Поливали из шланга, когда он пытался войти в дом, или защемляли его лапу дверью, чтобы он не мог выйти. Уродливый всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если его поливали из шланга — он покорно мок, пока мучителям не надоедала эта забава. Если в него бросали вещи — он терся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он бежал к ним и терся головой о руки и громко мяукал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь все-таки брал его на руки, он тут же начинал сосать уголок рубашки или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться. Однажды Уродливый попытался подружиться с соседскими собаками. В ответ на это он был ужасно искусан. Из своего окна я услышал его крики и тут же бросился на помощь. Когда я добежал до него, Уродливый был почти что мертв. Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги, задняя часть тела совершенно потеряли свою первоначальную форму. Грустная жизнь подходила к концу. След от слезы пересекал его лоб. Пока я нес его домой, он хрипел и задыхался. Я нес его домой и больше всего боялся повредить ему еще больше. А он тем временем пытался сосать мое ухо. Я прижал его к себе. Он коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою сторону, и я услышал мурлыкание. Даже испытывая такую страшную боль, кот просил об одном — о капельке привязанности! Возможно, о капельке сострадания. И в тот момент я думал, что имею дело с самым любящим существом из всех, кого я встречал в жизни. Самым любящим и самым красивым. Никогда он даже не попробует укусить или оцарапать меня, или просто покинуть. Он только смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль. Уродливый умер на моих руках прежде, чем я успел добраться до дома, и я долго сидел, держа его на коленях. Впоследствии я много размышлял о том, как один несчастный калека смог изменить мои представления о том, что такое истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и было на самом 38 деле. Уродливый сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда буду ему благодарен. У него было искалечено тело, а у меня была травмирована душа. Настало и для меня время учиться любить верно и глубоко. Отдавать ближнему своему все без остатка. Большинство хочет быть богаче, успешнее, быть любимыми и красивыми. А я буду всегда стремиться к одному — быть Уродливым… Денис Каменщиков. Телезвезда. Однажды Сережу Кириллова показали по телевизору. Случилось это так. В городе бушевал грипп, и в храмах благословили совершать особые молебны об избавлении от эпидемии этой болезни. В один из дней отец Александр совершал после Литургии такой молебен. Сережа вышел из алтаря с зажженным кадилом и увидел, что в храме работают тележурналисты с большой черной камерой на высокой треноге и мохнатым микрофоном. Сначала взяли интервью у батюшки, потом у Сережи. (Мальчику казалось, что он сказал чтото чрезвычайно умное.) Вечером передачу показали по телевизору. Кирилловы в полном составе застыли у экрана. Сережа в стихаре на фоне иконостаса казался очень серьезным. *** На следующий день мальчик, как обычно, отправился в школу. Ребята давно знали, что он прислуживает в храме, и в основном относились к этому нормально, без насмешек. Но в тот день Сережа вошел в класс и всем своим существом почувствовал враждебную атмосферу. — Смотрите-ка, поп-звезда пришел! — громко сказал Костя Ромашов. Класс дружно разразился хохотом. — Не поп-звезда, а Сережа Попович! — пошутил кто-то еще. Класс заливался смехом. Сережа, густо покраснев, прошел на свое место, но, едва сев, тут же вскочил, пронзенный болью. На стуле лежала кнопка. Последовала новая волна хохота. Наконец вошла учительница, и начались занятия. Очень скоро Сережа обнаружил, что весь класс настроен против него. Мальчик не узнавал своих одноклассников, их будто подменили. Бывшие приятели превратились в каких-то злобных существ. И дружок Коля, как нарочно, заболел и не ходил в школу. Таким образом, Сережа оказался один против всего класса. Поразмыслив, он понял, в чем дело. Одноклассник Костя Ромашов давным-давно мечтал стать известным актером, занимался в театральном кружке. Именно он, увидев передачу с Сережей, снедаемый завистью, настраивал класс враждебно. Мальчик 39 это понял, но откуда в его одноклассниках взялось столько ненависти — понять не мог. Началась самая настоящая травля. Сережу обзывали, ставили подножки, когда он шел к доске отвечать, рвали тетради и учебники, кидались испачканной мелом тряпкой. Каждый раз, когда мальчик входил в класс, ему казалось, что он входит в клетку с хищниками. *** А эпидемия гриппа тем временем пришла в школу. В параллельном 5«Б» заболела половина учеников. Поговаривали, что школу могут закрыть на карантин. Во время одного из таких разговоров, на перемене, Костя Ромашов вдруг сказал: — Просто надо помолиться и окропить наш класс святой водой. Тогда никакого гриппа не будет. Мне наша поп-звезда не даст соврать. Вытащили из шкафа половое ведро, набрали из-под крана воды. Ромашов нашел грязный веник и, макая его в ведро, пошел по классу, обрызгивая, как бы кропилом, стены. Сережа кинулся отнимать веник. — Отдай, дурак, Бог накажет! — кричал он, борясь с Ромашовым. — А я в Него не верю! — кричал в ответ Костя.— А если Он есть, пусть меня, как тебя, по телеку покажут. Вот тогда, может, поверю. Наконец Сережа вырвал веник и, не удержавшись на ногах, упал на пол. Его окатили из ведра водой. Мальчик встал, вышел из кабинета и, давясь слезами, побрел домой. На улице было холодно. Сережа специально не стал надевать куртку, шел мокрый. Ему хотелось заболеть и поскорей умереть или, по крайней мере, не ходить в школу хотя бы неделю, а лучше — не ходить вообще никогда. — Господи, зачем все это? — с досадой размышлял он.— Ведь я не хотел, чтобы меня показывали по телевизору. Ромашов хочет, сделай так, чтобы показали его, а меня бы, наконец, оставили в покое. Придя домой, он лег, уткнулся лицом в подушку и так пролежал весь вечер. В храме шла служба, нужно было идти помогать в алтаре, но сил встать не было. Мальчик очень надеялся, что завтра заболеет и можно будет не ходить в школу. Проснувшись утром, Сережа, к своему великому сожалению, почувствовал, что совершенно здоров. Не ходить в школу без причины он все же не мог. Поэтому, прочитав утренние молитвы, он вышел из дома. *** У двери в класс мальчик остановился, собрался с духом и, мелко перекрестившись, чтобы никто не заметил, шагнул в кабинет. В классе почему-то никого не было. Сережа сел на свое место. Прозвенел звонок. Пришла Наталия Николаевна и, оглядев поверх больших черных очков пустые парты, спросила: — Кириллов, а где все? Сережа пожал плечами. Наталия Николаевна сходила в учительскую и, вернувшись, сказала: — Все заболели, кроме тебя, Кириллов. Ты что, какой-то особенный? — Нет,— ответил Сережа.— Я просто чеснок ем, поэтому меня микробы боятся. 40 Школу закрыли на карантин на две недели. Когда снова началась учеба, оказалось, что все выздоровели, кроме Ромашова. Поговаривали, что у него после гриппа какое-то серьезное осложнение. Сережу, наконец, оставили в покое. *** Однажды вечером мальчик смотрел телевизор. Шел сюжет о разыгравшейся в городе эпидемии гриппа. Вдруг на экране появилось знакомое лицо. В больничной палате, на койке, сидел бледный от болезни Костя Ромашов и что-то говорил в камеру. Сережа запомнил номер больницы и на следующий день, купив фруктов, отправился навестить Ромашова. В больнице пахло карболкой. По коридору с огромной скоростью пронесся человек в белом халате. Шаркая тапочками, бесцельно бродили больные. Когда Сережа вошел в палату, Костя сильно удивился и даже напугался. Потом они разговорились. — А ведь ко мне из нашего класса только ты один и приехал,— задумчиво сказал Костя.— Нас теперь двоих любить не будут, ведь мы с тобой оба — телезвезды. — Ага,— кивнул Сережа,— голливудского масштаба. Уже почти выйдя из палаты, Сережа оглянулся. Костя, бледный, сидел на кровати, чистил принесенный Сережей апельсин и виновато улыбался. Денис Каменщиков. Иллюзионист. В жизни иногда случается, что откуда ни возьмись возникают неприятности. Заболела мама, у папы на работе начались проблемы; вдобавок ко всему Сережа за одну неделю схлопотал в школе сразу несколько двоек. И если оценки мальчик быстро исправил, то с проблемами родителей он ничего не мог поделать. Как бы усиленно он ни молился, маме не становилось лучше, а папа однажды после ужина сказал, что нужно искать другую работу. Вскоре на кухне в старой хрустальной вазе перестали появляться фрукты, а деньги на лекарства маме пришлось занимать у знакомых. *** В очередное воскресенье Сережа, как обычно, отправился в храм на Литургию. Впереди показались купола родной церкви. Не доходя сотни шагов мальчик вдруг остановился. Идти в храм не было никакого желания. «Зачем,— подумал он,— если Бог все равно не слышит или не хочет нам помочь?» Домой возвращаться тоже не хотелось, и Сережа отправился бесцельно бродить по улицам. Утренний город оживал, погружался в суету. На рынке начиналась торговля. У входа в подземный переход мальчишка с огненно-рыжими волосами ловко жонглировал четырьмя яблоками. У его ног лежала клетчатая кепкавосьмиклинка, в которой виднелись несколько мелких купюр. Сережа остановился, заинтересованный мастерством жонглера. Яблоки то подлетали высоко-высоко над головой, то крутились у самого носа. Неожиданно 41 рыжеволосый резко оттопырил руками боковые карманы куртки, и яблоки какимто чудесным образом опустились точно в них, по два в каждый. Сережа охнул от восхищения. — Понравилось? — спросил мальчик. — Угу,— кивнул Сережа. — Это еще что. Вот сегодня в цирке выступает величайший магиллюзионист всех времен и народов, и я буду не я, если не попаду на его представление,— сказал рыжеволосый. И, протянув руку, добавил: — Артем меня зовут, жизненное кредо — волшебник-самоучка. Сережа, представившись, пожал протянутую руку. В руке Артема оказалось яблоко, которое он ловко передал при рукопожатии своему новому знакомому. — В цирк со мной пойдешь? — спросил он. — Ну, можно… — ответил Сережа. — Тогда деньги нужно на билеты достать. Я вот насобирал малость. У тебя есть? Сережа, пошарив в карманах, нашел немного денег. Все равно на билеты не хватало. — Не грусти! — бодро сказал Артем.— Со мной не пропадешь! Едем в цирк, по пути заработаем.— Сережины деньги он положил к себе в кепку вдобавок к своим и одел кепку на голову. У ларька Роспечати Артем, к величайшему удивлению Сережи, купил на всю сумму толстую пачку газет. С веселым перестуком подкатил трамвай. Мальчишки запрыгнули внутрь. Как только двери затворились, Артем встал на середине вагона и громко сказал: — Сенсация! Сенсация! Читайте в свежем номере газеты! Коммунальный террор остановит прокурор! Через три дня Землю атакуют инопланетяне!.. Когда объявили остановку «Цирк», от пачки газет почти ничего не осталось. Убедившись, что теперь денег на билеты хватает, Артем выкинул оставшиеся газеты в урну, и мальчишки направились к кассам цирка. *** На афише красовалась надпись: «Величайший маг-иллюзионист всех времен и народов. Спешите увидеть!» Рядом с надписью был изображен темноглазый худощавый господин с длинными вьющимися волосами цвета воронова крыла. Купив билеты, мальчишки прошли в заполненный зал. Вскоре началось представление. Маг-иллюзио¬нист был одет в черный фрак и черный же плащ с малиновым подбоем. Он летал по залу, взмывая под самый купол, угадывал имена людей, раскрывал прошлое и предсказывал будущее. Мальчишки вышли после представления ошарашенные увиденным. — Я разгадаю его секрет,— шептал Артем.— Я тоже буду величайшим магом-иллюзионистом… *** На следующий день после уроков Сережа вышел из школы. Артем ждал его неподалеку. — Я все придумал,— возбужденно начал он.— Я изобрел такой фокус, который сделает меня знаменитым. Ты со мной? — Честно говоря, я не очень-то хочу быть знаменитым,— ответил Сережа. 42 — Вот и отлично! Беру тебя ассистентом. Они отправились к подземному переходу, где вчера познакомились. Артем нашел большой кусок картона и, достав из кармана маркер, крупными буквами написал: «Быстрый способ расбагатеть. Искуство привращения денег». А внизу, совсем мелко, приписал: «Деньги, утратившиеся в результате фокуса, вазврату не подлижат». Установив на полу картонку, Артем весомо заявил: — Приготовься, нас ждет богатство и немеркнущая слава. Сережа пожал плечами. Слава ему была ни к чему, а вот несколько поправить материальное положение семьи, может, и правда не мешало бы. Вскоре около них остановился тучный мужчина и начал внимательно вчитываться в надпись. — Это как это, превращение денег? — наконец спросил он. — Давайте десять рублей, и я все покажу,— оживился Артем. Мужчина достал из кармана десятку и протянул Артему. Тот сложил купюру в небольшой квадрат, затем начал медленно разворачивать и — о чудо! — вместо десяти рублей в его руках оказалась сотня. Тучный мужчина нервно улыбнулся. — Ну-ка, а сотню превратить во что-нибудь сможешь? — сказал он. — Извольте,— ответил Артем и, свернув сотню в мелкий квадрат, развернул уже пятисотенную купюру. Мужчина побледнел, в его глазах появился нехороший блеск. Он полез за пазуху и, достав новенькую розоватую пятитысячную, протянул ее Артему. — Превращай! — выдохнул он. Артем свернул купюру и, подождав, начал медленно разворачивать. Но в его руках появилась старая засаленная десятка. — Э… Где мои деньги? — прохрипел тучный господин. Артем взял в руки картонку и, указывая на мелкую надпись, прочитал вслух: «Деньги, утратившиеся в результате фокуса, возврату не подлежат». Мужчина начал багроветь от гнева. — Да я вас, мошенников, в спецприемник сдам! — взревел он. — Этого я не предусмотрел,— прошептал Артем и, повернувшись к Сереже, крикнул: — Бежим! Артем затерялся в толпе. Сережу схватили за шиворот так крепко, что любое сопротивление было бесполезно. Обманутый мужчина нашел у него в школьной сумке тетради, переписал фамилию и номер школы. — Завтра здесь же, в это же время вернешь мне мои пять тысяч,— сказал он,— иначе вся школа узнает, какой ты мошенник. Сережа чернее тучи побрел домой. Где взять эти несчастные пять тысяч? Как сказать родителям? И не говорить нельзя. Если мама узнает от кого-нибудь из школы, что ее сын мошенник, у нее сразу инфаркт случится. Дома мальчик за¬крылся в своей комнате и долго думал. Рассказать все родителям он не решился. Оставалось только молиться. А там будь что будет. *** Занятия в школе закончились. Наступало время идти и как-то объясняться с обманутым человеком. «Господи, что делать?» — думал Сережа. Мальчик вышел 43 со школьного двора и побрел по направлению к подземному переходу. Посмотрев себе под ноги, он вдруг увидел на земле нечто розовое. Наклонившись, мальчик поднял небольшой бумажный квадрат — это была аккуратно сложенная, как во время вчерашнего фокуса, пятитысячная! *** Мама быстро шла на поправку. Папа устроился на новую работу, и на кухне в старой хрустальной вазе опять появились фрукты. Однажды зимой в городе проходил конкурс на лучший детский спектакль. Сережа с ребятами из храма показывали рождественскую инсценировку. Среди выступающих из других школ мальчик вдруг увидел высокого рыжеволосого клоуна. Это был Артем. После спектакля Сережа подошел к приятелю. Артем испугался и густо покраснел. — А я ведь тогда приходил к школе,— сказал он,— хотел с тобой пойти отдать деньги. Да по дороге где-то их потерял. Мне стало страшно, и я не стал тебя дожидаться. Так я сделался предателем… — Все в порядке,— улыбнулся Сережа.— Ты потерял, а я нашел. Все еще мечтаешь стать величайшим магом-иллюзионистом? — Нет, я решил стать клоуном. После школы буду поступать в цирковое училище. Говорят, у меня есть талант… Е. Опочин. Сиротка. После целого ряда дождливых дней наконец выдался ясный, светлый денек. Легкий морозец посеребрил побуревшую траву и покрыл тонким льдом лужи, к великой радости деревенской детворы. Дружно высыпали ребятишки на берег быстрой Урмы. Кто пробовал ногой лед, кто собирал ракушки. Свежие детские голоса так и звенели в чистом морозном воздухе; никто не обращал внимания на холод. Руки озябнут — сейчас пальцы в рот, и можно терпеть; озябнут ноги — бегать начнут, глядишь и отогреются. — Глянь-ка, какой зипун на Мишутке! — указала подруге повязанная большим байковым платком девчонка. — Ему что! Богатей, — отозвалась та, потряхивая длинными рукавами материнской кацавейки, — Глянь-ка, Пашка-дура идет... Сюды идет, к нам! На спускающейся, к реке тропке показалась худенькая девочка лет тринадцати. Истрепанное ситцевое платье и изорванная, вся в заплатах кофта мало защищали ее от холода. На ногах, обмотанных веревочными оборами, были обуты лаптишки; из-под ситцевого платка беспорядочно выбивались черные волосы. Девочка спускалась медленно, как травленый зверок, дико озираясь по сторонам. — Пашка-дура! Пашка-овин! — хором запели ребятишки и бросились ей навстречу. Девочка в испуге остановилась. Видно было, как дрожали ее прижатые к груди руки, как вздрагивали бледные губы. 44 — Куда идешь? — подскочил к ней шустрый мальчишка, по прозванию Сенька Чечуенок, — В Карелино, — тихо ответила девочка, указывая на: видневшуюся за рекой деревушку. — Тетка Мария примываться звала. — Ребята, не пускать ее через лавы! — крикнул мальчишка в новом зипуне, — Пусть плывет через реку. — Не пустим! Не пустим! — подхватили остальные ребятишки и бросились к перекинутым через Урму лавам. Чтобы иметь возможность сообщаться с деревнями, лежащими за рекой, крестьяне устроили в нескольких местах реки козлы, через которые перекинули три толстые доски. Это и были так называемые лавы. Переправа через них была далеко не безопасна, но русский человек ко всему привыкает, и приречные жители чуть не бегом переправлялись по зтому самодельному “мосту”. Сбежав с берега, мальчишки вошли на лавы и стали ждать Пашку. Бойкий Мишутка весело прыгал на качавшихся досках и дразнил языком подошедшую Пашку. — Сунься-ка, сунься! Попробуй! — кричал он. — Живо в Урме будешь. Знать, забыла, как вечор тебя мамка за волосья таскала? Погоди, еще попадет! — За что твоя мать ее била? — послышались голоса. Мишутка принял важный вид, засунул руки в карманы и не спеша стал рассказывать, как вчера они с матерью вдруг заслышали, что у них в сенях кто-то возится. — Тяти дома не было, — повествовал Мишутка. — Мамка испугалась; думала, вор забрался. А делать нечего, взяла ночничок и пошла в сени. Глядь, а за кадкой Пащка-дура сидит. — Украсть хотела: У-у, воровка! Подкидыш! — закричали мальчишки. Темные глаза Пашки гневно сверкнули. — Не воровка я! Вот, как перед Богом! — крикнула она и перекрестилась. — А зачем же схоронилась? — Озябла, ночь была... Холодно, Знала, что в избу не пустят... — Знамо, в нашей деревне никто не пустит, — заявил Чечуенок. — Нам подкидышей не надо! Проваливай дальше! — Где ж ты ночевала? — тихо спросила Пашку одна из девочек. Пашка вскинула на нее глаза. Прочла ли она сострадание во взгляде девочки, или ее тронул ласковый голосок, только две светлые, как кристалл, слезинки выкатились из-под ее длинных ресниц. — В стогах, — тихо ответила она и сделала два шага к лавам. — Прочь! Куда лезешь? Сказано, не пущать! Плыви, коли охота! — кричал Мишутка — Пустите Христа ради! — взмолилась Пашка. — Холодно, в поле ночевать страшно-о-о... —Сейчас пустите! Не то худо будет, — вступились девочки.— Боимся мы вас, как же! — крикнул Мишутка и стал пятиться, загораживая им дорогу. 45 Вдруг он оступился и стремглав полетел в реку. Раздался всплеск, и Мишутка скрылся под водой. С криком и воплями дети помчались в деревню, только одна Пашка осталась на берегу. Вдруг она быстро сбросила кацавейку и кинулась в реку, где мелькнула русая голова Миши. Девочка изо всех сил работала руками и наконец настигла утопавшего. Она ловко сгребла его за волосы и потащила. . Когда сбежались люди, Мишутка был спасен. С причитаньями, со слезами кинулась к бесчувственному ребенку мать. — Качать его надо! — сказал кто-то из мужиков. — Пошто? Клади на брюхо, ничком. Кто-то легонько похлопал его по шее, и, действительно, вода полилась изо рта и носа. Через несколько минут Мишутка вздохнул. Обрадованная мать заголосила, дюжий мужик поднял мальчика, и процессия тронулась к деревне. На берегу осталась только измокшая, дрожащая от холода Пашка. О ней все забыли; теперь ей никто не мешал переправляться через лавы. Девочка и попробовала было перейти, но вернулась: от только что перенесенного волнения у нее кружилась голова и дрожали ноги. С большим трудом поднялась она на берег и, скорчившись, присела на помосте житницы. Смертельный холод охватил все тело девочки, — она чувствовала, что умирает... Вдруг послышались голоса, и кучка баб во главе с теткой Мариной бросились к ней. Девочка устало подняла на них глаза, видимо, плохо сознавая, зачем она здесь. — Встань, Пашка! Пойдем в избу! Ишь ты, застыла, сердешная! — с трудом подымая девочку с помоста, говорила тетка Марина. — Спасибо тебеза Мишутку. Кабы не ты — не видать бы ему света белого. Пашку привели в избу, переодели в сухое платье и уложили на печи. Приятная теплота охватила назябшееся тело девочки, и она стала забываться. Она не слышала слов горячей благодарности вернувшегося Сидора, не видала виноватых взглядов, какие кидал на нее Мишутка, не замечала забот тетки Марины, еще вчера отколотившей ее и выгнавшей, несмотря на темную ночь, на улицу; ничего не замечала бедная Пашка. Злой недуг, долго стороживший ее, настиг и захватил в свои цепкие лапы. Всю ночь прометалась девочка в жару. Образы былого, пережитого окружили ее со всех сторош.. То ей грезилась давно позабытая мать, трехлетним ребенком подкинувшая ее в овин, отчего ребятишки и дразнили ее “Пашка-овин”, то бабка Акулина, призревшая ее, то толпа злых мальчишек, издевавшихся над ее сиротством и беспомощностью. Точно затравленный зверок, пряталась она от деревенской детворы, ни в ком не встречая ласки. “Подкидыш, Пашка-овин, Пашка-дура, пошла прочь!” — слышала она со всех сторон. И привыкла девочка дальше уходить от людей, хорониться от них в лесу или в поле, в густой траве. Там она отдыхала душой, там плакала от незаслуженных обид. Темному лесу, быстрой речке, ветру буйному поверяла она свое горе; у них искала она утешения. 46 Пока была жива бабка Акулина, Пашка еще жила с грехом пополам, а как умерла старушка, и никто не захотел ее взять, пошла девочка мыкать горе по белу свету. Где день, где ночь; где сжалятся и на недельку оставят, накормят и кое-чем прикрыть тело дадут. Так и жила Пашка из года в год, и вот сравнялось ей тринадцать лет. Прекрасные глаза девочки от постоянной травли приобрели дикое выражение, и народ, падкий на разные прозвища, окрестил ее “Пашкойдурой”. И пошла с этим именем девочка скитаться по деревням. Любовь к свободе овладела всем ее существом; она нигде не могла прожить долго. Поживет день, два, отдохнет,- на третий выйдет на улицу, оглянется на все четыре стороны и пойдет туда, где ей приглянется. — Ну, навязала я себе обузу на шею, — ворчала тетка Марина. — Вторую неделю валяется, тоже за ней ходить надо... — Молчи! — грозно прикрикнул на жену Сидор. — Креста на тебе нету... Из-за кого она, голубушка, мается? Из-за нашего парнишки! Себя не пожалела, вытащила его. Э-э-х, сердца-то у тебя, знать, нет; ведь сиротинка она! Сидор осторожно подходил к полатям, где лежала Пашка, и ласково звал ее, но девочка ничего не слышала. Ее исстрадавшееся тело было еще здесь, а душа летала далеко... — Болезная ты моя! — приговаривал Сидор, стараясь смягчить свой грубый голос. — Худо тебе? В ответ ему слышался , сухой кашель и стоны Пашки. Мишутка словно переродился со времени своего падения в реку. Несмотря на все упращивания товарищей выйти погулять, он целые дни сидел дома. О чем думал Мальчик, никто не знал, только мать не раз подмечала, как он украдкой вытирал слезы. — Слышь, жена! — обратился однажды к Марине Сидор. — Надо бы за батюшкой съездить, — не выжить Пашутке... Мишутка вскрикнул и, закрыв лицо руками, выбежал из избы. — Ишь, и ему жалко, — а ты ровно статуй каменный... Марина отвернулась. Слова мужа задели ее. Вспомнила она, как таскала за волосы Пашутку, как выгнала ее... В эту минуту девочка жалобно простонала, словно умоляя о помощи. Какаято теплая волна охватила суровое сердце Марины, она кинулась к полатям, припала лицом к исхудалым рукам Пашки и зарыдала. — Так-то ладней будет, — проговорил Сидор и вышел. Немного времени спустя он уже уехал на погост за старым батюшкой, отцом Иваном. Тем временем Марина с помощью баб обрядила девочку во все чистое. Бабы, в ожидании священника, перешептывались и с удивлением глядели на больную. Лицо девочки вдруг словно преобразилось: дикое выражение ее глаз сменилось каким-то мягким, светлым... Приехал батюшка и, выслав всех из избы, стал напутствовать больную. Когда все вернулись в избу, он торопливо отер платком глаза и уехал. В ночь Пашки не стало. Никто не видал, как она ушла от этого мира... 47 Точно родную дочь оплакивали ее Сидор с Мариной, а Мишутка плакал навзрыд. Сколотил Сидор из чистых сосновых досок домовище, бабы обрядили девочку, и на другой день печальная процессия потянулась к погосту. За гробом, который мужики несли на руках, шла вся деревня от мала до велика. Отпели Пашку, и мужики только взялись за гроб, чтобы нести его на кладбище, как вышел отец Иван и проникающим в душу голосом произнес: — Братия! Нет больше той любви, кто за други своя положит душу свою... И стал разбирать отец Иван всю жизнь умершей. И открылись у всех глаза, ужаснулись люди, что могли быть так злы; громкие рыдания огласили церковь. Громче всех рыдал Мишутка. С какой бы радостью он вернул Пашку, как любил бы он ее, — никому бы не дал в обиду! — Братья, — говорил отец Иван, — эта девочка, так много терпевшая в жизни, исполнила величайшую заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Последуем и мы ее примеру! Возлюбим друг друга! Он умолк, а в церкви долго еще раздавались рыдания. С плачем понесли сосновый гробик на кладбище, с плачем опустили его в землю. Быстро вырос свежий песчаный холмик... Вольный ветер с полей, быть может, снесет с годами песок с могилы бедной Пашки и сравняет ее с землей, но в сердцах людей еще долго будет жить о ней память... Там подвиг ее короткой жизни оставил глубокий след. Валентина Осеева. Бабка. Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. В старой вязаной кофте, с подоткнутой за пояс юбкой расхаживала она по комнатам, неожиданно появляясь перед глазами как большая тень. — Всю квартиру собой заполонила!.. — ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему: — Старый человек... Куда же ей деться? — Зажилась на свете... — вздыхал отец. — В инвалидном доме ей место вот где! Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего человека. *** Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: — Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку... Подходила к Борьке: 48 — Вставай, батюшка мой, в школу пора! — Зачем? — сонным голосом спрашивал Борька. — В школу зачем? Темный человек глух и нем — вот зачем! Борька прятал голову под одеяло: — Иди ты, бабка... — Я-то пойду, да мне не к спеху, а вот тебе к спеху. — Мама! — кричал Борька. — Чего она тут гудит над ухом, как шмель? — Боря, вставай! — стучал в стенку отец. — А вы, мать, отойдите от него, не надоедайте с утра. Но бабка не уходила. Она натягивала на Борьку чулки, фуфайку. Грузным телом колыхалась перед его кроватью, мягко шлепала туфлями по комнатам, гремела тазом и все что-то приговаривала. В сенях отец шаркал веником. — А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них! Бабка торопилась к нему на помощь. - Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила. Отец хлопал дверью. За ним торопливо выбегал Борька. На лестнице бабка совала ему в сумку яблоко или конфету, а в карман чистый носовой платок. — Да ну тебя! — отмахивался Борька. — Раньше не могла дать! Опоздаю вот... Потом уходила на работу мать. Она оставляла бабке продукты и уговаривала ее не тратить лишнего: — Поэкономней, мама. Петя и так сердится: у него ведь четыре рта на шее. — Чей род — того и рот, — вздыхала бабка. — Да я не о вас говорю! — смягчалась дочь. — Вообще расходы большие... Поаккуратнее, мама, с жирами. Боре пожирней, Пете пожирней... Потом сыпались на бабку другие наставления. Бабка принимала их молча, без возражений. Когда дочь уходила, она начинала хозяйничать. Чистила, мыла, варила, потом вынимала из сундука спицы и вязала. Спицы двигались в бабкиных пальцах то быстро, то медленно — по ходу ее мыслей. Иногда совсем останавливались, падали на колени, и бабка качала головой: — Так-то, голубчики мои... Не просто, не просто жить на свете! Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стул сумку с книгами и кричал: — Бабка, поесть! Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. 49 Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: — Все хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает. Иногда Борька жаловался на родителей: — Обещал отец портфель. Все пятиклассники с портфелями ходят! Бабка обещала поговорить с матерью и выговаривала Борьке портфель. Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: — Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка? — Ела, ела, — кивала головой бабка. — Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава. Потом вдруг, глядя на Борьку выцветшими глазами, долго жевала она беззубым ртом какие-то слова. Щеки ее покрывались рябью, и голос понижался до шепота: — Вырастешь, Борюшка, не бросай мать, заботься о матери. Старое что малое. В старину говаривали: трудней всего три вещи в жизни — богу молиться, долги платить да родителей кормить. Так-то, Борюшка, голубчик! — Я мать не брошу. Это в старину, может, такие люди были, а я не такой! — Вот и хорошо, Борюшка! Будешь поить-кормить да подавать с ласкою? А уж бабка твоя на это с того света радоваться будет. - Ладно. Только мертвой не приходи, — говорил Борька. После Обеда, если Борька оставался дома, бабка подавала ему газету и, присаживаясь рядом, просила: — Почитай что-нибудь из газеты, Борюшка: кто живет, а кто мается на белом свете. — "Почитай"! — ворчал Борька. — Сама не маленькая! — Да что ж, коли не умею я. Борька засовывал руки в карманы и становился похожим на отца. — Ленишься! Сколько я тебя учил? Давай тетрадку! Бабка доставала из сундука тетрадку, карандаш, очки. — Да зачем тебе очки? Все равно ты буквы не знаешь. — Все как-то явственней в них, Борюшка. Начинался урок. Бабка старательно выводила буквы: "ш" и "т" не давались ей никак. — Опять лишнюю палку приставила! — сердился Борька. — Ох! — пугалась бабка. — Не сосчитаю никак. — Хорошо, ты при Советской власти живешь, а то в царское время знаешь как тебя драли бы за это? Мое почтение! — Верно, верно, Борюшка. Бог — судья, солдат — свидетель. Жаловаться было некому. Со двора доносился визг ребят. — Давай пальто, бабка, скорей, некогда мне! 50 Бабка опять оставалась одна. Поправив на носу очки, она осторожно развертывала газету, подходила к окну и долго, мучительно вглядывалась в черные строки. Буквы, как жучки, то расползались перед глазами, то, натыкаясь друг на дружку, сбивались в кучу. Неожиданно выпрыгивала откуда-то знакомая трудная буква. Бабка поспешно зажимала ее толстым пальцем и торопилась к столу. — Три палки... три палки... — радовалась она. *** Досаждали бабке забавы внука. То летали по комнате белые, как голуби, вырезанные из бумаги самолеты. Описав под потолком круг, они застревали в масленке, падали на бабкину голову. То являлся Борька с новой игрой — в "чеканочку". Завязав в тряпочку пятак, он бешено прыгал по комнате, подбрасывая его ногой. При этом, охваченный азартом игры, он натыкался на все окружающие предметы. А бабка бегала за ним и растерянно повторяла: — Батюшки, батюшки... Да что же это за игра такая? Да ведь ты все в доме переколотишь! — Бабка, не мешай! — задыхался Борька. — Да ногами-то зачем, голубчик? Руками-то безопасней ведь. — Отстань, бабка! Что ты понимаешь? Ногами надо. *** Пришел к Борьке товарищ. Товарищ сказал: — Здравствуйте, бабушка! Борька весело подтолкнул его локтем: — Идем, идем! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция. Бабка одернула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: — Обидеть — что ударить, приласкать — надо слова искать. А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: — А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная. — Как это — главная? — заинтересовался Борька. — Ну, старенькая... всех вырастила. Ее нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это. — Не взгреет! — нахмурился Борька. — Он сам с ней не здоровается. Товарищ покачал головой. — Чудно! Теперь старых все уважают. Советская власть знаешь как за них заступается! Вот у одних в нашем дворе старичку плохо жилось, так ему теперь они платят. Суд постановил. А стыдно-то как перед всеми, жуть! — Да мы свою бабку не обижаем, — покраснел Борька. — Она у нас... сыта и здрава. Прощаясь с товарищем, Борька задержал его у дверей. — Бабка, — нетерпеливо крикнул он, — иди сюда! 51 — Иду, иду! — заковыляла из кухни бабка. — Вот, — сказал товарищу Борька, — попрощайся с моей бабушкой. После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: — Обижаем мы тебя? А родителям говорил: — Наша бабка лучше всех, а живет хуже всех — никто о ней не заботится. Мать удивлялась, а отец сердился: — Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня — мал еще! И, разволновавшись, набрасывался на бабку: — Вы, что ли, мамаша, ребенка учите? Если недовольны нами, могли бы сами сказать. Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: — Не я учу — жизнь учит. А вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растет! Я свое отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьете, то не вернете. *** Перед праздником возилась бабка до полуночи в кухне. Гладила, чистила, пекла. Утром поздравляла домашних, подавала чистое глаженое белье, дарила носки, шарфы, платочки. Отец, примеряя носки, кряхтел от удовольствия: — Угодили вы мне, мамаша! Очень хорошо, спасибо вам, мамаша! Борька удивлялся: — Когда это ты навязала, бабка? Ведь у тебя глаза старые — еще ослепнешь! Бабка улыбалась морщинистым лицом. Около носа у нее была большая бородавка. Борьку эта бородавка забавляла. — Какой петух тебя клюнул? — смеялся он. — Да вот выросла, что поделаешь! Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами. — Чего это ты такая разрисованная? Старая очень? — спрашивал он. Бабка задумывалась. — По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. — Как же это? Маршрут, что ли? — Какой маршрут? Просто горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала — ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась опять морщины. Мужа на войне убили — много слез было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет. Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни — неужели все лицо такими нитками затянется? 52 — Иди ты, бабка! — ворчал он. — Наговоришь всегда глупостей... *** Когда в доме бывали гости, наряжалась бабка в чистую ситцевую кофту, белую с красными полосками, и чинно сидела за столом. При этом следила она в оба глаза за Борькой, а тот, делая ей гримасы, таскал со стола конфеты. У бабки лицо покрывалось пятнами, но сказать при гостях она не могла. Подавали на стол дочь и зять и делали вид, что мамаша занимает в доме почетное место, чтобы люди плохого не сказали. Зато после ухода гостей бабке доставалось за все: и за почетное место, и за Борькины конфеты. — Я вам, мамаша, не мальчик, чтобы за столом подавать, — сердился Борькин отец. — И если уж сидите, мамаша, сложа руки, то хоть за мальчишкой приглядели бы: ведь все конфеты потаскал! — добавляла мать. — Да что же я с ним сделаю-то, милые мои, когда он при гостях вольным делается? Что спил, что съел — царь коленом не выдавит, — плакалась бабка. В Борьке шевелилось раздражение против родителей, и он думал про себя: "Вот будете старыми, я вам покажу тогда!" *** Была у бабки заветная шкатулка с двумя замками; никто из домашних не интересовался этой шкатулкой. И дочь и зять хорошо знали, что денег у бабки нет. Прятала в ней бабка какие-то вещицы "на смерть". Борьку одолевало любопытство. — Что у тебя там, бабка? — Вот помру — все ваше будет! — сердилась она. — Оставь ты меня в покое, не лезу я к твоим-то вещам! Раз Борька застал бабку спящей в кресле. Он открыл сундук, взял шкатулку и заперся в своей комнате. Бабка проснулась, увидала открытый сундук, охнула и припала к двери. Борька дразнился, гремя замками: — Все равно открою!.. Бабка заплакала, отошла в свой угол, легла на сундук. Тогда Борька испугался, открыл дверь, бросил ей шкатулку и убежал. — Все равно возьму у тебя, мне как раз такая нужна, — дразнился он потом. *** За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у нее стала круглая, ходила она тише и все присаживалась. — В землю врастает, — шутил отец. — Не смейся ты над старым человеком, — обижалась мать. А бабке в кухне говорила: 53 — Что это вы, мама, как черепаха, по комнате двигаетесь? Пошлешь вас за чем-нибудь и назад не дождешься. *** Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу — клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор. Но обедать Борька не стал. Он долго глядел на мертвую бабку и вдруг опрометью бросился из комнаты. Бегал по улицам и боялся вернуться домой. А когда осторожно открыл дверь, отец и мать были уже дома. Бабка, наряженная, как для гостей, — в белой кофте с красными полосками, лежала на столе. Мать плакала, а отец вполголоса утешал ее: — Что же делать? Пожила, и довольно. Мы ее не обижали, терпели и неудобства и расход. *** В комнату набились соседи. Борька стоял у бабки в ногах и с любопытством рассматривал ее. Лицо у бабки было обыкновенное, только бородавка побелела, а морщин стало меньше. Ночью Борьке было страшно: он боялся, что бабка слезет со стола и подойдет к его постели. "Хоть бы унесли ее скорее!" — думал он. На другой день бабку схоронили. Когда шли на кладбище, Борька беспокоился, что уронят гроб, а когда заглянул в глубокую яму, то поспешно спрятался за спину отца. Домой шли медленно. Провожали соседи. Борька забежал вперед, открыл свою дверь и на цыпочках прошел мимо бабкиного кресла. Тяжелый сундук, обитый железом, выпирал на середину комнаты; теплое лоскутное одеяло и подушка были сложены в углу. Борька постоял у окна, поковырял пальцем прошлогоднюю замазку и открыл дверь в кухню. Под умывальником отец, засучив рукава, мыл галоши; вода затекала на подкладку, брызгала на стены. Мать гремела посудой. Борька вышел на лестницу, сел на перила и съехал вниз. Вернувшись со двора, он застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. — Мой еще, — сказала она и низко наклонилась над сундуком. — Мой... На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточки. Отец потрепал его по плечу: — Ну что же, наследник, разбогатеем сейчас! Борька искоса взглянул на него. — Без ключей не открыть, — сказал он и отвернулся. 54 Ключей долго не могли найти: они были спрятаны в кармане бабкиной кофты. Когда отец встряхнул кофту и ключи со звоном упали на пол, у Борьки отчего-то сжалось сердце. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой сверток: в нем были теплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шелка — тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике чтото было написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочел: — "Внуку моему Борюшке". Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: "Внуку моему Борюшке". В букве "ш" было четыре палочки. "Не научилась!" — подумал Борька. И вдруг, как живая, встала перед ним бабка — тихая, виноватая, не выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрел по улице вдоль чужого длинного забора... Домой он пришел поздно вечером; глаза у него распухли от слез, к коленкам пристала свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: "Не придет утром бабка!" Ольга Рожнёва. Как Костик идеал искал. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян не могут назвать тех, кем бы они могли гордиться. Об этом говорят итоги социологического исследования, представленные 11 июня 2013 года на сайте ВЦИОМ. Причём 57% респондентов заявили, что сегодня в России нет людей, которыми можно гордиться или не смогли вспомнить таковых. Итак, «гордиться нам некем и нечем»... Костик пришёл из школы задумчивый. Мама хорошо знала своего сына и сразу спросила: – Что случилось? – Мам, нужно сочинение написать про свой идеал. Я всю дорогу, пока домой шёл, думал про этот самый идеал. Так ничего и не придумал. – Давай у папы спросим, он сегодня пораньше с работы пришёл. Папа тоже задумался: – Ну, раньше мы писали про космонавтов. Или вот про разведчиков. Или про врачей, которые на себе вакцину испытывали, чтобы людей спасти. А кто у вас, нынешних пятиклассников, сейчас герой? 55 – Я даже не знаю, пап… Девочки будут про певцов любимых писать. А мы с Витькой думали, думали… Ну, вот – Человек-паук… Или там – Железный человек… Супермен ещё есть… Папа задумчиво сказал: – Понимаешь, идеал – это образ того человека, которого ты очень-очень уважаешь, на которого хотел бы быть похожим. Да… Вопрос непростой… Мама предложила: – Напиши про нашего дедушку. Папа удивился: – Про отца? Тань, мой отец, конечно, хороший человек, и я его люблю очень, но идеал тут причем? Костик поддержал: – Мама, ты смеёшься над нами, что ли? Деда – он добрый… Но какой же он идеал? Он же самый обычный дедушка. Мама улыбнулась: – Вы просто ненаблюдательны. Вам подавай великие свершения… А ведь можно совершать ежедневные маленькие подвиги, и это иногда бывает ещё труднее. Знаете, что я придумала? Завтра суббота. Ты, Костик, отправишься в гости к бабушке и дедушке, переночуешь, и внимательно понаблюдаешь за всем происходящим. Если ты заметишь и поймёшь, почему я предложила тебе написать сочинение про собственного деда, то станешь мудрее. Папа пожал плечами, а Костик недовольно поморщился: выходные он планировал провести веселее. А у бабушки с дедом – какие развлечения?! Они уже старенькие, больные… Бабушка в инвалидной коляске по дому передвигается… Но мама всегда умела заинтриговать сына, и, ложась спать, он уже представлял себя следопытом, который проведёт настоящее расследование и всё узнает: вдруг дед был в молодости разведчиком? Или ещё кем-нибудь очень важным? Дед с бабушкой жили в соседнем доме. По дороге Костя вспоминал всё, что знал про них. Раньше врачами работали, троих детей вырастили: папу, дядю Колю и дядю Сашу. Бабушка была не просто врачом, а главным врачом и привыкла командовать. А дед был просто врачом. Стоп-стоп… А если дед врачом был совсем не простым, а героическим?! Хирургом?! Костик представил себе операционный стол и деда-хирурга. Идёт война, и смелый хирург делает операцию прямо во время бомбёжки! Свищут пули, взрываются бомбы, а он спасает раненых! Позвонил в дверь, и – с порога: – Деда, а ты каким врачом был – военным хирургом, да?! Дедушка вышел встречать: невысокий, седой, в мягких тапочках со смешными помпончиками. Улыбнулся растерянно. За спиной – бабушка на инвалидной коляске. Голос у бабушки, в отличие от тихого и вроде даже робкого голоса деда, громкий, властный – командирский прямо голос: 56 – Костик, здравствуй, дорогой! С чего это ты взял про военного хирурга-то? Во время войны дед твой ребёнком был. И работал он всю жизнь лор-врачом. Знаешь, такие врачи бывают: «ухо-горло-нос»… Костя прямо с порога расстроился. Ухо-горло-нос… Да, героического мало… Похоже, сочинение ему в эти выходные не написать… Дед притянул его к себе, обнял тихонько. Старенький, слабый… Не герой, нет, не герой… А бабушка продолжала громко командовать: – Костик, я деда в магазин командирую! Ты с ним пойдёшь или со мной останешься? Да, выходные, похоже, обещали стать скучными. Костик вяло ответил: – С дедом пойду… Они пошли в магазин, дедушка достал там бумажку и, читая бабушкин список, складывал продукты в тележку. А Костя бегал и помогал ему. Когда они вернулись домой, бабушка снова скомандовала: – Дед, я забыла про молоко. Сходи ещё раз – за молоком! Костику хотелось проворчать что-нибудь о бабушкиной забывчивости, но дед нисколько не расстроился, а в таком же мирном и благодушном расположении духа отправился снова в магазин. – Деда, часто бабушка тебя так гоняет? – Машенька? Забывает иногда… Для нас старается. Сейчас вот блинов напечёт… Когда они вернулись домой во второй раз, бабушка уже не таким командирским голосом виновато попросила: – Простите меня, масло растительное кончилось… Костик рассердился на бабушку. Посмотрел на деда: он тоже рассердился? Но дед ласково улыбнулся: – Не печалься, Машенька, будет тебе масло! В третий раз Костик с дедом не пошёл: устал. Про деда подумал только: «Вот это терпение!» Костик остался хозяйничать с бабушкой. Баба Маша ловко передвигалась по дому в инвалидной коляске. Пришли на кухню, там было солнечно и уютно, на стенах висели пучки душистых трав, дедушкины лекарственные сборы. Бабушка замесила тесто, поставила чайник. Костик пошёл на балкон за банкой земляничного варенья и чуть не запнулся о верёвку: – Бабушка, это чего у вас тут за верёвки такие? Бабушка засмеялась: – А ты пойди, посмотри! Костик исследовал начало и конец верёвки и понял, что начало её у кровати бабушки в спальне, а конец – в гостиной – у дивана деда. Причём верёвка у деда заканчивалась деревянной колотушкой, привязанной к кастрюле таким образом, что когда за верёвку дёргали, колотушка стучала о кастрюлю. И стучала довольно громко. – Это что за будильник такой? Бабушка улыбнулась: 57 – Да вот дед за меня переживает очень. Вдруг мне ночью плохо станет или пить захочу. А слышит он уже плохо. Вот и придумал, чтобы я его могла позвать в любое время. – А ты его часто будишь? Бабушка вздохнула виновато: – Да раз пять за ночь бужу… Болею я, Костенька… – А он не ругается? – Нет. Твой дед – стойкий оловянный солдатик… Если бы не он… Знаешь, меня тут прихватило так сильно… Скорую вызвали… Температура сорок, подозрение на пневмонию. В больницу на ночь не поехала, думаю, посмотрю, как утром будет. Так дед твой всю ночь не спал – молился за меня. Я проснусь, а он на коленях у икон. И лампадка горит. Забудусь, снова проснусь – он всё молится. – Всю ночь? – Всю. Утром терапевт пришёл, а у меня температуры уже нет. Только слабость осталась. Врач плечами пожал и ушёл. Дед меня травами отпаивал, даже без антибиотиков обошлись… Костик помялся и спросил как бы невзначай: – Бабушка, а дед только за тебя молится? Бабушка улыбнулась, и лицо её просияло. Костик подумал: «Да, бабушка только на вид – строгий командир, а если она так деду улыбается, то понятно, почему он её всю жизнь любит…» А бабушка сказала: – Дед, Костя, молится за нас всех, за твоего папу и маму, за братьев, за детей. За тебя. Я иной раз ворчу на него: «Ты чего это на старости лет? Чудотворцем, что ли, хочешь стать?» А он – только ты ему не говори ничего, а то рассердится на меня – книгу всё читает. Мама твоя ему подарила. Называется «Святоотеческий Патерик». – Я знаю, это как подвизались в пустыне иноки. Или в лесу дремучем… Подвиги совершали… – Вот-вот… Читает он, значит, читает, а потом мне и говорит: «Эх, Машенька, если бы я в молодости это узнал, как бы я стал тоже подвизаться…» Ишь, чего, старый, придумал – подвизаться! Бабушка говорила вроде бы насмешливо, но чувствовалось, что на самом деле она совсем не насмехается. Костя понял это. А бабушка поняла, что он понял. И улыбнулась ему так, как будто они теперь вместе знают тайну. И это было очень приятно… Дед вернулся. Он надел свои смешные тапочки с помпончиками, сел за стол, и бабушка нажарила вкусных блинов, таких тоненьких-тоненьких, кружевных, тающих во рту. И они ели блины с душистым земляничным вареньем и запивали ароматным чаем с листочками смородины. Костя посматривал на деда: мягкий, добрый, седой. А на самом деле – стойкий оловянный солдатик. И Костик думал: как трудно увидеть героическое в обычном! Когда человек терпеливо и кротко встаёт к больному, когда молится всю ночь напролёт, когда сохраняет мир и покой душевный и не сердится, если 58 его близкие совершают ошибки. Как увидеть и рассмотреть это? И если он напишет своё сочинение про деда, то поймут ли его? Не засмеют ли? Ну, что ж, он попробует… Константин Ушинский. Слепая лошадь. Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям. Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче. В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра — так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади. Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки. Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду. Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня? Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев. Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю. Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с 59 ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса. Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени. С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса. Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел. Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор. Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется. Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. 60 Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол. Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади... Леонид Гаркотин. Сережин хлебушек. Каждый вечер, уложив двухлетнего Сережку спать, бабушка доставала из кармана юбки ключ, который всегда был при ней, и направлялась в чулан. Там, притворив входную дверь и задвинув засов, извлекала из только ей известного потайного местечка другой ключ и отпирала большой дубовый ларь, в котором хранились запасы того ценного, без чего нельзя было выжить в трудные и голодные послевоенные годы, а именно: мука, соль, спички, сухари и зерно. Впрочем, и запасами-то это назвать было трудно. Муки оставалось совсем немного: треть мешка ржаной и половина ведра пшеничной. Сухарей тоже было меньше трети мешка. Зерно же бабушка и в расчет не брала: два ведра жита на весенний посев и небольшой мешок пшеницы, хранившийся как неприкосновенный запас на самый крайний случай. Радовал лишь запас соли, еще довоенный: серая, грязноватая окаменевшая глыба, занимавшая больше половины одного из четырех отсеков высокого ларя, из которой при помощи старого топора и добывалась соль. В углу соляного богатства красовался десяток яичек, предназначенный к праздничному столу на Пасху Христову. Их бабушка втайне от внуков собирала от двух куриц, зимой живущих в доме под печкой, а сейчас свободно расхаживающих по двору и на вольных хлебах после зимней бескормицы нагуливающих формы, подобающие настоящим хохлаткам. Повздыхав горько над бесценными богатствами и прикинув, что до нового урожая богатств этих может и не хватить, бабушка бережно насыпала в отдельные баночки муки – немножко пшеничной и побольше ржаной, ставила баночки в плетеную корзинку, добавляла туда же из развешенных под потолком холщовых мешочков сушеную морковку, чернику и малину, запирала ларь, прятала ключ, запирала чулан и возвращалась в дом, где ее уже ждали старшие внуки. Девчонки Нина и Тоня уже успевали приготовить теплую воду и расставить три чистые глиняные кринки – одну большую и две маленькие, а семилетний Вовка, родившийся летом сорок первого и с малых лет привыкший быть мужчиной в доме, приносил ведро с серо-зеленым порошком из заготовленной еще прошлым летом, высушенной и растолченной в ступе травылебеды. 61 Бабушка наливала во все три посудины теплую воду, насыпала в одну из них пшеничную муку, в другую – ржаную, а в самую большую к ржаной муке добавляла порошок из лебеды и расставляла миски перед внуками. Дети усердно и очень умело перемешивали эту массу: получалось тесто. Посолив и добавив дрожжи, бабушка ставила миски на шесток, где тесто до утра бродило и поднималось. Рано утром бабушка топила печь, выкатывала тесто, готовила завтрак, а потом выпекала три хлеба: маленький пшеничный для двухлетнего Сережи, маленький ржаной делила на две части – одну побольше укладывала в туесок на обед сыну в поле, другую на обед невестке, добавляла туда по паре картофелин и по головке лука. Третий же хлеб, с лебедой, тоже резала пополам, одну половину убирала на полицу – широкую деревянную полку, расположенную под самым потолком. Половина эта предназначалась на ужин. Чтобы не искушать старших внуков, на ту же полку убирался и душистый Сережин хлебушек. Оставшуюся половину хлеба бабушка делила между старшими внуками на завтрак и на обед, утром добавляя к хлебу пюре из картошки, иногда с грибами, а днем, в обед, – горячий суп из овощей, приправленный горстью ячменной или овсяной крупчатки. Сама бабушка хлеб не ела, довольствовалась жидким супом и морковным чаем. Дети мигом съедали свои порции, а потом смотрели, как бабушка кормит Сережу, раскрошив часть белого, вкусно пахнущего хлеба в топленое молочко, половину литра которого каждый день брали для Сережи у прижимистой соседки Полинарии, которая перед тем, как отдать банку с молоком, а молоко она давала только вчерашнее, обязательно снимала с него сливки, после чего ставила в тетрадке крестик – вела учет, чтобы осенью, после сбора урожая и расчетов с колхозниками, получить за молоко деньги. Глядя на голодные глаза внуков, на их худые, изможденные фигурки с выпирающими, распухшими от недостатка пищи и витаминов животиками, бабушка тихонько говорила им: – Потерпите, мои милые, вот придет лето, ягоды собирать будем, потом грибы, щавель уже на пригорочках расти начал, полегче будет. А уж как осень-то настанет, получат папа с мамой пшенички за работу, муки намелем белой, пирогов испечем больших да сладких, наедимся досыта. А к зиме, Бог даст, и козочку купим, с молочком своим будем. Коровку-то нам не осилить. Жаль, пала наша Краснуха, не пережила войну. А Сережа-то ведь маленький совсем, нельзя ему хлебушек черный, да с лебедой, кушать, и без молочка нельзя, иначе он заболеет, а как заболеет, так и сами понимаете, что случиться может. Девчонки и Вовка слушали бабушку и все понимали, но все равно очень хотели и молочка тепленького, и хлебушка беленького, да так хотели, что однажды и не удержались. Сережка крепко спал, а бабушка, наказав девочкам строго смотреть за малышом, ушла в лавку за керосином. Вовка, проводив бабушку за калитку, быстро вернулся в дом, залез на стол и достал с полки вкусно пахнущий Сережин 62 хлебушек. У него и в мыслях не было его съесть. Он просто хотел подержать его в руках и понюхать. Вовка с наслаждением вдыхал вкусный аромат свежего хлеба и не смог справиться с желанием своим. Сначала он лизнул хлебушек, а потом и откусил его – совсем немножко. Вбежавшим на кухню сестренкам, оторопевшим от открывшейся картины, тоже досталось по маленькому кусочку вкусного счастья. Завершив блаженство, дети не на шутку перепугались. Вернувшуюся с керосином бабушку они встретили дружным плачем, уверенные, что погубили Сереженьку, теперь он обязательно заболеет, а чем закончится эта болезнь, страшно и представить. Добрая, милая и все понимающая бабушка крепко обняла всех троих, горько плачущих и искренне раскаивающихся в детской своей слабости, прижала к себе и, сдерживая рыдания, целовала их в светлые родные макушки, а потом, справившись с эмоциями, успокоила: – Всякое в жизни бывает. И не раз еще вы сделаете что-то не так. Жизнь гладкой не бывает, она как дорога: идет ровно, а потом раз – и рытвина или поворот крутой. Главное – понять и почувствовать ошибку свою, искренне пожалеть о ней и постараться исправить. А как исправишь, то и сердце обрадуется, и душа облегчится. Вы поняли, что неправильно поступили, и слава Богу! А Сереженьку сегодня картошечкой с молочком покормим. Дети еще крепче прижались к бабушке, и их маленькие сердечки были наполнены огромной любовью, все покрывающей и все поглощающей, той любовью, которую посылает Господь только детям – чистым, светлым и непорочным Своим ангелам. Вечером бабушка молилась дольше обычного. Она не просила ни о чем. Она искренне благодарила Всевышнего за то огромное счастье, которое Он даровал ей. Наталия Сухинина. Серёжки из чистого золота. Марии семь лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. Наверное, потому, что ходить ей просто не под силу. Ноги несут сами, худенькие, ловкие, проворные ножки, они едва задевают землю, по касательной, почти пунктиром, вперед, вперед... Мария черноглаза и остроглаза, буравчикиугольки с любопытством смотрят на Божий мир, радуясь ярким краскам земного бытия и печалясь от красок невыразительных. Мария живет в православной семье, у нее три старшие сестры и ни одной младшей. Домашние любят ее, но не балуют. Мария и сама понимает, баловство до добра не доведет и усвоила с пеленок, что довольствоваться надо малым. Она и довольствовалась, пока не наступил тот незабываемый день. Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгает легко и грациозно, вот сейчас как разбегусь... И встала. Черные глазки-буравчики засветились восторгом. Навстречу Марии шла красавица. Ее пепельные волосы 63 струились по плечам, походка легка и независима, в глазах великодушное снисхождение ко всем человеческим слабостям вместе взятым. А в ушах сережки! Умопомрачение, а не сережки: мерцающие, вздрагивающие на солнце огоньки. Марии даже почудилось, что они звенят. Как весенние капельки: звяк, звяк... Сердце девочки забилось под синей, на синтепоне, курточкой громче, чем это звяк, звяк... Померкло солнце. - Я хочу сережки, - всхлипывала она вечером, уткнувшись в мамины колени, - маленькие, из чистого золота. Но вы мне их никогда не купите... - И заревела, горько размазывая слезы по несчастному лицу. - Ты знаешь, это очень дорогая вещь и нам не под силу. А увидишь на комто норковое манто, тоже захочешь? - вразумляла мама. - Так не годится, мы люди православные, нам роскошество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, пойдешь на работу... - Сто лет пройдет. А я сейчас хочу! Ничего мне не покупайте, ни ботинки на зиму, ни свитер, но купите сережки... В голосе мамы зазвучали стальные нотки: - Прекрати капризы. Ишь моду взяла требовать. Затосковала, запечалилась девочка-попрыгушка. И надо было ей встретиться с красавицей-искусительницей? И вот ведь что интересно: жестокий мамин приговор "никаких сережек ты не получишь" еще больше распалил ее сердечко. Ей хотелось говорить только про сережки. Она вставала перед зеркалом и представляла себя счастливую, улыбающуюся, с сережками в ушах. Дзинь повернулась направо, дзинь - повернулась налево. Решение пришло неожиданно. Она поняла, что ей никогда не разжалобить стойких в жестоком упорстве домашних. Надо идти другим путем. И путь был ею определен. Воскресный день выдался серый, тяжелый, слякотный. Бегом, не оглядываясь, к электричке. Ей в Сергиев Посад. В Лавру. К преподобному Сергию. Огромная очередь в Троицкий собор к раке с мощами Преподобного. Встала в хвосте, маленькая, черноглазая девочка-тростиночка с самыми серьезными намерениями. Она будет просить Преподобного о сережках. Говорят, он великий молитвенник, всех слышит, всех утешает. А она православная, крещеная, мама водит ее в храм, причащает, она даже поститься пробует. Неужели она, православная христианка Мария, не имеет права попросить Преподобного о помощи? Упала на колени пожилая женщина со слезами и отчаянием - помоги! Мария на минуту усомнилась в своем решении. У людей беда, они просят в беде помочь, а я - сережки... У Преподобного и времени не останется на меня, вон народу-то сколько, и все просят о серьезном. Но как только поднялась на ступеньку перед ракой, так и забыла обо всем. Кроме сережек. Подкосила детские коленочки чистая искренняя молитва. Глаза были сухи, но сердце трепетно. На другой день поехала в Лавру опять. Прямо после школы, не заходя домой. Народу было меньше, и она быстро оказалась перед святой ракой. Опять просила упорно и настырно. Третий раз неудача. Марию в Лавре обнаружила подруга старшей сестры. 64 - Ты одна? А дома знают? Ну, конечно же, доложила. А знаете, ваша Маша... Мария получила за самоволие сполна. Она упорно молчала, когда домашние допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец, сердце дрогнуло и она крикнула: - Да сережки я у Преподобного просила! Вы же мне не покупаете. Сережки! Начались долгие педагогические беседы. Мама сказала, что у Преподобного надо просить усердия в учебе, он помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о чем попросить его? Разве у тебя все в порядке с математикой, например? И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила ее, разве до сережек преподобному Сергию, если со всей России едут к нему по поводу зачетов, экзаменов, контрольных? И был вечер, тихий и теплый. Солнечный день успел согреть землю и она отдавала теперь накопленное ласковым сумеркам, вовремя подоспевшим на смену. Мама вошла в дом таинственная, молчаливая и красивая. - Дай руку, - попросила негромко. Маленькая уютная коробочка легла в Мариину ладошку. А в ней... - Сережки... Мама, сережки! Ты купила? Дорогие? Но мне не надо ничего, ботинки на зиму... - Нет, дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий подарил. Ночью, когда потрясенная Мария, бережно запрятав под подушку заветный коробок, спала, притихшие домашние слушали историю... Мама торопилась в сторону электрички, и ее догнала знакомая, жена священника матушка Наталья. Не виделись давно: как и что, как дом, как дети? Ой, и не спрашивай. Дома у нас военная обстановка, Мария такое вытворяет. Увидела у кого-то сережки на улице и - хочу такие, и все. Золотые, не какие-нибудь. И уговаривали, и наказывали, ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в Лавру и молиться у раки преподобного Сергия, чтобы он ей сережки подарил! Знакомая от изумления остановилась. - Сережки? Преподобному молилась? Чудеса... Как-то притихла знакомая, проводила маму до электрички, и когда та уже вошла в тамбур и хотела махнуть ей рукой, вдруг быстро сняла с себя сережки: - Возьми! Это Машке. Дверь закрылась, и растерявшаяся мама осталась стоять в тамбуре с сережками в руках. Корила себя всю дорогу за свой бестактный рассказ. Поехала на следующий день отдавать. А та не берет: это ей не от меня, от преподобного Сергия. Муж Натальи - дьякон одного из подмосковных храмов. Прошло уже много времени, а его все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой приход ехать, жизнь налаживать. И пошла Наталья просить о помощи преподобного Сергия. Тоже, как и Мария, выстояла большую очередь, тоже преклонила колени пред святой ракой. Помоги, угодниче Христов! И вдруг в молитвенном усердии пообещала: - Я тебе сережки свои золотые пожертвую, помоги... 65 Вскоре мужа рукоположили. Стал он настоятелем огромного собора. Пришло время отдавать обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности: куда ей с этими сережками? На раке оставить нельзя, не положено, передать кому-то, но кому? Ходила, ходила, да так и не придумала, как отблагодарить преподобного Сергия золотыми своими сережками. Вышла из Лавры, тут и повстречалась с Марииной мамой. Мария наша в Лавру ездит, чтобы Преподобный ей сережки подарил... Сняла с себя золотые капельки-огоньки. По благословению Преподобного. И нарушить то благословение Наталья не может. Вот только уши у Марии не проколоты. И разрешить носить сережки в школу ее мама опасается. Оно и правда, рискованно. Пока раздумывали, как лучше поступить, позвонил иерей Максим, тот самый, чья матушка Наталья молилась Преподобному и пообещала пожертвовать дорогой подарок: - Слушай, Мария, тут такое дело, - сказал серьезно. - Собор наш надо восстанавливать, работы непочатый край. Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы для работы во славу Божию. И как только фрески восстановим, так сразу и благословляю тебя носить сережки. Согласна? - Как благословите, отец Максим, - смиренно ответила раба Божия Мария. Она очень хочет, чтобы это произошло поскорее. И каждый вечер встает на молитву перед иконой преподобного Сергия, кладет земные поклоны и просит, и надеется, и верит. А собор-то называется Троицкий. И в этом тоже рельефно просматривается чудный Промысл Божий. Преподобный Сергий, служитель Святой Троицы от рождения своего до блаженной кончины. Его молитвами живут и крепнут все монастыри и храмы России. И этот не оставит он без своего духовного окормления, тем более что есть особая молитвенница за этот храм, маленькая девочка с красивым именем Мария. Черноглазая Дюймовочка, которой очень будут к лицу сережки из самого чистого на свете золота. Константин Михайлович Станюкович. Матросик (из цикла «Морские рассказы»). Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» штормовал, как говорят моряки. Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане, 66 вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами, под несколькими штормовыми парусами, с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами. Положение было серьезное. В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, вкатываясь верхушками на палубу, и кидали его, словно щепку, готовые его поглотить, – в такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Эти водяные горы казались неминуемой общей братской могилой. И сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово-спокойны и напряженно-серьезны. К вечеру вторых суток буря несколько затихла, и все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти. Клипер, хорошо построенный, не особенно пострадал во время трепки. В нескольких местах волны проломали борт; офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с боканцев в океан – вот и всего. Несмотря на то, что буря заметно стихала и «Жемчуг» был уже вне опасности, и капитан и старший штурман, видимо, чем-то озабоченные, оба с истомленными, осунувшимися и серьезными лицами, не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи. Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим попутным ветром к югу, но капитан – небольшой сухощавый человек лет под сорок, довольно сурового вида – вместо того приказал на ночь поставить только зарифленные марселя, бизань и фор-стеньги-стаксель и держаться в крутой бейдевинд, чтобы клипер, так сказать, топтался на месте. Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точно места, где находится в данное время «Жемчуг». В течение двух суток урагана солнце ни на минуту не показывалось, и, следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно определиться, как говорят моряки. А между тем ураган мог отнести клипер к берегам Африки, берега же эти были негостеприимны. Много рифов и подводных мелей было около них, и «Жемчуг», избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва ли не худшую. И теперь ночь была темна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки. Среди этой тьмы клипер покачивался на волнах, все еще сердито разбивающихся о бока «Жемчуга», и вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке: – Вперед смотреть! Нередко тоже раздавался его молодой звонкий голос: – На марса-фалах стоять! 67 На эти предупреждающие окрики и часовые на баке и вахтенные матросы, стоящие у марса-фалов, тотчас же отвечали: – Есть, смотрим! Есть, стоим! – Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме! – сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь. И минуту спустя приказал вахтенному офицеру: – Велите разводить пары! – Есть! Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа. Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер. И теперь его жестоко клонило ко сну. Но он простоял еще два часа, пока не были готовы пары, и только тогда решил сойти отдохнуть. Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса: – Береженого и бог бережет, Степан Степаныч! – Совершенно верно-с, Иван Семеныч! – подтвердил старший штурман. – И если, не дай бог, нанесет нас на мель… Старший штурман угрюмо сплюнул и сурово сказал: – Зачем наносить! – Так все же машина поможет. Не так ли, Степан Степаныч? Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, которым он и сам едва ли очень верил. Что, в самом деле, могла сделать машина, да еще не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении! – Конечно-с! – лаконически ответил старший штурман. Но его лицо, слабо освещенное светом, падавшим от компаса, старое, угрюмо-спокойное лицо, густо поросшее седыми баками, по-видимому нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины. И, словно бы желая в свою очередь успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил: – Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но все же в начале урагана мы были в пятидесяти милях от берега и держались в бейдевинд… Вот, бог даст, завтра определимся… А теперь вам выспаться следует, Иван Семеныч! – То-то очень спать хочется… Пойду вздремнуть. И, обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал: – Хорошенько вперед смотреть!.. Как бы берега близко не было… Чуть что заметите, дайте знать! – Есть! – ответил мичман. Капитан ушел и, не раздеваясь, бросился, как был, в кожане поверх сюртука и в фуражке, на диван и мгновенно уснул. II 68 Притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, тихо лясничала. Чей-то громкий и насмешливый голос говорил: – Ну, разве не дурак ты, Матросик?! Как есть дурак! Тот, кого звали Матросиком, тихо засмеялся и простодушно ответил: – Дурак, значит, и есть. – Да как же не дурак! Сидел бы теперь у себя дома, в деревне, а заместо того взял да и за другого на службу пошел… И хоть бы за деньги, а то дарма! Небось, ничего не дали? – Такая причина была, – оправдывался Матросик. – Нечего сказать, причина! Вовсе прост ты, вот и причина! Тот, кого называли Матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил: – Этот самый парень, заместо которого я пошел, братцы, только что поженился и очень приверженный к земле был мужик… Коренной в семье. Без его разор был бы. И так, братцы вы мои, убивались по нем отец с матерью да супруга, значит, евойная, что жалость взяла. Мне, думаю, что? Одинокий сирота, живу в работниках… Ну таким родом и явился я к барину и в ноги: «Дозвольте, мол, в некрута вместо Васьки Захарова!» Барин даже очень был доволен… Вот она, братцы, какая причина! – закончил Матросик. Он проговорил эти слова необыкновенно просто, словно бы и поступок его был самый простой, и он не сознавал, сколько в нем было доброты и самоотвержения. За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на «Жемчуге» все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии – фамилия его была Кушкин, – а Матросиком, вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на «Жемчуг», на вопрос боцмана: «Кто ты такой?», вместо того чтобы ответить: «Матрос второй статьи Илья Кушкин», простодушно ответил: «Матросик». Так с тех пор на клипере его все прозвали Матросиком. И в самом деле, прозвище это подходило к Кушкину. Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двух-трех, с пригожим жизнерадостным добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза, полные какой-то чарующей ласки и привета. Когда Матросик улыбался, широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно белые зубы, то невольно улыбались и те, на кого он смотрел. Вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая. Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно. Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью. Уроженец одной из северных губерний, Илья Кушкин еще с отрочества плавал по бурному Ладожскому озеру и, поступивши в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на «Жемчуг», скоро сделался хорошим и исправным матросом. 69 Когда Матросик окончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил: – Так тебе, Матросик, ничего и не дали за твою простоту? – Предлагали, братцы. Пятичницу давали. – А ты не взял? – То-то не взял. Бедные мужики эти Захаровы… Как с их взять? Однако угощение принимал – страсть угощали, братцы! А молодая баба, Васькина жена, так та мне две рубахи ситцевые справила. «Вовек, – говорит, – не забуду, Илья, что ты моего мужика при мне оставил». Небось, люди добро помнят. С мостика то и дело раздавались окрики вахтенного офицера. То он командовал: «Вперед хорошенько смотреть», то: «На марса-фалах стоять». Эти частые и громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов. – И чего это мичман зря суетится да глотку дерет! – заметил кто-то. – А может, не зря, – промолвил Матросик. – Коли встречных судов боится, все равно не увидишь скоро. Слава богу, хоть штурма прикончилась, а все-таки нехорошая ночь! – раздался чей-то голос. – То-то вахтенный и опасается, что ночь!.. И пары по той же причине… И ходу нам нет! – сказал Матросик. – По какой причине? – А по той самой, братцы, что неизвестно, в какие места нас буря занесла. Вот он и опаску имеет. В море, братцы, завсегда надо опаску иметь. Я хоть и по озеру ходил, а бога приходилось-таки часто вспоминать! – проговорил Матросик. С этими словами он повернул голову к океану и стал зорко всматриваться вперед, в покачивавшийся на волнах клипер. Смотрел Матросик минут пять – десять и вдруг крикнул неестественно громким голосом. – Бурун под носом! – Марса-фалы отдать!.. – тревожно скомандовал вахтенный мичман. Марселя бесшумно упали, и в то же мгновение «Жемчуг» остановился, врезавшись в гряду, и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки. III Капитан мгновенно проснулся и через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх. Клипер било жестоко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что «Жемчуг» засел плотно. Все были в подавленном состоянии. Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера. Кругом кромешная тьма. Прошло бесконечных десять минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее все прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него. И помощи ожидать было не от кого. 70 Однако на всякий случай зарядили орудия, и через каждые пять минут раздавались выстрелы, разносившие по океану весть о бедствии. Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал. Верхняя и нижняя палубы осветились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно-серьезные матросы торопливо вытаскивали рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой. Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды, в которой он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизией. Но ночью, при громадном волнении, спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать рассвета. И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль: «Не исчезнет ли „Жемчуг“ в волнах до рассвета?» Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое «ура» разнеслось по океану, споря с ревом ветра и гулом бурунов. Высокий, казалось, отвесный, берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ним и грядой, на которой бился «Жемчуг», было не более пятидесяти сажен. Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал; волны с грозным ревом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг «Жемчуга». Все поняли, что спасение на шлюпках невозможно. И близкий берег казался недостижимым, а смерть – неминуемою. Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежды, хотя и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли. Но что они могли сделать? Как помочь? IV Рассвело. Утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал. Волны по-прежнему были громадны. «Жемчуг» по временам трещал от ударов, но еще держался на воде. Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей, оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами, всетаки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распоряжался, словно бы надеялся на спасение. И он обошел палубу и говорил, ободряя матросов: – Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберемся до берега. Не робей, молодцы ребята! И «молодцы ребята» как будто верили – так им хотелось верить! – и отвечали: – Рады стараться, вашескобродие! Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру: 71 – Если бы конец подать на берег и на этом конце укрепить канат!.. Это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальет. Ветер не стихает. Барометр падает. – Разве вплавь, Иван Семеныч? – Вплавь? Но кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывет, то разобьется о камни… Весь берег ими усеян… Но, во всяком случае, надо попробовать… Арабы могут перехватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызову охотников. Когда люди выстроились, капитан подошел к фронту и, объяснив, в чем дело, крикнул: – Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи. Никто не шелохнулся. Всякий с ужасом взглядывал на *censored*тые волны, гребешки которых вкатывались на палубу. Только маленький чернявый Матросик вышел из фронта, решительно подошел к капитану и, застенчиво краснея, проговорил: – Я желаю, вашескобродие! – Ты, Матросик? – удивленно воскликнул капитан, невольно оглядывая маленькую, тщедушную на вид фигурку Матросика. – Точно так, вашескобродие. – Куда тебе!.. Ты сейчас же утонешь! – Не извольте беспокоиться, вашескобродие… Я к воде способен. Плаваю, вашескобродие! – И хорошо? – Порядочно, вашескобродие! – скромно ответил Матросик, бывший превосходным пловцом. – Но ты знаешь, чем рискуешь? – Точно так, вашескобродие! – И все-таки желаешь? – Буду стараться, вашескобродие! Как для людей не постараться! – просто прибавил он. – Ты будешь нашим спасителем, если подашь конец… От имени всех спасибо тебе, Матросик! – проговорил взволнованно капитан. Матросик разделся догола, одел пробковый пояс и обвязался концом. Когда все было готово, он низко поклонился всем и дрогнувшим голосом произнес: – Прощайте, братцы! – Прощай, Матросик! Все смотрели на него как на обреченного. Он бросился в волны. V Все бинокли и подзорные трубы были устремлены на бесстрашного пловца. Голова его в виде черной точки то показывалась на гребнях, то исчезала между волнами. 72 – Молодец! Хорошо плывет! – говорил про себя капитан, не отрывая глаз от бинокля. Действительно, Матросик плыл хорошо, подгоняемый попутной волной… Уже близко. Несколько размахов – и он у берега. Арабы ему что-то кричат, указывая вправо от взятого им направления. Но он ничего не понимает, довольный и радостный, что сейчас доплывет, укрепит к берегу конец и люди будут спасены. Но вдруг набежавшая волна с силой бросает Матросика, и он всей грудью ударяется о прибрежный острый камень. Ужасная боль и слабость мгновенно охватывают его. К нему подбегают арабы, и он им указывает на конец уже потускневшими глазами. Смерть Матросика была почти моментальная. VI Арабы вытащили труп Матросика на песок и стали вытягивать конец. Через полчаса за одну из скал, правее, был прикреплен канат, и по этому канату стали переправляться с «Жемчуга» люди. К полудню ветер заметно стих, так что возможно было продолжать переправу при помощи каната на шлюпках. Когда все переправились на пустынный берег, капитан, указывая на труп маленького чернявого Матросика, сказал: – Вот кто пожертвовал собою, чтобы спасти нас, братцы! И, обнажив голову, приложился к покойнику. Все крестились и отдавали последнее целование Матросику. А в это время «Жемчуг» исчезал под волнами. Жест честности. В декабре 2012 года в Наварре проходили важные соревнования по легкой атлетике. На кону был солидный призовой фонд, в забегах участвовали сильнейшие спортсмены мира, в том числе кениец Абель Мутаи, бронзовый призер Олимпийских Игр в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями. В своей коронной дистанции Мутаи уверенно лидировал и на турнире в Наварре. Но примерно за десять метров до конца дистанции кенийский бегун остановился, ошибочно решив, что он уже пересек финишнюю черту. Мутаи остановился и начал хлопать болельщикам, не понимая на испанском подсказок о том, что конец дистанции только через десять метров. Бежавший вторым испанец Иван Фернандес Анайя настиг кенийца и мог бы легко закончить забег на первом месте. Но вместо того, чтобы использовать ошибку соперника, Анайя принялся… толкать кенийца в спину и рукой показывать ему, где находится финишная черта. Испанский бегун упустил верную возможность победить, он фактически привел кенийца к финишу и не обогнал его. 73 Когда после окончания дистанции Ивана Фернандеса Анайю спросили, неужели он не хотел победить, то 24-летний бегун из Витории (чемпион Испании в беге на 5000 метров) ответил следующее: «Нет, я очень хотел выиграть. Но даже если бы на кону было место в составе сборной Испании для поездки на чемпионат Европы, я все равно поступил бы также. Я не заслуживал победы отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Знаете, все мы видим, какие вещи порой происходят в футболе, в обществе, в политике… Люди слишком часто видят неправильные модели поведения. Я рад, что поступил иначе, и сделал этот жест честности». Человек, убравший гору. Индийский крестьянин Дашратх Манджхи принадлежал к низшей касте и жил в бедной деревушке, где не было даже больницы. Прямой путь к цивилизации – соседнему городку – преграждала скалистая гора. Была только дорога в обход, длинная и неудобная. Как–то жена Дашратха, карабкаясь по горе, упала и получила серьезную травму. Помощь вовремя оказать не смогли, и вскоре она умерла. Крестьянин взял лопату, молоток и зубило и пошел прорывать дорогу в горе. Каждый день он уходить долбить, копать, убирать камни (в некоторых источниках говорится, что он работал по вечерам, после работы в поле). Соседи называли его безумцем. Местное правительство, погрязшее в лени и безденежье, пальцем не пошевелило, чтобы помочь. У него ушло двадцать два года – с 1960–го по 1982–й, чтобы практически срыть гору и проделать в ней дорогу. Теперь путь в городок стал занимать всего час пешком. Вся Индия узнала о нем, как о «человеке, убравшем гору». Когда Дашратх умер, правительство штата устроило ему торжественные похороны. Говорят, снимается художественный фильм про его жизнь. Мы – друзья. Неизвестно, куда целились минометчики, но снаряды попали в детский приют в маленькой вьетнамской деревушке, которым заведовала группа 74 миссионеров. Все миссионеры и один или два ребенка были сразу убиты, а еще несколько детей были ранены, в том числе одна восьмилетняя девочка. Деревенские жители запросили медицинскую помощь из соседнего города, в котором была радиосвязь с американскими войсками. Наконец, приехали военный доктор и медсестра с комплектом медицинских инструментов. Они обнаружили, что положение девочки наиболее критическое. Если не принять немедленные меры, она умрет от шока или от потери крови. Для переливания крови им срочно требовался донор с той же группой, что и у девочки. Быстро проведя анализы, врач обнаружил, что ни один из американцев не подходит, однако нужная кровь есть у нескольких сирот, которые не были ранены. Врач говорил на вьетнамском вперемешку с английским, а медсестра немного изучала французский в институте. Изъясняясь на этой смеси языков, а также помогая себе жестами, они попытались объяснить напуганным малышам, что если они не возместят девочке потерю крови, она непременно умрет. Затем они спросили, кто хочет помочь ей и дать свою кровь. В ответ на эту просьбу дети широко открыли глаза и замолчали. Прошло несколько томительных мгновений, пока, наконец, маленькая дрожащая ручка поднялась вверх, быстро опустилась и снова поднялась. - Спасибо, - сказала по-французски медсестра, - как тебя зовут? - Хань, - ответил мальчик. Ханя быстро положили на кушетку, смазали руку спиртом и ввели в вену иглу. Во время этой процедуры Хань лежал, не двигаясь, и молчал. Но через секунду он друг сдавленно всхлипнул, быстро закрыв лицо свободной рукой. - Тебе больно, Хань? - спросил доктор. Хань покачал головой, однако через несколько секунд снова всхлипнул и снова попытался сдержать свой плач. Доктор еще раз спросил, не больно ли ему, но Хань отрицательно покачал головой. Но вскоре редкие всхлипывания превратились в равномерный тихий плач. Мальчик крепко зажмурился и сунул кулак в рот, чтобы сдержать рыдания. Врач забеспокоился. Что-то было не так. В этот момент на помощь подоспела медсестра-вьетнамка. Увидев страдания мальчика, она быстро спросила его о чем-то по-вьетнамски, выслушала его и сказала ему в ответ что-то успокаивающим тоном. В ту же секунду мальчик перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамку. Она кивнула ему, и выражение облегчения появилось на его лице. Подняв глаза, медсестра тихо сказала американцам: "Он думал, что он умирает. Он не понял вас. Он подумал, что вы просили его отдать всю свою кровь, чтобы девочка могла жить". - Но почему же тогда он согласился на это? - спросила американская медсестра. Вьетнамка повторила вопрос мальчику, и он просто сказал: - Мы - друзья.. 75 Эвелина Каравай. Добрый обед. 2011 год. Начало весны. Задорные ручейки бегут по мостовой. Захожу в киоск за пирожками и кофе. Кто-то нерешительно трогает меня за плечо. Оборачиваюсь и вижу худощавого стеснительного, не по погоде одетого мужчину, который просит у меня чтото поесть. Возвращаюсь в киоск и покупаю обед и большой стакан терпкого кофе. На его лице отражается растерянность, смешанная с благодарностью. Мужчина, робея, берет пакет и присаживается на стоящую в парке лавочку. Ест медленно, растягивая удовольствие. Видно, что нескоро рассчитывает подкрепиться вновь. Бродячий пес трется о ноги мужчины и с надеждой заглядывает в глаза. Мужчина, не думая ни минуты, берет оставшийся в кульке пирожок и протягивает бедному животному. Апофеозом становятся высыпанные на мостовую крохи, на которые моментально слетается голубиная стая. Думаю, что надо было купить больше еды или дать денег. Решаю, что всетаки надо помочь деньгами и, возможно, дать телефон, мало ли что с человеком случилось... Оглядываюсь по сторонам, а мужчины и след простыл. Только стая голубей доклевывает остатки крошек. Протоиерей Александр Авдюгин. Красивый Бог. Каждое утро Саша слышал, как бабушка тихо читала молитвы. Слов было не разобрать, только «аминь», да «Господи, помилуй». Бабушка стояла перед темными иконами, раз за разом крестилась и кланялась, а на нее сверху, со старой, источенной насекомыми доски, смотрел Бог. Утром Бог был обычным и спокойным, а к вечеру Он менялся, становился немного страшным и строгим. За этой, самой большой иконой, внизу были еще маленькие, лежали бабушкины документы, а также фронтовые письма деда, которого Саша не помнил, так как родился уже после его смерти. Прятались там и грозные бумажки с печатями, которые бабушка называла непонятным словом «налоги». Днем Саша не раз подбегал к «красному углу» и смотрел вверх на Бога. Узнавал, сердится Он на него или нет. Бог обычно не сердился и никогда не плакал, хотя бабушка не раз ему говорила, что Он плачет над нашими грехами. Что такое грех, Саша уже знал. Это, когда стыдно и хочется, что бы ни кто не увидел. Он даже друзьям рассказал о плачущем Боге, но те его убедили, что Бог 76 за маленькими грехами не следит, только за большими, а большие только у взрослых бывают. Саша согласился, но все же иногда подбегал к иконе, проверял, а вдруг Бог заплакал… Когда уже поспели вишни и Сашу, вместе с его друзьями, каждый день отправляли в сад - «гонять шпаков», что бы птицы вишни не клевали, бабушка сказала: - На Троицу, в воскресенье, в церковь поеду. Куплю новую икону. Батюшка обещал привезти. Будет у нас Боженька красивый и нарядный. Что такое «Троица» Саша не знал, а вот увидеть нарядного Бога ему очень хотелось. В церковь бабушка уезжала рано утром, на мотовозе (была такая раньше дрезина людей перевозящая) и что бы никто внука не напугал, отправила его ночевать к дядьке Сашиному. На ночевку мальчик отправился с удовольствием. У дядьки сын был, брат Сашкин, хоть и двоюродный, но роднее не бывает. Они по-родственному и родились в одном месяце одного года. Дядька разрешил спать на чердаке, на свежескошенном сене. Сено было мягким, пахло чебрецом и полынью. За трубой, отгороженные сеткой ворковали голуби, а в открытую чердачную дверь, в такт свербящим кузнечикам перемигивались далекие звезды. Долго шептались мальчишки о новом красивом Боге и еще о том, что утром они пораньше встанут и пойдут на протоку, к ставку, бубырей ловить. Утром бубыри спокойно плавали в протоке, а потом запрятались под коряги. Рыбаки проспали и первых, и вторых петухов, да спали бы и еще, если бы голуби не подняли страшный шум, обороняясь от залезшего поживиться кота. На рыбалку все же решили идти, но прежде надобно было чего-то поесть. В кухне, на столе, под марлей, дожидались ребят кринка молока и два ломтя свежевыпеченного хлеба. - Сеструха оставила – гордо сообщил брат, и добавил по-хозяйски, - Матери некогда. Она на ферму затемно уходит. По дороге к протоке и пруду, ставку по-местному, заглянули в сад, по паре еще кислых зеленых яблок сорвать, да в бабушкином огороде по огурцу отыскали. Экипировку завершала старая тюлевая занавеска с двумя палками по сторонам, называемая «бреднем». Часа два таскали братья свой невод по камням протоки и вязкому илу ставка, но кроме старой лягушки и такого же по возрасту рака с одной клешней ничего не поймали. Когда сил не осталось, а огурцы с яблоками были съедены Сашка вспомнил об новой иконе с красивым Богом. - Бежим! – закричал Сашка, - Бабушка уже приехала давно! Слышал, как мотовоз стучал? Мальчишки быстро вытряхнули из «бредня» остатки ила с водорослями и помчались к бабушкиной хате. Брату добежать до цели не удалось. Мать окликнула. Она как раз с фермы возвращалась и сына послала в сельпо за солью. В те годы матерей еще слушались беспрекословно, поэтому огорченный брат лишь рукой махнул: - Ты, Саня, беги, а я позже зайду. 77 Дверь в бабушкину хату была уже открыта. - Дома! – обрадовался Саня. Сандалии слетели с ног мальчика и он, не смотря под ноги, ринулся через коридор и горницу в зал, где в углу, на столике под иконами уже стоял красивый и ласковый Бог. Он был в рамке и под стеклом. По углам Его пылали разноцветные блестящие цветы, растущие на удивительно чудных ветвях. Сашка в онемении и восторге замер перед иконой и только через некоторое время услышал сзади причитания бабушки: - Ох, Господи, да как же это! Как же ты не разбился-то? Сашка оглянулся и… ничего не понял. Там, где он только что пробежал, зияла полутораметровая квадратная дыра открытого погреба. Из него выглядывала голова бабушки, которая поднялась на несколько ступенек по подвальной лестнице и с ужасом смотрела на пролетевшего над ней и не разбившегося внука. - Онучек, Санечка, как же ты по пустому-то, прошел? – заплакала бабушка. Сашка стоял у глубокой двухметровой ямы, смотрел в ее черную пустоту и только твердил: - Я к Богу бежал, бежал и не провалился. Прот. Николай Агафонов. Молитва алтарника. В Рождественский сочельник после чтения Царских часов протодиакон сетовал: – Что за наваждение в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет, – никакого праздничного настроения. – Правда твоя, – поддакивал ему настоятель собора, – в космос летают, вот небо и издырявили, вся погода перемешалась. То ли зима, то ли еще чего, не поймешь. Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко вставил предложение: – А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку немножко. Настоятель и протодиакон с недоумением воззрились на всегда тихого и безмолвного Валерия: с чего это он, мол, осмелел? Тот сразу заробел: – Простите, отцы, это я так просто подумал, – и быстро юркнул в “пономарку”. Настоятель повертел ему вслед пальцем у виска. А протодиакон хохотнул: – Ну Валерка чудак, думает, что на небесах, как дом быта: пришел, заказал и получил, что тебе надо. После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился в собор к иконе Божией Матери "Скоропослушница”. С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Протирала ее, чистила подсвечник, 78 стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом. Бабушка внука одного дома не оставляла, идет на службу – и его за собой тащит. Валерка рано лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, избивал частенько свою жену. Бил ее, даже когда была беременна Валеркой. Вот и родился он недоношенный, с явными признаками умственного расстройства. В очередном пьяном угаре Валеркин папа ударил его мать о радиатор головой так сильно, что она отдала Богу душу. Из тюрьмы отец уже не вернулся. Так и остался Валерка на руках у бабушки. Кое-как он окончил восемь классов в спецшколе для умственно отсталых, но главной школой для него были бабушкины молитвы и соборные службы. Бабушка умерла, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Настоятель пожалел его – куда он, такой убогий? – и разрешил жить при храме в сторожке, а чтобы хлеб даром не ел, ввел в алтарь подавать кадило. За тихий и боязливый нрав протодиакон дал ему прозвище Трепетная Лань. Так его и называли, посмеиваясь частенько над наивными чудачествами и беcтолковостью. Правда, что касается богослужения, беcтолковым его назвать было никак нельзя. Что и за чем следует, он знал наизусть лучше некоторых клириков. Протодиакон не раз удивлялся: “Валерка наш – блаженный, в жизни ничего не смыслит, а в уставе прямо дока какой!” Подойдя к иконе “Скоропослушница”, Валерий затеплил свечу и установил ее на подсвечник. Служба уже закончилась, и огромный собор был пуст, только две уборщицы намывали полы к вечерней службе. Валерка, встав на колени перед иконой, опасливо оглянулся на них. Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой: – Нюрка, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник нам воском зальет, а я ведь только его начистила к вечерней службе! Сколько ему ни говори, чтобы между службами не зажигал свечей, он опять за свое! А староста меня ругать будет, что подсвечник нечищеный. Пойду пугану эту Трепетную Лань. – Да оставь ты парня, пущай молится. – А что, он тут один такой? Мы тоже молимся, когда это положено. Вот начнет батюшка службу, и будем молиться, а сейчас не положено, – и она, не выпуская из рук швабру, направилась в сторону коленопреклоненного алтарника. Вторая, преградив ей дорогу, зашептала: – Да не обижай ты парня, он и так Богом обиженный, я сама потом подсвечник почищу. – Ну, как знаешь, – отжимая тряпку, все еще сердито поглядывая в сторону алтарника, пробурчала уборщица. Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перебранке уборщиц, а когда понял, что беда миновала, достал еще две свечи, поставил их рядом с первой, снова встал на колени: – Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки, но когда идет служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не 79 заметить. Тем более они у меня маленькие, по десять копеек. А на большие у меня денег нету и взять-то не знаю где. Тут он неожиданно всхлипнул: – Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом деле у меня еще семьдесят копеек осталось. Мне сегодня протодиакон рубль подарил: “На, – говорит, – тебе, Валерка, рубль, купи себе на Рождество мороженое крем-брюле, разговейся от души”. Я подумал: крем-брюле стоит двадцать восемь копеек, значит, семьдесят две копейки у меня остается и на них я смогу купить Тебе свечи. Валерка наморщил лоб, задумался, подсчитывая про себя что-то. Потом обрадовано сказал: – Тридцать-то копеек я уже истратил, двадцать восемь отложил на мороженое, у меня еще сорок две копейки есть, хочу купить на них четыре свечки и поставить Твоему родившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество. Он, тяжко вздохнув, добавил: – Ты меня прости уж, Пресвятая Богородица. Во время службы около Тебя народу всегда полно, а днем – никого. Я бы всегда с Тобою здесь днем был, да Ты ведь Сама знаешь, в алтаре дел много. И кадило почистить, ковры пропылесосить, и лампадки заправить. Как все переделаю, так сразу к Тебе приду. Он еще раз вздохнул: – С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не знаешь, что им сказать, а с Тобой так хорошо, так хорошо! Да и понимаешь Ты лучше всех. Ну, я пойду. И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в “пономарке” и начищая кадило, Валерий мечтал, как купит себе после службы мороженое, которое очень любил. “Оно вообще-то большое, это мороженое, – размышлял парень, – на две части его поделить, одну съесть после литургии, а другую – после вечерней”. От такой мысли ему стало еще радостнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно встав, направился опять к иконе “Скоропослушница”. Подойдя, он со всей серьезностью сказал: – Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица, отец протодиакон – добрый человек, рубль мне дал, а ведь он на этот рубль сам мог свечей накупить или еще чего-нибудь. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега нет к Рождеству. Дворник Никифор, тот почему-то, наоборот, радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь. Все Тебя о чем-то просят, а мне всегда не о чем просить, просто хочется с Тобой разговаривать. А сегодня хочу попросить за протодиакона, я знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво поет для Тебя “Царице моя Преблагая...” Валерка закрыл глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал: – Да он сам бы пришел к Тебе попросить, но ему некогда. Ты же знаешь, у него семья, дети. А у меня никого нет, кроме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты уж Сама попроси Бога, чтобы Он снежку нам послал. Много нам не надо, так, чтобы к празднику бело стало, как в храме. Я 80 думаю, что Тебе Бог не откажет, ведь Он Твой Сын. Если бы у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Правда, у меня ее нет, все говорят, что я – сирота. Но я-то думаю, что я не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты – Матерь всем людям, так говорил владыка на проповеди. А он всегда верно говорит. Да я и сам об этом догадывался. Вот попроси у меня чего-нибудь, и я для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду такое дорогое мороженое покупать, а куплю дешевенькое, за девять копеек – молочное. Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону, решительно сказал: – Матерь Божия, скажи Своему Сыну, я совсем не буду мороженое покупать, лишь бы снежок пошел. Ну, пожалуйста. Ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду за свечками, а Ты, Пресвятая Богородица, иди к Сыну Своему, попроси снежку нам немного. Валерий встал и пошел к свечному ящику, полный решимости. Однако чем ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошел назад, сжимая во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно заходил около него, делая бессмысленные круги. Дыхание его стало учащенным, на лбу выступила испарина. Увидев его, свечница крикнула: – Валерка, что случилось? – Хочу свечек купить, – остановившись, упавшим голосом сказал он. – Господи, ну так подходи и покупай, а то ходишь, как маятник. Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали кивот со “Скоропослушницей”. Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и осипшим от волнения голосом произнес: – На все, по десять копеек. Когда он получил семь свечей, у него стало легче на душе. ...Перед вечерней Рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки. Детвора вывалила из домов, радостно волоча за собой санки. Протодиакон, солидно вышагивая к службе, улыбался во весь рот, раскланиваясь на ходу с идущими в храм прихожанами. Увидев настоятеля, он закричал: – Давненько, отче, я такого пушистого снега не видел, давненько. Сразу чувствуется приближение праздника. – Снежок – это хорошо, – ответил настоятель, – вот как прикажете синоптикам после этого верить? Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал, заверили, что без осадков. Никому верить нельзя. Валерка, подготовив кадило к службе, успел подойти к иконе: – Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то маленькое, а снегу вон сколько навалило. “В Царствии Божием, наверное, всего много, – подумал, отходя от иконы, Валерка. – Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-брюле? Наверное, есть”, – заключил он свои размышления и радостный пошел в алтарь. 81 Сказки Степана Писахова. Как купчиха постничала. Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто умиленье! Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины есть, и ест и ест блины: и со сметаной, и с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чай-то нельзя, потому — пост. В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постил, тот рыбного не ел. А купчиха постилась из всех сил — она и чаю не пила и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела же сахар особенный — постный, вроде конфет. Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек, да с постным сахаром пять, да с малиновым соком пять чашек, да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, — нет, с соком, и заедала черными сухариками. Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжичков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень пить паточной. Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед весь постныйпостный! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова похлебка. На второе: грузди жарены, брюква печеная, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других разных каш с разным вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом. От маковников отказалась. — Нет, нет, маковников есть не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой в роту не было. После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой попила. А время идет да идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой да с пастилой и паужне черед пришел. Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо! Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела. Ежели неблагочестивому человку, то эдакого поста не выдержать — лопнет. А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками. Трудится — постничат. Вот и ужну подали. Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек — лешшика фунтов на девять. 82 Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лешш, глянула в другой, а там лешш! Глянула к двери — и там лешш! Из-под кровати лешши, кругом лешши! И хвостами помахивают. Со страху купчиха закричала. Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе. Пришел доктор, просмотрел и сказал: — Первой раз вижу, что до белой горячки объелась. Дело-то понятно: доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают. Тургенев Иван Андреевич. Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех. «Какой же это Христос! — подумалось мне. — Такой простой, простой человек! Быть не может!» Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоял со мной рядом. Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хотя и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа. Непридуманные истории с крупицами огромной доброты *** 83 Иду утром домой. На подъезде объявление: «Дорогие соседи! Сегодня примерно в 9.20 у проходной двери были утеряны 120 руб. Если кто нашел, занесите, пожалуйста, в кв. 76 Антонине Петровне. Пенсия 3640 руб.». Я откладываю 120 рублей, поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка в фартуке. Только увидела меня, протягивающего деньги, сразу обниматься, причитать и в слезы счастья. И рассказала: «Пошла за мукой, вернувшись, вынимала ключи у подъезда — деньги-то, наверное, и проронила». НО! Деньги брать отказалась наотрез! Оказалось, за пару часов я уже шестой (!!!) «нашел» бабулины деньги! Люди, я вас люблю за то, что вы такие!!! ***Работаю в кафе быстрого питания. Сегодня утром мужчина подошел к кассе и сказал: «За мной стоит девушка, я ее не знаю. Но я хотел бы заплатить за ее кофе. Передайте ей «Хорошего дня». Эта девушка сильно удивилась сперва… а затем сделала то же самое для следующего за ней в очереди человека. И так 5 раз подряд! *** Я тяжело болела ангиной. Дома была одна, не могла даже встать с кровати и плакала от беспомощности. Моя собака сидела рядом с кроватью и смотрела на меня с беспокойством. Потом ушла и вернулась с огромной вонючей замусоленной костью: она, видимо, у нее была припрятана на черный день. Кьяра положила кость на подушку и подталкивала носом к моему лицу — «Погрызи!». *** Нашла сегодня мобильник покойного мужа. Зарядила. Оказалось, там есть новые сообщения. Дочка шлет и шлет их ему: рассказывает все важные новости и вообще как у нас дела… *** Как-то увидел на улице бабушку, продавала всего 1 единственный комнатный цветок фиалку. Стало ее жалко, заплатил раз в 10 дороже чем она просила. Она со слезами: «побежала я в магазин куплю деду колбасу». Принес цветок домой, на следующее утро он расцвел. *** Давно не было такой грозы, как сегодня. На работе сказали, что кто-то отирается около моей машины. Я бросился на улицу. Все было по-прежнему, кроме люка в крыше: кто-то задвинул его поплотнее, чтобы машина не пострадала в непогоду. *** В магазине ко мне подошла маленькая девочка и попросила: «Возьми меня на ручки». Я так и сделала, подумав, что она потерялась. Малышка просто обняла меня, а потом спрыгнула. Я уставилась на нее, а она объяснила: - Хотела, чтоб ты улыбнулась. 84 Я так и прыснула со смеху. *** Недавно возвращалась из института и возле станции метро «Автозаводская» увидела ветерана войны. Он сидел рядом с планшетом, на котором были медали и ордена… Его награды, который он заслужил на войне. Он продавал их, чтобы купить себе хоть какой-то еды. Я подошла, вытащила все содержимое кошелька и отдала ему со словами: «Возьмите все мои деньги, но не продавайте свою честь и доблесть за гроши людям, которые этого недостойны…» Он расплакался, взял деньги, собрал ордена в ладони и поцеловал их, а потом тихо сквозь слезы произнес: «Спасибо, дочка». В такие моменты мне кажется, что я смогу изменить мир. Они дают мне надежду. Давайте делать друг другу маленькие приятности. От этого не только наши души, но и весь мир станет светлее и добрее. А.И. Куприн. Чудесный доктор (отрывок) В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, простонапросто гнали просителей с крыльца. Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу. - Куда ты? - тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся. 85 - Все равно, сидением ничего не поможешь, - хрипло ответил он. - Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить. Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй - его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. "Вот лечь бы и заснуть, - думал он, - и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке". Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. "Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?" Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил: - Вы позволите здесь присесть? Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом. - Ночка-то какая славная, - заговорил вдруг незнакомец. - Морозно... тихо. Что за прелесть - русская зима! 86 Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. - А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, - продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). - Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо. Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь: - Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!.. Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном: - Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас. В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. - Едемте! - сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. - Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте! Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. - Ну, полно, полно, голубушка, - заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. - Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную. И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор 87 послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какойто своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал: - Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное - не падайте никогда духом. Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад: - Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться! И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: - Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей! Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов... В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: "По рецепту профессора Пирогова". Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова - того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез: - С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор - это когда его перевозили мертвого в его собственное имение 88 Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо. Лесков Н.С. Зверь И звери внимаху святое слово. Житие старца Серафима. ГЛАВА ПЕРВАЯ Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга. Матушка моя тогда была еще очень молода, а я — маленький мальчик. При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, — мне было всего только пять лет. Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа. Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник. Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил, меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы. Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться. ГЛАВА ВТОРАЯ В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть 89 была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барии в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери. ГЛАВА ТРЕТЬЯ Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая. Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие. Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий. Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком. За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка 90 был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем — он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку. Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка». Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки. Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека. Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, — но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». — Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением. Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец. 91 Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжелым кухенрейтёровским штуцером, и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю. Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания. ГЛАВА ПЯТАЯ Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана. Но пришла роковая пора — звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче. Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги. Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь... Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал: — Пойдем, зверь, со мною. Медведь встал и пошел, да еще что было смешно — взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга. Они таки и были друзья. 92 ГЛАВА ШЕСТАЯ Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. — Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью. Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму. ГЛАВА СЕДЬМАЯ В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов. Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал. Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца. — Слава богу, — добавил он, — что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил. ГЛАВА ВОСЬМАЯ Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши. Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года. Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт 93 — известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха. Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети. Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем. Оба мы, то есть я и мой ровесник — двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога. Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь — тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге. Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля. ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Наступил день рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка. Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. — Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху. 94 Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом. У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка. Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля. Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты. Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок. Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем. Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание! Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!» ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле. Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть. Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна. Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице. Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин. Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же 95 должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал в чем дело и ни за что не шел. Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался. Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы. Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою. Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно. Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался... До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть». Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников. Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт. Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю... ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму... Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием. 96 Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной. — Обнимает и лижет Храпошку, — крикнул один из людей, стоявших над ямой. Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились. Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность. Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом наруже веревки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку... Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина. ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Тем Бременем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно 97 вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок. Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в какомнибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочнею и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить. Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому. В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь. 98 Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное. ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт. Меткая пуля все могла кончить смело и верно. Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало. В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки... Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств. Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти. Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены... При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным. Тем не менее — Сганарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение. ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ — завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться. Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты. 99 Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю. Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности. Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости. Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания. — К лучшему это, однако, или нет? — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. — Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал: — Молитесь рожденному Христу. С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого. ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки. Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни. Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия — она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал. 100 Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину. Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы... Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать. Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал! Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою. Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил: — Спасибо. В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта. Тот предстал бледный, с подвязанной рукою. — Стань здесь! — велел ему дядя и показал рукою на ковер. Храпошка подошел и упал на колени. — Встань... поднимись! — сказал дядя. — Я тебя прощаю. Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом: — Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь. — Благодарю и никуда не пойду, — воскликнул Храпошка. — Что? — Никуда не пойду, — повторил Ферапонт. — Чего же ты хочешь? — За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле. 101 Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха. Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу: — У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить. Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт. Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу. Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были — мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя». Примечания ЗВЕРЬ Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том седьмой, СПб., 1889. Впервые напечатано в «Рождественском приложении к «Газете А. Гатцука» 1883 года, с подзаголовком «Рождественский рассказ». Почти без поправок перепечатано в «Святочных рассказах» (1886); и в Собрании сочинений. В рассказе много автобиографического. А. Н. Лесков пишет о тетке писателя Н. П. Алферьевой: «Почти подростком пришлось ей познать сладость супружества с «полупомешанным», старевшим уже, «благодетелем» ее семьи Страховым. Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа «Зверь», конечно, не во всем схож с этим «дядей» автора, но несомненно коечто туг занято и у него: «Он был очень богат, стар и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость». О прекрасном духовном преображении его в горячего доброхота в семейных преданиях слышно не было. Умер таким, каким жил» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 45). Серафим (1760—1832) — монах Саровской пустыни, прославившийся «благочестием» и религиозными беседами с народом. ... «к острову». — Остров (охотн.) — лесок среди поля. Кухенрейтеровский штуцер. — Штуцер (нем. Stutzer) — охотничье нарезное ружье. Кухенрейтеры, Иоганн-Андрей и Кристоф — немецкие мастера-оружейники начала XVIII века (в Регенсбурге). ... «с сошки». — Сошка — подставка с развилкой для ружья при стрельбе с упора. 102 Грифон — порода длинношерстных легавых собак. Первоученка — первая работа ученика. «Больничка» — кольцо, продетое сквозь губу или носовой хрящ зверя. Творило — отверстие, лаз. «Садка» — травля собаками пойманного сначала живьем зверя. ... рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом... — В канун рождества полагалось воздерживаться от пищи до появления в небе первой звезды. ... плавал с Ноем в ковчеге. — По библейскому сказанию, во время всемирного потопа, уничтожившего все живое, праведный Ной остался жив в ковчеге (корабле) со своей семьей и несколькими парами различных животных. Стременный (или правильнее: стремянный) — конюх при верховой лошади. Архалук — азиатское короткое мужское платье. ... с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками»... — Пахва — седельный ремень с кольцом, в которое продевается хвост лошади. Паперсь — конский нагрудник. Пахва не дает седлу скатываться наперед, а паперсь — назад. «Змеиная головка» — вид раковины. Вершник — всадник. ... шведские Штрабусы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты. — Старбус, Петр — стокгольмский оружейник конца XVIII века; Моргенрот, Ганс — нюрнбергский оружейник XVII века; Мортимер, Г. В. — лондонский оружейник конца XVIII века. Колет — возможно, вместо Клет. Клет (Стефан, Ганс и др.) — немецкие оружейники XVI — XVIII веков. Свора — ремень или шнур, на котором водят борзых собак, обычно по две. Орчак — остов седла. Вальтрап — покрышка седла. Доезжачий — старший псарь, распоряжающийся собаками во время охоты. Арапник — охотничий кнут для собак. ... на ворке. — Ворок — скотный двор. Гуменник, или гумно — место, где складывают и молотят сжатый хлеб. ... будылья соломы. — Будыль — срезанный стебель. ... с бронзовым крестом двенадцатого года — то есть данным в награду за участие в Отечественной войне 1812 года. Фуляр — легкая и очень мягкая шелковая ткань. Здесь: фуляровый платок. Вольтеровское кресло — глубокое кресло с высокой спинкой. Филограневые, или филигранные. Филигрань — ювелирное изделие в виде кружева из тонкой крученой золотой, серебряной или иной проволоки. Во время оно — в давнее время. ... поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. — По евангельскому преданию, новорожденному Иисусу Христу пришли поклониться волхвы (мудрецы) с востока, принесшие ему в дар золото, смирну (благовонная смола для курений) и ливан (ладан). 103 Кирильченко Ольга. В поисках тепла. Почти святочный рассказ. Ох, и разыгралась же пурга в тот день! Снег бил в лицо мягкими мокрыми лапами, налипал на одежду, шкодливо лез под воротник, будто издевался над редкими прохожими, нашептывая им в уши: «Ага, голубчики! Вот я вам сейчас устрою потеху!» Впрочем, настроение было отнюдь не потешное. Мело на улице — мело в душе. Погода явно не располагала к пешей прогулке. За какие-то пять минут я успела почувствовать себя настоящей «снежной бабой». Поэтому, когда рядом вдруг остановился троллейбус, не раздумывая запрыгнула в открытые двери. Я не знала, что это за троллейбус и по какому маршруту он едет. Главное — укрыться побыстрей от этого надоедливого, беспощадного снега. На следующей остановке в салон ввалилась очередная порция заснеженных пассажиров и… собака! Дворняжистая и самостоятельная, с добротной рыжей шубкой. Она вела себя спокойно и уверенно, будто точно знала, что ей нужно именно сюда, на троллейбус № 34. — Куда лезешь, дура! Еще запачкаешь! — тут что-то уткнулось мне в ногу. Оказалось, мохнатая пассажирка попыталась прильнуть к сидящей женщине, чем, естественно, и вызвала ее раздражение. Но на грубый оклик не огрызнулась, не осклабилась и, кажется, даже не обиделась. Просто, подобно ребенку, впервые услышавшему ругательство, удивилась и смущенно попятилась. А столкнувшись со мной, даже не обернулась, просто тихонько села рядом. Остальные пассажиры, как это обычно бывает в подобных случаях, молчали, делая вид, будто ничего не произошло. И кондукторша с невидящим взглядом тоже ходила мимо, занимаясь своим делом. Джинсы мои были отнюдь не новые, так что я совсем не возражала против новоявленного соседства собаки. Я даже попыталась приободрить ее, притянув поближе к ноге: «Так нам обеим будет теплее», — пояснила я ей. Вскоре моей ноге действительно стало теплее. Но… и мокрее. Это таял снег, налипший на собаку. Штанина постепенно, но верно тяжелела от талой воды. Каково же придется моей соседке, когда ее выгонят на улицу? Замерзнет ведь! А то еще, чего доброго, вздумает прямо в троллейбусе отряхнуться по-собачьи — тогда уж с ней точно церемониться не станут — вылетит из троллейбуса пулей как миленькая! Я наклонилась и принялась перчаткой стряхивать с ее шубки снег. Так обычно делают мамы, взобравшись в общественный транспорт с малолетним дитем. Наверное, в этот момент на нас был устремлен добрый десяток взглядов. Но какое мне дело? Женщине той я замечания не сделала, хотя и хотелось. Мамы ведь тоже ни на кого не обращают внимания, когда на глазах у всех поправляют своему малышу капюшончик. Все вокруг молчали. И вдруг наступил переломный момент. Кондукторша словно осознала, наконец, что у нее в троллейбусе едет собака: — Собака! Да у нас здесь собака! — восторженно воскликнула она. 104 — Ой, и вправду — собака! — подхватили пассажиры со всех сторон. — Какая умная! — Знает, где погреться, молодец! — Пассажирка! Все радовались появлению собаки, как дети. Остановка. Кондукторша важно расхаживает по салону и нарочитосерьезно, словно экскурсовод, делает для вновь прибывших объявление: — Уважаемые пассажиры! У нас на борту собака! Будьте внимательны: не наступите ей на хвост! Люди сначала растерянно крутят головой по сторонам, а потом видят мою соседку и улыбаются понимающе. — Да она, небось, голодная! — вдруг соображает кондукторша. — Погодика, у меня хлеб есть… И она бросается вперед, к кабине водителя, где у нее, по-видимому, припрятана заначка. — Уважаемые пассажиры! У нас на борту собака! Если у кого есть, дайте ей колбаски! — Мне бы кто дал колбаски! Я б тоже не отказалась! — отозвался пожилой женский голос в конце троллейбуса. Но совсем не так, как обычно бурчат пенсионеры, жалуясь на нелегкую свою жизнь, а весело, по-частушечьи, с озорцой. Кончилось всё тем, что мне… уступили место! Причем та самая женщина, которая еще минуту назад грубо оттолкнула виновницу нынешней всеобщей радости. — Мне всё равно скоро выходить, — кротко пояснила она. — Да и мне тоже!.. Зачем же? — признаться, такого я от нее не ожидала. 105 — Вы ее лучше приласкаете… Вот так я была единогласно делегирована старушками, мужчинами, женщинами… — словом, всеми троллейбусниками — на почетное место для того… чтобы гладить собаку? Воссев на «трон», я немедленно приступила к выполнению вновь возложенных на меня обязанностей и поскорей притянула к себе нашу (теперь уже всеобщую) лохматую любимицу. Обняла ее, зажала между боком и вытянутой рукой, чтоб она поскорей согрелась. Та послушно уткнулась носом в мой локоть. Но тут тепло взяло свое: собаку разморило, она начала засыпать, лапы ее стали непослушно разъезжаться в разные стороны. «Да это она не от тепла! Это она доброту твою почувствовала!» — объясняла мне потом дома бабушка. И действительно! Собака словно бы стремилась выкупаться в той непривычной ласке. Выпить тепло — маленькими глоточками, до дна. Только не обыкновенное, а душевное, человеческое тепло, так редко ей достающееся в ее собачьей жизни… Рядом оказался пацан, похрустывавший чипсами. Поделился одним ломтиком с собакой. Она взяла чипс — деликатно и робко, словно нищенка, 106 которой впервые в жизни дали невиданный ею доселе золотой. Парень улыбнулся и предложил ей весь пакет. Собака понюхала… и зарылась в пакет мордой по самые уши. — Куда же ты? Постой! Его раскрыть надо! — рассмеялась кондукторша, снимая со смущенной псины неожиданный «намордник». Двери открываются. Мне уже выходить? Нет, до метро еще не доехали. Какое счастье! Колесить бы так подольше! Снова остановка. Вот теперь мне точно пора! Но до чего же не хочется выходить! Выскакиваю в последний момент. Вышла вместе с молодой женщиной. Спрашиваю, где переход. Она готова проводить. Болтаем. Совершенно чужие, а общаемся, будто знакомы сто лет. Словно бы то тепло, которым мы согревали собаку, всех нас сделало ближе друг другу. Рисунки Натальи Салиенко Андрей Платонов. Юшка. Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помошником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье - семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженых искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверз блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться - вон и Юшка уж спать пошел. 107 А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: - Вон Юшка идет! Вон Юшка! Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку. - Юшка! - кричали дети. - Ты правда Юшка? Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика: - Юшка, ты правда или нет? Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали - вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опяять толкали Юшку и кидали в него комьяя земли, пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова дразнили бы его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им: - Чего вы, ро'дные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза попали, я не вижу. Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: "Вот ты будешь такой же, как Юшка! - Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!" Взрослые пожилые люди, всретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему: 108 - Да что ты такой блажно'й, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное? Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. - Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно! И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточенье и бал его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой. - Лучше бы ты умер, Юшка, - говорила хозяйская дочь. - Зачем ты живешь? Юшка гляядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. - Это отец-мать меня родли, их воля была, - отвечал Юшка, - мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю. - Другой бы на твое место нашелся, помошник какой! - Меня, Даша народ любит! Даша смеялась. - У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь - народ тебя любит!.. - Он меня без понятия любит, - говорил Юшка. - Сердце в людях бывает слепое. - Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! - произносила Даша. - Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету. - По расчету они на меня серчают, это правда, - соглашался Юшка. Они мне улицей ходить не велят и тело калечат. - Эх ты, Юшка, Юшка! - вздыхала Даша. - А ты ведь, отец говорил, нестарый еще! - Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал... По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и 109 больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга - чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом. По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, - об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его. Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тела и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним: - Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее стало бы без тебя, а то я боюсь соскучиться... И здесь Юшка осерчал в ответ - должно быть, первый раз в жизни. - А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя!.. Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него: - Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный! - Я не равняю, - сказал Юшка, - а по надобности мы все равны... - Ты мне не мудруй! - закричал прохожий. - Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму! Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь. - Отдохни, - сказал прохожий и ушел домой пить чай. 110 Полежав, Юшка повернулсяя вниз лицом и более не пошевелилсяя и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувстовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. - Помер, - вздохнул столяр. - Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!.. Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича? - Какого Ефима Дмитриевича? - удивился кузнец. - У нас такого сроду тут и не было. Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вотвот наполнитьсяя слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался: - Уж не Юшка ли он? Так и есть - по паспорту он писался Дмитричем... - Юшка, - прошептала девушка. - Это правда. Сам себя он называл Юшкой. Кузнец помолчал. - А вы кто ему будете? - Родственница, что ль? - Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, - он говорил, что работал у вас двадцать пять лет... - Половина полвека прошло, состарились вместе, - сказал кузнец. Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его. 111 Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца... С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, он ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью. А. П. Чехов. Тоска. Кому повем печаль мою?.. Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать... Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее. — Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик! Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. — На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую! В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по 112 нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места... — Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи! — Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный. Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. — Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились. Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья. — Что? — спрашивает военный. Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит: — А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер. — Гм!.. Отчего же он умер? Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит: — А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля. — Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами! — Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка! Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой... По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат. — Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный! Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь всё равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький. — Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти... — Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть... 113 — Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?.. — Голова трещит... — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили. — Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина. — Накажи меня бог, правда... — Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. — Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа! — Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, чёрт! Но! Хорошенько ее! Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет: — А у меня на этой неделе... тово... сын помер! — Все помрем... — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет? — А ты его легонечко подбодри... в шею! — Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова? И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника. — Гы-ы... — смеется он. — Веселые господа... дай бог здоровья! — Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный. — Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меля одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну... И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем... Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним. 114 — Милый, который теперь час будет? — спрашивает он. — Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай! Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу. «Ко двору, — думает он. — Ко двору!» И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой... «И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...» В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой. — Пить захотел? — спрашивает Иона. — Стало быть, пить! — Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История! Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов. «Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...» Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кемнибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко... — Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только... Иона молчит некоторое время и продолжает: — Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко? 115 Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина... Иона увлекается и рассказывает ей всё... Я знал, что ты придешь. Мой друг не вернулся с линии фронта. Прошу вас разрешить мне вытащить его оттуда. - Запрещаю, - отрезал офицер, - я не буду рисковать твой жизнью ради того, кого уже, скорее всего, нет в живых. Ослушавшись приказа, солдат все-таки пробрался на передовую, и час спустя, смертельно раненный, притащил на себе труп друга. Офицер был вне себя от ярости. - Я же говорил тебе, что его нет в живых. Теперь я потерял еще и тебя. Ну скажи, разве был смысл рисковать жизнью ради мертвого тела? Умирающий солдат ответил: - Да, был. Когда я добрался до него, он все еще был жив. Увидев меня, он улыбнулся и сказал: «Я знал, что ты придешь за мной». Андрей Платонов. Корова. Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы. Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел. — Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет. У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару. Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, 116 откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди. Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться. Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные. Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени. Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной. Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку. — Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли? Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе. Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью. 117 Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденоносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое. Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет». Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь. Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне. Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не 118 натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь. Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста. — Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вотвот он остановится. — А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину! Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику. — Я буду руками, так легче. Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса. — Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз. Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался. Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!» Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту: — А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!.. — Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала. — Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите. Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос. — И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает. — Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду. — Давай! — обрадованно согласился Вася. 119 Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии. Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу». Машинист дал два длинных гудка — чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато. Вася оглянулся и сошел с пути. — Ты что же? — крикнул ему машинист. — Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору... — Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока. Вася поднял с земли угощенье. — Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как? — Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз. — Зажато! — крикнул он. — Где? — спросил машинист. — У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче! Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой. Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки. Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца. — А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер? — Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок! — Он еще маленький, — произнес Вася. — Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты. 120 Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына. — Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду. — А инструмент? — напомнил Вася. — Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы... И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь. Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека. Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто. И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе. Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо. Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме. К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала. Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала. Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув 121 непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте. Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос. Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсож, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой. Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой... С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней. Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом. И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу. Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти. — Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел. — Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях. — Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит. Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути. — Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь? — Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно. 122 — Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чутьчуть найдется. Я скоро премию получу. — Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда... — Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик. — Здравствуй, — ответил ему Вася. — Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу. — А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты ездишь плохо. — Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился! — Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася. — Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист. — Насилу догадались, — сердито сказал Вася. Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне. На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору. Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец. В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни. Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду». Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете. И.С. Тургенев. Милостыня. 123 Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шёл старый больной человек. Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие; одежда на нём висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Присев на придорожный камень, наклонился вперёд, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривлённые пальцы закапали слёзы на сухую, седую пыль. Он вспоминал... Вспоминал, как был некогда здоров и богат, и как здоровье истратил, а богатство раздал другим: друзьям и недругам. Вот теперь нет куска хлеба, все его покинули, друзья ещё раньше врагов. Неужели ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? Горько было на сердце, и стыдно. А слёзы всё капали, капали, пестря седую пыль. Вдруг, кто-то позвал его по имени. Он поднял усталую голову и увидал перед собою Незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой. - Ты всё своё богатство раздал, - послышался ровный голос. - Ведь ты не жалеешь о том, что добро делал? - Не жалею, - ответил со вздохом старик, - только вот умираю я теперь. - Если бы на свете не было бы нищих, которые к тебе протягивали руку, продолжал незнакомец, - не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней? Старик ничего не ответил и задумался. - Так и ты теперь не гордись, бедняк, - заговорил опять Незнакомец, ступай, протягивай руку, пусть у других добрых людей будет возможность показать на деле, что они добры. Старик встрепенулся, но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий. Старик подошёл к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шёл другой и тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба. И сладким показался ему выпрошенный кусок, и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость. Май, 1878г. А. П. Чехов. Святою ночью Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на 124 водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы. Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько яркокрасных огней... В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой. -- Как, однако, долго нет парома! -- сказал я. -- А пора ему быть, -- ответил мне силуэт. -- Ты тоже дожидаешься парома? -- Нет, я так... -- зевнул мужик, -- люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет. -- Я тебе дам пятачок. -- Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул! Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал: -- Иероним! Иерони-им! Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился. -- Христос воскрес! -- сказал он. Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали. -- Иерони-м! -- послышался глухой протяжный крик. -- С того берега кричат, -- сказал мужик. -- Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним. Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу. -- Скорей! Иероним! -- крикнул мой мужик. -- Барин дожидается! 125 Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке. -- Отчего так долго? -- спросил я, вскакивая на паром. -- Простите Христа ради, -- ответил тихо Иероним. -- Больше никого нет? -- Никого... Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня -- значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась "люминация", которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была всё та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура. -- Как красиво! -- сказал я. -- И сказать нельзя, как красиво! -- вздохнул Иероним. -- Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете? Я сказал, откуда я. -- Так-с... радостный день нынче... -- продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. -- Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть? Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех "продлинновенных", душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил: -- А какие, батюшка, у вас скорби? -- Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай... -- Что ж, это божья воля! -- сказал я, подделываясь под монашеский тон. -Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное. -- Это верно. Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались всё более и более. 126 -- И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, -- прервал молчание Иероним, -- но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется? Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро: -- Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и всё мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу! Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне. -- Ваше благородие, а ум какой светлый! -- сказал он певучим голосом. -Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: "О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!" Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный! -- Какой дар? -- спросил я. Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся. -- У него был дар акафисты писать... -- сказал он. -- Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо! Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением: -- Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история! -- А разве акафисты трудно писать? -- спросил я. -- Большая трудность... -- покрутил головой Иероним. -- Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с "возбранный" или "избранный"... Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: "Ангелов творче и господи сил", в акафисте к пресвятой богородице: "Ангел предстатель с небесе послан бысть", к Николаю Чудотворцу: "Ангела образом, земнаго суща естеством" и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб всё 127 было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: "Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима!" В другом месте того же акафиста сказано: "Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!" Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой. -- Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... -пробормотал он. -- Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! "Светоподательна светильника сущим..." -сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. "Радуйся, крине райскаго прозябения!" -сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто "крине райский", а "крине райскаго прозябения"! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал! -- Да, в таком случае жаль, что он умер, -- сказал я. -- Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем... Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что всё темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями. -- Николай печатал свои акафисты? -- спросил я Иеронима. -- Где ж печатать? -- вздохнул он. -- Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает! -- С предубеждением к ним относятся? -- Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание. -- Для чего же он писал? -- Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать... Иероним оставил канат и подошел ко мне. 128 -- Мы вроде как бы друзья с ним были, -- зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. -- Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я всё равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, всё равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка иди комарик. Лицо у него было нежное, жалостное... Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди. -- Сейчас запоют пасхальный канон... -- сказал Иероним, -- а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает! -- А вы разве не будете в церкви? -- Мне нельзя-с... Перевозить нужно... -- Но разве вас не сменят? -- Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь... -- Вы монах? -- Да-с... то есть я послушник. Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром... Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники! По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной 129 двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали. "Какая беспокойная ночь! -- думал я. -- Как хорошо!" Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут. Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря. Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? "Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... -- пели на клиросе, -- се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя..." Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не "захватывало духа". Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Всё, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге. 130 Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов. Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла. Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане. -- Христос воскрес! Больше никого нет? -- спросил тихий голос. Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный. -- Вас еще не сменили? -- удивился я. -- Меня-с? -- переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. -- Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с. Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. 131 Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути. В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга. А.П. Чехов. Отец семейства. Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьёт своё виши и начинает ходить по всем комнатам. — Желал бы я знать, какая ссскотина ходит здесь и не затворяет дверей? — ворчит он сердито, запахиваясь в халат и громко отплёвываясь.— Убрать эту бумагу! Зачем она здесь валяется? Держим двадцать прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. Кто там звонил? Кого принесло? — Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала,— отвечает жена. — Шляются тут… дармоеды! — Тебя не поймёшь, Степан Степаныч. Сам приглашал её, а теперь бранишься. — Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих женщин, клянусь честью! Не по-нимаю! Как они могут проводить целые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и ждёт только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Неприятно слушать горькие истины? — Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя печень болит. — Да, начинай сцены, начинай… — Ты вчера был за городом? Или играл у кого-нибудь? — А хотя бы и так? Кому какое дело? Разве я обязан отдавать кому-нибудь отчёт? Разве я проигрываю не свои деньги? То, что я сам трачу, и то, что тратится в этом доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне! И так далее, всё в таком роде. Но ни в какое другое время Степан Степаныч не бывает так рассудителен, добродетелен, строг и справедлив, как за обедом, 132 когда около него сидят все его домочадцы. Начинается обыкновенно с супа. Проглотив первую ложку, Жилин вдруг морщится и перестаёт есть. — Чёрт знает что…— бормочет он.— Придётся, должно быть, в трактире обедать. — А что? — тревожится жена.— Разве суп не хорош? — Не знаю, какой нужно иметь свинский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересолен, тряпкой воняет… клопы какие-то вместо лука… Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! — обращается он к гостье-бабушке.— Каждый день даёшь прорву денег на провизию… во всём себе отказываешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, хотят, чтобы я оставил службу и сам пошёл в кухню стряпать. — Суп сегодня хорош…— робко замечает гувернантка. — Да? Вы находите? — говорит Жилин, сердито щурясь на неё.— Впрочем, у всякого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы с вами сильно расходимся во вкусах, Варвара Васильевна. Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я… я возмущаюсь. Да-с! Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом, перестаёт есть и опускает глаза. Лицо его ещё больше бледнеет. — Да-с, вы в восторге, а я возмущаюсь… Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! Разве так сидят воспитанные дети? Сядь хорошенько! Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею, и ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навёртываются слёзы. — Ешь! Держи ложку как следует! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не сметь плакать! Гляди на меня прямо! Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами. — Ааа… ты плакать! Ты виноват, ты же и плачешь? Пошёл, стань в угол, скотина! — Но… пусть он сначала пообедает! — вступается жена. — Без обеда! Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать! Федя, кривя лицо и подёргивая всем телом, сползает со стула и идёт в угол. — Не то ещё тебе будет! — продолжает родитель.— Если никто не желает заняться твоим воспитанием, то, так и быть, начну я… У меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом! Болван! Дело нужно делать! Понимаешь? Дело делать! Отец твой работает, и ты работай! Никто не должен даром есть хлеба! Нужно быть человеком! Че-ло-ве-ком! — Перестань, ради бога! — просит жена по-французски.— Хоть при посторонних не ешь нас… Старуха всё слышит и теперь, благодаря ей, всему городу будет известно… — Я не боюсь посторонних,— отвечает Жилин по-русски.— Анфиса Ивановна видит, что я справедливо говорю. Что ж, по-твоему, я должен быть доволен этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги 133 фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, подлеца этакого, высек? Федя громко взвизгивает и начинает рыдать. — Это, наконец, невыносимо! — говорит его мать, вставая из-за стола и бросая салфетку.— Никогда не даст покойно пообедать! Вот где у меня твой кусок сидит! Она показывает на затылок и, приложив платок к глазам, выходит из столовой. — Оне обиделись…— ворчит Жилин, насильно улыбаясь.— Нежно воспитаны… Так-то, Анфиса Ивановна, не любят нынче слушать правду… Мы же и виноваты! Проходит несколько минут в молчании. Жилин обводит глазами тарелки и, заметив, что к супу ещё никто не прикасался, глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее, полное тревоги лицо гувернантки. — Что же вы не едите, Варвара Васильевна? — спрашивает он.— Обиделись, стало быть? Тэк-с… Не нравится правда. Ну, извините-с, такая у меня натура, не могу лицемерить… Всегда режу правду-матку (вздох). Однако, я замечаю, что присутствие моё неприятно. При мне не могут ни говорить, ни кушать… Что ж? Сказали бы мне, я бы ушёл… Я и уйду. Жилин поднимается и с достоинством идёт к двери. Проходя мимо плачущего Феди, он останавливается. — После всего, что здесь произошло, вы сссвободны! — говорит он Феде, с достоинством закидывая назад голову.— Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, что, искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц. Вместе с тем, раз навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу… Федя взвизгивает и рыдает ещё громче. Жилин с достоинством поворачивает к двери и уходит к себе в спальную. Выспавшись после обеда, Жилин начинает чувствовать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать… Проснувшись на другой день утром, он чувствует себя в отличном настроении и, умываясь, весело посвистывает. Придя в столовую пить кофе, он застаёт там Федю, который при виде отца поднимается и глядит на него растерянно. — Ну, что, молодой человек? — спрашивает весело Жилин, садясь за стол.— Что у вас нового, молодой человек? Живёшь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца. Федя, бледный, с серьёзным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на своё место. 134 Турчанка. Сражение с турками кончилось, и два русских офицера ехали с поля битвы обратно в селение, где стояли… Не проехали они и версты, как сначала один из ехавших перед ними казаков, а потом и другой стали указывать на что-то вдали; затем казаки поворотили лошадей в сторону, остановили их и сошли с них на землю. Офицеры дали шпоры коням и через минуту нагнали казаков. “Что тут у вас?” - спросили они. Казаки расступились, и офицеры увидели, что перед ними в грязи, лицом кверху, лежал убитый турецкий солдат… Прислонясь щекой к щеке убитого, сидела, крепко охватив его руками, крошечная девочка, даже не поднявшая глаз, когда подошли к ней. Казалось, она замерла совсем, ища защиты у него, у мертвого. “Ах ты, сердешная! - заговорил один из казаков. - Ты-то чем провинилась?.. Бедняжка, как дрожит”. И казак провел рукой по ее волосам. Ребенок еще крепче прижался к щеке отца. Один из казаков нашел у себя в кармане грязный кусок сахара. Он разжал руку девочки и положил ей сахар на ладонь. Она бессознательно, не замечая его даже, сжала ладонь опять. “Надо ее с собой взять”, - заговорил наконец один из офицеров. Тогда казак, исполняя приказ, подошел было к девочке и хотел взять ее. Но как ни старался он взять ребенка, это ему не удавалось. Девочка еще крепче и крепче прижималась к отцу, и когда ее хотели оторвать от него, она начинала жалобно всхлипывать, так что у всех невольно падало сердце… Офицеры стояли кругом, соображая, что нельзя же девочку оставить так; наконец один из офицеров сказал: “Нельзя... нельзя оставить… Никак невозможно. Потому что холодно, туман... Возьмем ее отца”. “Убитого?” - удивились другие офицеры… “Да... Но... Так-то она не пойдет... А за отцом пойдет”. Казаки живо добыли лежавшую невдалеке шинель, видимо, оставленную каким-нибудь раненым, чтобы она не мешала ему идти, развернули ее и, приподняв тело турецкого солдата, положили его на шинель. Уцепившись было за труп отца, девочка схватилась за шинель. Казаки пошли, стараясь шагать как можно тише, чтобы девочка могла поспеть за ними. Когда девочка уверилась, что “гяуры” (то есть русские) ничего дурного не делают ее отцу, она позволила положить и себя тоже на шинель, где сейчас же обняла тело отца и по-прежнему прижалась к нему щекой к щеке. “Ишь ты, как любит!” - заметил казак помоложе. Другой старый казак старался отвернуться в сторону. Старому казаку не хотелось, чтобы офицеры заметили, что по его щекам текут слезы… Только через час они добрались до деревни. “Куда же теперь?” - спросили казаки. “Да на перевязочный пункт, разумеется отвечал офицер. - Там доктор и сестра милосердия... Напоят ее, накормят”. Маленькая девочка, дичившаяся мужчин, как только увидела сестру милосердия, сразу оправилась и, держась одной рукой за руку отца, другой схватилась за белый передник сестры милосердия, точно прося ее быть своей 135 покровительницей. Добрая женщина расцеловала малютку и так сумела успокоить ее, что эта девочка пошла к ней на руки. “Ну, а с этим куда? Похоронить, что ли? - спрашивали казаки. - Убитого-то куда?”. “Погоди, погоди! - сказал доктор, осматривавший трупы. - Прежде всего, с чего это вы вообразили, что он убитый?”. “Как же... мы сами его подняли...”. “Ничего это не доказывает. Он только обмер, бедняга. А сердце его работает. Слабо, но работает. Девочка спасла отца”. Дня через три в ближайшем от поля сражения госпитале (больнице) на койке лежал очнувшийся тяжело раненый турецкий солдат, и тут же рядом с ним по-прежнему, щекой к щеке раненого, сидела его маленькая дочка… Она не оставляла отца ни на минуту. Заснет он, она выбежит из лазарета, станет на углу, постоит минут пять, подышит свежим воздухом и снова возвращается к больному. Леонид Гаркотин. Цыганенок Валька и бабушкино Евангелие. Валька Беляев, десятилетний цыганенок, отличался от своих братьев и сестер. Был он бледен, худ, сутуловат, но в фигуре его и в поведении было что-то такое, чего не было в цыганских – да и что там в цыганских, но и в коренных деревенских детях. Все в облике его было не цыганское. И волосы прямые и гладкие, не черные, а темно-русые, всегда аккуратно причесанные, с легким вихорком на макушке. Лишь Валькины глаза, большие, с густыми длинными ресницами, смоляные и бездонные, выдавали в нем цыгана. Они казались омутами, вместившими в себя столько мудрости и житейского опыта, что непонятно было, почему они достались ребенку, а не столетнему старцу. Валька был настоящим аристократом. Даже в старенькой, но всегда чистой и отутюженной одежде выглядел он элегантно и немножко старомодно. Был вежлив и приветлив, в отличие от своего шумного, чумазого и вечно орущего семейства, сразу же посеявшего легкую панику среди тихо и мирно живущего деревенского населения древней, но не дряхлой деревни Злодеево, в которой и поселилась цыганская семья по разрешению председателя сельского совета. Никто не знал, откуда прибыли цыгане, да и не спрашивали, рассудив, что со временем сами расскажут. Пытливый Валькин ум сразу же отметил странное и не очень звучное название деревни, но соседка Елена Прохоровна быстро развеяла сомнения ребенка: – Леса тут были, сынок, непроходимые в давние времена. А какой хороший человек в дремучем лесу поселится? Вот и тут какой-то злодей беглый прижился, обустроился, семью завел, детей целую ораву нарожал, вон как у вас, – жил, состарился да умер, а название к деревне и прилепилось. Привыкли все к нему. А те, кто от него народился, другие деревни вокруг основали, с хорошими названиями. Леново – лентяй, видно, какой-то построил, Лысково – лысый, Борок – уж и не знаю кто. 136 Тут Елена Прохоровна замешкалась, а потом резво рванула в свой огород, узрев на грядке с огурцами шустрого маленького Жорку, младшего Валькиного брата, попутно приговаривая: – И почему вы, окаянные, не поселились в другой деревне с хорошим названием? Валька же, вполне удовлетворенный историческими познаниями соседки, направился к одиноко сидевшему на лавочке дяде Леше-агроному, с намерением расспросить его об опытном хозяйстве, которым тот руководил и о котором всегда с удовольствием рассказывал любознательному цыганенку. В школу Валька пришел вместе с младшим братом и старшей сестрой. Учительница Александра Ивановна, проверив знания новых учеников, определила Вальку в третий класс, а маленького Жору и 14-летнюю Любу – в первый. Известие о том, что цыганка Люба, ростом чуть поменьше учительницы, будет учиться в первом классе, вызвало у малышей дикий восторг – школа была начальная, и таких больших учеников в ней никогда не было. Любу тут же окрестили дылдой и стали над ней потешаться, но невозмутимая и умеющая обращаться с кучей младших братьев и сестер девушка быстро и уверенно навела порядок в расшалившихся школьных рядах, а потом, на радость учителям, порядок этот и поддерживала, училась, правда, неохотно и трудно. Валька же, не в пример сестре и брату, знания просто поглощал, любил отвечать на уроках, неторопливо и размеренно читал стихи и решал на доске задачи и примеры. В перемены сидел в классе и читал книжки, взятые в скудной школьной библиотеке, часто и после уроков оставался в классе почитать, пока Александра Ивановна проверяла классные и домашние работы и готовилась к завтрашним занятиям. И учительнице, и ученику дома готовиться было сложно: все свободное время поглощали домашние дела. Валька не любил шумные игры, предпочитал им чтение книг или беседы со взрослыми. И со сверстниками он особо не дружил, приятельствовал с первоклассником Лёней, и то, наверное, потому, что у Лёни была необыкновенная бабушка, добрейшая, умная и знающая то, чего в школе не знали, а может, и знали, но никогда не рассказывали. Бабушка Мария Ивановна была совсем старенькая, маленькая и худенькая. Годы согнули ее спину, и ходила бабушка, наклонившись вперед, но удивительно, что она помнила все события своей жизни и рассказывала детям о них интересно и с юмором. Помнила, как жили деревни до революции, как настороженно встретили советскую власть, как трудно было во времена коллективизации, помнила военные годы и страшные голодные времена. С особенной грустью и торжественностью рассказывала бабушка о храмах окрестных, о красоте их былой и величии и о том, как плакали люди, когда храмы православные оскверняли. Много историй знала бабушка об Иоанне Кронштадтском. Сестра ее старшая жила в Кронштадте, ходила на службы к батюшке Иоанну и помогала матушке дома по хозяйству. Вспоминала, как сестра, изредка приезжавшая проведать родных, привозила посланные батюшкой Иоанном в подарок детям шоколадки и жестяные красивые коробки с леденцами. Рассказывая о подарках 137 батюшки Иоанна, бабушка преображалась, морщинки разглаживались, глаза излучали свет, а лицо озаряла радостная улыбка. Леденцы и шоколадки съедались детьми, а обертки с красивыми картинками наклеивались на внутреннюю сторону крышки сундука, который потом получила бабушка от родителей своих в приданое, когда выходила замуж, а потом передала в приданое дочке своей. Сундук теперь стоял в комнате, в нем хранилось белье, и дети часто открывали крышку и рассматривали эти картинки от шоколадок, даже и не подозревая о том, что когда-то их держал в руках святой угодник Божий Иоанн Кронштадтский. Валька теперь два раза в день заходил к Лёне, а точнее – к бабушке. Утром бабушка кормила его вместе со своими внуками завтраком и отправляла в школу, а по возвращении из школы сажала обедать, ставя на стол вкусный наваристый суп и кашу с маслом или картошку с мясом, протомившиеся в жаркой русской печи. Потом бабушка собирала посуду, освобождала стол, и Леня с Валькой садились за уроки. Она же приносила свежие газеты, доставала из шкафа лупу и принималась за просмотр статей и новостей. Когда дети заканчивали домашние задания, бабушка делилась с ними новостями и обсуждала прочитанное. Особенно нравились детям сообщения о запуске космических кораблей с фотографиями космонавтов. Бабушка запусков этих боялась и не одобряла, просила Бога о помощи неразумным, дерзнувшим выйти за пределы земные, сокрушалась о них и вопрошала: – Неужели на Земле дел не осталось? Ведь Господь велел украшать и лелеять Землю, а они что делают? Ох, неправильно это. Завершив с новостями, бабушка шла в комнату и приносила то заветное, ради чего Валька мог сидеть и ждать часами, – небольшую книжку в темной матерчатой обложке, на лицевой стороне которой был оттиснут православный крест и церковный орнамент, а по центру крупно написано «НОВЫЙ ЗАВЕТ». На оборотной же стороне обложки, также оформленной, читалась надпись «ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА». Надпись эта Вальку сначала смутила, но бабушка успокоила: – Господь Бог, Валюша, для всех людей Един и за всех Крест Свой принял, и за тебя тоже. А что для русского народа написано, то и для цыганского сгодится, ведь живем мы все вместе и Святое Евангелие для всякого народа дано. Бабушке Валька верил безоговорочно и внимательно слушал, как она читает, стараясь не пропустить ни одного слова, и хоть и непонятно было, но слушать хотелось и понять и разобраться хотелось тоже. Прочитав главу, бабушка откладывала лупу в сторону и начинала, как умела и понимала, объяснять вдумчивому цыганенку смысл и содержание прочитанного. Иногда Валькины вопросы ставили бабушку в тупик, и тогда она просто говорила: – Не по моему уму это, Валюша, не знаю я, как тут тебе ответить. Вот батюшка наш прежний, Василий, всё знал, учился он всему в лавре, да нет его теперь, сгинул где-то, сердешный, увезли его, как церкви порушили. Оставим пока это, подрастать станешь, может, и сам додумаешься или объяснит кто. А сейчас пей чай да беги домой скорей, смеркается уже, да и Лёньку с улицы кликни. 138 Пока Валька пил чай, бабушка неспешно прибирала Евангелие и лупу в шкаф и поджидала с прогулки младшего внука. Почаевничав, Валька вежливо благодарил старушку, одевался и неторопливой походкой отправлялся домой. Дорога до Злодеева была неблизкой, тянулась через два поля, через глубокий овраг мимо речки, и Валька успевал поразмышлять и представить картины, описанные в Евангелии. Его детское воображение рисовало Галилею, но никак не могло соединить несоединимое. Он не мог представить, как Живой Бог ходит по этой самой Галилее среди обыкновенных людей, а потом, зная, что Его замучают в Иерусалиме, все равно приходит туда и принимает мучения, умирает на Кресте, потом воскресает и возносится на небеса. Непонятнее всего было Вальке последнее: как вознесся Иисус Христос. Про космонавтов понятно – у них ракета, а у Него ракеты не было, да и самолетов в те далекие времена не было, это Валька знал точно. И чем больше Валька размышлял, тем больше запутывался и меньше понимал. Он даже Лёню спросил, не знает ли он, как вознесся Иисус Христос без ракеты, на что тот, немного подумав, ответил: – Ангелы Ему помогли. Про ангелов-то ведь бабушка тебе рассказывала. Они большие, сильные и с крыльями. Вот и подхватили Боженьку и унесли на небо, чтобы Его тут снова не стали мучить. Теперь Он у себя дома, за всеми нами смотрит и всех нас любит, а если плохо делаем, то нас исправляет. Так бабушка мне говорит, а она все знает. В Бога верить надо. Я верю. И ты тоже верь, только в школе не рассказывай: дразнить будут, да и бабушке попадет. Валька успокоился, но немножко обиделся на Лёню за то, что сам не додумался до такого простого ответа про помощь ангелов. Он поверил Лёне, но хотел лично убедиться, что это действительно было так, как рассказал ему маленький друг. А убедиться лично можно было лишь одним способом – какимто образом завладеть бабушкиной книгой и прочитать ее самому, и не просто прочитать, а перечитать много раз, обдумывая каждое слово. Попросить книгу у бабушки на время Валька не решился: боялся, что откажет. Он знал, что Евангелие очень старое, осталось ей от ее мамы, и она им очень дорожила. Приближались летние каникулы, а на лето бабушку увозили к старшей дочери в другую деревню. Валька очень переживал, что вместе с бабушкой уедет и заветная книга, а с ней и надежда на ее детальное изучение. Бедой своей он поделился с младшим братом. Жорка в таких случаях никогда долго не раздумывал и не сомневался. Он жил по своему принципу. Если соседка не дает добровольно огурцов, их надо взять, когда она не видит. На следующий день Евангелие лежало под Валькиной подушкой, а сияющий брат весело рассказывал, как оно туда попало. Валька был в ужасе от выходки брата; он и помыслить не смел о том, что Святую Книгу можно просто украсть, а маленький сорванец, увидев, как переживает брат, деловито бросил: – Читай на здоровье. Бабушка сегодня уже уехала, а как прочитаешь, мне скажешь, и я отнесу книгу обратно. Когда осенью она вернется, увидит книгу на месте и подумает, что просто перед отъездом ее не заметила. Вальке было невыносимо стыдно за брата, а еще больше за себя, ведь он и не пытался попросить Евангелие у бабушки, решив, что все равно она его не даст. Он представил бабушку, растерянную и огорченную, осматривающую шкаф и 139 перекладывающую на полках содержимое его, лихорадочно вспоминая, куда же положила она Святое Писание, и, так и не вспомнив, уехавшую с расстроенной и растревоженной душой. Валька машинально взял Евангелие, открыл посередине на главе 20-й от Иоанна и стал медленно читать, удивляясь некоторым старинным буквам, которых в школе не изучали. Дойдя до строки 23-й и прочитав ее, он задумался, перечитал еще раз, вникая в смысл: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». Закрыл книгу, бережно завернул ее в газету и быстро выскочил из дома, чуть не сбив с ног поднимавшегося на крыльцо Жорку. Через час потный и раскрасневшийся Валька сидел перед бабушкой, положив на стол Святое Писание, и просил прощения и за себя, и за непутевого брата, поведав ей историю кражи книги, всю, без утайки, обвиняя в случившемся больше себя, чем брата, осознавая, что сам смутил Жору своей прихотью и подтолкнул к постыдному поступку. Бабушка внимательно слушала Вальку, и глаза ее лучились добротой и радостью. Душа ее наслаждалась и звенела и чувствовала такой же чистый звон души этого маленького цыганского мальчика, понявшего и принявшего учение Христово всем своим маленьким сердцем, вобравшего его во все свое существо и уверовавшего глубокой верой. Осенью цыганская семья собралась переезжать, и Валька пришел попрощаться с бабушкой. Только ей он поведал о своей мечте. Мечтал Валька стать священником. Бабушка благословила мальчишку на добрую дорогу, а потом сходила в комнату, принесла Евангелие и протянула его Вальке: – Возьми его, Валюша, мне ведь и самой скоро пора… – она не закончила фразу. Мальчик поблагодарил бабушку, но от подарка отказался: – Не могу я его взять, бабушка. Книга Святая – ваша семейная, в семье и должна быть. Она еще и Лёне послужит, а потом и детям его. Тогда бабушка сняла с себя медный крестик и надела его на Вальку: – Храни тебя Господь, сынок. Я прожила жизнь долгую, живи и ты долго, а крестик святой носи открыто, не прячь, убережет он тебя. Сердце у тебя доброе и душа чистая, сохрани их такими же, и Бог тебя никогда не оставит. И священник из тебя выйдет добрый да любящий. Мне неведомо, стал ли цыган Валька Беляев священником, быть может, мечта его детская и осуществилась, но то, что вырос он хорошим человеком, – это несомненно. А бабушкино Евангелие я храню. От прожитых лет оно пожелтело, странички стали хрупкими, а обложка и переплет потрескались. Вместе с внучками мы его аккуратно подклеили и очень бережно иногда достаем с полки и читаем. Б.А.Алмазов. Простите меня! 140 Настоящего голода, какой пережила моя бабушка в блокаду, а мама на Ленинградском фронте, я не помню, но голодные времена застал. После войны в Ленинграде бабушка, мама и я буквально перемогались, получая хлеб по карточкам, и все мечтали: "Вот приедем на Дон..." Возвращаясь домой после многочасовых стояний в очередях за мукой, которую только начали продавать, после давки, духоты и истерических слухов: "Кончилась! Больше не будет!", мы приносили три пакета - бабушкин, мамин и мой, и вот тут-то начинались воспоминания о каких-то сказочных временах, о невероятных урожаях и пышных казачьих калачах... Мне эти рассказы казались фантастическими, как легенда про золотые яблоки! Разве могут быть яблоки из золота? Но я тоже мечтал. Мечтал и надеялся... И наконец мы поехали в голубые степи, в края ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех земных плодов. А когда добрались до нашего хутора, нас настиг голод. Все оказалось неправдой! Степь была не голубой, а удушающе пыльной, пожухлой. На иссеченной трещинами голой земле, как спицы, неподвижно стояли пустые колосья, и над всем этим - тусклое от жары солнце в белесом мареве засухи... Бродили коровы с выпирающими мослами, лошади, глядящие по-человечьи измученно и покорно. Мужчины были в основном инвалиды, вернувшиеся с войны, с ввалившимися глазницами, обтянутыми потрескавшейся кожей скулами и лихорадочным блеском в глазах. До сих пор помню их ссутуленные плечи и огоньки бесконечных самокруток, угольками вспыхивающие в черных кулаках. Женщины с тонкими, горько поджатыми губами и коричневыми лицами под низко надвинутыми платками. Ребятишки, молчаливые, пузатые, тихо выискивающие по канавам и у провалившихся плетней какие-то съедобные корешки и щавель, постоянно жевали. Нас спасли два вещевых мешка сухарей. Ежедневно утром и вечером мы извлекали оттуда два сухаря, и бабушка внимательно следила, как я их ем: "Чтобы по-людски, за столом, не торопясь, чистыми руками, обязательно прихлебывая из миски отвар свекольной ботвы. Не в сладость, а в сытость..." Боже мой, а что же они с мамой ели? Что вообще ели взрослые, если детей кормили лепешками из лебеды? И вот однажды, когда я искал с соседским мальчишкой какие-то "каланчики" и ел их на огороде, его сестренка, бледная, как бумага, даже под степным солнцем, с белыми косицами, в выгоревшем до белизны платье, появилась среди пустых грядок и позвала меня. - К вам дядька на бричке приехал! И точно. В нашем дворе стояла таратайка. Лошадь дергала кожей на животе, отгоняя мух. И уже здесь я почувствовал идущий от тележки запах. Я влетел на крыльцо и наткнулся на целый пласт этого аромата. Он стоял как раз на уровне моего носа. Из сеней запах потащил меня в комнату к бабушкиному комоду. Там, во втором ящике, под старенькой простыней, я увидел четыре огромных, душистых, 141 белых каравая с высокими пористыми боками, блестевших масляной корочкой. От их запаха у меня кружилась голова, но впиться в хлеб, разломать его, откусить я не посмел. С великой натугой я закрыл комод. - Нечто! - доносился из соседней комнаты мужской голос. - По крайности, войны нет... Сдюжим... А в июле сколь-нибудь соберем. Местами хлеб есть... - Егорушка! - ахала бабушка. - Да что ж ты все нам, у тебя своих пятеро... - А у меня еще есть. Это нам артельный на трудодни зерно выдал, дай ему Бог здоровья. И где взял? А я так думаю... - сказал он, поворачиваясь ко мне. - У моих-то - отец, вот он, с руками и ногами, а ему кто, сироте, даст? Это была самая больная струна в моем сердце, и он потянул за нее, этот незнакомый голубоглазый, словно вылинявший от солнца Егор. - Все же вы гости! Из Ленинграда! В родные как-никак места вернулись, и тут голодовать... Это и дедушке твоему от меня благодарность! - Он протянул ко мне руку, и я весь сжался, как от удара: "Сироту жалеет! Добренький!" - Бывало, придет твой дедушка в класс, - гудел Егор, - высмотрит, кто совсем пропадает, да и сунет ему тишком сухарик от своего пайка. Мне сколь разов перепадало. Святой был человека, я с его грамоты пошел... Я возненавидел Егора. Меня затрясло от его белозубой улыбки и жалостливых глаз. И как я, пятилетний недомерок, сообразил, чем больнее ударить его?! - А что это у нас в доме так навозом тянет? "Вот так тебе! - подумал я. Пришел. Расселся. Жалеет. Разговаривает!" Запах от Егора шел густой, в нем мешались конский и человеческий пот, махорка и духота овечьего закута. Егор заморгал белыми ресницами, нахлобучил бесформенную папаху и суетливо заторопился. - И то! И то... - забормотал он. - Спим-то посреди отары... Принюхавши... Вы уж извините! Надо бы сперва в баню... Но я хлебца вам теплого, из печи чтобы, хотел... Когда я ел божественно пахнущий ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло, я не понимал, какой поступок совершил. И только потом, когда томление сытости стало склеивать мне веки, я удивился, почему это после ухода Егора ни мама, ни бабушка не сказали мне ни слова. Мама сидела забившись в угол старенького диванчика, а бабушка гремела посудой. - Это же надо - взрослому человеку... - наконец проронила бабушка, забирая у меня тарелку с куском, который я не смог одолеть. - Стыд какой! - Как стыдно! - Мама поднялась и стала ходить по комнате, ломая пальцы. Он в степи под градом и холодом, под молниями и суховеями, круглый год один, среди овец... - У него своих детишек голодных пятеро, а он тебе первому... Я плохая бабушка! Я не умею тебя воспитать! - Это была самая страшная фраза. Через час такой пытки я уже рыдал, понимая весь ужас совершенного мною поступка. - Что же мне теперь делать? - закричал я, захлебываясь слезами. 142 - Сам набедил - сам и поправляй. - Да как же я у него прощения попрошу, если он уехал? - А что ты думал, когда обижал? Ты же нас всех, нас всех - и дедушку, и папу, и нас с мамой - на всю жизнь опозорил... - Он недалеко живет! - обронила мама. - За оврагом, у кладбища. - Так ведь темно уже! - кричал я, леденея от мысли, что придется идти оврагом, где и днем-то страшно. - Меня бугай забодает! Бугай в сарае спит давно. - Меня волки съедят! - Пусть! - отрезала бабушка. - Пусть у меня лучше не будет внука, чем такой внук - свинья неблагодарная! - Он ведь хлеб! Он ведь хлеб тебе привез... - прошептала мама. На улице было действительно совсем темно. Все привычное и незаметное днем переменилось, выросло и затаило угрозу: и плетни вдруг поднялись, как зубчатые стены, и беленые стены хат при луне вдруг засветились мертвенно и хищно. ...Спотыкаясь и поскуливая, я вышел к оврагу, где огромным чернильным пятном лежала темень. Я пытался зажмуриться, но глаза от страха не закрывались, а норовили выскочить из орбит. Рыдая, я опустился на дорогу, где под остывшим слоем пыли еще таилось дневное тепло. Домой повернуть было невозможно. "Ты нас всех опозорил!" - звенело в голове. - И пусть! - шептал я. - Пусть меня сейчас волк съест и не будет у них меня! - Я пытался представить, как все по мне плачут. Но картина не получалась, потому что я знал: вина-то моя не прощенная! И виноват я по уши! "У него своих детишек пятеро голодные сидят, а он тебе хлеб привез!" Из темноты вдруг высунулась огромная собачья голова, ткнулась холодным мокрым носом в мой голый, втянутый от страха живот, пофырчала мне в ухо и скрылась. Как во сне, я поднялся, перешел черный овраг и, стараясь не смотреть в сторону кладбища, вышел к Егорову куреню. Окна не светились... И тогда я зарыдал в голос, потому что все было напрасно: Егор спит, а завтра он уедет и никогда не простит меня! - Кто здесь? - На огороде вдруг осветилась открытая дверь бани. - Дядя Егор! - закричал я, стараясь удержать нервную икоту. - Это я! - И, совсем сомлев от страха и стыда, почему-то совершенно замерзая, хотя ночь была жаркая, ткнулся во влажную холщовую рубаху овчара и, заикаясь, просипел: Дядя Егор! Прости меня! За всю свою жизнь я не испытал большего раскаяния, чем в тот момент. - Божечка мой! - причитал Егор. - Да закоченел весь! Милушка моя! Потом он мыл меня, потом мы шли домой, все той же бесконечной ночью. ... Много лет спустя мама рассказала мне, как они с бабушкой, обливаясь слезами, шли за мной по пятам. Мама несколько раз порывалась подбежать ко мне: больно маленький я был и очень горько плакал, но бабушка останавливала ее: - Терпи! Никак нельзя! Сейчас пожалеешь - потом не исправишь... 143 Были потом у меня и праздники, и изобильные столы, и веселые рыбалки с дядей Егором. Были длинные ночные разговоры под черным и бездонным небосводом, но навсегда осталось чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб... Саша Черный. Антошина беда. Пала ночь на город... Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, окромя тех, кто в карауле да по дневальству занят. Собрались солдатские Ангелы-Хранители в городском саду, за старым валом. Подначальники ихние, по койкам свернувшись, глаза завели, — не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних... Ходят Ангелы по дорожкам, мирно беседуют, — лунный свет скрозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кое-где над кустом загорится — и опять в темных кустах погаснет. Кажный Ангел со своим солдатом схож, — который солдат в плечах широк, лицом ядрен, — и Ангел у него бравый; который замухрышка незадачливый, — Ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет... Однако все между собой в светлом согласии, в ладу, — не по ранжиру же им, Ангелам, равняться, звание не такое. Все боле поротно они собирались, кругами. Потому кажный своей частью интересуется, все солдатики своей роты до донышка им известны, — беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, авось чего и придумают. Шестой роты Ангелы коло пруда расположились. Ангела первовзводного командира обступили, ласково ему выговаривают: что-де твой воин-унтер разбушевался, — спокоя от него нет, молодых солдат сверх пропорции жучит... Какой-де овод укусил? Начальник был справедливый, а теперь — будто козел на бочку, так на всех дуром и наскакивает. Смутился Ангел, поясок шелковый подергивает. «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил, — невеста евонная за волостного писаря замуж вышла, — вот он с досады и озорует. Уж я его как-никак успокою... Свое горе сам и перетерпи, на подчиненных не перекладывай...» Про инспекторский смотр поговорили, — кажись, в роте все исправно, без боя, без крика репертички идут... Сойдет гладко, солдатам облегчение. Помолчали Ангелы, стали камушки в лунный пруд метать. С чего же им печалиться: войны не предвидится, в роте штрафованных нет, кажный солдат себя соблюдает, — кажись, у АнгеловХранителей и забот-то никаких нет. Затянул было с правого фланга светлокрылый один любимую их солдатскую: Ранным рано на рассвете Господь солнышко послал, Чтоб на ротное ученье Солдат жаворонком встал... 144 Подхватили Ангелы бестелесными соловьиными голосами, — от ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг к дружке для угрева, покачиваются. Ан тут ктой-то из них и спрашивает: — А что ж это Антошкиного голоса не слыхать? Он всех знаменитей поет, куда ж он сподевался? Кажись, солдат его не в наряде... Переглянулись они справа-налево, — нет Антоши. А звали они так Ангела одного Хранителя, — потому имена у них кажному по своему солдату идут. Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали: нет Ангела и следа, будто облако, растаял. Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой Антоша, плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, навзрыд рыдает. — Что с тобой, лебедь? Кажись, твой и здоров и не на замечанье... С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь? — Ах, братцы, беда... Поди сами знаете, — мой-от в роте всех тише, всех безответнее... В иноки б ему, а не в солдаты... Портняжил он все между делом, по малости. То вольноопределяющему шинельку пригонит, то подпрапорщику шароварки сошьет... То да се, — десять целковых и набежало... Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе под Уманью живет, только тем и дышит, что от сына ей кой-когда перепадает. Ан вот сегодня и прилучилось; скрали у моего солдата всю выручку, и звания не осталось... Всполошились тут Ангелы, кругом обступили, крылами, как ласточки в грозу, так и шелестят... — Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из роты-то и не отлучался? Что говоришь-то, подумай... Опустил Ангел еще ниже голову, тихо ответ подает: — В роте и скрали. Простите на горьком слове, — да что же и скрыватьто... Насупились Хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы у своего брата-солдата воровским манером последнее огребать. Спрашивает тут первовзводного командира Ангел: — Доложил твой, что ль, по начальству? Антошин Ангел резонно ему докладывает: — Не таковский мой, чтобы жалиться... Да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту на шест вывешивать. Шестая наша рота, как орешек, ужели мы же ее под каблук... Честь не десять целковых стоит, а ежели бы на кого мой солдатик подозрение и имел, уши бы себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли, да распатронили... Ведь вот какой Ангел понимающий оказался. Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились... Отличилась шестая рота, что и говорить... Выступает тут из-за темного дуба чернявый Ангелок, из себя не ахти какой, щуплый да хмурый. Коло Антоши наземь сел, к плечику его прикоснулся: 145 — Не кручинься, голубь. Узел крепко завязан, да авось я развяжу. Деньгито ведь мой скрал, — Брудастый... Антоша так на него крылами и замахал: — Что ты, что ты! Ветер слышал, ночь унесла... Снежок подпал и следок застлал. Чего же зря расковыриваешь? Однако ж, Ангелок свою ниточку разматывает: — Хочешь не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Тебя мне и ненадобно. Сраму и на воробьиный клюв не будет... Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего в смягчение приведу... Тоже и я препорученную мне черную душу выполоскать-то должен. Так строго сказал, что встал Антошин Ангел, низко чернявому поклонился и со смирением ручки скрестил. — Делай, что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит... *** Не спит Брудастый. На локоть облокотился, все на Антошку посматривает, что супротив на койке в носовую жилейку высвистывал, — в печени у него, Брудастого, так и саднит. — Ишь, дрыхнет, — будто и не у него украли... Дите стоеросовое. А тут сдуру в чужой сундучок раскатился, — благо, открыт был. Вот теперь сам себя на вертеле и поворачивай. И зачем крал, бес его кривой знает! Ни светило, ни горело, да вдруг и припекло... Попросить у Антошки, как следовает, — он тебе рубашку последнюю с крестом отдаст, лампадная душа... Не пожалился ведь никому, Чистоплюй Иванович. Молчан-травку проглотил, только с лица побурел. Поди, и не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял, — на убогое солдатское добро позарился. Ведь вот этакая-то вещь более всего и пронзает... Не спит Брудастый, поворачивается. А над ним будто темное крыло ходит, слова острые навевает: — Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балалайку ко дню Ангела сшил? Антошка. Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Антошка... А он ведь и сам, как лучинка... Кто за тебя, темного, письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный? Кого ограбил?.. Антошка проститстерпит, да тебе же еще штаны задарма залатает, — а что же ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова? Хочь бы откомандировали к другому, — тошно мне с тобой, нет никакой возможности... Скрипнул Брудастый зубом. И не спит будто, — откуда ж голос такой занозистый. — Вставай, вставай... Чего кряхтишь-то, как святой в бане... Умел в яму лезть, умей и выкарабкиваться. Не видно пылинки, а глаза выедает... Терпел он, терпел, однако ж не чугунный, — долго ли вытерпишь. Видит, дневальный, к нему спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скочил солдат на пол. По-за койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выудил, да тихим маневром, подобравшись к Антошиной койке, под подушку ему и сунул. 146 Сразу ему полегчало, будто чирий, братцы, вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул, — ан и во сне хвостик-то остался: «Деньги-то я, — думает, — отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спокаяться. Срам перед ним приму, — он добрый, ничего... А то уж больно дешево отделался: украл, — воробей не видал, назад сунул, — будто наземь сплюнул...» Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами да в широкой одежде, как небесному воину полагается... Топнул он на Брудастого ножкой: — И думать не смей!.. Оченно Антошке твое покаяние нужно. Только смутишь его, тихого, занапрасно... Я тебе форменно воспрещаю. Оробел Брудастый, в струнку вытянулся: — Да как же так?.. Хочь наказание какое на меня для легкости души наложите... — А ты без покаяния походи, вот это тебе настоящее наказание и будет. Задумался тут чернявый Ангелок и начальственно прибавляет: — Да еще, ежели пострадать хочешь, — воспрещаю я тебе с энтого часа солдатскими словами ругаться. Понял? Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего Ангела: — На время или окончательно воспрещаете? — Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается. Стало быть, можно... — Да ему ж без надобности... Вздохом из него всякая досада выходит. А обнакновенному солдату, посудите сами. Скажем, я винтовку чищу. Паклю на шомпол навертел, смазкой пропитал, в дуло сгоряча загнал, — а назад шомпол-то и не лезет... Как тут, Ваше Светлородие, не загнуть? Дверь рывком дернешь, — и то она рипит, а солдат... — Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заест... А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу. Вздохнул тут Брудастый, на голенища свои покосился. — Ладно. Попробую... Только, в случае чего, ежели осечку дам, — уж вы того, не прогневайтесь. Улыбнулся Ангел. «Ничего, — говорит, — главное, чтобы прицел был правильный, а осечку Бог простит». *** Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке — возврат имущества, Брудастому — эпитимья, шестой роте — ни суда, ни позора, АнгеламХранителям — беспечный спокой. Пол Виллард. Справочная, пожалуйста! Когда я был маленьким, у моего отца был телефон - один из первых в округе. Я хорошо помню старый полированный ящик, прикрепленный к стене. Сбоку от него висела блестящая трубка. Я был слишком мал, чтобы достать до 147 телефона, но часто завороженно слушал, как говорила с ним моя мать. Со временем я открыл, что где-то внутри чудесного устройства обитало удивительное существо - его звали "Справочная Пожалуйста", и не было на свете такой вещи, которой бы оно не знало. "Справочная Пожалуйста" могла сообщить какой угодно телефонный номер и точное время. Мой первый личный опыт общения с этим "джинном в бутылке" состоялся в один из дней, когда моя мать ушла в гости к соседям. Исследуя верстак в подвале, я случайно ударил по пальцу молотком. Боль была ужасной, но плакать не было резона, поскольку дома все равно не было никого, кто мог бы меня пожалеть. Я ходил по дому, засунув пульсирующий палец в рот, и наконец оказался возле лестницы. Телефон! Я быстро сбегал в гостиную за маленькой табуреткой и притащил ее на лестничную площадку. Взобравшись наверх, я снял трубку и прижал ее к уху. "Справочную Пожалуйста", - сказал я в рожок, который находился как раз над моей головой. Последовали один или два щелчка, и тонкий чистый голос заговорил мне в ухо: "Справочная". "Я ударил палец..." - завыл я в телефон. Слезы теперь закапали без труда, поскольку я заимел слушателя. "А разве твоей мамы нет дома?" - прозвучал вопрос. "Никого нет дома, только я", - я зарыдал. "У тебя течет кровь?" "Нет, ответил я. - Я ударил палец молотком, и он очень болит". "Ты можешь открыть ваш ледник?" - спросила она. Я ответил, что могу. "Тогда отщипни маленький кусочек льда и приложи его к своему пальцу", - сказал голос. После этого случая я звонил "Справочной Пожалуйста" по всякому поводу. Я просил ее помочь мне с географией, и она отвечала, где находится Филадельфия. Она помогала делать математику, сказала мне, что мой домашний бурундук, которого я поймал за день до этого в парке, будет есть фрукты и орехи. Потом умерла Пити, наша канарейка. Я позвонил "Справочной Пожалуйста" и сообщил ей это душераздирающее известие. Она выслушала меня и сказала что-то из того, что взрослые обычно говорят, чтобы успокоить ребенка. Но я не утешился. Я спросил ее: "Почему так получается? Птицы так красиво поют и приносят радость в дом только для того, чтобы закончить свои дни, как комок перьев на дне клетки?" Она, должно быть, почувствовала мое глубокое беспокойство и поэтому тихо сказала: "Пол, всегда помни, что есть и другие миры, в которых нужно петь". Каким-то образом я почувствовал себя лучше. В другой раз я вновь позвонил по телефону: "Справочную Пожалуйста!" "Справочная", - ответил уже знакомый голос. "Как пишется слово "фикус"?" - спросил я. Все это происходило в маленьком городе в северо-западной части Тихоокеанского побережья. Позже, когда мне исполнилось девять лет, мы переехали в Бостон - через всю страну. Я сильно скучал по своему другу. "Справочная Пожалуйста" принадлежала тому старому деревянному ящику в моем прежнем доме, и мне почему-то никогда не приходило в голову попробовать позвонить ей по высокому, блестящему телефону, который стоял на столике в холле. Тем временем я вырос и стал подростком, но воспоминания о тех детских разговорах никогда не оставляли меня. Часто в моменты сомнений или 148 недоумения я вызывал в себе то чувство безмятежного спокойствия, которое у меня было тогда. Теперь я оценил, насколько доброй, терпеливой и понимающей она должна была быть, чтобы тратить свое время на маленького мальчика. Несколькими годами спустя я отправился на Запад в колледж, и мой самолет приземлился в Сиэтле. У меня было полчаса или что-то около того между самолетами. Я потратил около пятнадцати минут на телефонный разговор с сестрой, которая теперь жила в этом городе, а потом машинально, не задумываясь о том, что это я такое делаю, я набрал номер оператора в моем родном городе и попросил: "Справочную Пожалуйста". Сверхъестественно, но я услышал тонкий чистый голос, который я так хорошо знал: "Справочная". Я не планировал ничего такого, но вдруг спросил: "Как пишется слово "фикус"?" Последовало долгое молчание, а затем прозвучал мягкий ответ: "Я полагаю, твой палец уже совсем прошел?" Я засмеялся. "Так это действительно вы? - сказал я. Если бы вы только знали, как много вы значили для меня все это время!" "Я знаю, - ответила она. - Если бы ты знал, как много твои звонки значили для меня. Я очень ждала их, ведь у меня никогда не было своих детей". Я сказал ей, как часто я думал о ней все эти годы, и спросил, могу ли я позвонить ей снова, когда приеду в гости к сестре. "Пожалуйста, позвони, сказала она. - Просто попроси позвать Салли". Три месяца спустя я опять вернулся в Сиэтл. Другой голос ответил: "Справочная". Я попросил Салли. "Вы ее друг?" - спросили меня. "Да, очень старый друг", - заверил я девушку. "Мне очень жаль говорить вам это, - сказала она. - Последние пять лет Салли работала на полставки, поскольку была больна. Она умерла пять недель назад". Я уже собрался повесить трубку, но она вдруг спросила: "Подождите минуточку, вы случайно не Пол?" - "Да". - "Вы знаете, Салли написала вам записку. Она оставила ее на тот случай, если вы позвоните. Я сейчас вам ее прочту". В записке говорилось: "Скажите ему, что я все еще уверена - есть и другие миры, в которых нужно петь. Он поймет, что я имела в виду". Я поблагодарил девушку и повесил трубку. Я знал, что имела в виду Салли. Перевела с английского Лика ЛУНЕВА Ярослав Шипов. Три рыбы от Святителя Николая. Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит – с обязательными рыбными пирогами, но в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось. А ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось – взять удочку и спуститься к реке. Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. 149 Подойдя к воде, он перво-наперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может. Но мне до крайности необходимы две рыбешки: для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий – это ведь он разрешил мне преподавать Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали. Опять же зимой: вечерами, бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши рядом сидят – присутствуют. Мой Барсик с его Мурочкой очень дружен. Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича – Александр Петрович – утонул: от жары перегрелся, нырнул в речку – сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был – тридцать лет, тоже в школе работал: учителем физики. Трое ребятишек осталось. Я его под отцовы именины как раз отпевал – под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили, но тогда, может, климат нормальный был? А теперь – не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет – полвека уже, и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается. И вот, думаю, сядут они всей семьею за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался. Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы немаленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков, – стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание, попросил у Святителя Николая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха Михаила. Тут поплавок резко ушел под воду, батюшка подсек и вытянул на берег щуку: впервые в жизни ему довелось поймать на червяка, да еще и у самого берега, такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась – хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию. Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее – дед Сережа – во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение Святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полешко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил некрупную. Только одну! Попалась плотвица граммов до шестисот: из такой выходит сочнейший пирог классического размера. Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя 150 Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой. Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое случается, – самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня, грешного: про Анну Васильевну позабыл!». Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы, две получил, и после этого начинать молиться еще об одной? Ну конечно же, срам! «Господи, аще можешь, прости!» – повторял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно: мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая злючка! Тут отец Михаил испуганно обернулся: не слышал ли кто его бранной и осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занимательно, что Святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем – ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть ни за тридевять земель. Но это все – ерунда, признавал батюшка: слухи и сплетни – для нас вроде как ордена и медали, путешествия с ведрами – гимнастика. Главное – у Анны Васильевны отец священником был, да в лихие годы умучен. Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. Действительно, встретятся там, а протоиерей Василий и спросит: что ж ты – не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить? Так что, – продолжал рассуждения отец Михаил, – хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пирог в ее жизни. А что вредная, дескать, – не ее вина: сколько она с малых лет за отца-священника претерпела! И попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещичек – на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Все, все, виноват, ухожу», – и без остановки – в деревню. Весть об успешной рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой – все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились. А.И. Куприн. Блаженный. В первом издании рассказ назывался "Тэки" Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными. Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда сквозь сплошную ограду из густых, старых лип и раскидистых каштанов, похожих с длинными, торчащими кверху розовыми цветами на гигантские царственные люстры. Резвая нарядная детвора 151 наполняла сквер. Подростки играли в серсо и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись, скорыми шагами по дорожкам. Меньшие играли в "краски", в "барыня прислала сто рублей" и в "короля". Наконец самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличи. Няньки и бонны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках, прямые, как палки, углубленные в чтение или работу. Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. Мы тоже обернулись туда. Рослый бородатый мужик катил перед собою кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо: мальчик лет восемнадцати - двадцати, с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провез кресло мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз. - Ах, бедный, бедный человек! - произнес тихо мой спутник. В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал Зимина давно: это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастию. - Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек? - возразил я, желая вызвать Зимина на разговор. - Почему же вы отказываете ему в этом? - спросил, в свою очередь, Зимин. - Ну... как вам сказать? Это же всем ясно... У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного: ни разума, ни речи, ни воли... Собака или кошка обладают этим качеством в гораздо большей степени... Но Зимин прервал меня. - Извините, пожалуйста, я, наоборот, глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены... Живут где-то глубоко под звериными ощущениями... Видите ли... со мной был один случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминание о нем никогда не покидает меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным чуть ли не до слез... Если вы позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость. Я поспешил попросить его об этом, и он начал: - В тысяча восемьсот... году я поехал ранней осенью в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице, на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Аничкова моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера. Петербург меня неприятно поразил: все время он был окутан унылым, серым покровом затяжного дождя. Но академия, когда я впервые туда явился, 152 прямо меня подавила, ошеломила и уничтожила своей грандиозностью. Я, как теперь, помню ее огромную швейцарскую, широкую лестницу с мраморными перилами, анфилады высоких, строгих аудиторий и навощенные, блестящие, как зеркала, паркеты, по которым мои провинциальные ноги ступали так неуверенно. Офицеров в этот день собралось человек до четырехсот. На скромном фоне армейских зеленых мундиров сверкали гремящие палаши кирасиров, красные груди уланов, белые колеты кавалергардов; пестрели султаны, золотые орлы на касках, разноцветные обшлага, серебряные шашки. Все это были соперники, и, поглядывая на них, я с гордостью и волнением пощипывал то место, где предполагались у меня в будущем усы. Когда мимо нас, застенчивых пехотинцев, пробегали с портфелями под мышкой необыкновенно озабоченные полковники генерального штаба, мы сторонились от них в благоговейном ужасе. Экзамены должны были тянуться более месяца. У меня не было ни одной знакомой души во всем Петербурге, и по вечерам, приходя домой, я испытывал скуку и томление одиночества. С товарищами же и говорить не стоило: все они были помешаны на синусах и тангенсах, на качествах, которым должна удовлетворять боевая позиция, и на среднем квадратическом отклонении снарядов. Вдруг я случайно вспомнил, что мой отец советовал мне разыскать в Петербурге Александру Ивановну Грачеву, нашу дальнюю родственницу, и зайти к ней. Я взял справку в адресном столе, отправился куда-то на Гороховую и с трудом, но все-таки нашел комнату Александры Ивановны, жившей на заднем дворе у своей сестры. Я вошел и остановился, почти ничего не видя. Спиной ко мне у единственного маленького окна с мутно-зелеными стеклами стояла полная женщина. Она нагнулась над керосиновой плитой, от которой шел густой чад, застилавший комнату и наполнявший ее запахом керосина и пригорелого масла. Женщина обернулась назад и стала присматриваться. В это время откуда-то из угла выскочил и быстро подошел ко мне мальчик, в распоясанной блузе и босиком. Взглянув на него пристальней, я сразу догадался, что это идиот, и хотя не отступил перед ним, но скажу откровенно, что в сердце мое стукнуло чувство, похожее на трусость. Идиот глядел на меня бессмысленно и издавал странные звуки, нечто вроде "урлы, урлы"... - Не бойтесь, он не тронет,- сказала женщина, идя мне навстречу. - Чем могу служить? Я назвал себя и упомянул про своего отца. Она обрадовалась, оживилась, разохалась и стала извиняться, что у нее не прибрано. Идиот принялся еще громче кричать свое: "урлы, урлы..." - Это сыночек мой, он такой от рождения,- сказала Александра Ивановна с грустной улыбкой. - Что ж... божья воля... Степаном его зовут... Услышав свое имя, идиот крикнул каким-то птичьим голосом: - Папан! Александра Ивановна похлопала его ласково по плечу. - Да, да. Степан, Степан... Видите, догадался, что о нем говорят, и рекомендуется. 153 - Папан! - крикнул еще раз идиот, переводя глаза то на мать, то на меня. Чтобы оказать Александре Ивановне внимание, я сказал ему: "Здравствуй, Степан" и взял его за руку. Она была холодна, пухла и безжизненна. Я почувствовал брезгливость и только из вежливости спросил: - Ему, наверно, лет шестнадцать? - Ах, нет,- ответила Александра Ивановна.- Это всем так кажется, что ему шестнадцать, а ему уже двадцать девятый идет... Ни усы, ни борода не растут. Мы разговорились. Грачева оказалась тихой, робкой женщиной, забитой неудачами и долгой нуждой. Суровая борьба с бедностью совершенно убила в ней смелость мысли и способность интересоваться чем-нибудь выходящим за узкие пределы этой борьбы. Она жаловалась мне на дороговизну мяса и на дерзость извозчиков, рассказывала об известных ей случаях выигрыша в лотерею и завидовала счастью богатых людей. Во все время нашего разговора Степан не сводил с меня глаз. Видимо, его поразил и заинтересовал вид моего военного сюртука. Раза три он исподтишка протягивал руку, чтобы притронуться к блестящим пуговицам, и тотчас же отдергивал ее с видом испуга. - Неужели ваш Степан так и не говорит ни одного слова? - спросил я Александру Ивановну. Она печально покачала головой. - Нет, не говорит. Есть у него несколько собственных слов, да что же это за слова! Так, бормотанье! Вот, например, Степан у него называется "Папан", кушать хочется - "мня", деньги у него называются "ТЭКи"... Степан,- обратилась она к сыну,- где твои тэки? Покажи нам твои тэки. Степан вдруг спрыгнул со стула, бросился в темный угол и присел там на корточки. Я услышал оттуда звон медной монеты и те же "урлы, урлы", но на этот раз ворчливые, угрожающие. - Боится,- пояснила Александра Ивановна.- Хоть и не понимает, что такое деньги, а ни за что не позволит дотронуться... Даже меня к ним не подпускает... Ну, ну, не будем трогать тэки, не будем,- принялась она успокаивать сына... Я стал довольно часто бывать у Грачевой. Ее Степан заинтересовал меня, и мне пришла в голову мысль вылечить его по системе какого-то швейцарского доктора, пробовавшего действовать на своих слабоумных пациентов медленным путем логического развития. "Ведь есть же у него несколько слабых представлений о внешнем мире и об отношении явлений,- думал я.- Неужели к этим двум-трем идеям нельзя с помощью комбинации прибавить четвертую, пятую и так далее? Неужели путем упорной гимнастики нельзя хотя немного укрепить и расширить этот бедный ум?" Я начал с того, что принес Степану куклу, изображающую ямщика. Он очень обрадовался, расхохотался и закричал, указывая на куклу: "Папан!" Повидимому, однако, кукла возбудила в его голове какие-то сомнения, и в тот же вечер Степан, всегда благосклонный ко всему маленькому и слабому, попробовал на полу крепость ее головы. Потом я приносил ему картинки, пробовал заинтересовать его кубиками, разговаривал с ним, называя разные предметы и показывая на них. Но, или система швейцарского доктора была неверна, или я не умел ее применять на практике, только развитие Степана не подвигалось ни на шаг. Зато он необыкновенно полюбил меня в эти дни. Когда я приходил, он 154 кидался мне навстречу с восторженным ревом. Он не спускал с меня глаз; когда я переставал обращать на него внимание, он подходил и лизал, как собака, мои руки, сапоги или одежду. После моего ухода он долго не отходил от окна и испускал такие жалобные вопли, что другие квартиранты жаловались на него хозяйке. А мои личные дела были очень плохи. Я провалился - и провалился с необычайным треском - на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк. Мне кажется, я во всю мою жизнь не забуду того ужасного момента, когда, выйдя из аудитории, я проходил величественный вестибюль академии. Боже мой, каким маленьким, жалким и униженным казался я сам себе, сходя по этим широким ступеням, устланным серым байковым ковром с красными каемками по бокам и с белой холщовой дорожкой посредине. Нужно было как можно скорее ехать. К этому меня побуждали и финансовые соображения: в моем бумажнике лежали всего-навсего гривенник и билет на один раз в нормальную столовую... Я думал получить поскорее обратные прогоны (о, какая свирепая ирония заключалась для меня в последнем слове!) - и в тот же день марш на вокзал. Но оказалось, что самая трудная вещь в мире - именно получить прогоны в Петербурге. Из канцелярии академии меня посылали в главный штаб, из главного штаба - в комендантское управление, оттуда - в окружное интендантство, а оттуда - обратно в академию и наконец - в казначейство. Во всех этих местах были различные часы приема: где от девяти часов утра до двенадцати, где от трех до пяти часов. Я всюду опаздывал, и положение мое становилось критическим. Вместе с билетом в нормальную столовую я истратил легкомысленным образом и гривенник. На другой день при первых приступах голода я решил продать учебники. Толстый барон Вега в обработке Бремикера и в переплете пошел за четвертак, администрация профессора Лобко за двадцать копеек, солидного генерала Дуропа никто не брал. Еще два дня я был в полусытом состоянии. На третий день из прежних богатств осталось только три копейки. Я скрепя сердце пошел просить взаймы у товарищей, но они все отговаривались "торричеллиевой пустотой" карманов, и только один сказал, что хотя у него и есть несколько рублей, но все-таки он взаймы ничего не даст, "потому что,- объяснил он с нежной улыбкой,- часто, дав другу в долг денег, мы лишаемся и друга и денег,- как сказал однажды великий Шекспир в одном из своих бессмертных произведений...". Три копейки! Я предавался над ними трагическим размышлением: истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод сделается невыносимым, и тогда купить на них хлеба? Как я был умен, что решился на последнее! К вечеру я проголодался, как Робинзон Крузе на своем острове, и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окнах громадные хлебы: у некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака. Наконец я решился войти. Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги. Я почувствовал ненависть к этим счастливцам... 155 - Что вам угодно? - спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном: - Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба... Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб. ?А вдруг,- думалось мне,- фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане пять - десять рублей и приказать буфетчику: "Запиши там за мной, любезный", но как быть, если не хватит одной копейки. Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкою в рот двух больших вкусных кусков. Да-с. Я все это рассказываю в почти веселом тоне... Но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей, очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов... Я вам скажу искренно, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне... Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда наконец я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна насилу отогнала его. Мне очень было тяжело просить бедную, испуганную суровой жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это. - Александра Ивановна,- сказал я,- мне есть нечего. Дайте мне, сколько можете, взаймы... Она всплеснула руками. - Голубчик мой - ни копеечки. Вчера сама заложила брошку... Сегодня еще было кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть... - Не можете ли вы взять немного у сестры? - посоветовал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом: - Что вы, что вы, дорогой. Да ведь я и так из милости живу у нее. Нет, уж лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись. Но, что мы ни придумывали, все оказывалось несбывчивым. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер, и по комнате расползалась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя заброшенным на край света, одиноким и униженным. Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил: - Тэки, тэки, тэки... Я не понимал. Тогда он бросил свои деньги мне на колено, крикнул еще раз "тэки" и убежал в свой уголок. Ну, что скрываться? Я заплакал, как маленький мальчик. Ревел я очень долго и громко. Александра Ивановна также плакала вместе со мной от умиления 156 и жалости, а Степан из темного угла испускал жалобные, совершенно осмысленные "урлы, урлы, урлы"... Когда я успокоился, мне стало легче. Неожиданное сочувствие блаженненького вдруг согрело и приласкало мое сердце, показало мне, что еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание. - Так вот почему,- закончил Зимин свой рассказ,- вот почему я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в человеческом достоинстве. Да и кстати: его сочувствие принесло мне счастье. Теперь я очень рад, что не сделался "моментом". Это так у нас в армии называли офицеров генерального штаба. У меня впереди и в прошлом большая, широкая, свободная жизнь. Я суеверен. Михаил Салтыков-Щедрин. Пропала совесть. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; постарому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отдавалось им в руки, — им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительницасовесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только 157 страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд... Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что́ такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? — все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание — да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино. — Батюшки! не могу... несносно! — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, — это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она — настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец. «Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» — думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый. — Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! — говорит он ему, грозя пальцем, — у меня, брат, и в части за это посидеть недолго! 158 Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке. Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою. «Эге! — вспомнил он, — да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!» Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо. — Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, — говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! — рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх. — А ведь куда скверно спаивать бедный народ! — шептала проснувшаяся совесть. — Жена! Арина Ивановна! — вскрикнул он вне себя от испуга. Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!» «И за что я, через этого подлеца, в одну минуту всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его. Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастия для бедного человека. — Коли бы ты одну рюмочку выпил — это так! это даже пользительно! — говорил он сквозь слезы, — а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить! — Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! — говорили ему изумленные посетители. — Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! — отвечал Прохорыч, — ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил! 159 Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше. — Вот так патент! — не без злобы прибавлял Прохорыч. — Что́ ж ты теперь делать будешь? — спрашивали его посетители. — Теперича я полагаю так: остается мне одно — помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что́ же мне теперича делать, кроме как помереть? — Резон! — смеялись над ним посетители. — Я даже так теперь думаю, — продолжал Прохорыч, — всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть! — Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча, — ишь добродетель какая выискалась! Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил. — Потому, — говорил он, — что ежели уж с кем это несчастие случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сем мире — и больше ничего». Таким образом в философических упражнениях прошел целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне: — Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть! И действительно, он, как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел. Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она переждала ночь, но как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу. Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним, и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительною ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто. 160 Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а устремительный. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный. И вдруг этого самого человека начало коробить. Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках, и в лавках, — все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли все это мне представляется?» Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти — о, ужас! длани не простираются! Испугался. «Что это со мной нынче сделалось? — думает Ловец, — ведь этаким манером, пожалуй, и напредки все дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?» Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и все это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!» А мужики между тем осмелились: видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали Ловца Фофаном Фофанычем звать. — Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! — решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой. Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесет?» И вдруг — ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца. — Куда кульки девал? — спрашивает она его. — Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... — начал было Ловец. — Где у тебя кульки, тебя спрашивают? — Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... — вновь повторил Ловец. — Ну, так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! — решила Ловчиха. Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто — и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать. — Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! — сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар. Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось: один, без пальто, — бесстыжий, загребистый и лапистый; другой, в пальто, — застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар не отказался. «Авось-либо, думает, превозмогу». 161 Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьито чужие деньги. — Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету. — Это за что же, Фофан Фофаныч? — А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради! — Ну, бог тебя простит! Таким образом обошел он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался. — Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, — опять сказал он сам себе, — пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем бог послал! Сказано — сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал: — Вот, Федосьюшка, те самые странние люди, которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа! Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего городу сбита! Видит и не понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?» — Что за народ? — выбежал он на двор в исступлении. — Ка́к что за народ? это всё странние люди, которых ты накормить велел! — огрызнулась Ловчиха. — Гнать их! в шею! вот так! — закричал он не своим голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом. Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, что́ такое с ним сталось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею! — Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! — взмолился он. Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман — нашла пустой кошелек; обшарила другой карман — нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку — так и ахнула! 162 — Так вот он нынче на какие штуки пустился! — сказала она себе, — совесть в кармане завел! И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть, чтоб она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцского. — У этого, по крайности, шея толста! — решила она, — может быть, и побьется малое дело, а выдержит! Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик. — Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар, — сказала она мужу, воротившись домой. Самуил Давыдыч Бржоцский сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции. — А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? — спрашивал он. — А какой процент: простой или слозный? — спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч. — Разумеется, папаса, слозный! — Если слозный и с усецением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек! — Так я, папаса, отдам! — Отдай, мой друг, только надо благонадезный залог брать! С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые заимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери. Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо. Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях. — И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! — завопил он, трясясь всем телом. Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно. Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду 163 тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился. — Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов, — и если я буду спрасивать скатулку — ни-ни! пусть луци умру! Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение. Задумано — сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу. — Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом. — Что же-с! это похвально! — отвечал генерал, — я всегда это знал, что вы... как еврей... и по закону Давидову... Плясаше — играше... так, кажется? Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой. — Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! — заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем облегченный, — только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские! — Благодарю! — сказал генерал, — об одном сожалею... как христианин... отчего бы вам, например?.. а?.. — Васе превосходительство... мы только с виду... поверьте цести, только с виду! — Однако? — Васе превосходительство! — Ну, ну, ну! Христос с вами! Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали. И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук. Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться. 164 — За что вы меня тираните! — жаловалась бедная совесть, — за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете? — Что́ же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? — спросил, в свою очередь, мещанинишка. — А вот что, — отвечала совесть, — отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается. По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама. О. Генри. Последний лист. В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету! И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель ХVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию». Студия Сью и Джонси помещалась наверху трёхэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил её с ног, и 165 Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплёт голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор. — У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает? — Ей… ей хотелось написать красками Неаполитанский залив. — Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины? — Мужчины? — переспросила Сью, и её голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит… Да нет, доктор, ничего подобного нет. — Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти. После того как доктор ушёл, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шёпот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке. — Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплёл до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. — Что там такое, милая? — спросила Сью. — Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и ещё один полетел. Теперь осталось только пять. 166 — Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди. — Листьев. На плюще. Когда упадёт последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе? — Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты ещё так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь ещё сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идёшь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя. — Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и ещё один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остаётся всего четыре. Я хочу видеть, как упадёт последний лист. Тогда умру и я. — Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору. — Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси. — Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья. — Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадёт последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев. — Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду. Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все ещё говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутёмной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчёт того, 167 как бы она, лёгкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет её непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. — Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси! — Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик… противный старый болтунишка. — Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идём. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да! Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шёл холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателяотшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зелёной шторы. — Подними её, я хочу посмотреть, — шёпотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене ещё виднелся один лист плюща — последний! Все ещё темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землёй. — Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадёт ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я. — Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной? Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далёкий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие её с жизнью и людьми. День прошёл, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все ещё оставался на месте. 168 Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для неё куриный бульон на газовой горелке. — Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь. Часом позже она сказала: — Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив. Днем пришёл доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. — Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить ещё одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление лёгких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжёлая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее. На другой день доктор сказал Сью: — Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно. В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла её одной рукой — вместе с подушкой. — Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления лёгких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашёл бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все ещё горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист. Иван Сергеевич Тургенев. Живые мощи. Край родной долготерпенья — Край ты русского народа! Ф.Тютчев Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное 169 время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало… Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта… А уж это последнее дело, как выражался Ермолай. — Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец, — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам чучъе заливает; ружья осекаются… Тьфу! Задача! — Что же делать? — спросил я. — А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра… — Сюда вернемся? — Нет, не сюда… Мне за Алексеевкой места известны… многим лучше здешних для тетеревов Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь. На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью… На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, Бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопли. Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура… Я пошел было прочь. 170 — Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки. Я остановился. — Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех, замеченных мною, подмостков. Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится… силится и не может расплыться улыбка. — Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ. — Да и где узнать! Я Лукерья… Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила… помните, я еще запевалой была? — Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли? — Я, да, барин, — я. Я — Лукерья. Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик! — Помилуй, Лукерья, — проговорил я наконец, — что это с тобой случилось? — А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барии, не погнушайтесь несчастием моим, — сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет… вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это вы в Алексеевку попали? Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки. — Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне… — Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью… уж и до заря недалеко… а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается… и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, 171 знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе а комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось… Дайте дух перевести… с минуточку… барин. Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие. — С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец… Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно… ну и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите. Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться. — Это, однако же, ужасно, твое положение! — воскликнул я… и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос. Лукерья отвела глаза немного в сторону. — Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо. — И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять. — Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу. — Кто же за тобой ходит? Присматривает кто? — А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вод она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была… Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш… на что приятнее! — И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья? — А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает. 172 — Это каким же образом? — А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий». — Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит. Я, признаюсь, удивился. — Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь? — Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет… а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать… Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука… Какие вы, господа охотники, злые! — Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить. — А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой! Лукерья взглянула на меня… аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы. — Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь; да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать! 173 — А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», акафист «Всем скорбящим» — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего! Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел. — Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь… Лукерья чуть-чуть двинула бровями. — Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково, — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу… Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик. — Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал… — Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна… и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит… Возьмет меня размышление — даже удивительно. — О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья? — Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне; будь около меня люди — ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья. Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены. 174 — Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь… Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бойдевка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою. — Песни?.. Ты? — Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится. — Как же ты поешь их… про себя? — И про себя и голосом. Громко-то не могу, а все — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас… Лукерья собралась с духом… Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук… за ним последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить… Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце. — Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает… Очень уж я вам обрадовалась. Она закрыла глаза. Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики… Она взглянула на меня — и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье они заблистали в полутьме… Слеза их смочила. Я не шевелился по-прежнему. — Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось… с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть… Не побрезгуйте, утрите мне глаза. Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась… на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так, по крайней мере, мне казалось — следы его бывалой красоты. — Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я 175 больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая… Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам?.. Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги… но тут мы взвились! Он впереди… Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет. Лукерья умолкла на минуту. — А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину. — А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вяжу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не 176 русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать… Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно… После, мол, петровок… С этим я проснулась… Такие-то у меня бывают сны удивительные! Лукерья подняла глаза кверху… задумалась… — Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита… Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить? Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью. — Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели… А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жите-лев они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями, святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненною смертью за свой народ помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что! Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет? — Двадцать восемь… али девять… Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу… Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула… — Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить. — Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела… Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего? — Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы 177 малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодил нет… Они бы за вас Богу помолились… А мне ничего не нужно — всем довольна. Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям… она подозвала меня опять. — Помните, барин, — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась… Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала… Да… Ну, простите, барин! Больше не могу… В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!» Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришлатаки за ней… и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба. Иерей Николай Блохин. Травка. Рассказ. 30-е годы. Закрывать решено было так, чтоб не просто закрытие получилось, но идеологическое торжество, чтоб поняли жалкие остатки последних местных богомольцев всесильную беспощадность закрывающей силы: именно в Рождество закрыть Рождественский храм, последний в районе враждебный островок уже повсеместно уничтоженной поповщины. Для пущего же торжества и кресты решено было сбросить. Самый куражистый и самый молодой из закрывателей - студент Яшка, выкликал с хохотом: - Сам петли на кресты одену. И никакой молнией за то не убьет меня ваш Бог, потому как нету Его!.. Я зато есть! А это значит ни одного креста на земле не останется. - А не слипнисси? Много таких было, - проворчал один худенький облезлый дед и сам своего ворчания испугался под огневым Яшиным взглядом. - Не, не слипнусь, - весело отвечал Яша. - Таких, говоришь, много было? Таких не было. Я вам возрожу пятилетку безбожия! Яша приехал на зимние каникулы к своей бабке, учительнице местной школы, которая тоже была в числе инициаторов-закрывателей, но даже ее, а также и всех местных идеологических вождей поразила Яшина рьяность. Ждали подъемный кран с выдвижной стрелой, чтоб на кресты тросы накинуть, но рьяный Яша решил не ждать, решил сам лезть, И полез, не слушая никаких 178 отговоров. Уж больно сильно захотелось и Бога несуществующего уесть и доблесть свою показать. А дело было нешуточное: пятиглавый храм высоченный, стены обледенелые, погода слякотная, ветреная. Уже скоро, стоя ногами на барельефной надвратной иконе, он понял всю серьезность дальнейшего пути, но назад хода не было (лучше свалиться, чем осрамиться). - Любой ценой, мертвым, но доберусь до крестов, - твердо и грозно проскрежетало по его извилинам. - Раз сказал - таких не было, - буду таким, каких не было. Взгляды толпящихся сельчан чувствовала его спина будто удары плеток. Они подхлестывали его остервенелое воодушевление и толкали вперед. Каждое его движение профессионала-скалолаза было точно, спокойно, расчетливо и вдохновенно. Добравшись так до основания из малых куполов, Яша остановился и глянул вниз. Высоты он никогда не боялся, а тем более такой высоты -всего-то с восьмиэтажный дом. И страха падения не было, хотя в случае падения гибели не избежать. Уже полз по слякотному бездорожью ожидаемый кран, краем глаза он видел его. Самое разумное было - продержаться вот так до того, как выдвижная стрела с люлькой будет рядом. Так подсказывал разум. Но одержимость гнала вверх. Это странное воодушевление, ощущаемое им физически, вдруг взрывом заполнило его волю, напрочь вышвырнуло разум и полновластно командовал теперь сознанием. Сияющий над головой Крест отчего-то растравлял рвавшееся это воодушевление до состояния бешенства. Яша готов был уже прыгнуть к кресту, хоть от воздуха оттолкнувшись, и вцепиться в него зубами. И вместе с ним вниз рухнуть, плевать на гибель. Что такое, какая-то там гибель, если - вон он! - сияет растравливающим своим светом. И нету жизни и покоя, пока сияет этот свет. Прыгнуть не прыгнул Яша, но движение роковое телом сделал соскользнули ступни с уступчиков, ушла опора из-под ног. И пальцы на руках разжались, тоже свой уступчик выпустили. Мелькнул перед глазами пучок серо-желтой высохшей травки, торчащей из щели меж двух кирпичей. Обе руки судорожно уцепились за пучок в безнадежном жалком порыве. Вернулся-таки, прилетел инстинкт самосохранения, и он с ужасом понял реальность гибели: сейчас с травкой этой в руках он полетит вниз. Но травка - держала. Он шарил, болтал ногами и, наконец, нащупал новые уступчики. Замер так, обалдело таращась на травку - сейчас оторвется. Но она не отрывалась. Едва не вскрикнул от легкого толчка в спину, оказалось люлька подплыла на выдвижной стреле. Мертвой хваткой схватился за люльку, встал на платформу. Пучок травки легко выскользнул из щели меж кирпичей, когда он, уже на платформе стоя, двумя пальчиками без усилий потянул за него. И надолго застыл так Яша, глядя на травку. И не чувствовал, и не видел, что люлька поднимает его к кресту. Качнулась люлька, остановившись, очнулся Яша. Перед его глазами сиял золотой крест, на который ему следовало накинуть петлю. Ожившее бешеное воодушевление пыталось новым взрывом овладеть сознанием, но взрыва не получалось. Ежилось оно, таяло от бившего в глаза сияния креста, рассыпалось от дрожи пальцев, сжимавших пучок травки. Что-то кричали ему снизу, но он не слышал, что. Наконец, люлька пошла вниз. Пустым, невидящим взглядом глядел 179 перед собой Яша, когда вытаскивали его из люльки, трясли, ощупывали, чего-то говорили. - Да шок у него, нервный шок, - суетилась вокруг него бабка. - Сейчас, сейчас пройдет. Чего это ты держишь-то? - Травка, - сказал Яша и взгляд его осмыслился, - травка... - повторил он и засмеялся. - Чего травка, какая травка, почему травка? - Вот, - Яша разжал пальцы, - я зацепился там за нее, потому и жив. Бабка сосредоточилась взглядом на пучке. Местный идеовождь также соизволил уставиться на травку. - Но этого не может быть! - сказала бабка. - Не может, - ответил Яша, - но я жив, вот он я. «Я есть» -вдруг вспомнился свой недавний, яростный вдохновенный восклик. Тошно стало почему-то от этого воспоминания. - Ну и слава Богу, что жив, - сказал местный идеовождь. Вздрогнул Яша и перевел взгляд на идеовождя. - Как? Как вы сказали? А вы понимаете, что вы сказали? Идеовождь нахмурился. - Ты чего это, э..., чего-то я не понимаю тебя. - Не понимаете, - прошептал Яша. - Вижу. Не понимаете... не понимаем. А... как же мы... почему, не понимая, лезем во все, а?! - Ой, - отшатнулась бабка. - Как смотрит! Яшенька, у тебя осоловелые, ненормальные глаза! А Яше вдруг стало казаться, что ненормальные глаза как раз у бабки. Ему показалось, что во всем существе ее он увидел то страшное (и сейчас оно виделось страшным до жути), что так любил всегда, чем гордился, и что в себе всегда нес. Это страшное не охватывалось разумом, не поддавалось анализу, но наличие его, бытие его, этого страшного, было также реально, как реальна была возможность гибели его там, на стене. Он глянул наверх и увидел себя стоящим ногами на надвратной барельефной иконе. Одна нога - над головой Богородицы, а другая - над головой Младенца, которого она вынимает из яслей. И то самое, что видит он сейчас в бабкиных глазах, что живо и в нем, страшное и могучее, тащит, несет его вверх, чтобы петлю на кресты... - Ну, - сказал тут идеовожь. - Пора кончать. Залезай, одевай петли, будем сбрасывать. Сияющие на солнце кресты глядели на Яшу будто в ожидании. Так ему показалось. Будто и сам воздух вокруг отвердел в ожидании его решения. «Да, одену сейчас петли, потянем - и все. И молнией не убьет. И вообще ничего не будет. Ничего. Ничего?..» Яша живо себе представил, как он вылезает из люльки, как тросы натягиваются... И туг он отчетливо понял, что не сможет он тогда жить. Вот не сможет - и все, невозможна будет жизнь. И непонятно сейчас, отчего так, ну, подумаешь - травка, да была ли она вообще, травка-то, выпала из пальцев, будто не было... 180 «Я есть!.. А... а зачем я есть? Чтобы кресты с храмов стаскивать? Я ногами по Их головам, а Они мне...» Одна травинка осталась в руке, чувствуется... - Ну вот что, - сказал Яша. - Все вон отсюдова пошли. С краном вместе. Не будет закрытия... - Ой, да он ли это сказал? Яшенька ли рьяный это сказал? Бабка со страхом попятилась от него. - Да он болен, с ума сошел! Яшенька, опомнись! - Опомнился, - сказал Яша. Идеовождь внимательно поглядел на него, ухмыльнулся спокойной горьковатой ухмылкой: - Горяч... Все решил? Было у меня уже такое. Ну-ну, твоя воля. Когда отступили закрыватели, Яша вошел в храм. Огляделся. Все было уже выволочено, вынесено, содрано, большая часть штукатурки с росписями отбита. Сам и отбивал кувалдой. Он подошел к тому месту, где почти не отбилось. почему-то, сколько не долбил он тогда, надпись только повредилась. Вгляделся в нарисованное и стал читать поврежденное. Изображен был какой-то молодой поверженный человек с выколотыми глазами, отрубленными ногами и руками. «Иаков Персиянин», - с трудом прочел Яша на нимбе вокруг головы поверженного. «Иаков... Яков?.. И я - Яков!..» Вгляделся пристальнее, напрягся и прочел. Поверженный Иаков взывал к Господу, сокрушался, что нету ног у него, чтобы преклонить перед Ним колена, нету рук у него, чтобы поднять их к Небу, что не имеет глаз он, чтобы взглянуть на Него, но он благодарит Его за все и просит не наказывать своих мучителей, ибо не ведают, что творят. «И я его кувалдой по глазам...» Яша перевел взгляд на купол, в вышину, куда был обращен лик безглазого человека Иакова. Скорее догадался, чем узнал Яша Того, Кто глядел на него с высоты. Раз в жизни до этого был Яша в храме, вот в этом самом, позавчера, с кувалдой. И сейчас можно еще обозвать Его, даже бросить в Него чем-нибудь, на неотбитую роспись плюнуть, кувалду взять. И не убьет в ответ молнией. И ничего в ответ не будет. Ничего? Ожидали глаза Лика с вышины. Билось, рвалось наружу из дальних недр сознания то могучее и страшное, разумом не охватываемое, что на стену недавно гнало. И то, что излучали из себя и к чему звали глаза с вышины, тоже разумом не охватывалось. Яша снова глянул на Иакова-мученика. Везде и всегда и во все времена были мученики за идеи. Но такого, как вот этот, не может быть ни у какой идеи. Не может нормальный человек, разумом наделенный, которому рукиноги отрубили, глаза выкололи, мучают зверски, не о ногах-руках-глазах, не о боли сокрушаться, а... что на колени не может стать перед Тем, за Кого и получил он все это. Да еще чтоб мучителей простил! «...И меня, значит? Ведь и я его кувалдой...» Не может такого быть, но он - вот он. Дрожь в теле почувствовал Яша, когда ясно и просто понял и осознал, да нет же - ПОВЕРИЛ - что вот этот Иаков на самом деле был. Был, жил, ходил, дышал и в самом деле взывал так, как тут написано. И вообще... да неужто?! вот этот храм - громадину! и остальные! 181 сотворили болваны трусливые, оттого, что молнии и грома боялись, не зная как их объяснить?! «И ведь не видел Того, к Кому взывал, у Кого прощение мучителям вымаливал... А может видел? Безглазый, но видел?... А может,., может и вправду стоит он сейчас вот так... И не на куполе нарисованный, а НАСТОЯЩИЙ! Там, за куполом, на Небе Своем?..» Увидал еще одну полусбитую надпись. Сразу вспомнил, что над ней была коленопреклоненная женщина, которую он всю искрошил кувалдой. Прочел полусбитое: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И тут почувствовал, что на него наваливается состояние ужаса как на стене, когда соскользнул. Заметавшиеся в голове мысли задолбили по черепу гулкой болью, точно кувалдой. «Я, я - есть,., чтобы кувалдой? по глазам?..» Вдруг причудилось, что Иаков этот на стене - живой, и он, Яша, его живого кувалдой. «А и вправду живой!..» Ужас все наваливался и наваливался, вот-вот раздавит, и нету травки под рукой, чтобы схватиться... Как нету? Как нету? Да ведь - не вмени им... Кому - им? Мне, мне надо не вменить! Прошептал страшным, громовым шепотом: Яков! Мне, мне пусть не вменит, мне пусть не вменит! - оборотился к куполу: - И я, и я - верую, хочу веровать, - завопил истошно, - возьми меня, Господи, накажи, вмени мне все, руки отруби, ноги отруби, глаза выколи, но -возьми! не бросай... Вновь возвратившиеся закрыватели явились с нарядом милиции. Крана с ними не было, по дороге забуксовал и застрял. Яша сопротивлялся отчаянно, но все-таки его взяли. Это его сопротивление и вменили ему как сопротивление власти, оценив в четыре года исправительно-трудовой зоны усиленного режима. И попинали его и помутузили изрядно при взятии, в отместку за сопротивление и нежданный идеологический прокол. Даже идеовождь пнул мстительно вождистекой своей ногой распростертого уже, скрученного Яшу. В ответ на этот пинок Яша почему-то улыбнулся и чего-то прошептал, причем гак улыбнулся, что идеовождь расстроился еще больше и еще пнул. Об одном просил Яша, когда запихивали его в увозящую машину, чтоб позволили ему на храм смотреть, пока он видим, ЧТО великодушно ему было позволено. Яша смотрел на удаляющиеся кресты и улыбался тою же улыбкой, какой улыбался, когда пинал его идеовождь. Так-таки и не сорвали их потом, хотя храм, естественно, закрыли. Кран то занят был, то барахлил, то идеовождь приболел (а потом и вовсе умер, с идеологическим почетом и похоронен со звездой на могиле). В общем, притускнела как-то рьяность идеологическая у местного начальства насчет крестов, так и остались они и потом, через тридцать лет, когда вновь открывали храм Рождества в Рождественке (в Рождество и открывали) -подкрашенные и подновленные сияли они на солнце. Совсем уже состарившийся, седой и сгорбленный Яша в день открытия стоял чуть поодаль от храма и смотрел не на кресты, а на стену чуть ниже основания малого купола, что слева от барельефной надвратной иконы. Там виднелся (если вглядеться) пучок сухой серо-желтой травы, который обязательно зазеленеет к лету, пучок, разросшийся от засушенного кусочка травки без корня, что воткнул он меж двух кирпичей, когда реставрировали храм, кусочек, который 182 прошел с ним все зоны и пересылки, много раз едва не конфискованный, ибо кумовья и режимники принимали его за наркотик, и занявший, наконец, свое неизбежное место на случай спасения еще одного рьяного закрывателя. Майк Гелприн. Свеча горела. Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду. — Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы? Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой. — Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература? — Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия. «Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича. — Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать? — Я, собственно... — собеседник замялся. — Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то... — Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух. — Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес. — Говорите, я запомню. В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили. — Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век... Как вы полагаете? Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, 183 лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их. Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем... Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы. В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак... Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль. «Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он... Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду». Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть. Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту. — Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно... С чего бы вы хотели начать? Максим помялся, осторожно уселся на край стула. — С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили. — Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных. — Нигде? — спросил Максим тихо. — Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты... — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим? — Да, продолжайте, пожалуйста. — В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков. Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб. 184 — Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете... Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим! — Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам. — У вас есть дети? — Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня? — Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу. Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился. — Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела... — Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович. — Непременно. Только вот... Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит? Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром. — Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра. — Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте. Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть. — Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать. «Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин». Лермонтов «Мцыри». Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий... Максим слушал. — Не устали? — спрашивал Андрей Петрович. — Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста. День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий. Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн. Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков. Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый. Классика, беллетристика, фантастика, детектив. Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо. Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. 185 Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону. — Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос. Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю? Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу. — А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём. — В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович. — Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался. — Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой? — Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал. — С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите? — Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят. Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами. «Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения... По факту утилизирован.... Общественность обеспокоена проявлением... Выпускающая фирма готова понести... Специально созданный комитет постановил...». Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив 186 бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол. Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота. Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил. Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё. Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше. — Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка. — Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто? — Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса. — От... От кого?! — От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он... как его... — Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка. Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку. — Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он. — Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить? Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад. — Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети. . Елена Коровина. Счастье человеческое. Я ничего не хочу... Я и так уже счастлив. "Три встречи", И.С. Тургенев - Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - «Парк культуры». Я быстро вошла в вагон и с удовольствием плюхнулась на свободное место. Привычным взглядом окинула пассажиров, сидящих напротив меня. Вдруг сердце знакомо вздрогнуло, и я невольно подалась вперед. Девушка в легком весеннем, оливкового цвета, пальто. Овальное красивое лицо, кожа изысканно светлая, до бледности. Прямой нос, большие лучистые глаза-каштаны, строгие губы. Все черты тонкие, изнеженные. Маленькая родинка у правого глаза. Волосы до плеч – темные, пышные, вьющиеся. Что-то греческое, неуловимо строгое, древнее. Неужели Евангелина? Евангелина Катранис? - Ева, - отчетливо произнесла я, и напряжение в глазах девушки, тоже всматривающейся в меня, сменилось блеском радости. 187 - Ирочка! Мы вскочили со своих мест и обнялись. - Я тебя сразу узнала, Ева. Ты ничуть не изменилась! – воскликнула я. Мягкий голос объявил название станции. Ева встрепенулась. - Торопишься? Я с тобой выйду: поговорим, - предложила я. Мы с Евой сели тут же, в метро, на скамье. Я крепко сжимала ее тонкие руки в своих, и мы смотрели друг на друга с восторгом и счастьем. - Ты в Москве теперь живешь или нет? – начала я, желая как можно скорее узнать о жизни своей бывшей одноклассницы. - Да, в Москве. - Давно приехала? - Четыре года назад. - Четыре года! И я ничего не знала, Ева! – почти ужаснулась я. - Но ведь ты переехала. У меня не было твоего нового адреса, - с тихой улыбкой говорила Ева. - Ну да. Просто как-то удивительно. Сколько бы еще так жили рядом и ничего не знали друг о друге? – я сжала Евины пальцы и неожиданно почувствовала, что мне в кожу врезается обручальное кольцо подруги. - Ты замужем? – радостно удивилась я. - Да. - Поздравляю! Что творится! Тебе сейчас двадцать два, а мужу? - Двадцать шесть. - Как его зовут? Кем работает? Ну, говори же, Ева! – я почти дрожала от нетерпения. - Дима. Он предприниматель. Сетевой маркетинг и все из той же сферы. У меня есть дочь Леночка. - Поздравляю! Ева, милая, ну, ты оперативно работаешь! – рассмеялась я. – Сколько дочке? - Три года. - А во сколько ж ты замуж вышла? - В 18. Я Диму давно знала. Когда мы с мамой вернулись из Греции, мне как раз исполнилось 18. Дима почти заставил меня выйти за него. Не хотел ждать. - Ясно. Ева, ты учишься где-нибудь? - Пока закончила первый курс филфака МГУ. Потом ушла в декретный отпуск. - Ну, ты даешь! – восхищенно прошептала я. Ева посмотрела на часы. - Ирочка, голубка, мне надо ехать. В поликлинику за справкой. Врач ждать не будет. - Конечно, конечно! – мы встали. - А где ты учишься, Ира? - В медицинском. Первый Мед. Безумно нравится. - Молодец. Запиши мой адрес и телефон. Придешь в гости. Мы с Евой наскоро попрощались, расцеловались. - До встречи, Ирочка. 188 - Подожди, - я схватила ее за рукав. – Какая теперь у тебя фамилия? - Лазовская. Я шла по Ленинскому проспекту в 1-ю градскую больницу на практику и думала о Еве. Она училась в моем классе несколько лет. Русская по матери и гречанка по отцу. Это он назвал дочку красивым и нежным именем Евангелия (по-гречески), Евангелина (по-русски). А мы звали ее просто – Ева, по-дружески. Ева до пяти лет жила в Салониках. Затем, после трагической гибели отца, вернулась с матерью в Россию, поступила в первый класс. Она сразу зарекомендовала себя как тихая отличница, рассудительная и умная не по возрасту. Из-за высокого роста и серьезного, не детского, отношения ко всему, она считалась у нас самой взрослой, старшей, непререкаемым авторитетом, хотя была ровесницей многих девчонок. То ли оттого что Ева была верующей, то ли просто от природы, от особенности характера, у нее была потребность все время помогать кому-нибудь, утешать, выслушивать чужие проблемы; в общем – быть нужной, быть необходимой другим. Странно, но почему-то у нее это превосходно получалось. Уже в старших классах некоторые мои педагоги и старшеклассницы дожидались Еву на переменах либо после уроков и о чем-то разговаривали с ней, внимательно вглядываясь в ее лицо. Ребята из нашего класса уважали Еву и никогда не позволяли себе разговаривать с ней небрежно, свысока, привалившись к подоконнику или засунув руки в карманы джинсов. А Ева стояла прямая, с расправленными плечами, и что-то спокойно, с достоинством отвечала собеседнику, глядя в его глаза и чуть наклонив голову. Евина «нужность» была неоспоримой. Наш классный руководитель, учитель истории, как-то назвал ее талант «нейролингвистическим программированием». Ева долго смеялась после его слов, что случалось с ней редко, – она и представления не имела, что это такое. Мы прислушивались к советам Евы и порой как-то бессознательно перекладывали различные обязанности и ответственность за «внутриклассные» решения на нее; на всех школьных собраниях, огоньках, праздниках, во всех походах Ева была незаменимой. Когда умерла моя любимая бабушка, воспитывавшая меня с детства, мне казалось, что я не смогу прожить без нее и дня. Она умерла неожиданно – от инсульта, и я никак не могла поверить, что ее больше нет. Ева не сказала мне ни одного слова утешения. Просто обнимала и выслушивала мои сбивчивые истеричные рассказы, терпеливо снося мои рыдания и жалобы. Она присутствовала со мной на похоронах и здесь также молчала, позволяя мне отплакаться. Затем настал момент, когда у меня не осталось больше слез. Ева это почувствовала, и как-то ненавязчиво и просто мы оказались с ней в церкви. «Перекрестись. Повторяй за мной: «Упокой, Господи, душу рабы Твоей Татьяны…», - шепотом учила Ева. – Поставь свечку… Еще перекрестись…». Я все делала, как она говорила. Мне было очень приятно слушаться Еву. …В ту пору мы учились в восьмом классе. А через год она уехала с матерью в Грецию – их пригласили бабушка и дедушка Евы. 189 Сначала Ева писала моей однокласснице, письма приносились в класс и читались всеми, затем постепенно связь прервалась. Впереди были выпускные экзамены, неизведанный запах свободы и, что поделаешь?.. Ева далеко-далеко в солнечной чужой стране. А теперь! Я шла и чувствовала, что душу прошивают золотые нити огромной радости. Сколько всего произошло! Ева живет в Москве! Ева замужем! У Евы ребенок! Вот счастливица! И завтра я пойду к ней в гости! Завтра! Ева с милой, радушной улыбкой открыла мне дверь. Она была в тёмнозелёном домашнем платье, облегавшем ее стройную тонкую фигурку. И словно угадывалось в этой фигуре, прямой осанке и строгом профиле что-то античное, греческое. Воинственная Афина-Паллада. Афродита. Двухкомнатная квартира Евы была уютной и просторной. Все как-то мило, просто и удивительно радостно из-за большого количества светлых пейзажей на стенах. Засушенные изящные цветочки в вазочках, домашние растения, высокая раскидистая пальма в кадке – было такое ощущение, словно я попала в цветущий сад. В углу, на полке, стояли иконы под навесом плюща. Я протянула Еве свой подарок – тортницу и три розы – и спросила, где дочка (для девочки я принесла мягкую игрушку). - Лена спит, - Ева указала рукой на закрытую дверь другой комнаты. – Это у нас детская. - У вас так здорово! Словно райский сад, - улыбнулась я. – Ева, а где твой Адам? - На работе, - подруга скрестила руки на груди. – Бедный, он работает с утра до ночи. Ну, идем пить чай. Мы долго пили на кухне чай с изумительно вкусным тортом, который испекла Ева, и говорили, говорили… Я была совершенно очарована её фотографиями. Греция, море, древние монастыри, гора Афон, сфотографированная с вертолета… Свадьба Евы. Безмятежная сказочная невеста: редкий контраст смугловатой матовой кожи и тёмных пышных волос с белоснежным, свадебным… Лучистое, счастливое лицо и необыкновенно красивое платье, похожее на невесомое облако, - из белого сверкающего газа и кружева (оно шилось в Греции на заказ). Смех, свет, веселье во всём облике. Муж Евы – высокий симпатичный брюнет со строгим взглядом карих глаз. Вот молодожены гостят в Салониках. Вот Ева с коляской… Мы много говорили о свадьбе. Я восхищалась фотографиями и как-то почти бессознательно, по старой памяти, начала жаловаться подруге на свою несчастную жизнь. Я подробно рассказала о своем бывшем любимом, о несостоявшейся свадьбе. - И ты, Ирочка, как 15-летняя девочка, решила, что на этом твоя жизнь закончилась? И больше не будет ни одного радостного дня? – смеясь, спросила Ева. - Нет, разумеется, нет. Но это было так неприятно, Ева, - вздохнула я. – Когда действительность идёт вразрез с твоими мечтами, это очень обидно. Так хочется быть счастливой! Моя подруга вдруг стала серьезной и, положив руки на колени, сказала: 190 - Ирочка, знаешь, как-то жена поэта, кажется, Осипа Мандельштама, стала доказывать ему, что она очень несчастлива. И муж спросил ее: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?» Вот и я хочу спросить тебя: милая Ира, с чего ты взяла, что ты должна быть счастливой? Я удивленно посмотрела на подругу. Такого вопроса я никак не ожидала. Перебравшись вслед за Евой в сферу литературы, я ответила первое, что пришло мне в голову: - Ну, все люди должны быть в идеале счастливыми. Вот какой-то классик, например, писал, что человек создан для счастья, как птица для полета. - Ну-у, классик! – рассмеялась Ева. – А Достоевский, тоже, кстати, классик, писал, что человек рождается для того, чтобы как следует пострадать на земле. Вопрос в том, к словам какого классика примерять свою жизнь, свои мечты. - Ева, перестань. Давай сворачивать полемику. Спустись ниже. Согласись, что любой человек стремится к счастью. Любой. Ты и я – мы стремимся создать семью, завести детей. Хотим любить и быть любимыми. И у тебя все получилось, Ева. И ты с высоты своего счастья смотришь на других людей и проповедуешь почему-то страдание, - с легким раздражением произнесла я. - Я счастлива… - неожиданно проговорила Ева, и на губах ее возникла странная грустная улыбка. – Я счастлива, - повторила она как-то безнадежно. И вдруг встрепенулась: - А все-таки, Ирочка, давай чуть-чуть порассуждаем. Да, любой человек стремится к счастью, но зачастую он ищет его там, где не надо. Можно купить машину, квартиру, норковую шубу – и счастья не будет. Это извечная истина. И вообще понятие «счастье» лежит совсе-е-ем в другой плоскости. И изредка пересекается с материальными благами. Изредка и всего лишь на мгновение. - Да ну что ты говоришь, Ева! Это частное мнение. Каждый человек сам определяет, что для него является счастьем! – воскликнула я. - Да, но как глубоко несчастен тот человек, для которого счастьем является покупка новой машины или шубы… - грустно заметила Ева. - Ну, это твое мнение! Я, например, безумно счастлива, что купила себе наконец-то тот мобильник, который давно хотела, и давай не будем больше спорить, - попросила я. Мы посидели немного молча, и я с любопытством спросила: - А что для тебя является счастьем? Наверное, твоя семья? - Нет, - сразу же, с готовностью ответила Ева. – Мое счастье – это жить в ладу со своей совестью. Совесть – такой судья, от которого никуда не денешься. Можно, конечно, долгое время запихивать ее в самый дальний угол души, но совесть обязательно когда-нибудь встанет во весь рост и потребует за все ответа, - с болью в голосе закончила Ева и замолкла. «Как пафосно. Нет, Ева как всегда в своем репертуаре: само совершенство, идеал, - подумала я и внезапно поняла, что «идеальный образ» подруги начинает меня сильно раздражать. – Такого не бывает. Начиталась в свое время книг о разумном, добром, вечном; о высоких материях. Но мужа, однако, отхватила какого! В тихом омуте…». - Ладно, проехали. Лучше расскажи о свадебном путешествии, ты обещала. 191 Моя подруга неожиданно встала со стула и прислушалась. - Леночка проснулась. Извини, я сейчас. Ева быстро ушла в комнату. Я услышала доносящийся из детской жалобный писк, хныканье и затем голос Евы, успокаивающей дочь. Я думала, что подруга выйдет ко мне с девочкой на руках, и достала игрушку из пакета. Ева, войдя в кухню одна, быстро взяла из шкафа молочную смесь и включила плиту. - Сейчас покормлю ее, - улыбнулась она, помешивая ложкой яблочное пюре и добавляя туда творог. - Ева, ну что же ты не показываешь мне свое сокровище? – удивилась я. - Ты не думай, я ее не прячу, - вдруг печально ответила Ева и вытерла руки о фартук. – Просто Лена тяжело больна. Очень тяжело. Пойдем. Сколько горя, боли и безысходности было в глазах и словах Евы! - Чем она больна? – тихо спросила я. - Ты учишься в медицинском. Может, этот термин тебе уже известен, Ир. У Леночки органическое поражение головного мозга. Я застыла в дверях детской. Этот термин был мне очень хорошо известен. Более чем хорошо. Наш врач-невропатолог, преподаватель анатомии и патологии, со свойственным многим медикам цинизмом называл таких детей «вяло рефлексирующими кусками мяса». Не знаю, быть может, в какой-то степени он и был прав. Это дети, которые самостоятельно могут лишь дышать, глотать и выделять… И все. Я с ужасом посмотрела на Еву, а потом перевела взгляд на розовую кроватку… Там лежала девочка (на вид она казалась крупным годовалым ребенком) – в ярких ползунках, коротко подстриженная, светленькая, с невидящим затуманенным взглядом… Около нее висели погремушки, цветастые мягкие игрушки. В изголовье стояла маленькая икона. - Лена, Леночка, ты посмотри, кто к нам пришел! – заворковала ласково Ева, беря дочь на руки. Голова Лены безжизненно свесилась с плеча Евы. Девочка в три года не могла самостоятельно держать голову. И никогда не сможет. - Здравствуй, Ленуля, - чужим голосом проговорила я и поставила рядом с ее кроваткой свой подарок. Лена жалобно и как-то нудно пищала, тыкалась носом в плечо матери, ничего не видя и никого не слыша. - Ну, пойдем кушать. Совсем заморили мою ягодку голодом. Леночка будет кушать! – ворковала Ева. Я с плохо скрываемым ужасом смотрела, как ребенок ест. Ева положила дочь к себе на колени, обхватила ее одной рукой за шею и пальцами раскрывала рот девочки. Лена дергалась, давилась, с трудом, утробно, мучительно глотала и напоминала мне… не до конца ожившую куклу. Слюнявчик, лежащий на руке Евы, был заляпан; пюре стекало по подбородку ребенка. Внезапно Лена сильно покраснела и натужно, громко и хрипло закашляла. Я машинально вскочила со стула, наклонилась к девочке. - Ничего, ничего… Это бывает, – быстро остановила меня Ева. – Сейчас она откашляется. Я приучаю Лену к жидкой пище, это для нее тяжеловато; легче, 192 когда кусочками… Подай, пожалуйста, вон то полотенце с утятами. - После еды Ева умыла дочку и, качая ее на руках, села напротив меня на стул. - Вот такая у нас Леночка, - с печальной улыбкой проговорила Ева. Я молчала, смотрела то на Еву, то на ее дочку и пыталась осознать все, принять ту мысль, что Ева будет мучиться с ней всю жизнь. - Но, Ева… неужели… неужели врачи не могли определить болезнь ребенка, когда ты была беременна? – воскликнула я. Ева довольно холодно на меня взглянула. - Ну, и что я бы тогда сделала? Что? Пошла на аборт? Убила бы ее только за то, что она тяжело больна? Ева отнесла дочку в кроватку. - А Дима как… - вдруг начала я и осеклась, подумав, что зря начинаю этот разговор. - Ты знаешь, Ирочка, во время беременности он просто носил меня на руках. Я так берегла себя. Никаких стрессов, переутомления, болезней… И вот наша девочка родилась такая. Дима предложил отдать ее в дом для детей-инвалидов, спокойно рассказывала Ева. – Даже настаивал. Но я не согласилась. Я не могу отдать собственного ребенка куда-нибудь в такое место. Это моя дочка, и я буду растить ее. Это трудно, но это моя Лена. Мне показалось, что в уютной квартире Евы все изменилось. Стало трудно дышать, цветы потеряли свою пестроту, пейзажи стали мрачными, темными. И все здесь так грустно, плохо. И все – каждая вещь здесь – несет тяжелый груз свинцового, неизбывного горя. А я называла Еву счастливицей! Но ведь она и ведет себя как вполне счастливый человек! Ева смотрела на стену и тихо рассказывала: - Я думаю, что у Димы кто-то есть. Может, я сама виновата… Но я ошиблась в нем, а Дима ошибся во мне. Самое тяжелое, Ира, - это, наверное, когда теряешь доверие к человеку, которого так любил, кому так верил. Дима был совсем другим! Ну, или мне так показалось. Я совсем не умею разбираться в людях, как выяснилось. Совсем. Я никогда не думала, что буду настолько любимой! Настолько, Ира! У нас Димой было такое единение всего внешнего мира и внутреннего, что мы могли общаться… невербально! Он словно прочитывал мои мысли, мои желания. Такое редко бывает, Ирочка, очень редко. Мы понимали друг друга по каким-то неуловимым признакам. Например, Дима неожиданно делал мне подарок, о котором я мечтала очень давно, причем он ничего не знал. Я к нему: «Ну, как же ты догадался?». А он улыбается: «Я знал, что тебе будет приятно». Откуда знал? Вот, Ира… А потом родилась Леночка… Как все изменилось! Она первый год много болела: почки, потом простуда, грипп, грипп и снова простуда. Мы из больниц практически не выходили. И видя, как Дима меняется, ну, приезжает к нам грустный, недовольный, раздраженный, я думала: «Ну, почему же так?». Потому что какая-то медсестра из роддома посоветовала ему: «Уговори жену оставить ребенка. На кой он вам нужен, проклянете все. Молодые, все впереди – еще себе родите здорового». Это он мне потом рассказал. Или потому что у его лучшего друга здоровый сын, ровесник Леночки, уже стихи читает… И вот, Ирочка, я поняла причину. Она была 193 очевидна. Наша любовь, скорее даже влюбленность, не прошла проверки на прочность. У нас с Димой, как выяснилось, разные понятия о любви. Когда все хорошо, любовь тут как тут – цветет и благоухает, а когда все плохо… Дима, наверное, не понял, что настоящая любовь – это жертва. Для него любовь – это совсем другое, это наш медовый месяц в Греции. Никого тогда не существовало, кроме нас двоих в мире, – Ева задумалась и замолчала, опустив голову. - Боже мой! – вырвалось у меня, и на глазах выступили слезы. – Ева, и как ты живешь? Сама мучаешься, и Лена мучается! Ева отрицательно покачала головой. - Единственный человек, который мучается в этом доме, - это Дима. Он стесняется Лены, ему стыдно, что у всех «нормальные» дети, а его дочь так больна. И он меня считает ненормальной после того, как я отказалась отдать Леночку в дом ребенка. - Ева, но у тебя ведь могут быть еще дети! – воскликнула я. - Ирочка, это очень больной вопрос,– горестно зашептала Ева. – Я всегда хотела, чтобы у меня было много детей. И Дима тоже не против второго ребенка, он против Лены. Понимаешь, против Лены. В общем, очень много проблем, все очень непросто, Ир. Да плюс еще у нас уже психологический барьер – а вдруг второй малыш тоже родится таким… нездоровым? - Ева, ну тем более! Если есть вероятность рождения и второго ребенка с таким заболеванием… - я запнулась, проследив за реакцией подруги, – ну, можно сделать специальные анализы, и ты сможешь прервать беременность, если… - я резко осеклась, вспомнив, что Ева верующая и никогда не сделает аборта. Ева, очевидно, тоже поняла причину моей заминки. - В какие страшные, жестокие рамки ставит человека вера! – с горечью произнесла я. – Того нельзя, там грех, тут грех, этого тоже нельзя! Это же мучение! Мучение всю жизнь! - Вера здесь ни при чем, – спокойно отозвалась подруга. – Ты думаешь, если бы я была неверующей, я бы смогла отдать Лену в интернат? Вера просто помогает нести этот тяжелый крест, без нее я бы не выдержала. Лену я очень люблю – очень, как любая мать… Да, с ней тяжело, ей самой часто очень тяжело, но мы все стараемся терпеть и помогать друг другу. - Это слишком тяжело, Ева. Слишком. - До чего же мы все стремимся к максимальному комфорту! Так хочется всем жить под колпаком, как принц Гаутама, и искусственной стеной отгородиться от боли и страданий! Мир должен состоять из сплошного счастья – моря голливудских улыбок в 33 зуба. А тех, кто не вписывается в наше понятие счастья, можно убрать: они разрушают стройную гармонию. Абортируем больных детей, изолируем всех инвалидов, всех умирающих поместим в хосписы! – Ева говорила искренно, и руки ее чуть дрожали. – Ирочка, милая, вера здесь ни при чем. Человек свободен. И всегда сам решает: убивать ребенка, который помешает его счастью, или нет. Мать, что самое страшное, выступает в роли судьи. Она судит чужую, не принадлежащую ей жизнь, – Ева вздохнула. – Ира, я не мазохистка, и я бы все отдала, чтобы моя Леночка была здорова. Но Бог послал мне именно такого ребенка – и это моя дочка, и я люблю ее такой, какая 194 она есть. Это крест, Ирочка. А от креста, как и от совести, никуда не денешься. Скинешь его на время, а потом он придавит тебя с новой силой. В глубине души я была согласна с Евой. Я восхищалась ее силой духа. Для меня этот подвиг был бы слишком тяжелым, невыносимым. Часы показывали семь вечера. - Надо Леночку собирать на улицу. Я гуляю с ней через день, - мягко проговорила Ева. – Она такая слабая! Простужается очень часто. Мы прошли в детскую. Лена не спала и затуманенным взором смотрела мимо нас. В это время хлопнула входная дверь. - Это Дима вернулся. Мы вышли в коридор, и Ева нас познакомила. - Очень приятно, - Дима искренне улыбнулся мне. Лицо его было чуть тревожным и усталым. Ева поспешила на кухню разогреть ужин. Я следила за ее тонкими руками, беззащитно выглядывавшими из-под рукавов платья. Она быстро, ловко выложила вилку, нож возле тарелки, салфетку, чашку… Эти руки совсем недавно держали детский пластмассовый поильник с бабочками, пытаясь напоить дочку. …Ева позвала мужа. - Ужин я разогрела. Обязательно выпей морса из смородины, сейчас авитаминоз у всех, - тихо сказала Ева. - Такой заботливой жены нет ни у кого, - Дима весело кивнул мне на Еву. - Не говорите, Дима! У нас в классе Ева была для всех сестрой, и матерью, и личным психологом! – поддержала я. - Мы сейчас с Леной идем гулять, а ты кушай, - словно виновато произнесла Ева. Дима рассеянно кивнул и отправился на кухню. - Ева, включи, пожалуйста, мне третий канал. В детской Ева долго собирала дочку на прогулку. Она пела вполголоса песни, читала стихи, делала «сороку», а глаза девочки отрешенно, безучастно смотрели в какой-то другой, известный только ей мир. Наша Лена громко плачет, Уронила в речку мячик. Тихо, Леночка, не плачь: Не утонет в речке мяч… - с выражением читала Ева, целуя ребенка. Я услышала, как Дима прибавил громкость телевизора, а потом крикнул: - Ева, перестань! Ты же знаешь, что она ничего не понимает! Ева замолчала, а потом зашептала дочке: - Не обращай внимания, Леночка. Папа просто устал. Я тебя люблю, ягодка. …На улицу Ева вышла первая – с Леной на руках. Дима понес коляску (лифт не работал), а я - сумку с книжками и игрушками для ребенка. - Хорошо, что вы зашли в гости, Ира, - неожиданно сказал мне Евин муж и через силу улыбнулся. – А то знаете, никого… Раньше друзья, туда-сюда, а теперь… Боятся помешать, что ли? Ребенок больной. Кому захочется, конечно… 195 - у Димы было расстроенное, угрюмое лицо, и я решила, что надо что-то ответить. - Вы знаете, Дима, - забормотала я, – Леночка словно все-все понимает, только не говорит. - Ага, - с усмешкой кивнул Дима. И добавил: - Как собака. На втором этаже он с грохотом поставил коляску и с отчаянием посмотрел в окно на тонкую фигуру жены с дочерью на руках. - Больше всего мне жалко Еву. Дура она. Дура. Я ее очень люблю. Я не могу видеть, как она мучается. А это мучение ухаживать за таким ребенком. Ну, Ира, подумайте сами – ну, пролежит Ленка таким макаром при хорошем уходе лет до 30. Дольше они не живут, мне врач сказал. Ну, сколько будет Еве? За 50! Вся жизнь, все лучшие годы выброшены на ветер! Ну, ладно бы надежда хоть была! Но… если мозгов нет? Ну, нет у Лены мозга, ну что теперь – рядом лечь и умереть?! Жизнь ведь продолжается! А Ева от нее отказывается. От жизни, в смысле. Мать Тереза, блин! - Бывает, врачи ошибаются, – тихо, неуверенно возразила я. Дима ничего не ответил. Наверное, подумал, что я «туда же». Я тоже молчала и не могла согласиться, что Ева очень мучается. Внешне она выглядела счастливой. Мы прогуляли с Евой около часа. - Бабушка с дедушкой зовут меня к себе, с Леночкой. Говорят, что у них есть знакомый хороший врач-невропатолог. Знаешь, как они называют Лену? - Как? - Факел. Елена переводится с греческого «факел», - улыбнулась Ева. Они собрались домой. Мы тепло попрощались с Евой, я обещала заходить чаще. Я шла в весенних меланхоличных сумерках прямо по лужам и думала о Еве. Мне хотелось поклониться ей в ноги. Упасть перед ней на колени и не вставать… Я часто виделась с Евой. Через полгода муж бросил ее – они развелись, и Ева уехала с дочерью в Салоники. Вскоре после этого я встретила мать Евы, и она стала жаловаться на дочь: - Это все ее упрямство. Димка ей говорил: отдай Лену в интернат. А Ева ни в какую. А то жили бы и жили… Бедная моя доченька! – неожиданно всхлипнула мать Евы. – Это она в отца. Такой же был… Я молчала и думала, что любовь Евы к дочери никак нельзя назвать упрямством. Вообще, после встречи с Евой, я стала по-другому относиться к жизни. Переосмыслила все. Для меня действительно все было слишком упрощено в этом мире. Мы с Евой переписываемся по e-mail’у. В одном из первых писем Ева подробно написала мне о разрыве с мужем: «Расставались мы с Димой очень тяжело, со скандалом. Он ребром поставил вопрос: «Или я, или Лена» - и долго уговаривал отдать ее в интернат. Говорил, что я смогу часто навещать Леночку, доплачивать сиделке, санитарке – благо, деньги есть… Уверял, что там ей будет лучше, что ей все равно. Ира, ты только подумай, будет лучше в интернате, где санитарки зимой открывают окна настежь, чтобы дети простудились и умерли – 196 меньше хлопот, им же «все равно», этим детям. Дима много мне всего сказал неприятного. Что я – «греческая ортодоксальная фанатичка», одержимая идеей о вселенском благе, разрушающая свою собственную семью. Что все это – фальшь, никому не нужная жертва, что во всем виновата Лена и т.д. и т.п. Я долго плакала той ночью, сидя около Лениной кроватки и думала. Ира, я рассуждала вполне логично: Дима уже самостоятельный, самодостаточный мужчина. Да, я нужна ему, но все-таки он сможет прожить и без меня. А Леночка – больна, беспомощна и одинока. И никому не нужна, кроме меня. У нее есть только я, мама. И я решила, что останусь с дочкой. Зато, Ира, ты представить себе не можешь, как мне радостно, когда я вижу, что Лена узнает мой голос! Успокаивается, когда я начинаю разговаривать с ней! Я поняла, что мой тяжелый выбор, мое мучительное решение оправдано». Сейчас Леночке уже шесть лет. Ева пишет мне, что, благодаря специальному массажу и уходу, дочка уже умеет держать голову, переворачивается со спинки на живот, сжимает пальцы в кулачки и самое главное – улыбается. Еще Ева пишет, что ходит в греческий православный монастырь, что у нее появились хорошие друзья, что ей очень нравится в Салониках, но все-таки она скучает по России. Я распечатала и благоговейно храню все Евины письма – святые, искренние письма настоящего счастливого человека. 197