Свенцицкая Э.М. (Донецк) Почему А.Ахматова не любила А.П
advertisement
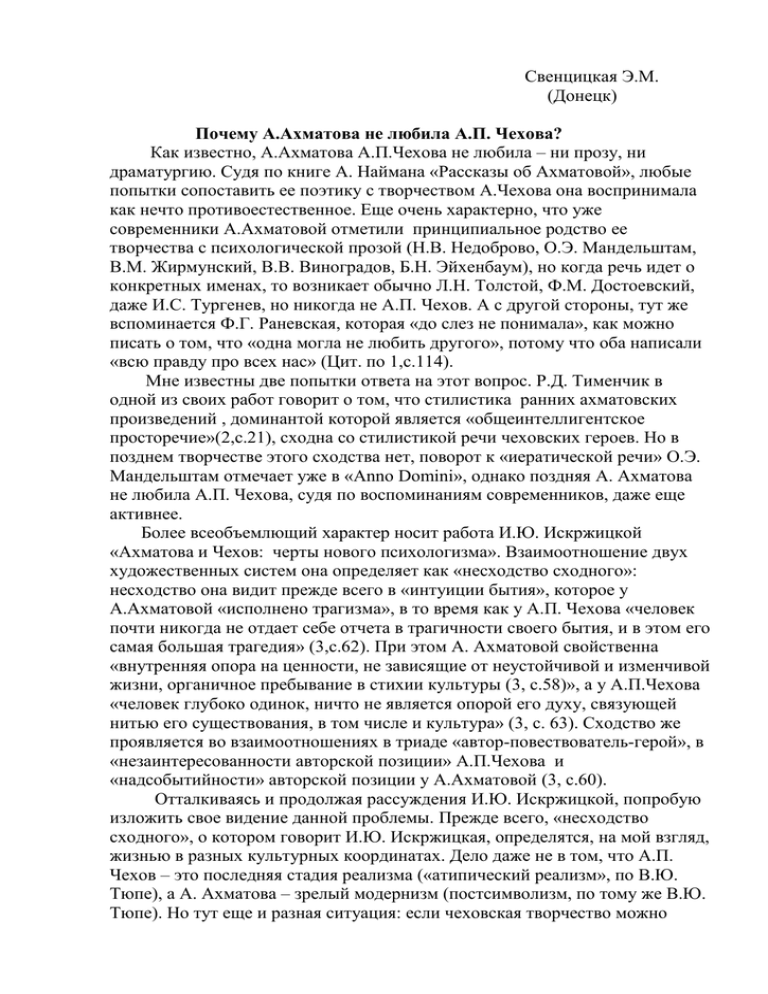
Свенцицкая Э.М. (Донецк) Почему А.Ахматова не любила А.П. Чехова? Как известно, А.Ахматова А.П.Чехова не любила – ни прозу, ни драматургию. Судя по книге А. Наймана «Рассказы об Ахматовой», любые попытки сопоставить ее поэтику с творчеством А.Чехова она воспринимала как нечто противоестественное. Еще очень характерно, что уже современники А.Ахматовой отметили принципиальное родство ее творчества с психологической прозой (Н.В. Недоброво, О.Э. Мандельштам, В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, Б.Н. Эйхенбаум), но когда речь идет о конкретных именах, то возникает обычно Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, даже И.С. Тургенев, но никогда не А.П. Чехов. А с другой стороны, тут же вспоминается Ф.Г. Раневская, которая «до слез не понимала», как можно писать о том, что «одна могла не любить другого», потому что оба написали «всю правду про всех нас» (Цит. по 1,с.114). Мне известны две попытки ответа на этот вопрос. Р.Д. Тименчик в одной из своих работ говорит о том, что стилистика ранних ахматовских произведений , доминантой которой является «общеинтеллигентское просторечие»(2,с.21), сходна со стилистикой речи чеховских героев. Но в позднем творчестве этого сходства нет, поворот к «иератической речи» О.Э. Мандельштам отмечает уже в «Anno Domini», однако поздняя А. Ахматова не любила А.П. Чехова, судя по воспоминаниям современников, даже еще активнее. Более всеобъемлющий характер носит работа И.Ю. Искржицкой «Ахматова и Чехов: черты нового психологизма». Взаимоотношение двух художественных систем она определяет как «несходство сходного»: несходство она видит прежде всего в «интуиции бытия», которое у А.Ахматовой «исполнено трагизма», в то время как у А.П. Чехова «человек почти никогда не отдает себе отчета в трагичности своего бытия, и в этом его самая большая трагедия» (3,с.62). При этом А. Ахматовой свойственна «внутренняя опора на ценности, не зависящие от неустойчивой и изменчивой жизни, органичное пребывание в стихии культуры (3, с.58)», а у А.П.Чехова «человек глубоко одинок, ничто не является опорой его духу, связующей нитью его существования, в том числе и культура» (3, с. 63). Сходство же проявляется во взаимоотношениях в триаде «автор-повествователь-герой», в «незаинтересованности авторской позиции» А.П.Чехова и «надсобытийности» авторской позиции у А.Ахматовой (3, с.60). Отталкиваясь и продолжая рассуждения И.Ю. Искржицкой, попробую изложить свое видение данной проблемы. Прежде всего, «несходство сходного», о котором говорит И.Ю. Искржицкая, определятся, на мой взгляд, жизнью в разных культурных координатах. Дело даже не в том, что А.П. Чехов – это последняя стадия реализма («атипический реализм», по В.Ю. Тюпе), а А. Ахматова – зрелый модернизм (постсимволизм, по тому же В.Ю. Тюпе). Но тут еще и разная ситуация: если чеховская творчество можно представить как своеобразную концентрацию опыта ХIХ века и трансформацию этого опыта переживанием рубежа веков, то для А.Ахматовой переживание рубежа – это данность, и она, по сути, транслирует этот опыт дальше, в «настоящий двадцатый век», благо он дает для этого основания. Исходя из этого, нелюбовь А.Ахматовой к А.П. Чехову можно представить как нечто аналогичное нелюбви Л.Н. Толстого к В. Шекспиру – как отталкивание величин соразмерных, и причина отталкивания – восприятие сходных закономерностей реальности из разных культурных эпох. Но ведь возможна и другая ситуация – вспомним фразу А.Блока: «Мне мешает писать Л. Толстой». Тут уже причиной нелюбви становится то, что один автор уже сделал что-то такое, что другому представлялось невоплотимым пределом творчества – как для А.Блока-символиста Л.Толстой воплощал возможность преображения жизни искусством, выхода за пределы художественного универсума. Если говорить об ахматовской нелюбви к Чехову, то тут скорее именно блоковская ситуация. В скобках замечу, что, может быть, озвученное А. Блоком отношение к русской классике и вообще одно из доминантных в серебряном веке. Не этим ли комплексом объясняется настойчивая мифологизация Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого в кругу символистов (причем такая, что и эти авторы становились чуть-чуть символистами), а затем столь же настойчивый призыв «Сбросить Пушкина и др. с корабля современности» у футуристов? Акмеизм, может быть, и был кратким моментом равновесия между притяжением и отталкиванием. И, кстати, отсутствие среди фигур символистской мифологизации А.П.Чехова что-то важное говорит не только о символистах, но и о А.П.Чехове. Характерно, что если Гоголь, Толстой, Достоевский – миф с оттенком предания, то А.П.Чехов, в контексте серебряного века, с одной стороны нечто очень глубоко укорененное в текущей современности («певцом дореволюционных сумерек» называет его Вяч.Иванов), а с другой стороны, именно в силу этой укорененности, – нечто глубоко личностное, обращенное не ко всем вместе, а к каждому в отдельности. Приведу в связи с этим высказывание И.Ф.Анненского, особенно актуальное в контексте рассматриваемой темы: «Чехов чувствовал за нас, и это мы грезили или каялись, или величались в словах Чехова. А почему мы такие, не Чехову же и отвечать» (4, с.83). То, о чем говорит И.Ф.Анненский, не просто реалистическая типизация, но какой-то выше нормативного контакт с читателем. Собственно, речь идет скорее о самоотождествлении читателя с героем, что свойственно больше лирическому роду, чем эпическому. И здесь мы подходим к одному из парадоксов чеховского творчества, который мог бы быть причиной нелюбви к нему Ахматовой. И.Ю.Искржицкая, говоря о своеобразии чеховской авторской позиции, совершенно справедливо замечает: «У Чехова новая объективность повествования связана с пониманием того, что «никто не знает настоящей правды…» (Лаевский, «Дуэль»), что жизнь шире, таинственней, чем все отдельные наблюдения над ней» (3,с.60). Но, продолжая эти рассуждения, надо сказать, что все-таки и эта мысль – правда героя в кругозоре героя, и даже из-за того, что разные герои в разных ситуациях ее повторяют, она все-таки полной правдой автора не становится, - это лишь одна из ее составляющих. То есть именно в кругозоре героя есть множество индивидуальных правд, не связанных друг с другом, то «недоверие к метарассказам», о котором говорит Ж-Ф. Лиотар как о базовой черте эры постмодерна. Но Чехов, который, по словам М.Горького, «овладел своим представлением о жизни», овладел и этим видением. Это в кругозоре героя - относительность и отсутствие общей идеи. Этим герои мучаются, однако, когда эту идею обретают, почему-то оказываются на пороге смерти – достаточно вспомнить Олю из рассказа «Володя большой и Володя маленький» или лицо Беликова в гробу. Но в кругозоре автора – прежде всего понимание, что утверждение относительности всего сущего есть ведь тоже своего рода «метарассказ» абсолютная истина, на которой останавливаться нельзя. Потому автор, прежде всего, в любой индивидуальной истине заставляет подозревать присутствие истины абсолютной и одновременно заставляет в этом сомневаться. Он, в этой логике, создает для каждого воссоздаваемого события такой смысловой ореол, который предполагает множественность и становление смысла. Так, основное событие в рассказе «Студент» может быть осмыслено так, как в работе К.О.Варшавской: «На наших глазах канула капля времени в океан вечности, но в этой капле сконцентрировано отразилось девятнадцативековое движение человечества от первых шагов, освященных народным сознанием в апостольском служении правде и добру, через времена Рюрика, Иоанна Грозного и Петра к современному страданию Василисы и Лукерьи, к проснувшейся вере студента в жизнь, ''полную высокого смысла ''» (5, с. 67). Но можно его осмыслить и противоположным образом, как в работе А.А. Белкина: «Петр был слаб и оплакивал свою слабость, и через девятнадцать веков люди слабы и оплакивают свою слабость» (6, с.293). Автор же вырабатывает своеобразную словесную пластику взаимообусловленности: люди слабы, и именно потому не самодостаточны, и именно потому способны почувствовать боль друг друга через столетия. Поэтому в чеховской прозе соединяется объективность, как он говорит в одном из писем, «равнодушие» к воссоздаваемому миру, а точнее максимальная имплицитность авторского присутствия, и одновременно, как пишет многие исследователи, установки на передачу настроения, т.е. субъективизма в смысле перехода в кругозор героя. Яркий пример – начало рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Городок был маленький, очень маленький, и люди умирали в нем так редко, что даже обидно». Эти слова, конечно, воссоздают точку зрения Якова Бронзы, гробовщика. Своеобразие чеховской прозы – в совмещении эпической объективности и геройного лиризма. Собственно, Ахматова идет к тому же самому, но с другой стороны: «романлирика» (Б.Эйхенбаум), «роман-выстаивание» (Н.Коржавин) предполагает не просто складывание из множества стихотворений какого-то сюжета, но состояние причастной вненаходимости («Мне с Морозовою класть поклоны, /С падчерицей Ирода плясать»). Собственно, в этом плане А.П. Чехов и А. Ахматова соотносятся так же, как роман в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и поэма в прозе «Мертвые души» Н.В. Гоголя: лиризация прозы и эпизация лирики в какойто точке должны были сойтись. И ахматовскую нелюбовь к А.П. Чехову можно осмыслить еще и как нежелание такого схождения. Еще более важной причиной ахматовской нелюбви к А.П. Чехову, возможно, было то, что он предвосхитил одну из проблем модернистского типа художественности и наметил пути ее решения. Собственно, речь идет о проблеме автора. Как известно, модернизм формируется в контексте жизнетворчества, которое предполагает не только культивирование в жизни образа лирического героя и своеобразные игры на контрасте, но и эстетизацию биографии. Безусловно, А. Ахматова была одним из тех поэтов, у которого перевод жизненных реалий и личных обстоятельств пишущего происходил особенно интенсивно. Эстетизация биографии была одним из способов решения проблемы чужого слова. Ведь именно в это время становится ясно, что поэт – не Адам, что между ним и его предметом существует «упругая среда чужих слов» (а это совсем не то, что «гений берет свое там, где хочет»). И чужое слово не только универсальный посредник, но и универсальное препятствие, трансформирующие авторскую интенцию. Эта проблема отрефлектирована в позднем ахматовском стихотворении: « Не повторяй, душа твоя богата, / Того, что было сказано когда-то./ Но, может быть, поэзия сама / – Одна великолепная цитата» (запрет на повтор, но в то же время невозможность не повториться). И проблема именно в том, как поэту все-таки удается, цитируя, комбинируя чужое, создавать свое. В ситуации жизнетворчества статус индивидуальности, неповторимости частично переходит в жизнь, возникает «текст жизни» того или иного автора, а написанное им начинает восприниматься как взаимопреображение двоякого рода цитат: из собственной жизни и из чужих произведений. Яркий пример тому - ахматовское четверостишие «От меня, как от той графини…». Та графиня – это графиня пушкинской «Пиковой Дамы» , это уже воплощенное в слове бытие, литература. Но винтовая лесенка – это из личного прошлого поэта, из быта, про нее было сказано Гумилеву, что по такой лестнице ходят на казнь. Таким образом, Пушкин с Гумилевым, как Фауст с Дон-Жуаном «столкнулись у моих дверей». Переосмыслена ситуации «Пиковой Дамы» исход игры с судьбой уже не вариативен, как в ХІХ веке, эта игра трагически беспроигрышна, потому что в любом варианте выигрывается гибель Точно так же переосмысливается ситуация в личном прошлом поэта – проясняется пророческий смысл бытовой фразы, и судьба Гумилева оказывается предопределенной не столько данным стечением обстоятельств, сколько закономерностями существования романтического типа личности. Такое переосмысление конституирует, во-первых, своеобразный мир – на границе жизненной реальности и литературы. Во-вторых, произведение становится материализованным пограничьем. Подтверждением тому может быть – высказывание А. Ахматовой по поводу «Поэмы без героя»: «Другое ее свойство: этот напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал» (7, с.365). Втретьих, авторское присутствие в координатах этого мировидения мыслится как героизация личности автора (и даже не только в переносном смысле). Потому типическая черта модернистского произведения – герой-поэт, и не поэт вообще, а вот этот конкретный, в его индивидуальных жизненных подробностях. Одно из опасений А. Ахматовой в «Поэме без героя»: «Но мне страшно: войду сама я, / Кружевную шаль не снимая…», но встреча с неизбежностью происходит. Здесь герой максимально приближен к автору, но парадоксальным образом такая жизненность героя, выход его за свои границы приводит к проблематизации авторства как такового, авторства как внежизненной активности. Не случайно из модернистской цитатности позднее возникает постмодернистская интертекстуальность, которая в пределе означает «смерть автора». У А.П. Чехова авторское присутствие зримо, и в то же время неосязаемо. В.Г. Короленко рассказывал, что во время одной из встреч с ним А.П. Чехов сказал: «”Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Вот.” Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь – это оказалась пепельница, поставил ее передо мною и сказал: “Хотите, - завтра будет рассказ, заглавие «Пепельница»”» (8, с.216). Данное высказывание можно осмыслить как своеобразный рефлекс модернистского панэстетизма, динамику которого можно проследить от бальмонтовских строк «Все в мире лишь средство / Для звонко-певучих стихов» до ахматовских «Когда б вы знали, из какого сора /Растут стихи....» . Последнее высказывание означает, искусство соотносится с жизнью не иерархически. Жизнь органично перетекает в искусство, и столь же органично ее преображение в искусстве. Но вот где А.П. Чехов действительно мешал писать А.Ахматовой – в ее типе художественности невозможно не выделить хоть как-то того, кто это преображение осуществляет («И стих уже звучит, задорен, нежен,/ На радость вам и мне»). Чеховская же авторская интенция – чистая энергия взаимоперетекания и взаимопреображения, когда предметом эстетического освоения становится именно сам процесс эсетического освоения. Именно поэтому, возможно, когда даже сам А.П.Чехов как биографическая личность говорит о своих индивидуальных творческих устремлениях, их характеристика как-то странно внеиндивидуальна: «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода; свобода то силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» (9, т.11, с. 263). Автор, вне всякой индивидуальной определенности, проявляет себя как создатель «нового имени для нового предмета». Например, в раннем рассказе «Жалобная книга» реальный предмет – станционная жалобная книга, которая «лежит в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги» и в которой люди пишут всякую чепуху, превращается в жалобную книгу, в которой люди жалуются на себя и на жизнь: на невозможность высказаться, на миражность диалога, на то, что все канет в Лету и ничего не останется, кроме «ничтожных следов памяти». Аналогичным образом и в позднем рассказе «Скрипка Ротшильда» - скрипка изначально принадлежит Яковы Бронзе, гробовщику. Но скрипка в рассказе – не просто музыкальный инструмент, но концентрированное выражение и жалобы на жизнь, и жалости об уходящей жизни(«Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко»). И именно в этом качестве она принадлежит Ротшильду, который «даже самое веселое умудрялся играть жалобно». То есть, предметный мир и вещное слово осмысляются у А.П. Чехова как пограничье, где развертывается творческое усилие органичного перетекания и качественного преобразования. В связи с этим проблема чужого слова, пережитая модернистами как авторская проблема, у А.П.Чехова оказывается проблемой героя, и она тоже становится предметом творческого овладения и завершения. Именно герой соотносит себя с разными явлениями культуры, воображает себя то Гамлетом, то «лишним человеком» это для героя разного рода культурные аналогии – «настолько естественная среда, что границы между «своим» и «чужим» оказываются размытыми» (10, с.13) (как у А.Ахматовой в «Поэме без героя»: «Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,/ Даппертуто, Иоканааном…»). Именно в связи с этим И.Ф. Анненский писал: « Люди Чехова, господа, это хотя и мы, но престранные люди, и они такими родились, это литературные люди. Вся их жизнь, и даже оправдание ее, все это литература, которую они выдают или точно принимают за жизнь» (4, с.82) . И потому, как пишет М.М.Гиршман, «…герой, точка зрения которого организует повествование, как раз обнаруживает свою неспособность к подлинному авторству» (11, с. 368), не способен осмыслить свою жизнь как целое, увидеть связи между отдельными событиями. Отсюда следует парадоксальный способ существования героев: они, будучи в принципе лишенными авторских способностей, будучи качественно иными по отношению к автору, в то же время живут по законам литературы, по сути, их жизненная энергия (а все они в той или иной мере не в состоянии привести в порядок собственную жизнь, страдают оттого, что делают «именно не то, что нужно») переходит в слово, в риторически поставленную фразу, которая именно потому, что так хорошо поставлена, уже и не требует для своего подтверждения поступка, она самоценна. То есть герой – не столько самодостаточный завершенный характер, не человек в жизни, а он живет прежде всего в слове и для слова, он скорее здесь инструмент, средство, с помощью которого слово переходит и преобразуется в эстетическую реальность. Автор же в этой ситуации предстает как чистая энергия переосмысления. О том, как происходит этот процесс в рассказах «Жалобная книга» и «Скрипка Ротшильда», мне уже приходилось писать, здесь же приведу другой пример. Финальные части рассказа «Ионыч» все пронизаны ощущением уходящего времени. «Прошло четыре года», - так начинается четвертая часть, через два абзаца снова следует напоминание: «За все четыре года… он был у Туркиных только два раза…», и буквально в следующем абзаце, уже явно как нагнетание этого ощущения: «Но вот прошло четыре года», и пятая часть, опять-таки, начинается словами: «Прошло еще несколько лет». На этом фоне жизнь героев происходит явно в остановившемся времени. Доктор в конце рассказа – «не человек, а языческий бог», и «Иван Петрович …по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты», и «Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно», и Котик совершенно забыла, что она «такая же пианистка, как мама писательница», и «играет на рояле каждый день, часа по четыре». То есть, все бурные события канули в Лету, и ничего не изменилось. Но тут и возникает автор, который все переосмысливает. Концентрированным выражением этого переосмысления является реплика Ивана Петровича «Прощайте пожалуйста!». Эта реплика, произносимая во вполне обыденной ситуации, повторяемая, порожденная длительными упражнениями в остроумии, высвечивает иной, невидимый для героя, смысл: не прощание, а прощение. А точнее, здесь одновременно звучат и просьба о прощении, и прощание, причем и то, и другое - не на время, а навсегда. В сущности, о том же говорит героиня рассказа «Володя большой и Володя маленький»: «Все пройдет и Бог простит». Возможно, это не только последняя правда героя, но и правда автора. По-моему, отношение А.П.Чехова к героям - именно вот такое прощение и прощение, то есть автор прощает своих героев и прощается с ними, оплакивая их, как они оплакивают себя (поэтому, наверное, чеховские герои так часто плачут). И тут, кстати, еще один момент «несходства сходного». У А. Ахматовой ведь тоже в отношении героев прошедшей эпохи – бесконечное прощание: «Как будто прощаюсь снова /С тем, с чем давно простилась», однако о возможности прощения в той же «Поэме без героя» сказано жестко: «И не их собрались простить». В целом можно сказать, что нелюбовь А. Ахматовой к А.П. Чехову определяется промежуточным, посредническим характером чеховской художественности – соединением модернистского панэстетизма и реалистическим принципом множественности и взаимодополнительности точек зрения на мир. Цитируемая литература: 1.Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой // Новый мир, 1989, №1. 2. Тименчик Р.Д. Ахматова и Пушкин. Заметки к теме // Ученые записки Латвийского университета. – Рига, 1974, т.21. – Пушкинский сборник, вып. 2. – C. 32-55 3. Искржицкая И.Ю. Ахматова и Чехов: черты нового психологизма // Ахматовские чтения. Сборник научных работ. – Тверь, 19991. - С. 56 – 65. 4.Анненский И.Ф. Драма настроения // Анненский И.Ф. Книги отражений. – М., 1979. – С. 82-92. 5.Варшавская К.О. Художественное время в новеллистике 80-90-х годов // Ученые записки Томского университета. – Томск, 1973. – С. 65 – 76. 6.Белкин А.А. Читая Достоевского и Чехова. – М. 7. Ахматова А. Проза о Поэме // Ахматова А. Сочинения в двух томах. – М., 1990. – Т.1. – С.350 – 365. 8.Короленко В.Г. Памяти А.П. Чехова. – Русское богатство, 1904, №7,С.216218. ). 9.Чехов А.П. Собрание сочинений: в 12 т. - М., 1958. 10 Борбонюк В.А. Интертекстуальность в драматургии А.П. Чехова. – Автореферат канд. дис.. – Харьков, 2006. 11.Гиршман М.М. Стилевой синтез – дисгармония – гармония («Студент», «Черный монах» Чехова) // Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория художественной целостности. – М., 2007. – С.341-372.