Морфология новеллы М. А. Петровский 1
advertisement
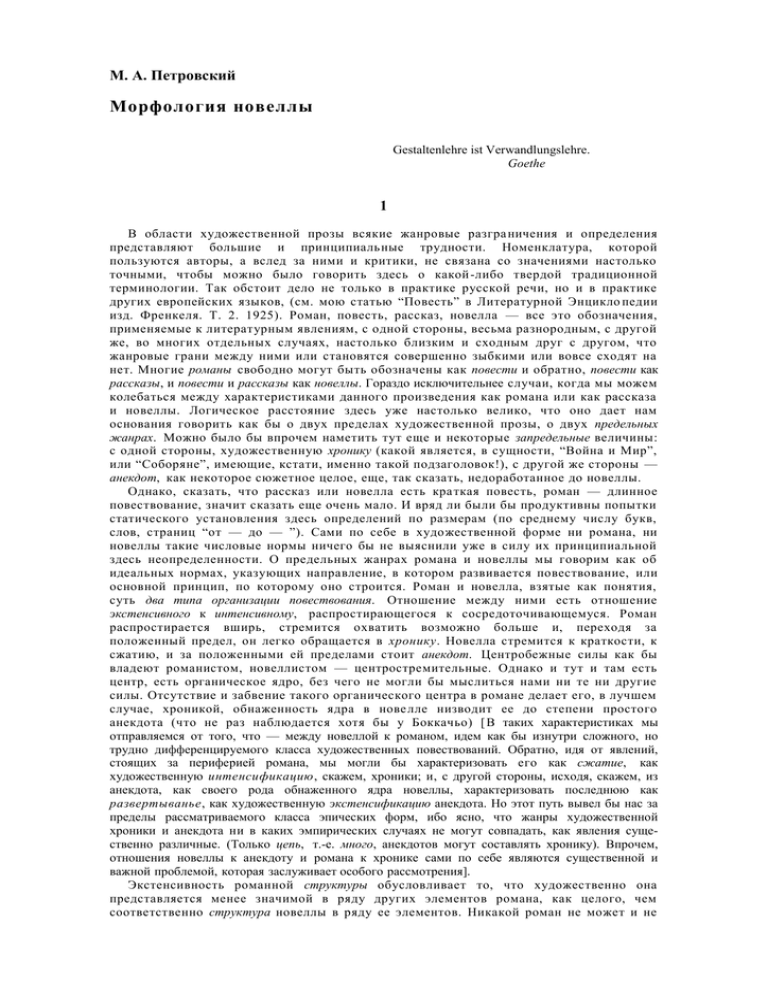
М. А. Петровский Морфология новеллы Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre. Goethe 1 В области художественной прозы всякие жанровые разгра ничения и определения представляют большие и принципиаль ные трудности. Номенклатура, которой пользуются авторы, а вслед за ними и критики, не связана со значениями настолько точными, чтобы можно было говорить здесь о какой -либо твердой традиционной терминологии. Так обстоит дело не только в практике русской речи, но и в практике других европейских языков, (см. мою статью “Повесть” в Литературной Энцикло педии изд. Френкеля. Т. 2. 1925). Роман, повесть, рассказ, новелла — все это обозначения, применяемые к литературным явлениям, с одной стороны, весьма разнородным, с другой же, во многих отдельных случаях, настолько близким и сходным друг с другом, что жанровые грани между ними или становятся совершенно зыбкими или вовсе сходят на нет. Многие романы свободно могут быть обозначены как повести и обратно, повести как рассказы, и повести и рассказы как новеллы. Гораздо исключительнее случаи, когда мы можем колебаться между характеристиками данного произведения как романа или как рассказа и новеллы. Логическое расстояние здесь уже настолько велико, что оно дает нам основания говорить как бы о двух пределах художественной прозы, о двух предельных жанрах. Можно было бы впрочем наметить тут еще и некоторые запредельные величины: с одной стороны, художественную хронику (какой является, в сущности, “Война и Мир”, или “Соборяне”, имеющие, кстати, именно такой подзаголовок!), с другой же стороны — анекдот, как некоторое сюжетное целое, еще, так сказать, недоработанное до новеллы. Однако, сказать, что рассказ или новелла есть кра ткая повесть, роман — длинное повествование, значит сказать еще очень мало. И вряд ли были бы продуктивны попытки статического установления здесь определений по размерам (по среднему числу букв, слов, страниц “от — до — ”). Сами по себе в художественной форме ни романа, ни новеллы такие числовые нормы ничего бы не выяснили уже в силу их принципиальной здесь неопределенности. О предельных жанрах романа и новеллы мы говорим как об идеальных нормах, указующих направление, в котором развивается повествование, или основной принцип, по которому оно строится. Роман и новелла, взятые как понятия, суть два типа организации повествования. Отношение между ними есть отношение экстенсивного к интенсивному, распростирающегося к сосредоточивающемуся. Роман распростирается вширь, стремится охватить возможно больше и, переходя за положенный предел, он легко обращается в хронику. Новелла стремится к краткости, к сжатию, и за положенными ей пределами стоит анекдот. Центробежные силы как бы владеют романистом, новеллистом — центростремительные. Однако и тут и там есть центр, есть органическое ядро, без чего не могли бы мыслиться нами ни те ни другие силы. Отсутствие и забвение такого органического центра в романе делает его, в лучшем случае, хроникой, обнаженность ядра в нове лле низводит ее до степени простого анекдота (что не раз наблюдается хотя бы у Боккачьо) [ В таких характеристиках мы отправляемся от того, что — между новеллой к романом, идем как бы изнутри сложного, но трудно дифференцируемого класса художественных повествований. Обратно, идя от явлений, стоящих за периферией романа, мы могли бы характеризовать его как сжатие, как художественную интенсификацию, скажем, хроники; и, с другой стороны, исходя, скажем, из анекдота, как своего рода обнаженного ядра новеллы, характеризовать последнюю как развертыванье, как художественную экстенсификацию анекдота. Но этот путь вывел бы нас за пределы рассматриваемого класса эпических форм, ибо ясно, что жанры художественной хроники и анекдота ни в каких эмпирических случаях не могут совпадать, как явления существенно различные. (Только цепь, т.-е. много, анекдотов могут составлять хронику). Впрочем, отношения новеллы к анекдоту и романа к хронике сами по себе являются существенной и важной проблемой, которая заслуживает особого рассмотрения]. Экстенсивность романной структуры обусловливает то, что художественно она представляется менее значимой в ряду других элементов романа, как целого, чем соответственно структура новеллы в ряду ее элементов. Никакой роман не может и не должен быть рассчитан на полное единство эффекта, ибо роман есть книга для длительного чтения “про себя”, которое можно перервать, закрыв книгу и занявшись другим делом, а потом вновь вернуться и читать дальше, не с полной отчет ливостью помня все предшествующее: в самом художественном восприятии мы имеем здесь всегда ряд впечатлений, ушедших в прошлое, как неотъемлемый конститутивный компонент этого восприятия. Читая, кое-чтó помним, кое-чтó забываем, а кое-чтó временно отодвигается за завесу забвения, чтобы всплыть в нужный момент. Напротив, новелла, как короткий рассказ, рассчитана на непрерывность и единство эффекта, на прочтение (или прослушанье) “в один присест”, словами Эдгара По. Новелла обозрима единым актом, и эта обозримость постулирует специфическую структурность новеллы, вследствие чего архитектоника в ней должна рассматриваться как не только не безразличный, но как существеннейший момент ее органи зации. Но если сама структура в словесном искусстве не мыслится нами в отрыве от смысла (ибо слово есть носитель смысла) то, следовательно, общая структура и общий смысл в новелле должны взаимно обусловливать друг друга. Тем самым, новелла должна одновременно определяться и со стороны своего сюжета и со стороны формы его изложения. То и другое вместе и образуют структуру новеллы. Очевидно, что эта структура прежде всего должна быть замкнута, ибо под новеллой мы разумеем не часть другого целого, но само художественное целое. Новелла должна обладать замкнутым смыслом, замкнутым сюжетом. Каков же может быть замкнутый сюжет в коротком рассказе? Сюжет повествования всегда есть жизнь. Сама по себе всякая жизнь замыкается моментами рождения и смерти. Однако, если бы мы определяли только этими моментами и замкнутость сюжета, то нам пришлось бы зачислить в категори ю законченных художественных повествований разве только одни био графии. Нет, жизнь, как сюжет, всегда есть преобразованная жизнь. Сюжет есть образ жизни. И дело тут не в развертывании всей данной жизни от начала ее до конца, но в развертывании ее как сюжета, в раскрытии ее сюжетного смысла. Повторяю: сюжет всегда есть преобразование жизни как сырого материала. (“Детские годы Багрова внука” не обладают сюжетом, но им обладают “Детство — Отрочество — Юность” Толстого). Структура сюжета есть структура сюжетного смысла, замкнутость сюжета есть замкнутость жизни, уже преобразованной в сюжет, жизни, получившей сюжетный смысл. И прежде всего сюжет есть отбор. Не всё в жизни на потребу сюжету. Да и немыслимо воспроизвести в повествовании всю жизнь. Важен sui generis смысл жизни, и в художественном целом он должен быть дан в полноте и замкнутости — иначе не будет художественного целого. Краткость новеллы, как замкнутого рассказа, следовательно, требует и особого, своего специфического сжатого, интенсивного сюжета. Чистая форма замкнутого рассказа это — повествование об одном событии. Представим себе теперь это событие таким, чтобы оно включало в себя целостный смысл данной жизни, ее тотальность. Единство события, сопряженное с тотальностью сюжета — таков тот признак, который мы положим в основу некоторого типа коротких повестей. Этот тип замкнутого рассказа, условно обозначаемый нами как новелла, мы и рассматриваем в настоящей статье. Словесное искусство живет во времени. Обособляют и замыкают новеллу структурные моменты начала и конца. Начало и конец сюжета не суть непременно рождение и смерть его героя. Рождение и смерть самого сюжета, как особого смыслового целого, — вот о чем мы должны говорить здесь. Но новелла замыкается не только своим сюжетом, она замыкается также и изложением своего сюжета. Изложение имеет свои начало и конец, и их смысловое содержание может и не сов падать с сюжетными началом и концом. Более того: в новелле, как и во всяком повествовании, мы должны различать всю последовательность движения сюжета и последовательность его изложения. Первая условно обозначается иногда как диспозиция, вторая как композиция в произведении. Ясно, что художественная структура новеллы органически связана с ее композицией, с техникой изложения, т.-е. развертывания ее сюжета. Обратимся предварительно к строению самого новеллисти ческого сюжета, как своего рода материала (Stoff) новеллы. Срединную часть сюжета, очевидно, должно занимать само единое событие, сюжетное ядро, составляющее предмет пове ствования. Оно должно обладать такими свойствами, чтобы по нему можно было судить о целостной жизни, замкнутой в дан ный сюжет. Оно должно находиться в определенной внутренней связи и с прошлым и с будущим этой жизни. В общем, оно должно, в той или иной мере, вытекать, обусловливаться, определяться прошлым и, соответственно, обусловливать и опреде лять будущее. Жизнь концентрируется вокруг события. Прошлое и будущее естественно образуют крайние части сюжета: начальную — предваряющую, дающую смысловую подготовку событию, и конечную — заключающую, дающую смысловое завершение событию, или указывающую на последствия его для дальнейшей жизни. В немецком языке существуют два удобных термина для этих крайних членов сюжета: Vorgeschichte и Nachgeschichte [Эквивалентные русские термины трудно подыскать. Только в некоторых случаях можно, пожалуй, предложить именовать первое — сюжетным прологом, второе — сюжетным эпилогом]. Сами по себе эти крайние члены далеко не всегда даны в новеллистическом сюжете, но потенциально они всегда существуют, раз сюжет обладает тотальностью. В одном только случае — совпадения сюжетного ядра со смертью героя — сюжетный эпилог (Nachgeschichte) может поглощаться серединной частью, самой “Geschichte”, сюжета. Но сюжет, как таковой, мы извлекаем уже из самого текста новеллы. Ведь из ее изложения мы и узнаем о ее сюжете. Нам нетрудно его выделить, потому что его последовательность есть причинно -временная последовательность самой жизни. И потому структура его (диспозиция) и не представляет для нас особого интерес а. Проблема новеллической структуры встает во всей силе, как только мы перейдем к развертыванию сюжета, к приемам его изложения и к его композиции. 2 Сюжетное ядро новеллы чистого типа составляет одно событие, ибо новелла как короткий рассказ рассчитана на единство и непрерывность восприятия. Сообразно с этим должна строиться композиция новеллы и ее изложение. Все должно быть направлено к тому, чтобы внимание слушателя (resp. читателя) было все поглощено ходом повествования, чтобы впечатление от новеллы было единым и бесперерывным. Внимание должно быть захвачено и напряжено, как тетива натя нутого лука. Но должна быть рука, которая натягивает тетиву, и должна быть цель, в которую попадает стрела. Только тогда акт напряжения получает свой смысл и оправдани е. Рука — рассказчик. От него зависит степень напряжения тетивы — внимания и “меткость” рассказа. Цель достигнута — напряжение разрешено. Это две стороны одного и того же момента. Разрешение напряжения в сюжетном построении есть развязка. Соответственно: знаменующим моментом, зачинающим напряжение, будет завязка. Распространяя образ, лежащий в основе этих привычных терминов, можем обозначить само сюжетное напряжение в момент его наибольшей силы как затянутый узел новеллы. Но не в названиях дело, а в том, что три момента выдвигаются здесь на первый план. Эти три момента образуют трехчленную схему новеллы, как обладающей единством сюжетного ядра, единством события. Подчеркиваю: это только схема, только остов, и потому опреде ляет еще не самую новеллу, а лишь ее т.ск. голое содержание. “Один монах, впав в грех, достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания” — вот содержание четвертой новеллы первого дня Декамерона. Грех монаха — завязка; но сюжетный узел затягивается только таким же грехом аббата — без того не было бы данного сюжета; результат, развязка: монах избегает наказания, уличив аббата. Новелла эта весьма несложная, и все -таки изложение ее включает в себя ряд структурных компонентов против предпосланного ей самим автором сжатого “содержания”. Эти компоненты второстепенны для основного сюжетного стержня новеллы, но без них новеллы еще нет, а есть только одна ее схема. Выделим из них важнейшие. Прежде всего рассказчик дает слушателям представление о монастыре — месте действия рассказа, — о монахе — герое рассказа — и о встрече его с героиней — “красивой девушкой, быть может, дочерью крестьянина, которая ходила по полям, собирая травы”. Все это по отношению к завязке суть ее не обходимые факторы, ее необходимая подготовка, т.е. органический зачин изложения. В зачине этом читателю дастся ряд представлений, или — скажем общо — образов, которые вводят в рассказ, экспонируются как основные факторы дальнейшего. Зачин рассказа, или его введение, и может быть обычно характеризован как экспозиция. Для самого напряжения это еще не существенно, не с этого момента оно начина ется, но этим дается повод для напряжения, его фактическое обоснование, его подготовка. Вместе с тем зачин здесь эквива лентен своего рода Vorgeschichte сюжета, сюжетному прологу. Соответственным образом рассказ обладает и концовкой, эквивалентной Nachgeschichte сюжета, сюжетному эпилогу “Простив монаха и наказав молчать о виданном, аббат вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова”. Мы видим, что трехчленный сюжет замыкается с двух краев еще двумя композиционными членами, введением и заклю чением, зачином и концовкой. Изолированное происшествие (эпизод) вводится в контекст жизни в ее прошлом и будущем, в ее тотальности. Конечно, эта тотальность весьма и весьма относительна, если мы взглянем на сюжет рассказа с точки зрения реальной жизни ее героев. Но такая точка зрения совершенно не правомерна, ибо, повторяю, дело идет здесь только о жизни, преобразованной в сюжет, и ни о какой иной. Легко видеть, что заключительный компонент есть, кроме того, не менее органический член всей композиции, чем из начальная экспозиция. Он, в сущности, и дает специфическое осмысление всей новелле. Стрела попала в свою цель — новелла закончена. Она могла бы кончиться и раньше, там же где кон чалась и сюжетная схема рассказа: “монах избежал наказания”. Но это можно было бы сравнить с попаданием стрелы в цель — только плашмя. Нет, она может вонзиться острием и в этом искусство рассказчика. Острота заключительного эффекта новеллы есть ее pointe (острие) — технический термин новелльной композиции [ Само по себе понятие пуантировки еще не говорит о функции замыкания рассказа. Внутри рассказа могут быть свои обострения, но для новелльной формы они не являются специфическими признаками, и рассмотре ние, их относится либо к области общей теории композиции, либо к специаль ному анализу конкретных произведений]. Pointe новеллы может содержаться уже в самом материале сюжета, т.-е. присутствовать уже в самом сюжетном ряде, но может относиться всецело к изложению. Первое — вообще более примитивный случай, тогда как перенесение пуантировки в ряд изложения говорит уже об известной технике рассказчика. Чтó мы имеем и у Боккаччио, который оттачивает сюжетное острие вставным замечанием (от рассказчика) — “и, надо полагать (si dee credere), они не раз приводили ее снова” — которое по существу и пуантирует всю фразу. Разобранная новелла представляет собой пример чистого, строгого стиля. Архитектоника здесь ясна и симметрична. Все на своем месте, ничто не сдвинуто. Смысловая структура выдержана в один лад, в одной последовательности со структу рою изложения. Наконец, единичное происшествие (эпизод) здесь дано в контексте целого (образа жизни), включено в некую тотальность и потому перестает быть изолированным эпизодом. Такие изолированные эпизоды мы найдем в изобилии и в Декамероне. Ср., напр., новеллы шестого дня. В нашей классификации они отойдут в класс анекдотов, или, если, угодно сохранить за ними традиционное название новелл, то в особую группу новелл-анекдотов. Не о них сейчас речь. Правда, и наша новелла еще недалеко ушла от анекдота. Контекст целостного сюжета (образа жизни) в ней лишь намечен и совсем не развит. И все-таки, формально в ней налицо все компоненты целостного новеллистического построения, что и делает ее своего рода перво-феноменом новеллы (говоря языком Гёте), равным образом как и ту новеллу о соколе (9-я пятого дня), которую положил Пауль Гейзе в основу своей теории (т.наз. Falken-theorie). Итак, напряжение линии повествования простирается между моментами завязки и , развязки. Завязка подготовляется экспозицией, а развязка пуантируется концовкой. Сюжетное ядро образует эпизод, включенный в контекст Vor- и Nach-geschichte, т.-е. некоторого прошлого и некоторого будущего. Первое — схема изложения, второе — схема сюжета. В классической форме Боккаччевой новеллы о монахе рудиментарная Vorgeschichte совпадает с вводной экспозицией, сюжетный же эпилог (рудимент Nachgeschichte) совпадает с пуантированной концовкой. Тем самым достигается предельная экономия в распределении смыслового материала: зачин несет одновременно функции и экспозиции и Vorgeschichte, заключение своей пуантировкой дает специфическое смысловое наполнение содержащейся в ней N achgeschichte 3 За основной принцип композиции новеллы мы принимаем единство события. Это единое событие может быть простым — одноэпизодным, может быть сложным — состоять из нескольких эпизодов, но непременно образующих единое целое. Деление события на эпизоды всегда более или менее условно.. Например, разобранная новелла Декамерона могла бы быть разбита на эпизоды: 1) встречи монаха с девушкой в саду, 2) свидания их в келье, 3) разговора монаха с аббатом, 4) сви дания аббата с девушкой в келье монаха, 5) заключительной беседы аббата с монахом и выведения девушки из монастыря. И она же может быть сжата в два эпизода: свидания монаха с девушкой в келье и свидания аббата с той же девушкой в той же келье; остальные же эпизоды трактоваться как побочные. Во всяком случае, при той и при другой характеристике важно установить лишь одно, замыкаются ли эти эпизоды в единое происшествие, или приключение, что мы и имеем в данной новелле, содержание которой состоит в том, что монах и аббат совершают один и тот же грех с одной и той же девушкой, в одной и той же келье и один вслед за другим. Или: содержание упомянутой новеллы о соколе таково: “Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед сво ей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым”. Центральное событие новеллы, ее сюжетное ядро: принесение единственного и любимого сокола в жертву любимой, но не отвечающей тем же, даме. Весь остальной сюжетный материал, если и разбивается на ряд событий, то все они стягиваются нитями композиции в сюжетный центр о соколе. Эпизодов даже значительно больше, чем дано в предпосланном обзоре содержания, куда не вошла вся история о сыне дамы, его дружбе с Федериго, его болезни и смерти — одним словом содержания здесь как будто на целый роман. И все-таки перед нами типическая новелла об одном событии, потому что все окружающие эпизоды существуют лишь применительно к нему: любовь ведет к тому, что у Федериго остается единственная драгоценность, его сокол; сближение сына овдовевшей дамы с Федериго ведет к тому, что сокол становится предметом желаний мальчика; заболевший мальчик уверяет мать, что он выздоровеет, если получит сокола; чтобы раздобыть сокола, дама должна посетить Федериго, но это обязывает Федериго ее угощением и ведет к тому, что, за неимением ничего другого, он закалывает ей на обед своего сокола; эта жертва сокола становится причиной смерти мальчика; лишенная сына дама избирает себе в мужья Федериго, лишившегося ради нее единст венной своей драгоценности — сокола. Легко видеть, что заклание сокола является действительно единым узлом новеллы, в который затягиваются все сюжетные нити, единым сюжетным ядром, вокруг которого развертывается весь сюжетный материал Вот в каком смысле говорим мы о единстве события в но велле. Структурная функция этого единого события одна — функция внутреннего, органического центра, сюжетн ого ядра. По обе его стороны во временной последовательности сюжета располагаются его Vorи Nach-geschichte, сюжетные пролог и эпилог. Их естественные функции — подготовка и заключение. Их естественное место в изложении — перед и после рассказа о главном событии. Так обстоит дело в обеих новеллах Боккаччьо. В первой новелле Vorgeschichte в своей рудиментарности и сжатости легко определяется как таковая, образуя зачин новеллы; в свою очередь Nachgeschichte совпадает с концовкой. Что назовем мы Vorgeschichte во второй новелле? Смысл этого вопроса таков: что воспринимается в новелле как некоторое прошлое по отношению к главному действию новеллы, которое мы условно можем характеризовать как ее н а с т о я щ е е ? Ответ на это может дать изложение новеллы и ее композиция. Самый простой прием отодвинуть часть сюжета в план прошлого — сжать его изложение по сравнению с другими частями. Как в живописи, здесь есть перспектива, только своя, временная. Но раз мы говорим о Vorgeschichte, как обособленном компоненте, она должна иметь какую-то границу в изложении. Эту границу можно найти у Боккаччьо. Сначала идет рассказ о тщетном ухаживании и разорении Федериго, затем о сближении сына овдовевшей дамы с Федериго. Следующий же этап сюжета сразу выдвигается на более близкий план зачинающими его словами (ограничиваюсь рус ским переводом): “Так было дело, когда случайно мальчик заболел” и т.д. Здесь как бы подведен итог предшествующему и начинается нечто новое, уже, так сказать, по сю сторону данной этими словами границы. Все предшествующее, тем самым, замыкается в особый компонент, дающий общую подготовку дальнейшего. Его мы и можем определить как сюжетный пролог, как Vorgeschichte. Смысл ее в том, что она экспонирует “как было дело” к началу настоящего действия новеллы. (Внутри этой Vorgeschichte есть и свои грани, но не буду ими загромождать свое изложение). В свою очередь, эпизод болезни мальчика также подготовляет дальнейшее, но он уже настолько тесно примыкает во временной перспективе к центральному сюжетному узлу, что мы сюда его и отнесем, обозначая как завязку. Аналогичными признаками определяется и Nachgeschichte. Смерть мальчика симметрически замыкает сюжетную середину, и все последующее — уговоры братьев вдовы, чтобы она вновь вышла замуж и выбор ею в мужья Федер иго — соответственно замыкаются в Nachgeschichte. Однако, этим не исчерпывается основная структура новеллы. У нее есть, кроме того, особые зачин и концовка. Зачин сводится к следующим словам: “...во Флоренции проживал когда-то молодой человек, по имени Федериго, сын мессера Филиппо Альбериги, который в делах войны и благовоспитан ности считался выше всех других юношей Тосканы”. Концовка: “Получив в жены такую женщину, которую он так любил, став, кроме того, богачом и лучшим, чем прежде, хозяином, он в рад ости и веселии провел с ней остаток своих дней”. Но в первой новелле именно эти крайние компоненты — зачин и концовку — характеризовали мы как Vor- и Nach-geschichte, только данные в рудиментарной форме. Это остается в силе и для второй новеллы, композици я которой только усложнена несколькими планами временной перспективы. В первой новелле композиция схематизируется в простую трехчленную симметрию, во второй новелле — симметрия уже пятичленная. И тут и там последовательность изложения совпадает с хронолог ией сюжета; выражаясь техническими терминами, композиция совпадает с диспозицией. И вот, во всех таких случаях точное выделение Vor- и Nach-geschichte почти всегда будет в той или иной мере условным, вследствие того, что даны они в общей хронологической последовательности. И здесь нам удобнее говорить просто о перспективе изложения сюжета, исходя из сюжетного ядра, как первого плана (“настоя щего”), и группируя все предшествующее и последующее в разных планах прошлого и будущего. Впрочем, основная пятипланная перспектива новеллы о соколе достаточно точно может быть характеризована так: крайние компоненты изложения, зачин и концовка, содержат общие Vor- и Nach-geschichte, следующие два плана дают специальные Vor- и Nach-geschichte, наконец, вся главная часть сюжета образует план настоящего действия новеллы. Графически можно символизировать симметрическую планировку новеллы о соколе таким образом: 4 Собственный композиционный смысл понятие Vorgeschichte получает в тех случаях, когда она дается не в общей хронологической последовательности изложения сюжета, но как некоторый внутренний рассказ. Тем самым Vorgeschichte выделяется сама собой в особый компонент, обладающий опре деленными функциями в структуре новеллы. Как иллюстрацию такой новелльной композиции я возьму рассказ Мопассана “Возвращение” — Le Retour (из сборника “Yvette”; русский перевод по изданию т -ва „Просвещение", том 7. СПб. 1909). Сюжетное ядро рассказа — возвращение без вести пропавшего первого мужа, после того как соломенная вдова его вышла замуж за другого и обзавелась новой семьей. Время действия рассказа занимает два дня. Изложение рассказа таково. Мопассан сразу дает настоящее. Он экспонирует место действия — береговой морской пейзаж, прибрежную деревню, рыбацкую хижину семьи Мартен-Левек, лиц этой семьи: муж на рыбной ловле, а жена перед домом зашивает сети; девочка, лет четырнадцати, сидит у входа в сад и чинит, уже не раз чиненое, белье; другая девочка, на год моложе, качает на руках ребенка, а два маль чика, двух и трех лет, копаются в земле; молчание и тишина. Действие начинается с беспокойного возгласа старшей девочки: “Вот он опять” — Le r’voila, — вызванного появлением незнакомца, третий раз за день показывающегося около дома. Вид у него больной и жалкий. Матери и девочкам страшно. В особенности беспокоилась мать — поясняет автор — так как она от природы была труслива, а муж ее, Левек, должен был вернуться с моря только к ночи. Вслед за тем и вводится Vorgeschichte, как бы в пояснение данных экспозиции, именно двойной фамилии жены, Мартен-Левек, и простой фамилии мужа, Левек. — “Фамилия ее мужа была Левек, а ее — Мартен, их и окрестили Мартен-Левек. И вот почему: она вышла в первый раз за матроса по имени Мартен, ух одившего каждое лето на Нью-Фаундленд на ловлю трески. — После двух лет супружества у нее была от него дочка, и кроме того она была на седьмом месяце беременности, когда трехмачтовое судно Две сестры, на котором служил ее муж, пропало без вести. Ни один мо ряк из команды не вернулся; поэтому его сочли погибшим вместе с людьми и грузом”. Прождав десять лет она вышла замуж за местного рыбака, но имени Левек. вдовца с мальчиком и за три года родила ему еще двоих детей. Vorgeschichte дана как отступление, как внутренний рассказ, чрезвычайно сжатый, как бы в раккурсе сравнительно с главной линией повествования. Мопассан как бы раздвигает завесу настоящего и показывает нечто в дали, в перспективе прошлого. Но он не исчерпал сразу весь материал этого прошлого, которое входит в сюжет новеллы, потому что впоследствии ему придется еще один раз раздвинуть завесу времени и тогда только заключить начатую Vorgeschichte. Дальнейшее изложение возвращает нас к настоящему. Набравшись храбрости, мать вступает в резкий диалог с бродягой, который в конце-концов исчезает. День кончается возвращением Левека. “Он спокойно улегся спать, тогда как жена его все думала об этом бродяге, глядевшем на нее такими странными глазами”. Второй день строится аналогично первому, но завязка первого дня затягивается в узел новеллы. Главным фактором этого кульминационного напряжения действия является то обстоятельство, что Левек остается дома: “Когда настало утро, поднялся сильный ветер, и моряк, видя, что нельзя выйти в море, стал помогать жене ч инить сети”. Незнакомец опять появляется, и, понуждаемый женою, Левек идет говорить с ним. Внезапный результат их разговора: муж приглашает незнакомца в дом. Мотивировка: его надо накормить, он третий день ничего не ел. Тут центральная сцена: “Бродяга сел и начал есть с опущенной под общими взглядами головой. — Мать стояла и смотрела на него; обе старшие девочки, Мартены, прислонясь к двери, одна с младенцем на руках, уставились на него с жадным любопытством, а два мальчика сидя в печной золе, перестали играть с черным котлом, тоже заглядевшись на чужого. Левек, усевшись на стул, спросил:” Диалог между обоими приводит к моменту узнавания. “ Как тебя звать?” — “Меня звать Мартен”. “Ты здешний?” — “Здешний”. “Он поднял, наконец, голову, глаза его встретилис ь с глазами женщины... и вдруг она изменившимся, глухим и дрожащим голосом произнесла: “Это ты муженек?” — Тот медленно проговорил: “Да, это я”. Вслед за тем, здесь, в диалоге дается остальная часть Vorgeschichte. “Второй муж спросил: “Откуда же ты взялс я”? Первый стал рассказывать: — С африканского берега. Мы разбились о риф. Трое из нас спаслись: Пикар, Ватинель и я. А потом нас забрали дикари я держали нас двенадцать лет. Пикар и Ватинель умерли. Л меня взял с собой английский путешественник и привез меня в Сетт. Вот я и пришел”. И в первом и во втором случае Vorgeschichte вводится в изложение для объяснения тех или иных моментов, тех или иных данных настоящего действия новеллы. (Мы называем это вообще экспликативной (объяснительной) функцией Vorgeschichte). Она вводится кроме того, не сразу вся целиком, а постепенно, приурочиваясь к пунктам, тре бующим объяснения. Первый раз она объясняет данную в экспозиции, неполную согласованность фамилий мужа и жены, во второй раз она объясняет самое сюжетно е ядро новеллы — факт возвращения первого мужа. Но этим не исчерпываются функции Vorgeschichte разбираемой новеллы. Действенность первой ее части еще особая. Объ ясняя семейные отношения героя и героини и тем входя в общую экспозицию новеллы, первая часть Vorgeschichte с другой стороны бросает смутный свет на появление незнакомца. Странность его поведения получает особую загадочную значительность. Объясняя настоящее, данное, Vorgeschichte указывает, на будущее, возможное. Диспозиционно входя в сюжет, она органически, как неотъемлемое звено, входит в композицию изложения, ибо она не только мотивируется развертыванием сю жета в новелле, но и мотивирует это развертывание. В общем эта последняя функция может быть характеризована как функция предвосхищения, которое может выражаться в разных степенях от очень смутного намека до вполне определенного предуказания. Но закончим рассмотрение нашей новеллы. Узел затянут. Как он распутается? “Так что же нам делать?” — Qué que j’allons fé? — дважды спрашивает Левек. Мартен предлагает свое решение: “Я сделаю так, как ты хочешь. Я не желаю обижать тебя. ... У меня двое детей, у тебя трое, каждому свои. Мать? твоя ли она, моя ли она? Как хочешь, я согласен на все; но дом — он мой, мне его отец оставил, я в нем родился и н а него есть бумаги у нотариуса”. — И он в свою очередь спрашивает: “Так, что же нам делать?” — Qué qué j’allons fé? — Левека осеняет мысль: их рассудит кюре. Но по дороге к кюре оба мужа заходят в кафе выпить по рюмочке. И тут Мопассан обрывает свой рассказ: “Они вошли, уселись в пустой еще комнате... И кабатчик с тремя рюмками в одной руке и с графином в другой, пузатый, жирный, красный, подошел и невозмутимо спросил: — А! ты вернулся Мартен? — Мартен отвечал: — Да, вернулся". (Tiens! Te v’la donc, Martin? — Martin répondit: — Me v’là!..) Что же дает это оборванное окончание рассказа? Архитектоника новеллы включает в себя компоненты раз вязки и Nachgeschichte. Имеются ли они здесь налицо? Двухдневная длительность новеллы Мопассана распреде ляется им на три основных сцены, или эпизода. Первая сцена (и первый день) образует завязку и зачин действия (“события”), вторая (центральная) сцена — узел новеллы, третья сцена (в кафе) должна дать развязку. Мы может быть, ждали этой третьей сцены (и развязки) — у кюре, но Мопассан дает нам иное, и мы должны принять это как данность, и нам остается только осмыслить, истолковать эту данность. Архи тектонически здесь все выполнено, трехчленная симметрия здесь налицо. Каково смысловое наполнение этого третьего, завершительного эпизода? Дает ли он ожидаемую развязку?— это вопрос уже другого порядка. Все дело в том, что Мопассан ожидаемой развязки не дает, но дает он нечто вполне эквивалентное развязке. Она может быть названа неожиданной, она может быть характеризована да же как неполная, как своего рода умолчание, но именно в этом умолчании и заключается, конечно, сю жетный смысл рассказа. Шахматная партия может кончаться выигрышем белых или черных, но может кончаться и в ничью. “Ничейный” результат осмысляется всей предшествующей игрой, и свою очередь он осмысляет всю партию. После большого динамического напряжения все сходит на нет. Такое сведение на нет и образует смысл заключительной сцены новеллы Мопассана, и договорим до конца: в этом, внутренняя пуантировка всей его композиции [Позволю себе предложить такую интерпретацию этой внутренней пуантировки. Эффект неполной развязки — в том, что смысловой центр тяжести рассказа ретроспективно переносится с фактов на отношение к ним. Фактически (сюжетно) узел не развязан, но архитектонически (формально) все компоненты налицо, только место развязки заполнено особым (не — фактическим) смысловым содержанием. Упраздняя фактическую развязку такого напряженного и необычайного сюжета, Мопассан как бы дает ему переоценку в его фактическом содержании. Ирония рассказа в том и состоит, что необычайный конфликт в этой обыденной рыбацкой обстановке теряет всю свою необычайность, освещается серым, безразличным светом психики его героев]. Недоговоренность развязки не есть незаконченность рассказа, ибо законченность рассказа определяется его изложением и композицией, а не законченностью жизненного какого-то содержания, всегда фиктивного в художественном произведении. Остается вопрос о Nachgeschichte новеллы. Казалось бы, раз сюжетный узел, фактически не развязан, не может быть и речи о том будущем, которое стоит за развязкой. Но это не так. Фактической Nachgeschichte мы можем и не найти — ее и нет в новелле Мопассана. Но есть опять-таки некий ее эквивалент, который входит как таковой в архитектонику целого. Эта потенциальная Nachgeschichte дана в проекте решения всего казуса, предложенном Мартеном: поделить детей “по принадлежности”, вернуть дом ему, Мартену, а что до жены — в конце концов, он согласен и взять и уступить ее. Итак, эта мнимо недоговоренная, неполная, незаконченная со стороны сюжета новелла, со стороны изложения и композиции представляет собой законченное, полное, “договоренное” целое, технически очень усложненное сравнительно с новеллами Декамерона, но само по себе чрезвычайно простое и прозрачное. Единое необычайное событие дано здесь в контексте фактического прошлого и потенциального будущего: единство события сопряжено с тотальностью сюжета. 5 Вернемся к приему введения Vorgeschichte в изложение в виде внутреннего расс каза. Что дает эта перестройка хронологической последовательности сюжета для общего напряжения, для динамики новеллы? Несколько перефразируя формулировку немецкого стили ста (Rich. M. Meyer, Deutsche Stilistik. 2. Aufl. § 176) применительно к нашей номенклатуре, скажем вообще, что завязка обусловливает напряжение, узел содержит его, развязка разрешает его. Такова естественная схема напряжения новеллы. Высшую вершину напряжения мы называем кульминацией. Ясно, что вершин может быть и не одна, а две, три или несколько в рассказе, и из них не всегда легко указать с точностью высшую. В новелле о соколе она очевидна — принесение сокола в жертву даме, но точно указать ее место в новелле о согрешившем монахе, я бы затруднился. Зависит это прежде всего от самой манеры изложения, от его стиля, но существенную роль играет здесь и композиция в тесном смысле. Боккаччио не дает в этом отношении достаточно ярких и показательных иллюстраций. Его новеллы, в этом смысле, являются обычно просто занимательными рассказами, не бьющими на особые эффекты напряжения, почему оно и стоит здесь в зависимости, вообще говоря, от данных самого сюжета (как, напр., в новелле о соколе). Конечно, и в “Возвращении” Мопас сана сюжет сам по себе достаточно напряжен, но уже на этом примере видно, как много здесь должно быть отнесено на счет техники самого рассказчика. Представим себе рассказ Мопассана иначе скомпонированным. Пускай построен он будет диспозиционно. Сначала рассказчик сообщит всю Vorgeschichte о муже, пропавшем без вести, о пребывании его у дикарей, о вторичном замужестве жены его и, наконец, о возвращении его на родину. Напряженность ситуации — два живых мужа у одной жены — останется и тут, но общее напряжение рассказа, разумеется, упадет. Все сразу развернется слишком ясно, не будет незнакомца, не будет тайны, останутся одни “голые факты”, юридический казус, но не индивидуально оформленный рассказ. Повышение напряженности рассказа, таким образом, обу словливается здесь именно перестройкой диспозиции сюжета. Легко видеть вообще в чем тут дело. Сама по себе напряженная ситуация для посторонних созерцателей ее должна быть менее напряжена, чем для участвующих в ней лиц. Чем больше созерцатель осведомлен обо всех обстоятельствах дела, тем, очевидно, спокойнее и беспристрастнее он дол жен его рассматривать. Так вот, для того, чтобы особенно сильно захватить слушателя (resp. читателя) рассказчик и может как бы поставить его в положение одного из участников происшествия, о котором идет речь, т. -е. заставить его глядеть не со стороны, а г лазами самих участников действия. Элементарный и естественный прием такого увлечения слушателя состоит в приурочении изложения рассказа к точке зрения одного из действующих лиц. И, разумеется, чем больше. заинтересованность избранного действующего лица в переживаемом им происшествии, тем выше напряжение рассказа и для слушателя. Раз рассказчик ввел это единство точки зрения — или, назовем его, единство аспекта, — то уже тем самым диспозиция естественно должна преобразоваться в композицию. Ибо сюжетный материал во всех своих обстоятельствах расположится тогда не в объективной временно-причинной своей последовательности, но в той последовательности, как она развернулась в переживании этого действующего лица. Так, в Мопассановском рассказе мы созерцаем сюжет не объективно и всесторонне, но под углом зрения героини (жены), и напряжение нашего интереса адэкватно напряженному переживанию события героиней. Вот почему и Vorgeschichte первого мужа мы узнаем только из его собственного рассказа, вот почему он и для на с остается незнакомцем вплоть до кульминационной сцены узнания, вот почему, наконец, разговора между Левеком и “незнакомцем”, предшествующего приглашению последнего в дом, мы не слышим, как не могла его слышать и жена обоих [Это единство аспекта не проведено через весь рассказ, ибо в заключительной сцене в кафе героиня не участвует]. Единство аспекта обусловливает, таким образом, повышение динамики рассказа. Тем самым оно является существеннейшим моментом в динамической структуре новеллы и помимо своей естественной функции, как момента вообще объединяющего. В романе мы не ищем непременно такого единства, уже потому, что роман не рассчитан на непрерывно-напряженное внимание своего читателя. Лишь к отдельным частям романа мы можем предъявлять такое требовани е, но не к общей его композиции. Для романа характерно как раз обратное — эпическая широта. Напротив, в новелле этот принцип единства аспекта приво дит к некоторым специфическим формам. Простейший прием проведения такого единства сквозь всю новеллу - вложить изложение в уста рассказчика. Рассказчик может быть самим героем, побочным персонажем, очевидцем или, наконец, просто передатчиком слышанного, или вымышленного им, рассказа. Последний случай, конечно, мало что дает для динамики рассказа в силу того, что фиктивный рассказчик здесь просто дублирует реального автора рассказа. Этот случай характерен для циклических сборников новелл, каким и является Декамерон. И фигура рассказчика-передатчика сама по себе значима для таких произведений лишь поскольку они рассматриваются как целое. Это целое включает ряд новелл в обрамляющее их все повествование, которое имеет обычно и свой самостоятельный интерес. (Чума во Флоренции и пр. в Декамероне, история Шахразады в 1001 ночи, беседы Серапионовых братьев у Гофмана и т.д., и т.д.). В этой связи и следует говорить о таких рассказчиках, для изолированной же новеллы их композиционное значение минимально. Вот почему я и не останавливался на этом моменте обрамления, анализируя новеллы Боккаччьо. И вот почему динамика этих новелл связана почти исключительно с напряженностью самого их сюжета, а не его изложения. Но уже рассказчик-очевидец заметным образом повышает динамическую действенность новеллы [Бывают и промежуточные случаи. Например, рассказчик, слышавший передаваемое им происшествие непосредственно от его активного или пассив ного участника. Или рассказчик частью передатчик слышанного, а частью непосредственный очевидец. Последнее имеется в новелле Мопассана “En Voyage”, анализированной мною в особой статье (“Композиция новеллы у Мопассана”, Журнал “Начала”, № 1. П. 1921), к которой я и отсылаю читателя. Там же см. подробнее и о функции обрамления в новелле]. Тем более повышается она введением в композицию новеллы фигуры рассказчика-персонажа (героя или побочного лица). Новеллу последнего типа я и рассмотрю теперь на примере Чеховского “Шампанского”. (Полн. собр. соч. т. 7). Рама новеллы дана в подзаголовке (“рассказ проходимца”) и не обособлена в обрамляющий рассказ, как это постоянно встречается у Мопассана, напр. Дано только обращение рассказчика к каким-то слушателям, вот и все. “Шампанское” есть, таким образом, своего рода монолог, но этот монолог обладает всеми признаками целостной новеллы. Своеобразие такой формы рассказа и делает его особенно интересным для анализа. Кроме того, “Шампанское” — несомненный Чеховский шедевр — даст мне повод коснуться и некоторых структурных моментов, еще не затронутых мною. Я позволяю себе поэтому, в заключение своей статьи, распространить анализ Чеховской новеллы в специальный мор фологический экскурс. 6 Объединяющим всю композицию элементом является прежде всего тождественность героя и рассказчика. “Шампанское” есть Ich-Erzählung, рассказ о самом себе, данный, кроме того, в монологической форме живого сказа. Изложение все время подчеркивает обращение рассказчика к воображаемым слушателям: “В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что” и т.д. Или: “Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты” и т.д. Или: “Вы помните романс?” И, наконец, в заключение рассказа: “Из степного полустанка, как видите, он (вихрь) забросил меня на эту темную улицу. Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?” Заключительные слова, таким образом, вдруг наполняют содержанием и раму рассказа. Темная улица — вот место действия рамы. Проходимец в темной улице произносит свой монолог — таково обрамление новеллы. Одна черта его дана в самом начале (подзаголовок), другая в самом конце рассказа. О структурном значении такого изложения рамы речь будет впереди. На что указывает заглавие новеллы? Оно естественно должно выделять существенный момент рассказа. Всякий рассказ, в конце концов, есть рассказ о том, чтó гласит заглавие. Техническая проблема заглавия не вставала еще в старой европейской новелле. Но уже Гёте почувствовал ее во всей силе, когда делился с Эккерманом своими колебаниями как озаглавить свою новеллу (29 января 1827). У Мопассан а заглавие, как структурный момент, обычно, неустранимо из целого новеллы. То же и у нашего Чехова. Но заглавие стоит вне временной последовательности изло жения. Оно не столько в начале, сколько над, поверх всей новеллы. Его значение — не значение начала новеллы, но соотносительно новелле в ее целом. Между новеллой и ее загла вием отношение синекдохическое: заглавие со-подразумевает содержание новеллы. Поэтому, прямо или косвенно, заглавие должно указывать на какой -то существенный момент в новелле. Заглавие “Шампанское” и говорит нам сразу о том, что шампанское будет играть существенную роль в событии, о котором будет речь. Оно нас настораживает в определенном направлении. Но оно может быть само по себе нейтрально, само по себе иметь слишком общий смысл и тогда в нем самом еще не будет содержаться никакого элемента напряжения. Таково заглавие “Возвращение” — Le Retour — Мопассана; таково было бы и “Шампанское” Чехова, если бы за ним не следовал подзаголовок. Этот подзаголовок прежде всего есть неко торое несоответствие заглавию: “Шампанское (рассказ проходимца)”. Сюжетная связанность шампанского с проходимцем это есть уже тема, способная нас заинтриговать, если не вызвать прямо некоторого нашего недоумения. Сам по себе подзаголовок Чехова указывает прежде в сего на формальную сторону. Рассказ проходимца — это значит некое повествовательное целое в форме самохарактеристики. То, чтó проходимец будет рассказывать, должно послужить к раскрытию его как проходимца. Ибо при слове проходимец могут возникать самые разные и неопределенные представления. Оно слишком широко по объему, оно отнюдь — не термин. Но вместе с тем оно подчеркивает какую -то яркую черту в человеке, но этот человек неизвестен пока, ибо проходимцем можно назвать самых разных людей. Итак, подзаголовок намекает, в этом смысле, на то, на чтó должно быть направлено внимание читателя. Не всегда подзаголовок типа рассказ такого-то имеет такую функцию, т.-е. вводит новеллу-самохарактеристику и, с другой стороны, направляя и напрягая внимание читателя, является динамическим моментом для последующего. (Не говоря уже о тех случаях, когда рассказчик только очевидец, а не герой). Если в таком подзаголовке дается именование, очень ограниченное по объему и очень определенное по содержанию, то оно уже не требует раскрытия само по себе и остается динамически-нейтральным. Например: рассказ военного, рассказ доктора (часто у Мопассана), рассказ художника (напр., “Дом с мезонином” Чехова) и т.п., где всюду, конечно, категория рассказчика может воздействовать и на стиль и на содержание рассказа, но сама по себе динамики рассказа вперед не определяет [ Особую функцию может иметь — замечу кстати — подзаголовок рассказ старика и т.п . (ср. “Часы” Тургенева), который как бы создает перспективу времени: приближая рассказ к читателю тем, что он (рассказ) — от лица очевидца (или героя), и удаляя его в то же время тем, что повествуется о далеком прошлом]. А тут дается некий N. И содержание этого N непременно должно раскрыться в рассказе: мы ждем этого. Обозначим эту сторону содержания — подлежащую раскрытию личность героя — темой рассказа, в отличие от сюжета, как действенного и фактического его содержания. Основные компоненты сюжета определяются как эпизоды. Соответственно структурными моментами в развертывании темы будут здесь признаки, определяющие и раскрывающие личность героя; обозначим их техническим термином симптомы. Симптомы могут явиться факторами движения сюжета, в таком случае они будут именоваться мотивами. С первых же слов “проходимец” — Я — определяется довольно неожиданно: “я служил начальником полустанка”. Т.е. проходимец оказывается чиновником, прикрепленным к месту службы! Очевидно, раскрытие подлинного содержания N еще впереди. После первой фразы, вводящей в рассказ, следует экспозиция героя-рассказчика. Она сразу дает симптомы, которые в дальнейшем обратятся в действенные мотивы сюжета: общий симптом — скуки и частные, его обусловливающие, — безлюдность местности, отсутствие женщин, отсутствие “порядочного кабака”. (Они даны в последовательности, которую я бы характеризовал как градацию, пуантированную последним членом: “...на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака”. В такой же пуантированной гра дации даются тут же подряд пять черт — признаков героя: “а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп”). Эти симптомы конкретизуются двумя типическими (обобщенными) примерами, иллюстрирующими образ жизни рассказ чика. Симптомы отсутствия женщин конкретизуются так: “Бывало, мелькнет в окне ва гона женская головка, а ты стоишь как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку”. Симптом отсутствия порядочного кабака — так: “или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бе гут длинные часы и дни”. Тут же, как общий фон, дается настроение, возбуждаемое степью: “летом она со своим торжественным покоем — этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длин ные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром”. Следующий абзац перечисляет лиц, живших на полустанке (“я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой, чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем”), и дает общие черты домашнего быта рассказчика: “Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким кала чом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц”. Все это подытоживается основным симптомом скуки: “Вообще прескучнейшая жизнь”. Общая экспозиция закончена, но в ней еще не все дано, не все раз вернуто. О жене героя только упомянуто, как бы между прочим, наряду с лицами, которые в сюжете рас сказа никакой роли играть не будут. И рассказчик переходит к основной сюжетной части новеллы постепенно, тормозя изло жение раскрытием этих недоговоренных мо ментов экспозиции. Само начало этой повествовательной части не отграничено резко от описательной вводной части рассказа: “Помню, встречал я с женою Новый год”. Здесь еще нет ничего исключительного, выдвигающегося на первый план, сравнительно с содержанием предшествующего изложения. Все продолжает быть как бы погруженным в серый фон общей экспозиции. Симптомы скуки и водки (назовем условно так) выступают опять: “Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке”. И как эта “противная” водка не восполняет герою отсутствия “порядочного кабака”, так и симптом отсутствия женщин подчеркивается той характеристикой жены, и отношений между ней и мужем, которая дается здесь, задерживая повествование и восполняя недомолвку общей экспозиции: “а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту, или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку, и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная на ком излить свою злобу, терзал ее попреками”. Общая вводная экспозиция восполнена и договорена. Не только жена характеризована в ее отношении к мужу, но попутно в форме косвенной характеристики, дан целый ряд черт, детализирующих и экспозицию героя (его красивая наружность, его злоба, жестокости и пр.). После этого отступления рассказчик возвращается к пове ствованию: “Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением”. Вот, в сущности, первый возбуждающий момент изложения. На общем фоне скуки мелькнули, как зарницы, новые симптомы: “необычайная торжественность” и “некоторое нетерпение” ожидания полночи. Рассказ получает свое специфическое напряжение: сюжет завязывается. Но завязка опять тормозится рассказчиком. Его намек на нее как бы затушевывается пояснением, которым сопровождаются данные новые симптомы: “Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах”. И это торможение усиливается распространенным сравнением: “ Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что -то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас”. Рассказчик замаскировал завязку. Ослабил ли он тем напря жение рассказа? Шампанское символизуется образом бабочки; в свою очередь, бабочка символизует “что-то новое, странное”. Шампанское “забавляло нас” как бабочка, но за этим просто забавным должно скрываться что-то новое и странное: об этом говорит аналогия с бабочкой. И еще: то обстоятельство, что симптом шампанского дан был уже в заглавии, сосредоточивает на нем особенное внимание читателя, заставляет его сомне ваться, что шампанское лишь случайный аксессуар встречи Нового года. Наконец, с последней фразы этого (четвертого) абзаца рассказчик переходит к самому действию новеллы: “Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки. Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку”. Дальнейшее течение рассказа строится из эпизодов (или сцен), сопровождаемых диалогами и монологическими размышлениями героя. И те и другие имеют свои функции в композиции, частью направленные по линии сюжетного напряжения, частью развертывающие характеристику героя и тем обслуживающие тему новеллы. Первый эпизод: раскупоренная бутылка падает на пол. Сопровождающий этот эпизод диалог между мужем и женой сразу же дает прямое и резкое напряжение рассказу: “Лицо ее побледнело и выражало ужас. — Ты уронил бутылку? — спросила она. — Да, уронил. Ну, так что же из этого? — Нехорошо, — сказала она, ставя свой стакан и еще более бледнея. — Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что -нибудь недоброе. — Какая ты баба! — вздохнул я. — Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей. — Дай Бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что -нибудь! Вот увидишь! Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрас судков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел”. Тут кончается первый эпизод. Следующие две страницы — прогулка героя ночью вдоль насыпи — составляют не эпизод в собственном смысле слова, но компонент, промежуточный между двумя эпизодами. Здесь как бы сюжетная пауза: сюжет временно замолкает, отходит за сцену и уступает свое место теме. Эта промежуточная часть рассказа состоит из монологи ческих дум героя, последовательно чередующихся с прямыми описаниями природы и других картин прогулки героя. Все это, вместе с тем, не случайно заполняет изложение, нарушая художественную экономию, но входит органическими компонентами в целое новеллы. В прямые описания постепенно все более и более проникают элементы, направленные к характеристике героя, обогащающие эту характеристику, а через то развивающие тему. Первое описание ночи и ночного неба, облаков, луны и ее света — еще почти не дает материала и этом отношении. Но уже второе описание — тополя, который “поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество” — вводит во внутреннюю сферу души героя. Еще более субъективным восприятием окрашено третье описание — приближающегося поезда: “Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли”. И еще усиливает эту градацию четвертый описательный абзац, где само описание пролетевшего мимо поезда психологически окрашено лишь слегка, но оно сливается с остальной частью абзаца (описательном по внешней форме), занятой непосредственно внутренней самохарактеристикой героя, с дополнением ее новыми чертами: “Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами... Печальные мысли не оставили меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетни чают перед самими собой своими страданиями”. Вместе с тем этот абзац как бы подводит итог всему содержанию монологических размышлений героя на его прогулке. Вес эти монологические абзацы, перемежающиеся с описательными, развивают суеверную мысль, овладевшую женой рассказчика: “в этом году с нами случится что-нибудь недоброе”. Эта мысль овладевает и героем, проходя как рефрен сквозь все его размышления. Она дает ему повод перебрать в памяти и свое прошлое — от детских лет и до женитьбы — в обоснование того, что с ним, ничего не знавшим в жизни, кроме неудач и бед, “что еще недоброе может случиться?” Такова эта своеобразная и строго мотивированная форма введения Vorgeschichte в новелле Чехова. Она нужна рассказчику — эта Vorgeschichte — и для раскрывания его темы о проходимце. В этих раздумиях о самом себе его облик, как проходимца, начинает все отчетливее обрисовываться. “Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок... из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянском семье, но не получил ни воспитания, ни образования... Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Н и на что я неспособен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка”. А в следующем отрывке тем же мотивируется развернутая, наконец, характеристика самой жены. До сих пор она нам не была показана, но для дальнейшего (для узла новеллы) нам важно знать, что если рассказчик в этот период своей жизни был “молод, крепок”, то жена его “осунулась, состари лась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде?” Так вот, всему этому содержанию прогулки и подв одится итог в словах: “Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: “Что может случиться недоброе?” Эта последняя варьяция рефрена окрашена уже определенной тревогой. Сюжетная пауза заполнилась достаточным тематическим материалом, повествование как бы созрело для нового эпизода, и фактическая подготовка ему дана: поезд пришел и привез с собой то, уже подлинно “новое и странное”, которое метафорически было предвосхищено образами бабочки и шампанского. Герой возвращается с своей прогулки и последний, пятый, описательный отрывок замыкает всю эту промежуточную часть рассказа, симметрически соответствуя первому описанию. Образы луны и двух облачков около нее в обоих этих отрывках сопровождаются легкой символической интерпретацией: Первый отрывок: “На дворе во всей своей холодной, нелю димой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего то ждали”... Последний отрывок: “Два облачка отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда”. Мы возвращаемся к сюжету. Второй и последний эпизод его — появление гостьи (тетки жены) в доме героя. Распланирован этот эпизод на две сцены. Сначала идет вводная сцена. Она состоит из диалога мужа и жены. Их роли переменились: жена уже не томима предчувствиями. “У порога дома встретила меня жена. Глаза, ее весело смеялись и все лицо дышало удовольствием”. Этот диалог повышает напряжение рассказа особым приемом; читатель как бы направляется по ложному следу: муж, а не жена, недоволен появлением гостьи. “Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро: — Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная” и т.д... “Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с ‘тетей’” . К этому примыкает вторая и последняя сцена. Она слагается: во-первых, из прямой характеристики ‘тети’, определенно действенной по отношению к обстановке, а через нее и к герою, и включающей в себя элементы ее Vorgeschichte: “За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван... кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда” и т.д., Во-вторых, из диалога, всего из двух фраз: “— А я не знала, что у меня есть такой крупный пле мянничек! — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь. — А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказал я”. Этим все сказано. Темп изложения ускоряется, рассказ быстро двигается к концу. “Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда -то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины”. Заключение новеллы состоит из Nachgeschichte, данной сначала в форме своего рода умолчания: “Не помню, что было потом... Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса: Знать увидел вас Я не в добрый час”… а затем в сжатом и метафорическом обобщении: “Все полетело к чорту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу” . Тут яркая, обнаженная pointe всей новеллы. Главный эффект ее в том, что она дает обстановочную раму всему рассказу и как бы воочию нам показывает рассказчика как проходимца. Все это было скрыто до сих пор, до последнего момента изложения, и этот последний момент освещает всю новеллу мгновенным, как молния, но и все сразу озаряющим, новым светом. В этом обстановочном обрамлении, в том, что новелла рассказывается в “темной улице” и лежит главная примета “проходимца”. Отсюда органически вытекает и крайне своеобразная форма обрамленного рассказа, в котором рама обнаруживается перед читателем, после того как вся картина, в нее вставленная, прошла перед глазами. Ибо главное содержание всей новеллы определяется тем, как герой ее стал проходимцем в результате одного исключительного события своей жизни. Но у новеллы есть еще концовка. Она состоит из одной фразы, обращенной к слушателям: “Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться ?” 3десь на лицо вторая pointe новеллы. Специфичность ее характеризуется тем, что она иронически повторяет проведенный сквозь новеллу рефрен, на мотиве которого основывалось все напряжение сюжета. Сюжет новеллы и явился ответом на такой же вопрос героя, пока он еще не стал проходимцем. Какой ответ может быть теперь? Сюжет закончен и он замкнул всю жизнь героя. Из нее не разовьется другой новеллы. Все досказано. * * * Каково же общее строение новеллы “Шампанское?” Ее сюжетное ядро — своего рода “новогоднее приключение”. Оно слагается из двух эпизодов, которые относятся друг к другу по схеме вопроса и ответа, загадки и разгадки, ожидания и результата. Одним словом, схема сюжетного напряжения здесь двучленная. Но вся архитектоника новеллы располагается тем не менее в нечетную симметрию. Между двумя основными эпизодами находится промежуточная часть (ночная прогулка героя вдоль насыпи), являющаяся центральной в новелле и по месту, ею занимаемому, и по смысловому ее содержанию. Не двигая собственно сюжета, не будучи, в тесном смысле слова, эпизодом, она эквивалентна узлу новеллы. То, что было выражено в виде суеверного предчувствия жены героя о грозящей им беде и дало смысловое наполнение первому эпизоду (упавшей бутылки шампанского), конденсируется в монологически изложенных раздумиях героя во время его ночной пр огулки.. Динамическое значение этой середины новеллы и обусловливается тем, что тревога “набитой предрассудками” жены постепенно передается ее самоуверенному мужу. Их роли переменились, и развязка, которую дает второй эпизод, оказывается вдвойне неожиданно й. Вступление и заключение новеллы содержат общую экспо зицию и Nachgeschichte; но многое из экспозиционного материала развертывается, по мере надобности, в главной части рассказа, равно как и Vorgeschichte. Первая и последняя фразы новеллы, как зачин и концовка, замыкают всю симметрическую и выполненную ее структуру. Итак, и в этом образце новеллы, в высшей степени изощренном по технике, мы усматриваем тот же простой скелет, те общие структурные принципы, которые морфологически возводят ее, вместе с новел лой Мопассана, к первофеномену Боккаччевой новеллы. Основные компоненты этой новеллистической структуры исчислимы, но все разнообразие их комбинаций и художественных функций неисчерпаемо как сама жизнь. Вот почему, говоря о строении новеллы и о единстве ее, как художественного жанра, мы не говорим ни о какой внешней, затвердевшей, мертвой норме писания или рассказывания новелл. “Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre”. “Учение о форме есть учение о превращении”. [1927] Текст дается по изданию: Петровский М.Л. Морфология новеллы. // Ars Poetica. Сборник статей под ред. М.А.Петровского. (Сборники подсекции теоретической поэтики). (Труды ГАХН, Литературная секция. Вып. 1). М., 1927, с. 69-100 Текст предоставлен А.Брусовым _____________________________________________ Джованни Боккаччо Декамерон День первый НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ Один монах, впав в грех, достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания. Уже Филомена умолкла, кончив свой рассказ, когда сидевший возле нее Дионео, не выждав особого приказания королевы, ибо знал, что по заведенному порядку ему приходится говорить, начал сказывать так: - Любезные дамы, если я точно понял ваше общее намерение, то мы сошлись сюда затем, чтобы, рассказывая, забавлять друг друга. Поэтому я полагаю, что всякому, лишь бы он не шел наперекор этому правилу, дозволено (а что это так, нам сказала недавно королева) рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствия. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джианнотто ди Чивиньи, как Мельхиседек своею находчивостью уберег свое богатство от ловушки Саладина; поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какою хитростью один монах избавился от тяжкого наказания. Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящей, монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь; числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он один бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, сбирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение; поэтому, приблизившись к ней, он вступил с нею в беседу, и так пошло дело от одного к другому, что он, стакнувшись с нею, повел ее в свою келью, так что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вожделением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя тихо мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться, распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение - велеть отворить себе; но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока монах выйдет. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял тем не менее и подозрений, и так как ему послышалось шарканье ног в дормитории, он, приложив глаз к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему воспоследует большое наказание, он сильно опечалился; тем не менее ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное; и пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: “Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной; потому сиди смирно, пока я не вернусь”. Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как-то делали, уходя, все монахи, с покойным видом сказал: “Мессере, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить; потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привезти”. Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был им усмотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить: отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха; либо наперед узнать от девушки, как было дело. Сообразив сам с собою, что то могла быть такая женщина, либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка, вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньше позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать: “Почему бы мне не отведать удовольствия, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть. Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает; если мне удастся уговорить ее послужить моей утехе, я недоумеваю, почему бы мне того не сделать? Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда, а скрытый грех наполовину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коли господь пошлет его кому-нибудь”. Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке, принялся тихо утешать ее. Прося не плакать; так, от слова к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а может быть, боясь повредить ей излишней тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся. Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в дормитории и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие; увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил, либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату; спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному владеть доставшейся добычей. Велев позвать его, он строго и с грозным видом побранил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: “Мессере, я еще недавно состою в ордене св. Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям, а вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы это мне показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешить этим, а всегда делать так, как я видел, делали вы”. Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал; потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова. День пятый НОВЕЛЛА ДЕВЯТАЯ Федериго дельи Альбериги любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым человеком. Уже смолкла Филомена, когда королева, увидев, что рассказывать более некому, за исключением Дионео в силу его льготы, весело сказала: - Теперь мне предстоит сказывать, и я, дорогие дамы, охотно исполню это в новелле, отчасти похожей на предыдущую, и не для того только, чтобы вы познали, какую силу имеет ваша красота над благородными сердцами, но дабы вы уразумели, что вам самим надлежит, где следует, быть подательницами ваших наград, не всегда предоставляя руководство судьбе, которая расточает их не благоразумно, а, как бывает в большинстве случаев, несоразмерно. Итак, вы должны знать, что жил, а может быть, еще и живет в нашем городе Коппо ди Боргезе Доменики, человек уважаемый и с большим влиянием в наши дни и за свои нравы и доблести, более чем по своей благородной крови, весьма почтенный и достойный вечной славы; когда он был уже в преклонных летах, он часто любил рассказывать своим соседям и другим о прошлых делах, а делал он это лучше и связнее и с большею памятью и красноречием, чем то удавалось кому другому. В числе прочих прекрасных повестей он часто рассказывал, что во Флоренции проживал когда-то молодой человек, сын мессера Филиппе Альбериги, по имени Федериго, который в делах войны, и в отношении благовоспитанности считался выше всех других юношей Тосканы. Как то бывает с большинством благородных людей, он влюбился в одну знатную даму, по имени монну Джьованну, считавшуюся в свое время одной из самых красивых и приятных женщин, какие только были во Флоренции; и дабы заслужить ее любовь, являлся на турнирах и военных играх, давал празднества, делал подарки и расточал свое состояние без всякого удержа; но она, не менее честная, чем красивая, не обращала внимания ни на то, что делалось ради нее, ни на того, кто это делал. Итак, когда Федериго тратился свыше своих средств, ничего не выгадывая, вышло, как тому легко случиться, что богатство иссякло, он очутился бедняком, и у него не осталось ничего, кроме маленького поместья, доходом с которого он едва жил, да еще сокола, но сокола из лучших в мире. Вот почему, влюбленный более, чем когда-либо, видя, что не может существовать в городе так, как бы ему хотелось, он отправился в Кампи, где находилась его усадьба; здесь, когда представлялась возможность, он охотился на птиц и, не прибегая к помощи других, терпеливо переносил свою бедность. Когда Федериго уже дошел до последней крайности, случилось в один прекрасный день, что муж монны Джьованны заболел и, видя себя приближающимся к смерти, сделал завещание. Будучи богатейшим человеком, он назначил в нем своим наследником сына, уже подросшего, затем определил, чтобы монна Джьованна, которую он очень любил, наследовала сыну, если бы случилось, что тот умрет, не оставив законного потомства; а сам скончался. Оставшись вдовою, монна Джьованна, по обычаю наших дам, ездила с своим сыном на лето в деревню, в одно свое поместье, в очень близком соседстве от Федериго, вследствие чего вышло, что тот мальчик начал сближаться с Федериго, забавляясь птицами и собаками; не раз он видел, как летает сокол Федериго, он сильно ему приглянулся, и у него явилось большое желание приобрести его, но попросить о том он не решался, зная, как он был дорог хозяину. Так было дело, когда случайно мальчик заболел; это страшно опечалило мать, ибо он у нее был один и она любила его как только можно любить. Проводя около него целые дни, она не переставала утешать его и часто спрашивала, нет ли чего-нибудь, чего бы он пожелал, и просила сказать ей о том, ибо если только возможно то достать, она наверно устроит, что оно у него будет. Мальчик, часто слышавший такие предложения, сказал: “Матушка, если вы устроите, что у меня будет сокол Федериго, я уверен, что скоро выздоровлю”. Мать, услыхав это, несколько задумалась и начала соображать, как ей поступить. Она знала, что Федериго долго любил ее и никогда не получил от нее даже взгляда, вот почему она сказала себе: “Как пошлю я или пойду просить у него этого сокола, который, судя по тому, что я слышала, лучше из всех, когда-либо летавших, да кроме того его и содержит? Как буду я так груба, чтобы у порядочного человека, у которого не осталось никакой иной утехи, захотеть отнять именно ее?” Остановленная такою мыслью, хотя и вполне уверенная в том, что получила бы сокола, если бы попросила, не зная, что сказать, она не отвечала сыну и при том и осталась. Наконец, любовь к сыну так превозмогла ее, что она решилась удовлетворить его и, что бы там ни случилось, не посылать, а пойти за соколом самой и принести, и она ответила сыну: “Утешься, сынок мой, и постарайся поскорее выздороветь, ибо я обещаю тебе, что первой моей заботой завтра утром будет пойти за ним, и я принесу его тебе”. У обрадованного этим мальчика в тот же день обнаружилось некоторое улучшение. На следующее утро монна Джьованна, в сопровождении одной женщины, как бы гуляя, направилась к маленькому домику Федериго и велела вызвать его. Так как время тогда не благоприятствовало охоте, да он не ходил на нее и в прошлые дни, он был в своем огороде, занимаясь кое-какой работой. Услыхав, что монна Джьованна спрашивает его у дверей, страшно изумленный и обрадованный, он побежал туда. Та, увидя его приближающимся, встала навстречу ему с женственной приветливостью, я когда Федериго почтительно приветствовал ее, сказала: “Здравствуй, Федериго”. И она продолжала: “Я пришла вознаградить тебя за те убытки, которые ты понес из-за меня, когда любил меня более, чем тебе следовало; и награда будет такая: я намерена вместе с этой моей спутницей пообедать у тебя сегодня по-домашнему”. На что Федериго скромно ответил: “Мадонна, я не помню, чтобы получил от вас какой-либо ущерб, напротив, столько блага, что если я когда-либо чего стоил, то случилось это благодаря вашим достоинствам и той любви, которую я к вам питал, и я уверяю вас, ваше любезное посещение мне гораздо дороже, чем если бы я вновь получил возможность тратить столько, сколько я прежде потратил, хотя вы и пришли в гости к бедняку”. Сказав это, он, смущенный, принял ее в своем доме, а оттуда повел ее в сад и там, не имея никого, кто бы мог доставить ей общество, сказал: “Мадонна, так как здесь нет никого, то эта добрая женщина, жена того работника, побудет с вами, пока я пойду и велю накрыть на стол”. Несмотря на то, что бедность его была крайняя, он никогда не сознавал, как бы то следовало, что без всякой меры расточил свои богатства; но в это утро, не находя ничего, чем бы мог учествовать свою даму, из-за любви к которой он прежде чествовал бесконечное множество людей, он пришел к сознанию всего; безмерно тревожась, проклиная судьбу, вне себя, он метался туда и сюда, не находя, ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить; но так как час был поздний и велико желание чем-нибудь угостить благородную даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому, но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его дорогой сокол, которого он увидал в своей комнатке, сидящим на насесте; вследствие чего, недолго думая, он взял его и, найдя его жирным, счел его достойной снедью для такой дамы. Итак, не раздумывая более, он свернул ему шею и велел своей служанке посадить его тотчас же, ощипанного и приготовленного, на вертел в старательно изжарить; накрыв стол самыми белыми скатертями, которых у него еще осталось несколько, он с веселым лицом вернулся к даме в сад и сказал, что обед, какой только он был в состоянии устроить для нее, готов. Та, встав с своей спутницей, пошла к столу; не зная, что они едят, они вместе с Федериго, который радушно угощал их, съели прекрасного сокола. Когда убрали со стола и они провели с ним некоторое время в приятной беседе, монне Джьованне показалось, что наступило время сказать ему, зачем она пришла, я, ласково обратившись к нему, она начала говорить: “Федериго, если ты помнишь твое прошлое и мое честное отношение к тебе, которое ты, быть может, принимал за жестокость и резкость, то, я не сомневаюсь, ты изумишься моей самонадеянности, узнав причину, по которой главным образом я пришла сюда. Если бы теперь или когда-либо у тебя были дети и ты познал через них, как велика бывает сила любви, которую к ним питают, я уверена, ты отчасти извинил бы меня. Но у тебя их нет, а я, у которой есть ребенок, не могу избежать закона, общего всем матерям; и вот, повинуясь его власти, мне приходится, несмотря на мое нежелание и против всякого приличия и пристойности, попросить у тебя дара, который, я знаю, тебе чрезвычайно дорог, и не без причины, потому что твоя жалкая доля не оставила тебе никакого другого удовольствия, никакого развлечения, никакой утехи, и этот дар - твой сокол, которым так восхитился мой мальчик, что если я не принесу его ему, боюсь, что его болезнь настолько ухудшится, что последует нечто, вследствие чего я его утрачу. Потому прошу тебя, не во имя любви, которую ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя твоего благородства, которое ты своею щедростью проявил более, чем кто-либо другой, подарить его мне, дабы я могла сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему сыну к тем обязана тебе навеки”. Когда Федериго услышал, о чем просила его дама, и понял, что он не может услужить ей, потому что подал ей сокола за обедом, принялся в ее присутствии плакать, прежде чем был в состоянии что-либо ответить. Дама на первых порах вообразила, что происходит это скорее от горя, что ему придется расстаться с дорогим соколом, чем от какой-либо другой причины, и чуть не сказала, что отказывается от него, но, воздержавшись, обождала, чтобы за плачем последовал ответ Федериго, который начал так: “Мадонна, с тех пор как по милости божией я обратил на вас свою любовь, судьба представлялась мне во многих случаях враждебной, и я сетовал на нее, но все это было легко в сравнении с тем, что она учинила мне теперь, почему я никогда не примирюсь с ней, когда подумаю, что вы явились в мою бедную хижину, куда, пока она была богатой, вы не удостаивали входить; что вы просите у меня небольшого дара, а судьба так устроила, что я не могу предложить вам его; почему, об этом я скажу вам вкратце. Когда я услыхал, что вы снизошли прийти пообедать со мною, я, принимая во внимание ваши высокие достоинства и доблесть, счел приличным и подобающим учествовать вас, по возможности, более дорогим блюдом, чем какими вообще чествуют других; потому я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, о его качествах, и счел его достойной для вас пищей, и сегодня утром он был подан вам изжаренным на блюде; я полагал, что достойно им распорядился; узнав теперь, что вы желали его иметь в другом виде, я так печалюсь невозможностью услужить вам, что, кажется мне, никогда не буду иметь покоя”. Так сказав, он велел в доказательство всего этого бросить перед ней перья и ноги и клюв сокола. Когда дама увидела и услыхала это, на первых порах упрекнула его за то, что он заколол такого сокола, чтобы угостить им женщину, а затем стала восхвалять про себя его великодушие, которое не в силах была умалить бедность. Затем, утратив надежду получить сокола, а вследствие этого полная сомнений относительно здоровья ребенка, она, печально простившись, вернулась к сыну, который, вследствие ли горя, что не мог получить сокола, или привела его к тому болезнь, по прошествии немногих дней скончался к величайшей скорби матери. Пробыв некоторое время в слезах и горести, она, оставшаяся богачихой и еще молодой, несколько раз была побуждаема братьями снова выйти замуж. Хотя она того и не желала, но видя, что к ней пристают, вспомнила о доблести Федериго и о его последней щедрости, когда он заколол, чтобы учествовать ее, такого сокола, и сказала братьям: “Если б вы на то согласились, я охотно осталась бы так, как есть: но если уж вам угодно, чтобы я вышла замуж, я по чести не изберу никого другого, кроме Федериго дельи Альбериги”. На это братья ответили, глумясь над ней: “Глупая, что ты говоришь, как хочешь ты выйти за человека, у которого нет ничего на свете?” А она на это им в ответ: “Братцы мои, я отлично знаю, что все так, как вы говорите, но я предпочитаю мужчину, нуждающегося в богатстве, богатству, нуждающемуся в мужчине”. Братья, узнав об ее решении и зная доблести Федериго, хотя он был и беден, выдали ее за него со всем ее богатством, как она того желала. Получив в жены такую женщину, которую он любил, став, кроме того, богачом и лучшим, чем прежде, хозяином, он в радости и веселии провел с ней остаток своих дней. [1352] Перевод А.Н.Веселовского Боккачо Дж. Декамерон. М.: ГИХЛ, 1955 http://az.lib.ru/b/bokkachcho_d/text_0030.shtml ________________________________________ Ги де Мопассан Возвращение Море бьет в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром; в изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня. У самой околицы стоит домик Мартен-Левеков, в стороне от других, на краю дороги. Это рыбацкая глинобитная лачуга, крытая соломой, с кустиком голубых ирисов на самой верхушке. Перед дверью — квадратный огородик величиной с платок, где растут лук, несколько кочанов капусты, петрушка и кервель. Плетень отделяет огород от дороги. Хозяин на рыбной ловле, а жена перед домом чинит большую бурую сеть, растянутую на стене, словно громадная паутина. У калитки, на колченогом соломенном стуле, припертом спинкой к плетню, сидит девочка лет четырнадцати и чинит белье — не раз уже латанное и штопанное белье бедняков. Другая девочка, годом моложе, укачивает на руках грудного ребенка, еще бессловесного, еще не знающего осмысленных движений, а двое карапузов, двух и трех лет, сидя нос к носу прямо на земле, роют неловкими ручонками ямки и кидают друг другу в лицо пригоршни пыли. Никто не произносит ни слова. Только малыш, которого стараются укачать, не умолкая, плачет пискливым и слабым голоском. На окошке дремлет кот. У стены дома красивой, нарядной каймой распушились белые левкои, а над ними жужжит целое сонмище мошкары. Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает: — Ма-ам! — Чего тебе? — отзывается мать. — Опять он тут... С самого утра они тревожатся, потому что вокруг дома все бродит какой-то старый человек, похожий на нищего. Они заметили незнакомца, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте; он сидел и смотрел на их дом. Казалось, он был измучен и болен. Более часу он сидел не шевелясь; потом, заметив, что его подозревают в дурных умыслах, поднялся и ушел, волоча ноги. Но вскоре они увидели, что он возвращается медленным и усталым шагом; он снова уселся, но на этот раз немного подальше, словно собирался подсматривать за ними. Мать и девочки испугались. Особенно встревожилась мать, потому что она от природы была боязлива, а хозяин, Левек, должен был вернуться не раньше вечера. Мужа ее звали Левек, а сама она носила фамилию Мартен, и их окрестили Мартен-Левеками. Случилось это вот почему: она вышла первый раз замуж за моряка Мартена, который каждое лето отправлялся к Ньюфаундленду на ловлю трески. За два года замужества она родила от него дочку и была беременна на седьмом месяце, когда пропало судно, на котором плавал ее муж, — Две сестры, трехмачтовая шхуна из Дьепа. О шхуне так и не было больше вестей, никто из находившихся на ней моряков не вернулся: и все решили, что она затонула с людьми и грузом. Мартен десять лет ждала своего мужа и с великим трудом растила двух дочерей; потом, так как она была женщина работящая и хорошая, к ней посватался один из местных рыбаков, Левек, вдовец с маленьким сыном. Они поженились, и за три года она родила от него еще двоих детей. Жизнь у них была тяжкая и многотрудная. Хлеб в их доме ценили дорого, а мяса почти не видали. Случалось, они должали булочнику — зимой, в ненастные месяцы. Ребята все же росли здоровыми. Люди говорили: — Славные они оба, Мартен-Левеки. Мартен работы не боится, а Левек в рыбацком деле любого за пояс заткнет. Девочка, сидевшая у плетня, заговорила опять: — Похоже, он знает нас. Может, это нищий из Эпревиля, а не то из Озебоска. Но тут мать не могла ошибиться. Нет, нет, это человек нездешний, наверняка! Он все торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом Мартен-Левеков, и Мартен, наконец, разъярилась; со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог. — Вам чего тут надо? — крикнула она бродяге. Он отвечал хриплым голосом: — Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю? Она продолжала: — Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому? — Плохого я никому не делаю, — ответил он. — Нельзя на дороге посидеть, что ли? Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой. День тянулся медленно. К полудню человек исчез. Но к пяти часам появился. Вечером его уже не видели. Левек вернулся к ночи. Ему обо всем рассказали. Он решил: — Верно, разнюхивать пришел, дурной человек, должно быть. И он спокойно лег спать, а его подруга все думала о бродяге, который смотрел на нее такими странными глазами. На рассвете подул сильный ветер, и рыбак, видя, что нельзя выйти в море, принялся помогать жене чинить сети. Часов в девять старшая девочка, дочь Мартена, ходившая за хлебом, вернулась бегом, перепуганная, и закричала: — Мама, опять он тут! Мать вся побледнев от волнения, обернулась к мужу. — Ступай, Левек, поговори с ним. Пусть он бросит подглядывать, а то я уже сама не своя. И Левек, дюжий моряк с кирпично-красным лицом и густой рыжей бородой, с голубыми глазами, словно проколотыми черной точкой зрачка, и с крепкой, всегда тепло укутанной шеей — в защиту от дождя и морского ветра, — спокойно вышел и направился к прохожему. Они заговорили. Мать и дети издали смотрели на них в смятении и тревоге. Вдруг незнакомец поднялся и вместе с Левеком направился к дому. Мартен испуганно попятилась. Муж сказал ей: — Дай-ка ему хлебца и кружку сидра. У него два дня крошки во рту не было. И оба вошли в дом, а за ними — женщина и дети. Прохожий сел и принялся есть, опустив голову под всеми устремленными на него пристальными взглядами. Мать, стоя, разглядывала его, две старшие девочки, — мартеновские, одна с малышом на руках, — прислонились к дверям и с жадным любопытством уставились на чужака; два карапуза, сидевшие в очаге на остывшей золе, перестали играть черным котелком, будто и они хотели посмотреть на нового человека. Левек сел и спросил: — Так, значит, вы издалека? — Из Сета. — И все пешком? — Пешком. Платить нечем, так поневоле пойдешь. — Куда же вы? — Я шел сюда. — У вас тут есть кто-нибудь? — Может, и есть. Они замолчали. Человек, хоть был голоден, ел медленно и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было старое, морщинистое, костлявое. Видно, он перенес много тяжелого. Левек вдруг спросил: — А как вас звать? Он ответил, не поднимая головы: — Меня звать Мартеном. Странная дрожь пробежала по телу матери. Она шагнула вперед, словно хотела получше разглядеть бродягу, и остановилась перед ним, уронив руки, раскрыв рот. Никто не произносил ни слова. Наконец Левек снова заговорил: — Вы здешний? Тот ответил: — Здешний. Он поднял, наконец, голову; глаза женщины и его глаза встретились и остановились недвижно, взгляды соединились, будто притянутые магнитом друг к другу. И вдруг она тихо произнесла задрожавшим, изменившимся голосом: — Это ты, муженек? Он медленно ответил: — Да, я. Он продолжал сидеть и жевать хлеб. Левек, не то что взволнованный, а скорей удивленный, пробормотал: — Это ты, Мартен? Тот просто ответил: — Да, я. Второй муж спросил: — Откуда же ты взялся? Первый рассказал: — С африканского побережья. Мы наскочили на мель. Трое наc спаслись — Пикар, Ватинель и я. Потом дикари схватили нас и держали у себя двенадцать лет. Пикар и Ватинель померли. Один англичанин-путешественник проезжал по тем местам, он забрал меня с собою и довез до Сета. Вот я и пришел. Мартен расплакалась, уткнувшись лицом в передник. Левек сказал: — Как же нам теперь быть? — Ты что, ее муж? — спросил Мартен. — Да, муж, — ответил Левек. Они взглянули друг на друга и замолчали. Потом Мартен, оглядев детей, собравшихся вокруг него, кивнул головой в сторону двух девочек: — Это мои? — Твои, — подтвердил Левек. Мартен не встал с места, не обнял их; он только заметил: — Господи, большие-то какие! Левек повторил: — Как же нам быть теперь? Мартен раздумывал, тоже не зная, как поступить. Наконец он решился. — Что ж, говори, я сделаю по-твоему. Я тебе зла не желаю. Только с домом вот неладно выходит. Ребята... у меня двое, у тебя трое — каждому свои. Вот мать их, — то ли твоя она, то ли моя? Как захочешь, так и будет. Ну, а уж дом-то мой, он мне от отца достался, тут я родился, и бумаги все у нотариуса есть. Мартен все плакала, отрывисто всхлипывая, и прятала лицо в голубой холщовый передник. Старшие девочки придвинулись поближе друг к другу, с беспокойством разглядывая отца. Мартен кончил есть. Теперь он, в свою очередь, спросил: — Как же нам быть? Левеку пришла в голову мысль: — Пойдем к священнику, он и рассудит. Мартен встал и, когда он шагнул в сторону жены, та, рыдая, бросилась к нему на грудь: — Муженек! Ты тут! Мартен, бедняга мой, ты тут! И она обхватила его обеими руками, ощутив вдруг всем существом веяние давно минувшего, потрясенная силой воспоминаний, которые воскресили перед ней юные годы и первые объятия. Мартен тоже растрогался и несколько раз поцеловал ее в чепец. Оба мальчугана, сидевшие в очаге, заревели в один голос, услышав, как плачет мать, а самый маленький, на руках у младшей дочки Мартенов, завизжал пронзительно, как испорченная дудка. Левек стоя ждал. — Пойдем, — сказал он, — надо все устроить как полагается. Мартен выпустил жену из объятий; заметив, что он смотрит на дочек, мать сказала им: — Чего же вы? Поцелуйте отца. Они подошли вместе, без единой слезинки, недоумевая и немного побаиваясь. Он чмокнул одну вслед за другой, в обе щеки, неумело, по-крестьянски. Малыш, увидев, что к нему приближается чужой человек, залился таким неистовым плачем, что его чуть не схватили судороги. Затем мужчины вышли. Когда они проходили мимо кабачка “Торговля”, Левек спросил: — А не выпить ли нам по стаканчику? — Что ж, я не прочь, — согласился Мартен. Они вошли, уселись в пустой еще комнате, и Левек закричал: — Эй! Шико! Два стаканчика настойки, да покрепче: Мартен вернулся, прежний муж моей жены. Знаешь, Мартен с Двух сестер, который пропал. Толстобрюхий, багровый, заплывший жиром кабатчик подошел, держа в одной руке три стакана, а в другой бутылку, и невозмутимо спросил: — Смотри-ка! Ты вернулся, Мартен? — Вернулся, — ответил Мартен. Перевод Н. Вильтер Напечатано в “Голуа” 28 июля 1884 года под заглавием “Мартены” (Les Martins). Авар писал Мопассану 5 августа 1884 года: “Черт возьми, какую замечательную новеллу Вы напечатали в “Голуа”! Клянусь Вам, она так и не выходит у меня из головы. Никогда еще Вы не создавали ничего более сильного и нипочем не угадали бы, какое огромное впечатление произведет она на публику”. Примечания Ю. Данилина Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 4. МП Аурика, 1994 http://ocr.krossw.ru/html/mopassan/mopassan-vozvrashenie-ls_1.htm _______________________________________________________ А.П.Чехов Шампанское (Рассказ проходимца) В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жиды подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным покоем — этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром. На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прескучнейшая жизнь. Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками. Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки. Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки, или же бутылка была слишком влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем. — Ну, с Новым годом, с новым счастьем! — сказал я, наливая два стакана. — Пей! Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас. — Ты уронил бутылку? — спросила она. — Да, уронил. Ну, так что же из этого? — Нехорошо, — сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея. — Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе. — Какая ты баба! — вздохнул я. — Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей. — Дай бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что-нибудь! Вот увидишь! Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел. На дворе во всей своей холодной, нелюдимой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая всё: сугробы, насыпь... Было тихо. Я шел вдоль насыпи. “Глупая женщина! — думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами. — Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?” Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него. “Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок, — продолжал я думать. — Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?” Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли. “Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? — спрашивал я себя. — И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность... Всё гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного”. Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: “Что же может случиться недоброе?” “Да, что же случится? — спрашивал я себя, возвращаясь. — Кажется, всё пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблял на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление я, кажется, неспособен, суда же не боюсь”. Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда. У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и всё лицо дышало удовольствием. — А у нас новость! — зашептала она. — Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья! — Какая гостья? — Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна. — Какая Наталья Петровна? — Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая... Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро: — Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата. Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с “тетей”. За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван... кажется, всё до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостья была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я всё понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента. — А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь. — А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказал я. Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины. Вы помните романс? Очи черные, очи страстные, Очи жгучие и прекрасные, Как люблю я вас, Как боюсь я вас! Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами всё того же глупого романса: Знать, увидел вас Я не в добрый час... Всё полетело к чёрту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу. Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться? [1887] Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1974—1982. Т. 6. [Рассказы], 1887. — М.: Наука, 1976, с. 12—17. http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp6/sp6-012-.htm