Турмалиновое кольцо
advertisement
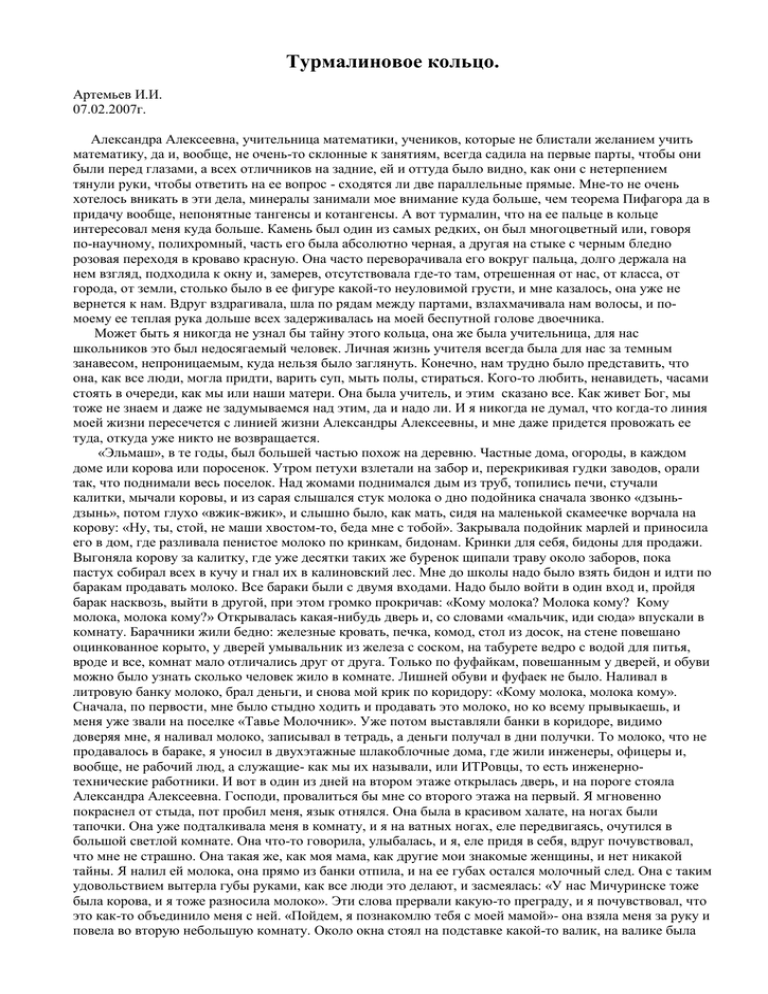
Турмалиновое кольцо. Артемьев И.И. 07.02.2007г. Александра Алексеевна, учительница математики, учеников, которые не блистали желанием учить математику, да и, вообще, не очень-то склонные к занятиям, всегда садила на первые парты, чтобы они были перед глазами, а всех отличников на задние, ей и оттуда было видно, как они с нетерпением тянули руки, чтобы ответить на ее вопрос - сходятся ли две параллельные прямые. Мне-то не очень хотелось вникать в эти дела, минералы занимали мое внимание куда больше, чем теорема Пифагора да в придачу вообще, непонятные тангенсы и котангенсы. А вот турмалин, что на ее пальце в кольце интересовал меня куда больше. Камень был один из самых редких, он был многоцветный или, говоря по-научному, полихромный, часть его была абсолютно черная, а другая на стыке с черным бледно розовая переходя в кроваво красную. Она часто переворачивала его вокруг пальца, долго держала на нем взгляд, подходила к окну и, замерев, отсутствовала где-то там, отрешенная от нас, от класса, от города, от земли, столько было в ее фигуре какой-то неуловимой грусти, и мне казалось, она уже не вернется к нам. Вдруг вздрагивала, шла по рядам между партами, взлахмачивала нам волосы, и помоему ее теплая рука дольше всех задерживалась на моей беспутной голове двоечника. Может быть я никогда не узнал бы тайну этого кольца, она же была учительница, для нас школьников это был недосягаемый человек. Личная жизнь учителя всегда была для нас за темным занавесом, непроницаемым, куда нельзя было заглянуть. Конечно, нам трудно было представить, что она, как все люди, могла придти, варить суп, мыть полы, стираться. Кого-то любить, ненавидеть, часами стоять в очереди, как мы или наши матери. Она была учитель, и этим сказано все. Как живет Бог, мы тоже не знаем и даже не задумываемся над этим, да и надо ли. И я никогда не думал, что когда-то линия моей жизни пересечется с линией жизни Александры Алексеевны, и мне даже придется провожать ее туда, откуда уже никто не возвращается. «Эльмаш», в те годы, был большей частью похож на деревню. Частные дома, огороды, в каждом доме или корова или поросенок. Утром петухи взлетали на забор и, перекрикивая гудки заводов, орали так, что поднимали весь поселок. Над жомами поднимался дым из труб, топились печи, стучали калитки, мычали коровы, и из сарая слышался стук молока о дно подойника сначала звонко «дзыньдзынь», потом глухо «вжик-вжик», и слышно было, как мать, сидя на маленькой скамеечке ворчала на корову: «Ну, ты, стой, не маши хвостом-то, беда мне с тобой». Закрывала подойник марлей и приносила его в дом, где разливала пенистое молоко по кринкам, бидонам. Кринки для себя, бидоны для продажи. Выгоняла корову за калитку, где уже десятки таких же буренок щипали траву около заборов, пока пастух собирал всех в кучу и гнал их в калиновский лес. Мне до школы надо было взять бидон и идти по баракам продавать молоко. Все бараки были с двумя входами. Надо было войти в один вход и, пройдя барак насквозь, выйти в другой, при этом громко прокричав: «Кому молока? Молока кому? Кому молока, молока кому?» Открывалась какая-нибудь дверь и, со словами «мальчик, иди сюда» впускали в комнату. Барачники жили бедно: железные кровать, печка, комод, стол из досок, на стене повешано оцинкованное корыто, у дверей умывальник из железа с соском, на табурете ведро с водой для питья, вроде и все, комнат мало отличались друг от друга. Только по фуфайкам, повешанным у дверей, и обуви можно было узнать сколько человек жило в комнате. Лишней обуви и фуфаек не было. Наливал в литровую банку молоко, брал деньги, и снова мой крик по коридору: «Кому молока, молока кому». Сначала, по первости, мне было стыдно ходить и продавать это молоко, но ко всему прывыкаешь, и меня уже звали на поселке «Тавье Молочник». Уже потом выставляли банки в коридоре, видимо доверяя мне, я наливал молоко, записывал в тетрадь, а деньги получал в дни получки. То молоко, что не продавалось в бараке, я уносил в двухэтажные шлакоблочные дома, где жили инженеры, офицеры и, вообще, не рабочий люд, а служащие- как мы их называли, или ИТРовцы, то есть инженернотехнические работники. И вот в один из дней на втором этаже открылась дверь, и на пороге стояла Александра Алексеевна. Господи, провалиться бы мне со второго этажа на первый. Я мгновенно покраснел от стыда, пот пробил меня, язык отнялся. Она была в красивом халате, на ногах были тапочки. Она уже подталкивала меня в комнату, и я на ватных ногах, еле передвигаясь, очутился в большой светлой комнате. Она что-то говорила, улыбалась, и я, еле придя в себя, вдруг почувствовал, что мне не страшно. Она такая же, как моя мама, как другие мои знакомые женщины, и нет никакой тайны. Я налил ей молока, она прямо из банки отпила, и на ее губах остался молочный след. Она с таким удовольствием вытерла губы руками, как все люди это делают, и засмеялась: «У нас Мичуринске тоже была корова, и я тоже разносила молоко». Эти слова прервали какую-то преграду, и я почувствовал, что это как-то объединило меня с ней. «Пойдем, я познакомлю тебя с моей мамой»- она взяла меня за руку и повела во вторую небольшую комнату. Около окна стоял на подставке какой-то валик, на валике была натянута бумага с рисунком, и в него были воткнуты сотни иголок с пупырышечками, и тянулись белые нитки, к которым были привязаны деревянные палочки. За этим устройством сидела бабушка, такая уютная, а главное - она перебирала сморщенными руками эти палочки, и они с перезвоном пели какуюто удивительную мелодию. «Ну- кось, ну-кось, подойди на свет-то. Так это ты мне молочка принес-то, Вот справно, вот ладно-то. Да к чему ты такой взъерошенный, ну право, воробей. Звать-то, величать как?». «Ильдар». «Красивое имячко, впервой слышу, и кто же тебя так назвал, вроде русский с виду-то, а имя не нашенское?» «Бабушка, нацменка»- ответил я, почему-то не назвав ее татаркой. «А папа у меня русский»- добавил я. Она пошамкала беззубым ртом, поджала губы, и такая у нее получилась добрая улыбка, а слова еще больше согрели душу: «Хорошее имячко, Богу-то мы все одинаковые, только меж собой делимся на плохих да хороших, русских да не русских. А ему-то все едино». Она перекрестила меня так ловко, что я не успел отскочить, а стоял пораженный; мне же в пионеры вступать. Александра Алексеевна, видя мое смущение, сказала: «Пойдем, чаем тебя угощу.» Я, как не отнекивался, а все же высидел за столом и уже с гордостью думал, как похвастаюсь ребятам, что я пил дома с учительницей чай, поди не поверят. Договорились, что я ей буду молоко приносить с вечерней дойки, так удобней. Я был не против и, спускаясь с пустым бидоном со второго этажа, почему-то считал ступеньки, словно это имело какое-то значение. Теперь, бывая почти ежедневно, я все больше и больше сближался с этой семьей. Александра Алексеевна стала помогать мне по математике, но я больше тянулся к бабушке. Заворожено смотрел, как из-под ее скрюченных пальцев рождалось воздушное чудо с узорами такими тонкими и фантастическими, что мне самому хотелось плести под эту музыку деревянных палочек, и не руки, а они сплетали орнамент из птиц, цветов, растений. Я старался молоко им приносить последним, чтобы подольше задерживаться у них. Бабушка живо интересовалась всем, чем я занимаюсь и, узнав, что собираю коллекцию минералов, просила приносить ей камни и рассказывать о них. Мне того и надо было, и я с радостью делился с ней своими находками, о местах, где я уже успел побывать, о том, какие камни где водятся и о тех местах, куда мне еще хочется попасть. Александра Алексеевна вечером, накормив мужа, обиходив бабушку, садилась проверять тетради и слушала, как старый и малый ведут беседу, иногда вдруг замирала над столом, поворачивая на своем пальце кольцо, вглядываясь в него, лицо делалось незнакомым, каким-то грустным, словно какая-то печаль томила ее, взгляд затуманивался, и потом она с трудом возвращалась из того далекого далека, где она только что была, но уже просветленной и даже, как мне казалось, удивленно счастливой. А когда я принес турмалины и показывал их бабушке, она так живо заинтересовалась ими, что я даже удивился. И мне пришлось рассказывать все, что я знал об этом камне. Да этот камень был одним из самых загадочных и прекрасных. Она слушала, не перебивая меня, а я с таким увлечением рассказывал, что даже муж и сын сидели, слушая меня не шевелясь, но самым внимательным слушателем была Александра Алексеевна. Она брала в руки каждый камень, подолгу разглядывала его, переспрашивала и незаметно от меня взглядывала на свое кольцо с турмалином, словно видела его в первый раз. Она удивлялась, что столько разных названий у одного камня. Я же называл их и перечислял достоинства. Вот самый распространенный черный турмалин. Шерл называется. А вот синий – индиголит. Ну, а тот, что в кольце у Вас, полихромный называется. Это значит в нем цвет разный: и розовый, и зеленый, и черный, и в разных камнях они не повторяются. А вот еще сибирит – это раньше Урал тоже Сибирью называли, но камень впервые найден был на Урале, а научно его еще рубеллитом называют. А вот дравит еще – зеленоватый до коричневого, Ну, а ахроит, вообще, на отличку – бесцветный. Я с таким упоением рассказывал о турмалинах, хотя сам еще многое не видел или видел в музее. Но мечта найти турмалины давно завладела мной, и я побывал на всех месторождениях турмалина в Союзе, но это уже после армии. Время летит быстро. Как быстро кончилось детство, в стайке много раз менялись коровы, я уже не продавал молоко по баракам, и пришло время прощаться с Александрой Алексеевной, с бабушкой, с друзьями. В армию уходил уже, отработав несколько лет в геологической партии и собрав неплохую коллекцию, но такого турмалина, как у учительницы, у меня еще не было. Три года на границе в Карелии и вот я дома. Все изменилось, а, может, это я изменился, но уже другие заботы овладели мной. Учеба в институте, работа, женитьба, но камни остались страстью как в детстве, и уже с женой по выходным бродили по копям «Палкино», Северки, «Пушкинитовые ямы» и все дальше забираемся за своей мечтой – найти турмалины. Сибирь, Савватеевские копи, копи реки Ургучан, Моховая копь, и в коллекции появились почти все турмалины, но такого турмалина, как у Александры Алексеевны, я все еще не нашел. С ней мы продолжали встречаться, она все еще работала в школе и, казалось, годы не берут ее. Кольцо на пальце врезалось так, что его уже невозможно было снять. С ней часто мы ходили на родник за водой на Калиновку или, как она говорила, на ключик. Иногда, когда спешить было некуда, разводили костерик недалеко от родника и, сидя у него, вороша палкой огонь, сидели задумчиво, смотрели, как пламя переливалось, то затухало, то вспыхивало с новой силой, и не оторвать взгляда на эту чудесную игру цвета, похожую искру ограненного полихромного турмалина. Над головой летали синицы, а некоторых мы подкармливали, и они брали крошки и семена прямо с руки. В один из таких дней, сидя у костра на поваленном дереве, Александра Алексеевна посмотрела на кольцо, на меня и не своим голосом, каким-то чересчур взволнованным, спросила меня, верю ли я в любовь, не в такую, которая бывает у многих, а в такую, что, пропустив ее через себя, не взирая на годы, все еще задыхаешься от этого чувства, все еще переживаешь ее, словно она только что обожгла тебя. Не отвечай мне, я тебе расскажу про кольцо, на которое ты всегда смотришь с восхищением. И она, словно стыдясь меня, отвернувшись в полоборота, машинально поглаживая кольцо, по-моему, начала рассказывать не так мне, а словно себе, стараясь как бы оправдаться перед кем-то. Я сидел не шолохнувшись, а она говорила быстро, словно боялась, что у нее не хватит времени, или ее перебьет кто-то. В Мичуринске был у меня любимый, это он будучи курсантом военного училища, а я студенткой педучилища, подарил это кольцо со словами, что мать его велела подарить той, которая станет его женой, и он надел кольцо на мой палец. Вот закончим учебу и женимся, а кольцо это еще бабушкино, добавил он. Но мне не надо было кольца, хотя такого я никогда не видела, я была счастлива от того, что он у меня есть, я могла трогать его руку, могла гладить его голову, запускать пятерню в копну пшеничного цвета и ворошить ее, заливаясь хохотом от счастья. Но счастье наше кому-то перешло дорогу. Самая близкая подруга однажды сообщила мне, а курсанта твоего видели, как в парке с другой целовался, и не один раз, и назвала имя той, про которую я знала, что он ей тоже нравится. День превратился в ночь, я выревела все глаза и, забрав документы, перевелась в Свердловск. Дальше ты знаешь. Школа, замужество, сын. Она подкинула палочек в огонь, в костре затрещало, пламя полыхнуло, и я увидел ее глаза, в них был огонь такой силы, что не верилось увидеть такие глаза на лице пожилой женщины. А я, ты знаешь, не снимала почему-то кольцо с пальца, не выбросила его, хотя пыталась сделать это, но что-то останавливало меня, пока однажды я, глядя на него, вдруг с такой неодолимой силой захотела увидеть того, кто одел его на палец. Никому не сказав куда я еду, я поехала на каникулы в Мичуринск. Ехала в каком-то тумане, словно кто-то звал меня, и не поехать я не могла. В Мичуринске знакомых осталось мало кого, но одну сокурсницу я встретила. Она рассказала мне, что сплетни распускала самая близкая подруга моя, на курсанта сама имела вид, где она теперь не знает, но в Мичуринске ее нет. Нет и курсанта, который, наверное, уже офицер. Ошарашенная я выслушала все и, проглатывая слезы, шла по городу, чтобы дождаться поезда домой, зашла в кинотеатр. На предпоследнем ряду я дала волю своим слезам и все выплакала до дна, как мне казалось. Но что-то мешало мне полностью отдаться моему горю. Кто-то сзади скрипел сиденьем, а у меня в затылке «бегали мурашки». Я повернулась и увидела копну пшеничных волос, что стало со мной. Я потрясенно смотрела на него, и он тоже, то надевал фуражку, то снова снимал ее. Господи, если ты есть, не разорви мое сердце. Мы вышли, не дожидаясь конца сеанса, и молча стояли, окаменев, под яблоней, не находя слов. Придя в себя, наперегонки стали рассказывать и расспрашивать друг друга. Он так и не женился и каждый год приезжал в Мичуринск, веря в то, что я тоже приеду. Она сидела у костра, который уже потух, но в глазах ее угли горели так, что свет их разливался по всему ее лицу, и видно было, что она все это видит и заново переживает. Я не мешал ей, не задавал вопросов, а у самого замирало сердце, словно все это происходило со мной. С тех пор, продолжала она, я каждые каникулы ездила в те места, где он служил. Господи, какие это были встречи - казалось, что сердце не выдержит. А, возвращаясь, домой от него, я не могла смотреть мужу в глаза, муж все понимал, но ни разу не попрекнул меня, только стал тихо в одиночку пить. Я жалела его, жалела себя, бросить его, сына, переехать к своему любимому не могла. Почему не могла, не знаю, я не знаю, я воровала эту любовь, разрывалась на две части и все же была счастлива, счастлива до такой степени, что от этого счастья у меня родились две девочки-двойняшки. Они не похожи на мужа, да он и чувствовал это, но любил их не меньше, чем сына. Я не говорила тому, кто подарил мне эти два чуда. Ты знаешь, я не могла ему сказать, может, это была моя ошибка, я не знаю, но если бы я могла раздвоиться, если бы я могла осчастливить и того и этого. Но что-то все же во мне было, я любила и сына и мужа, но мужа другой любовью. А бывает ли другая любовь, какая она главная, какая она только с одной радостью или вперемешку с горем, где та мера, которая может перевесить. Вот уже и седина в волосах, но я до сих пор на перепутье. Но лиши меня моей первой любви, и я уже буду не я, и что-то во мне погаснет, что-то во мне исчезнет, и это уже будет кто-то другой. Она сидела и все повторяла эти слова: не я, не я это буду. Почему она доверилась мне, что-то в ней накипело, или она хочет услышать от меня, права она или нет. Но я-то видел, что она меньше всего хочет видеть во мне судью. Всю свою жизнь она переживала в этот миг, сама оценивала ее, и сама себе была судья. Я смотрел на турмалиновое кольцо, и в лучах угасающего солнца оно было загадочно прекрасно, то светило розово-красным цветом, то становилось черным, как и ее «полихромная» жизнь. Но какого цвета было больше. На это, наверное, никто не ответит. Она вдруг встала и, смотря куда-то далеко, сказала с каким-то надрывом, чуть не крича: «Как же я его люблю, и как же я его сделала несчастным» «Он так и не женился»- прошептала она. « И вот такую он любит меня – почему меня!» - еще тише прошептала она. Мы возвращались с родника молча и даже у дома не попрощались, она была все еще где-то там в своих воспоминаниях, в своих мыслях, и мне казалось, она не видит меня. Несколько лет мы ходили с ней на ключик и больше ни разу не говорили на эту тему, и только по-прежнему она иногда задерживала свой взгляд на турмалиновом кольце, поворачивала его вокруг пальца и, как всегда, вдруг отдалялась от меня, затуманивался взгляд, и счастливая улыбка бродила по лицу. Однажды, возвращаясь с родника, мы зашли к ней в дом попить чай из святой водички, как выражалась она, и, наливая воду в чайник, она вдруг выронила канистру из рук и с криком – кольцо, кольцо пропало, медленно опустилась на пол. Вода из канистры с хлюпаньем выливалась и растекалась по всему полу. Она не замечала ничего и глухо шептала: « Он умер, нет его, нету моего милого, голубчика моего, радость моя, горе мое, нет тебя, нету.» «Успокойтесь, может кольцо соскользнуло с пальца, когда наливали воду на роднике»- тормошил я ее: «Сейчас сбегаю и найду его.» Я побежал на родник, обыскал все, но не нашел его. Когда возвратился, она все еще сидела на полу и взглядом полным какой-то жуткой тоски смотрела в одну точку, и была опять где-то там, но только на лице не видно было счастья, что раньше бродило по ее лицу. Она пыталась повернуть несуществующее кольцо вокруг пальца, и крупные слезы, кА у обиженного ребенка, катились по ее лицу, капали в лужу «святой воды» источника, что разлилась по всему полу, Она посмотрела на меня с надеждой и, не увидев радости на моем лице, поднялась так тяжело, словно огромный камень свалился на ее плечи. Легла на кровать, повернулась к стене и тихо что-то шептала. Пришли дочери (муж несколько лет уж умер), стали снимать с нее мокрую одежду. Я тихонько вышел, и словно какая-то часть во мне умерла, и я уже никогда не стану тем целым, что был, словно с потерей кольца потерялось и во мне что-то безвозвратно. Александру Алексеевну было не узнать, из нее ушла жизнь, осталась только оболочка, которую в этом мире ничто не удерживало. Кто-то нашел, видимо, адрес Александры Алексеевны и написал ей письмо, что умер ее знакомый, и день смерти совпал с днем потери кольца, подробности похорон, но она это уже не воспринимала. Жизнь тихо уходила из нее, и в один из дней мне позвонила дочь, что Александры Алексеевны нет, похороны будут в Прощальном доме при больнице. Я знал, что это случится, и все равно было неожиданностью. До похорон оставался час, я быстро достал полихромный турмалин из своей коллекции, но он был не красно-черным, а красно-зеленым, и пришел на похороны. Все было, как обычно. Старые учителя, знакомые, дети, тихий разговор о том, что хорошо пожила, детей вырастила, много учеников выпустила, но никто не знал какую большую любовь хоронят, какую судьбу пережила эта очень маленькая, седая старушка, какое большое чувство сотрясало это маленькое тело. Я тихонько, чтобы никто не видел, вложил в ее руку, на которой она носила кольцо, турмалин, и спазмы сдавили мне горло, чтобы не видели, как плачет мужчина тоже в годах, вышел на улицу, Но когда уходил, то, взглянув последний раз на лицо учительницы, увидел едва заметную улыбку. Или мне показалось.
