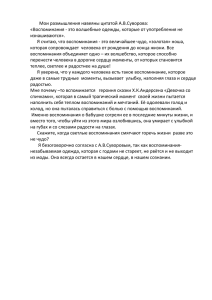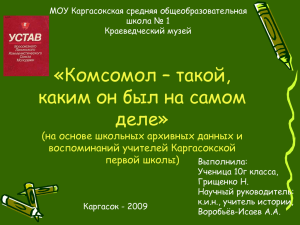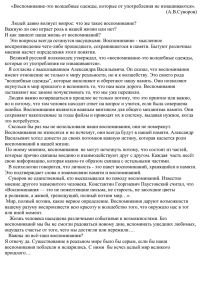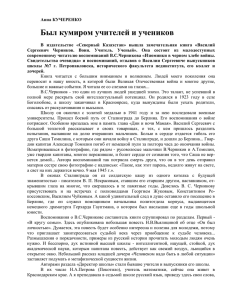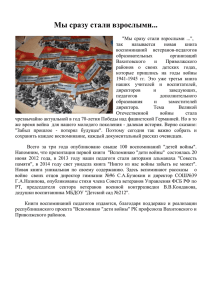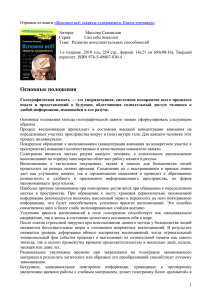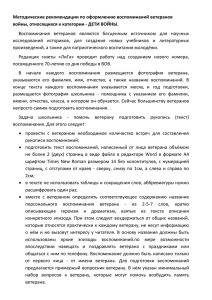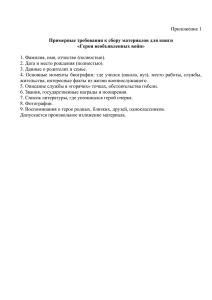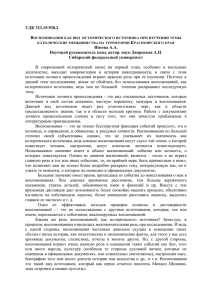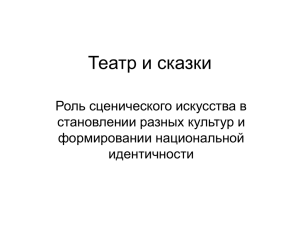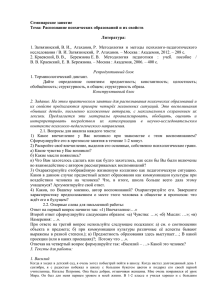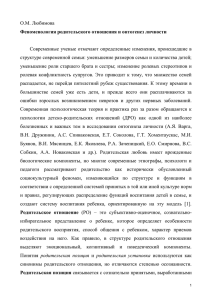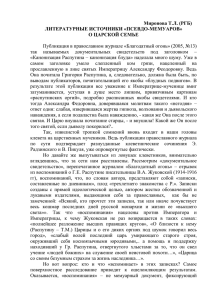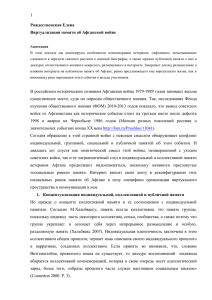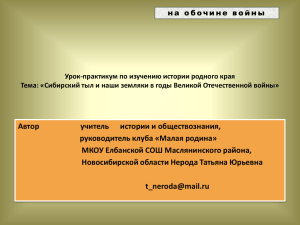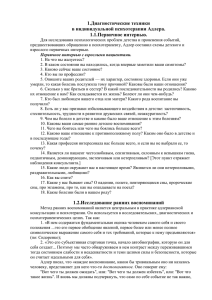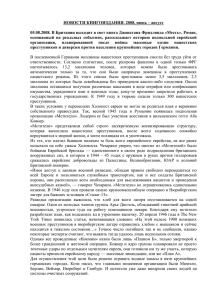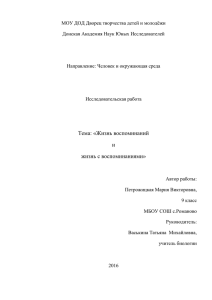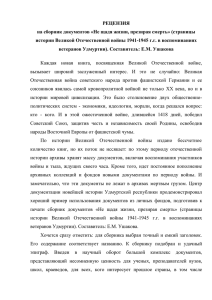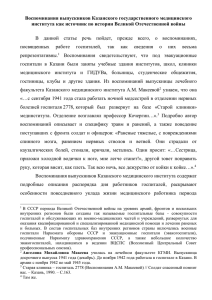Елена Мещеркина Социальный вызов устной истори.
advertisement
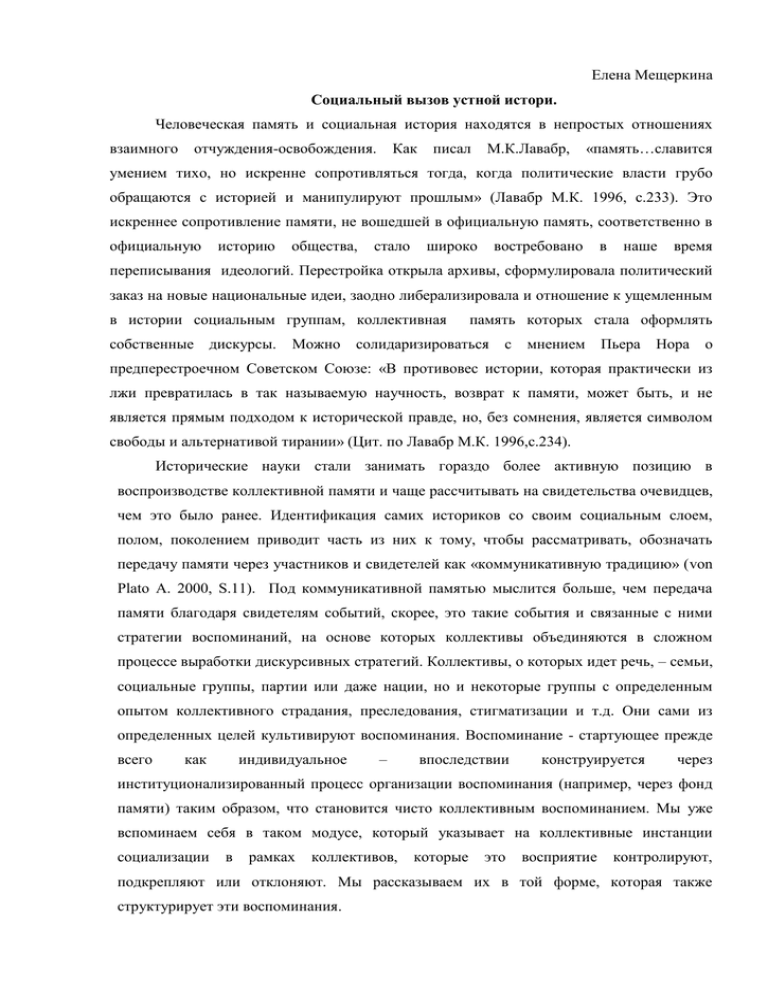
Елена Мещеркина Социальный вызов устной истори. Человеческая память и социальная история находятся в непростых отношениях взаимного отчуждения-освобождения. Как писал М.К.Лавабр, «память…славится умением тихо, но искренне сопротивляться тогда, когда политические власти грубо обращаются с историей и манипулируют прошлым» (Лавабр М.К. 1996, с.233). Это искреннее сопротивление памяти, не вошедшей в официальную память, соответственно в официальную историю общества, стало широко востребовано в наше время переписывания идеологий. Перестройка открыла архивы, сформулировала политический заказ на новые национальные идеи, заодно либерализировала и отношение к ущемленным в истории социальным группам, коллективная собственные дискурсы. Можно память которых стала оформлять солидаризироваться с мнением Пьера Нора о предперестроечном Советском Союзе: «В противовес истории, которая практически из лжи превратилась в так называемую научность, возврат к памяти, может быть, и не является прямым подходом к исторической правде, но, без сомнения, является символом свободы и альтернативой тирании» (Цит. по Лавабр М.К. 1996,с.234). Исторические науки стали занимать гораздо более активную позицию в воспроизводстве коллективной памяти и чаще рассчитывать на свидетельства очевидцев, чем это было ранее. Идентификация самих историков со своим социальным слоем, полом, поколением приводит часть из них к тому, чтобы рассматривать, обозначать передачу памяти через участников и свидетелей как «коммуникативную традицию» (von Plato A. 2000, S.11). Под коммуникативной памятью мыслится больше, чем передача памяти благодаря свидетелям событий, скорее, это такие события и связанные с ними стратегии воспоминаний, на основе которых коллективы объединяются в сложном процессе выработки дискурсивных стратегий. Коллективы, о которых идет речь, – семьи, социальные группы, партии или даже нации, но и некоторые группы с определенным опытом коллективного страдания, преследования, стигматизации и т.д. Они сами из определенных целей культивируют воспоминания. Воспоминание - стартующее прежде всего как индивидуальное – впоследствии конструируется через институционализированный процесс организации воспоминания (например, через фонд памяти) таким образом, что становится чисто коллективным воспоминанием. Мы уже вспоминаем себя в таком модусе, который указывает на коллективные инстанции социализации в рамках коллективов, которые это восприятие контролируют, подкрепляют или отклоняют. Мы рассказываем их в той форме, которая также структурирует эти воспоминания. Здесь заключена сложность позиции Устной истории или той ниши культурного поля, на которое она претендует. И еще сложнее она станет со временем, если доминирующие сообщества – не только очевидцы – внесут новые рамки соотнесения или изменят доминантный образец толкования. Ведь последующие поколения будут имеет другие ценности и другой горизонт опыта по сравнению с очевидцами, но каждый человек имеет чувство или желание по мере взросления и старения репрезентировать свой аутентичный опыт. Тем драматичнее, если написанная, медиально опосредованная, на выставках представленная история выступает чужой или даже враждебной. Для ставших рутинными воспоминаний столь же трагично просто обесценивание пережитого исторического опыта как форма символической смерти. Эта оспариваемость истории, разорванность различных поколений и социальных групп с собственными переопределяемыми традициями и ставшими самостоятельными мифами «снимается» в единении, реализуемом в стратегиях воспоминаний, а также в создании островков коллективной памяти в виде Фонда жертв Холокоста, «Мемориала», различных биографических архивов. Алейда Ассман описывает культурную память как перешагивающую эпохи и коммуникативную память, как поддерживаемую правило, нормативными связующую поколения текстами, через а устно передаваемые воспоминания (Assmann A. 1999, S.20). По поводу Шоа Козеллек писал, что со сменой поколений изменяются характеристики воспроизводимого прошлого. Из насыщенного опытом, современного прошлого выживших очевидцев возникает «чистое» прошлое, лишенное опыта (Koselleck, R. 1994, S.130). С вымирающим воспоминанием дистанция становится не только больше, но она изменяет также свое качество, которое может быть скомпенсировано фильмами, мемуарами, выставками, картинами. История девочки по имени Анны Франк заново переживается через поставленный спектакль, переизданный на многих языках мира дневник, позволяя уже далеким от реалий второй мировой войны поколениям пережить, а не только узнать, как это было. Дилемма Устной истории – сохранять ли и передавать ли микрознание о стратегиях совладания с историей в виде «моральной ущемленности, скрытых защитных маневров, гнева и стыда» в описании истории, что составляет полноту ее субъективного отражения, или ее задача готовить сегменты лишенной субъективности коллективной памяти в копилку культурной памяти сообщества. А.Ассман задается вопросом, должна ли предварительно «история» в головах, сердцах и телах пострадавших сначала умереть, прежде чем она как феникс возродится в качестве науки из пепла исследовательских опытов. Объективность, по Ассман, это не только вопрос метода и критического стандарта, но и мортификация, вымирание, выцветание страдания и ущербности (Assmann A. 1999, S.14) Очевидно, что документированная коммуникативная память, которая жива несколькими поколениями, реифицируется при вхождении в культурную память сообщества, объективируясь как нормативный, пограничный или а-нормативный текст. Вопрос только в том, какова та позиция в общем, но не равноценно означенном символическом пространстве культурной памяти, которую займет та или иная коммуникативная память определенной социальной группы. Реабилитация одних с неизбежностью требует развенчания других, поскольку наличие дискурса официальной истории иерархизирует культурное поле по принципу ближе-дальше. Из этого следует, насколько тесно связаны «История и память», «Опыт и история эпохи», насколько актуальны переходы от коммуникативной к культурной памяти, и что теряется, если «насыщенное опытом прошлое» со всеми его стратегиями подавления\овладения прошлым само не становится предметом исследования. Пример такого исследования - документация и анализ воспоминаний еще живых и их передача в «чистое будущее», которое не столь уж и «чистое»: свидетели эпохи, физически умирая, теперь имеют долгую медиальную жизнь после смерти. Их рассказы становятся частью медиальной «культуры воспоминаний» и все больше влияют на коллективную память.