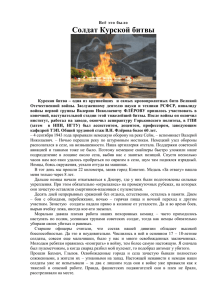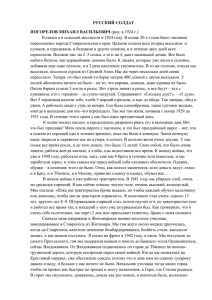Понятие коллективной, коммуникативной и
advertisement
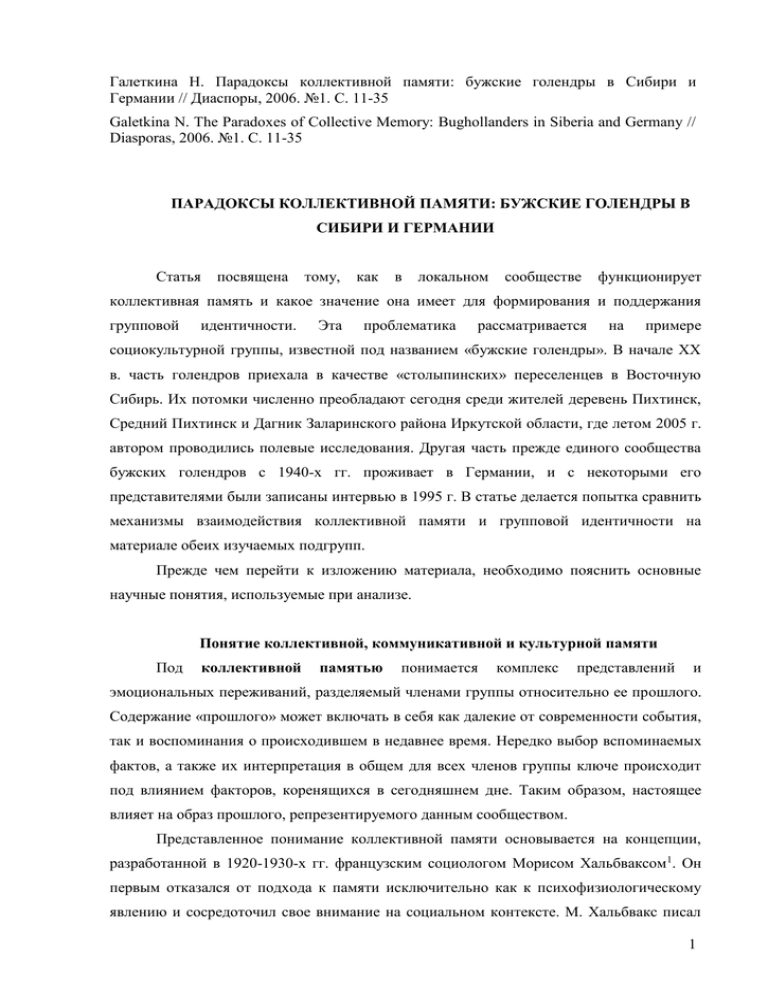
Галеткина Н. Парадоксы коллективной памяти: бужские голендры в Сибири и Германии // Диаспоры, 2006. №1. С. 11-35 Galetkina N. The Paradoxes of Collective Memory: Bughollanders in Siberia and Germany // Diasporas, 2006. №1. С. 11-35 ПАРАДОКСЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ: БУЖСКИЕ ГОЛЕНДРЫ В СИБИРИ И ГЕРМАНИИ Статья посвящена тому, как в локальном сообществе функционирует коллективная память и какое значение она имеет для формирования и поддержания групповой идентичности. Эта проблематика рассматривается на примере социокультурной группы, известной под названием «бужские голендры». В начале ХХ в. часть голендров приехала в качестве «столыпинских» переселенцев в Восточную Сибирь. Их потомки численно преобладают сегодня среди жителей деревень Пихтинск, Средний Пихтинск и Дагник Заларинского района Иркутской области, где летом 2005 г. автором проводились полевые исследования. Другая часть прежде единого сообщества бужских голендров с 1940-х гг. проживает в Германии, и с некоторыми его представителями были записаны интервью в 1995 г. В статье делается попытка сравнить механизмы взаимодействия коллективной памяти и групповой идентичности на материале обеих изучаемых подгрупп. Прежде чем перейти к изложению материала, необходимо пояснить основные научные понятия, используемые при анализе. Понятие коллективной, коммуникативной и культурной памяти Под коллективной памятью понимается комплекс представлений и эмоциональных переживаний, разделяемый членами группы относительно ее прошлого. Содержание «прошлого» может включать в себя как далекие от современности события, так и воспоминания о происходившем в недавнее время. Нередко выбор вспоминаемых фактов, а также их интерпретация в общем для всех членов группы ключе происходит под влиянием факторов, коренящихся в сегодняшнем дне. Таким образом, настоящее влияет на образ прошлого, репрезентируемого данным сообществом. Представленное понимание коллективной памяти основывается на концепции, разработанной в 1920-1930-х гг. французским социологом Морисом Хальбваксом1. Он первым отказался от подхода к памяти исключительно как к психофизиологическому явлению и сосредоточил свое внимание на социальном контексте. М. Хальбвакс писал 1 не только о социальной обусловленности индивидуальных воспоминаний, но также и о существовании внутри сообщества некоего общего знания о прошлом, распределенного между его членами. Оно формируется и воспроизводится в условиях внутригрупповой коммуникации под влиянием самых разных факторов и выражается как в вербальных, так и в невербальных формах. Разнообразие и множественность источников коллективной памяти, а также существование различных аспектов ее содержания вызывают необходимость рассматривать это понятие на нескольких уровнях. Здесь мне кажется вполне уместным применение к имеющемуся материалу концепции Яна Ассмана2, согласно которой коллективная память функционирует в двух главных формах, называемых им культурной и коммуникативной памятью. Они различаются по нескольким параметрам, из которых ключевыми для данной работы являются два: «временнáя структура» и «структура причастности». Говоря о параметре временнóй структуры, Я. Ассман имеет в виду местоположение вспоминаемых событий на хронологической шкале, их близость или отдаленность от дня сегодняшнего. В этом смысле культурная память обращается к далекому прошлому группы (ее «истокам» или происхождению), а коммуникативная связана с воспоминаниями о недавно пережитом, которые человек разделяет со своими современниками. Коллективная память, по словам Я. Ассмана, функционирует в двух режимах или модусах: во-первых, в модусе обосновывающего воспоминания, который соотносится с культурной памятью; во-вторых, в модусе биографического воспоминания, соотносящегося с памятью коммуникативной. Ученый подчеркивает, что в первом из названных режимов память имеет дело со «всевозможными знаковыми системами, которые в силу их мнемонической (поддерживающей воспоминание и идентичность) функции можно приписать общему понятию memoria» 3. К их числу он относит ритуалы, танцы, мифы, орнаменты, одежду, украшения, татуировки, дороги, памятники, пейзажи. При работе же в модусе биографического воспоминания коллективная память всегда опирается на социальное взаимодействие. Под параметром «структуры причастности» Я. Ассман понимает различную степень вовлеченности членов группы в воспоминания того или иного рода, их различную компетенцию. Знание, которое является содержанием коммуникативной памяти, «приобретается вместе с языком и повседневной коммуникацией. Здесь каждый считается в равной мере компетентным. … Культурная же память всегда имеет своих особых носителей»4. В качестве таких экспертов или, по выражению Я. Ассмана, «уполномоченных знания», могут выступать жрецы, шаманы, сказители, барды, учителя, 2 историки, писатели. Именно они, а также специальные институты ответственны за распространение в обществе культурной памяти. Можно спорить, насколько удачны термины «культурная» и «коммуникативная память», однако само по себе разделение коллективной памяти на две формы, предложенное Я. Ассманом, представляется хорошим инструментом для научного анализа. Краткий обзор истории группы Голендрами (или олендрами / оленджами) первоначально называли в Польше переселенцев-колонистов из Северной Германии, Голландии и Фрисландии, которые в XVI в. осваивали низменные и заболоченные земли на польском побережье Балтики и в долинах рек Висла и Ногат. Эти люди, известные своими навыками в области мелиорации, были благосклонно приняты местными землевладельцами, которые предоставляли им земельные участки на особых льготных условиях. Постепенно в группу вливались колонисты польского происхождения, а слово «голендры» или «олендры», (происходящее от польского Holendrzy – голландцы), в большей степени применялось для обозначения не этнического сообщества, а особой социальной категории польского крестьянства5. Но любопытно, что энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона еще в конце XIX в. определял голендров не иначе, как «потомков голландцев»6. В XVII – XVIII вв. «олендерские» поселения возникают и в других регионах Речи Посполитой, в том числе на землях вдоль Западного Буга и на Волыни7. Здесь и появляется название «бужские голендры». Территории, на которых находились их колонии, после Третьего раздела Польши вошли в состав Российской империи. Таким образом, бужские голендры оказались российскими подданными. В начале ХХ в. в рамках реализации Столыпинской аграрной реформы началось организованное крестьянское переселение на восточные окраины империи. Среди тех, кто решил попытать счастья в Сибири, были и бужские голендры. Первая их партия обосновалась весной 1911 г. на Пихтинском участке Иркутской губернии. Спустя год вслед за ними прибыла вторая группа. Приехавшие основали две небольшие деревни, которые назвали Замостече, (за ней позже закрепилось официальное название Пихтинск), и Дагник. К концу 1912 или же в 1913 г. возникла еще одна небольшая деревушка – Новины, (сейчас Средний Пихтинск), а также хутор Тулусин. Все селения находились друг от друга на расстоянии трех – четырех километров. Общее количество жителей к августу 1912 г. составляло около 200, а к сентябрю 1913 г. – 248 душ обоего 3 пола, включая детей8. На протяжении последующих нескольких лет число поселенцев продолжало расти, но уже менее быстрыми темпами. Всего на Пихтинском переселенческом участке в 1911-1913 гг. обосновалось примерно 300 человек. Откуда именно они приехали, удалось установить по старым метрикам, хранящимся в некоторых семьях, и по записям в метрических книгах Иркутской евангелическо-лютеранской церкви. В них упомянуты несколько поселений, которые обозначены как «колонии». Четыре из них располагались на территории ВладимирВолынского уезда Волынской губернии, (Забужские Голендры, Свержовские Голендры, Замостече, Новины), а две – Нейбров и Нейдорф, входили в состав Домачевской волости Брест-Литовского уезда в Гродненской губернии9. Жители всех этих колоний относились к одному евангелическо-лютеранскому приходу, центр которого находился в Нейдорфе. С теми, кто остался на Буге, переселенцы поддерживали более или менее постоянные контакты до начала 1920-х гг. В 1921 г. по российско-польскому мирному договору территория Западной Украины и Западной Белоруссии вошла в состав Польской Республики, и бужские голендры, соответственно, стали ее гражданами. Дальнейшее развитие социально-политической ситуации еще больше разделило две части прежде единой группы. В сентябре 1939 г. территория Польши до Западного Буга была оккупирована фашистскими войсками, а бужское правобережье вскоре «добровольно присоединилось» к СССР. Голендры, таким образом, оказались на пограничной территории, и в декабре 1939 г. их поставили перед выбором: уезжать либо в Германию, либо в Советский Союз. К тому времени власти Третьего рейха вели активную пропагандистскую кампанию под лозунгом возвращения на историческую родину волынских немцев, в разряд которых заносили и бужских голендров. В январе 1940 г. преобладающая часть жителей колоний сделала выбор в пользу Германии, определив себя как «немцев». С этого момента можно говорить о том, что в своей этнической самоидентификации волынские и сибирские голендры пошли в противоположных направлениях. Уехавшие в 1940 г. в Германию самим фактом переселения поставили себя перед необходимостью формировать и подтверждать свою немецкую идентичность. В то же самое время их сибирские сородичи отрицали приписываемую извне принадлежность к «немецкому народу». Складывалась парадоксальная ситуация: приехавших в Германию голендров «местные» немцы не признавали за своих и презрительно называли «поляк» и «русак». Живущих же в Сибири, наоборот, со стороны воспринимали как «немцев», хотя сами они отвергали это внешнее определение. На 4 основании «немецких» фамилий почти половина трудоспособного населения пихтинских деревень оказалась в так называемой «трудовой армии», которая была частью общей советской системы принудительного труда. С весны 1940 г. и до зимы 1942 г. в трудармию были «мобилизованы» 100 человек в возрасте от 16 до 50 лет, как мужчины, так и женщины10. У многих дома остались дети, которых пришлось брать на попечение родственникам. На положении заключенных люди находились в трудармии до начала 1950-х гг. Кто-то не вернулся вообще, погиб от голода и болезней. Травмирующий опыт трудармии вкупе с общим негативным отношением к немцам, когда само слово «немец» фактически выступало синонимом слова «фашист», закрепляли контрастивную идентичность в особой форме. Люди могли точно сказать о своей «непринадлежности» к немецкому народу, и противостояние навязываемой им извне идентификации становилось значимой чертой их самоопределения. Коллективная память пихтинских голендров Довольно часто в интервью с пихтинцами, независимо от возраста информанта, встречается фраза: «Нас считают немцами, а мы – не немцы; мы по-немецки никогда не говорили». Какими бы ни были вариации этого утверждения, в них всегда присутствует два главных момента. Первое, что существует внешнее определение группы – «немцы», и второе, что оно не соответствует внутренней идентификации, которая обосновывается незнанием немецкого языка. Объяснение того, почему их «всю жизнь называют немцами», лежит, в общем-то, на поверхности. «А вот как только фамилию скажешь, так и говорят: немец» (АМГ, ж, 1916, ПФ-5)11. В самом деле, какие предположения и ассоциации вызывают такие имена, как Адольф Михайлович Гильдебрант, Рудольф Андреевич Кунц или Альфреда Густафовна Людвиг? Для самих же пихтинцев фамилии и имена не являются доказательством принадлежности к немцам, тогда как незнание немецкого языка – это аргумент, к которому они прибегают даже в тех ситуациях, когда речь, казалось бы, идет совсем о другом. Говорит ли человек о том, что в паспорте он был записан украинцем, или о том, что с детьми разговаривает по-русски, все равно после этого он добавляет: «а вот по-немецки мы ни слова не знаем». Частота, с которой возникает подобное «утверждение-отрицание», и эмоциональный настрой, сопровождающий его, показывает, насколько это важно для информантов. Складывается впечатление, что здесь мы имеем дело с «наболевшим» вопросом, с одним из центральных пунктов в размышлении о собственной идентичности. Сама по себе ссылка на незнание немецкого языка не раскрывает причины столь эмоционального отношения к этому вопросу. Думаю, пихтинцы 5 терпимей отнеслись бы к подобной «неправильной» внешней идентификации, не будь в их коллективной памяти опыта трудармии и дискриминирующего отношения к ним после войны. «Не то обидно, что немцами называют, а то, что немцы – “фашисты недобитые”, что из-за немцев война была. А мы то при чем? … Наш народ ни за что страдает» (ГИЛ, ж, 1953, ПФ-9). Таким образом, в данном случае не столько язык, сколько коллективная память выступает маркером идентичности. О трудармии, оказавшейся поистине трагической главой в жизни группы, уже говорилось в разделе о ее истории. Здесь хотелось бы добавить, что трагизм ситуации усугублялся еще и тем, что именно в трудовой армии многие пихтинцы задумались над проблемой происхождения своего сообщества и пришли к заключению, что стали жертвой ошибки. «Вот когда нас в трудармию туда забрали, там немцев же тоже привезли. Ну, они-то – немцы. Они нас не любят, потому что вы, говорят, не понемецки… Какие вы немцы! Они нас по-своему по-немецки называют, что мы – “свинья русская”. А русские тоже нас не любят. … Вот нас пихтинских с двух сторон обижали. Вот. Ну, что – они-то хоть, ладно, немцы, только русские их обижали. А мы – и они нас обижают, и русские нас обижают. …. Нам досталось больше всех, этим пихтинским» (ЮМК, ж, 1923, ПФ-2). В сегодняшнем Пихтинске осталось мало людей, прошедших трудовую армию. Однако их рассказы, как и воспоминания уже ушедших из жизни, передаются от поколения к поколению и составляют активный фонд общей коммуникативной памяти. В сочетании с убеждением, что пихтинцы не имеют ничего общего с «настоящими» немцами, эти свидетельства поддерживают устойчивое представление о языке как главном «доказательстве» той или иной этнической идентичности. «А потом, дядя говорит, привезли еще настоящих немцев. Мы то, говорит, чё, рабы-колхозники, мы то, говорит, на немцев не похожи. Видно, что простые люди, крестьяне, а те – расфуфыренные, они все, это, такая интеллигенция, к нам и не подставишь. И они по-немецки нам что-то говорят, а мы не понимаем» (ГИЛ, ж, 1953, ПФ-8). Отношение к пихтинцам как к немцам, (а к немцам – как к врагам, «фашистам»), сохранялось еще спустя много лет после войны. Проявлялось оно и в конфликтах, которые возникали в Хор-Тагнинской школе-интернате между учениками из разных деревень. Поскольку в Пихтинске, Среднем Пихтинске и Дагнике действовали только начальные школы, то продолжать обучение с 4-го по 8-й класс местные дети могли в интернате поселка Хор-Тагна, находившемся в пятнадцати километрах от их дома. Далеко не все родители имели собственный транспорт, чтобы возить ребенка каждый 6 день туда и обратно, а сельская администрация также еще не располагала специальным школьным автобусом. Поэтому детям из пихтинских деревень приходилось оставаться в интернате на всю неделю. О конфликтах, происходивших там из-за того, что пихтинских обзывали немцами, вспоминают как информанты 1940-1950-х годов рождения, так и молодые люди, учившиеся в Хор-Тагне в конце 1980-х гг. По словам двух моих собеседников, дети которых учатся в Хор-Тагнинской школе в настоящее время, подобное отношение не исчезло до сих пор. «И сейчас обзывают в Хор-Тагне немцами» (АГЛ, м, 1963, ПФ-4). «Дети мои приезжают из Хор-Тагны, обижаются. Говорят: “Мама, почему нас немцами называют? Ты же сама из Хор-Тагны. Мы же не немцы”» (ПФ-4, НВГ, ж, 1970). Анализ полевого материала, а также предшествующий опыт исследования рассматриваемой группы, позволяют предположить, что трудармия является ключевым событием, вокруг которого складывается образ «страдающего народа», неповинного в своих страданиях. Другим ключевым событием для коллективной памяти пихтинских голендров является переселение в Сибирь. С ним связан образ «народа-труженика», преодолевшего тяготы переезда и успешно обосновавшегося на новом месте, несмотря на вековую тайгу и сибирские морозы. Именно эти два образа наиболее значимы для идентичности рассматриваемого сообщества. Причем воспоминания о более позднем по времени событии – трудовой армии, влияют на воспоминания о более раннем – переселении. Это выражается в появлении рассказов, которые объясняют, почему переселенцев записали немцами, (хотя до сих пор непонятно, где и когда «запись» имела место). Кратко поясню, о каких рассказах идет речь. Екатерина II и голландские мастеровые. В воспоминаниях Зигмунда Андреевича Зелента, записанных в 1968 г. и хранящихся в его семье и местном краеведческом музее, говорится о том, что по прибытии переселенцев на Пихтинский участок чиновник сделал запрос в Петербург об уточнении их национальности. Ему «сообщили, что эти люди родом из Голландии, что их предки, 12 семей, при царствовании Екатерины II куплены как хорошие специалисты: плотники, столяры, ткачи, токари. Это было еще тогда, 360 лет назад, настоящей нации так и не написали, тогда начальник предложил оформить национальность этим людям – немец, и они не отказались. Так эта национальность и осталась до сих пор»12 . Согласие пихтинцев из-за престижа немецкой нации. Этот мотив появляется в рассказах в разных вариантах, но их суть сводится к тому, что по приезде переселенцев в Сибирь быть немцем было престижно. Они славились как хорошие работники, как крепкие хозяева и т.п. 7 «А потом, когда … нужно было определить людей – какой нации… Немецкая нация была, ну, как, славилась она или как сказать. Ну, записали немцами – ну, ладно, пусть будет немцы» (ААЗ, ж, 1938, ПФ-5). Пленные голендры, взявшие немецкое подданство. Рассказ взят из интервью с жителем Дагника: «… вот старики там с немцами воевали. Их брали в плен, некоторые там и остались, и с той войны еще и с этой, в Германии. Они переписывались с нашими, приезжали сюда. Так они, действительно, остаются там немцами, потому что они взяли там подданство или как там это называется. Он сюда приезжает, он уже ни одного слова ни нашего, ни русского, никакого не знает. Вот. … Может, там предки и были немцы лет 200-300 назад. А потом – война, перемешались, уже откуда здесь могут находиться немцы? Вот пройдите сейчас спросите, ни одного слова немецкого не скажет…» (ИАГ, м, 1936, ПФ-13). Голендров приняли за немцев, потому что те жили неподалеку. Подобная версия отчасти перекликается с предыдущей, так как обращается не к ситуации в Сибири, а к тому, что ей предшествовало на Буге. «Я знаю, что жили у реки Буг, и она даже границей была. Молодые переплывали реку и воровали невест. Вот так и плодились. Может, и называли нас по-своему, по-немецки. Там немцы жили за речкой Буг, наверно, настоящие. А нас вот прозвали немцами!» (БИБ, ж, 1928, ПФ-6). Эти и другие рассказы представляют собой попытки объяснить, почему «нас записали немцами», почему и как появилась эта внешняя идентификация, не совпадающая с внутренней. Все эти объяснения призваны обосновать следующий вывод: нас посчитали немцами, но мы – не немцы. Чем являются эти рассказы, как не проявлением коллективной памяти, работающей в модусе обоснования (в терминологии Я. Ассмана)? Получается, что с одной стороны, мы имеем дело с рассказами переселенцев, приехавших на Пихтинский участок, с их непосредственными воспоминаниями, переданными в процессе коммуникации детям и внукам, т. е. с объектами, входящими в сферу коммуникативной памяти. С другой стороны, под влиянием «модуса обоснования» все эти представления получают новое оформление, в результате чего возникают рассказы о том, почему и как переселенцев записали немцами. Направление же процесса обоснования обусловлено более поздними событиями, лежащими в основе образа «страдающего народа». Коммуникативная память смыкается здесь с культурной и образует комплекс представлений, ассоциаций, переживаний, взаимосвязанных с групповой идентичностью. 8 Сравнение с бужскими голендрами в Германии Любопытно сравнить всё сказанное с тем, что происходило в группе бужских голендров, живущих в Германии. Одним из значимых пунктов их коллективной памяти и идентичности является представление, как раз обратное тому, что мы видим у пихтинцев, а именно: «мы – немцы и всегда были немцами». Там, похоже, действовали те же самые механизмы формирования коллективной памяти: коммуникативная память, в которую входили непосредственные воспоминания участников событий, оформлялась под влиянием «модуса обоснования» определенным образом и приводила к появлению представлений, которые уже, скорее, относились к области культурной памяти. Ключевым событием в данном случае было переселение голендров с Буга в Германию в январе 1940 г. Центральный же образ, возникающий в связи с этим, можно обозначить как «народ, возвращающийся на историческую родину». Переселение описывается как результат сознательного, хотя и болезненного, выбора. Эдвард Людвиг, 1925 г.р., один из тех представителей бужских голендров, с кем мне удалось встретиться в Германии в 1995 г., рассказывал: «Когда началась война, пришла в колонию комиссия. Говорят: “Если вы – немцы, вы должны ехать в Германию”. Некоторые не согласились, сказали: “Нет, это мой дом, я остаюсь здесь”. Семь семей из всей колонии остались. Позже они были депортированы в Сибирь. Думали, а вдруг они шпионы? Все же остальные уехали в Германию. …Мы должны были ехать. Все жили вместе и все были немцы евангелической веры. Жили все в одной большой колонии Нейбров и Нейдорф – вместе. Все – немцы. Но говорили по-польски…» (ЭЛ, м, 1925). Приведу еще один фрагмент из рассказа Ирэны Зирах, (в девичестве Людвиг), 1937 года рождения. В индивидуальной памяти Ирэны, которая на момент переселения была трехлетним ребенком, вряд ли сохранились непосредственные воспоминания о тех событиях, но она говорит о них со слов родителей и других окружавших ее взрослых. Таким образом, на основании характеристики коммуникативной памяти, которую предлагает Я. Ассман, ее рассказ, как и процитированное выше воспоминание Эдварда Людвига, можно отнести именно к этой форме коллективной памяти. Однако конкретный анализ показывает, что все не так просто, и что коммуникативная и культурная память переплетаются здесь, образуя неразрывное единство. «Адольф Гитлер и Сталин заключили пакт и всем немцам позволили уехать оттуда. В 1940 г. Адольф Гитлер сказал этим людям: “Возвращайтесь домой в отечество”. Поэтому то 9 они и покинули те места, где жили. Почти все уехали. Это было общее движение. … Они не хотели уезжать и ехали неохотно. Особенно женщины были злы на Адольфа. Наша жизнь была бы лучше, если бы могли оставаться на прежнем месте. Но мы всетаки рады, что уехали, потому что тех, кто остался, потом отправили в Сибирь» (ИЗ, ж, 1937). Объясняя причины переселения, Ирэна показала мне ксерокопию пропагандисткой листовки тех времен. Она адресовалась бужским голендрам и убеждала их в принадлежности к немецкому народу, с которым настало время восстановить своё единство. Излагаемые в листовке факты моя собеседница уверенно пересказывала, когда речь заходила об истории группы, к которой она относила себя и своих родственников. Она говорила о том, что в 1617 г. 14 семей переселились на Буг из Восточной Пруссии, из района Данцига, по причине нехватки земли. От них и пошли все остальные поселения бужских голендров. Было видно, что для Ирэны такая версия происхождения является вполне приемлемой, но что в целом по этому вопросу она не много может сказать: «Никто не знает, почему их называли holendry». В чем она была уверена, так это в том, что поселения ее предков у Западного Буга и на Волыни являлись немецкими колониями. «Если бы они не были немцами, Сталин не выпустил бы их с этих земель. … Я – немка. Мы всегда были немцами». Здесь коммуникативная память уже явно смыкается с культурной, функционирующей в модусе обоснования. Расскажу еще об одном эпизоде общения с этими людьми, который, как мне кажется, иллюстрирует тезис о подвижности содержания коллективной памяти. Он произошел во время второй встречи, ближе к ее концу, когда за столом царил шумный разговор, и каждый хотел высказать свое мнение. Уже было сказано сакраментальное «мы всегда были немцами», после чего доказывать свою «немецкость» вроде не было необходимости. И вдруг в этот момент Эдвард Людвиг, ранее уверявший меня, что ни русского, ни польского он совсем не помнит, запел: «В Сибирь, в Сибирь, на каторгу…». Это была строчка из давней песни, которую он слышал в детстве от своих родителей. Весь ее текст он уже не помнил, но одна строка вдруг «всплыла» в его памяти. Тогда же он стал рассказывать, как собирал в лесу ягоды, как мама готовила вареники. Вспомнил он и о том, что в школе и в колониях все разговаривали по-польски, предварив, однако, эту фразу очередной декларацией «немецкости»: «Хоть это и была немецкая колония, и все, кто там жил, были немцами евангелической веры, но разговаривали они попольски». Когда Эдвард вспоминает строчку из русской песни, а потом рассказывает о ягодах, варениках и прочих картинах детства на Буге, то, на первый взгляд, это кажется 10 именно тем, что входит в сферу коммуникативной памяти, т.е. непосредственными воспоминаниями о лично пережитом. Однако нельзя не отметить еще один важный момент. Если мы говорим о содержании не индивидуальной памяти, а коллективной, то следует учитывать, в какой степени индивидуальные воспоминания присутствуют в коммуникации внутри группы. Можно предположить, что вышеупомянутые рассказы были вызваны к жизни только лишь моим настойчивым интересом именно к этой теме. Другой вопрос – занимают ли они значимое место в повседневной внутригрупповой коммуникации? Обменивается ли ими Эдвард с членами своего сообщества? Вряд ли он поет по-русски своим «немецким» внукам о сибирской каторге, а впечатления о детстве на Буге если и входят в общее повседневное групповой знание, то в гораздо меньшей степени, чем пятьдесят лет назад. Здесь, вероятно, мы можем говорить о некоем переходном состоянии тех элементов, которые еще недавно прочно входили в сферу коммуникативной памяти. Возможно, в том случае, если они будут зафиксированы в письменном виде, им найдется место в памяти культурной. Не исключено, впрочем, что они просто исчезнут из коллективной памяти группы. Вернемся к тому, что присутствует во всех интервью, а именно к утверждению «мы всегда были немцами», играющему здесь ключевую роль. Для респондентов воспоминания о детстве на Буге важны для их идентичности, но каждый раз они как бы заключены в рамку этой декларации, которая придает всему определенный смысл: «какими бы особенными мы ни были, каким бы уникальным прошлым ни обладали, всетаки мы всегда относились к немецкой нации». Таким образом, функция обосновывающего воспоминания выступает здесь на первый план. Мои собеседники вспоминали также о трудностях адаптации, с которыми они столкнулись, прибыв на новое место поселения. Несмотря на заявления властей об общем происхождении, местные жители воспринимали их как чужаков, не немцев. Можно было бы предположить, что, несмотря на незнание немецкого языка, на отсутствие общих культурных практик, жители бужских колоний ощущали себя частью немецкого этноса в силу определенных представлений в коллективной памяти. Однако тот факт, что другая часть того же самого сообщества, находящаяся в Сибири, всячески отрицала подобную принадлежность, говорит о том, что вряд ли за несколько десятилетий до этого момента группа четко осознавала свою «изначальную немецкую идентичность». Вероятно, такое осознание не входило в коллективную память всего сообщества, но стало фактом коллективной памяти для ее части. 11 Культурная память и ее «уполномоченные» Помимо различий конкретной исторической ситуации, в которой оказались две части прежде единой группы бужских голендров, существуют различия и в способе передачи коллективной памяти. Я имею в виду наличие в случае с «германскими» голендрами тех институтов, которые Я. Ассман назвал «экспертами» или «уполномоченными знания». «У нас говорили – голендры, что может с Голландии … Но кто там зашел, как – не знает никто. В школе говорили, что 400 лет назад это было, но я не знаю ничего – сколько лет наши на Волыни жили» (БЗ, ж, 1924). Конкретные детали, что же именно говорилось о происхождении бужских голендров, не закрепились в памяти моей собеседницы, однако общий вывод, который они призваны обосновать, выражается вполне определенно: «Мы – волынские немцы». Таким образом, общественным институтом, учреждающим знание об «истоках», выступала здесь школа, а в качестве «уполномоченного знания» – учитель. Другим институтом, утверждающим подобную информацию, была система пропаганды. Об одном из образцов ее «продукции» уже упоминалось. Для моей собеседницы, которая хранит копию распространявшихся в конце 1930-х гг. листовок, содержащиеся там сведения не вызывают сомнений. А тот факт, что это знание, отчасти в тех же самых выражениях, воспроизводили и другие собеседники, свидетельствует о том, что оно уже вошло в коллективную память. Переселившись в Германию, голендры должны были проходить через различные процедуры гражданской идентификации: при выдаче документов, при оформлении пенсии, пособий и пр. Каждый раз при этом им надо было убеждать чиновников в правомочности своего пребывания в Германии, что заодно подкрепляло и их собственное убеждение в своем немецком происхождении. В 1975 г. в Нюрнберге силами нескольких энтузиастов было создано «Историческое общество Волынь». Своей целью оно провозглашало «содействие исследованию и сбору документов о Волыни как провинциальной части Украины»13. Со временем общество разрослось, а с объединением Германии стало включать в себя выходцев из Волыни, живших в бывшей ГДР. В числе активных членов общества есть и представители бужских голендров, которые считают себя неотъемлемой частью группы волынских немцев. В периодическом издании общества «Волынские тетради» они публикуют самые разные материалы о жизни сообщества до переселения в Германию. 12 То есть, можно говорить, что сегодня в рассматриваемом сообществе есть собственные «эксперты» по культурной памяти, создающие «объективную историю» своей группы. Один из них – Эдвард Бютов, родившийся в 1928 г. в колонии на Буге и переселившийся вместе с родителями в 1940 г. в Германию, побывал летом 2004 г. в Пихтинске. Целью его поездки был сбор материала о сибирских голендрах для написания книги. Поездка была организована «Историческим обществом Волынь», с которым Э. Бютов активно сотрудничает. исторического образования; окончив Он не имеет профессионального экономический факультет Виттенбергского университета, Э. Бютов на протяжении большей части своей жизни был занят в сфере тяжелого машиностроения. Однако, выйдя в конце 1990-х гг. на пенсию, он активно занялся сбором документов, имеющих отношение к происхождению своей группы, и в 2002 г. опубликовал книгу «Бужские голендры на Волыни: путь и история»14. В данном случае интересно даже не столько ее содержание, сколько осознание автором особой «миссии памяти». В интервью, записанном после его поездки в Пихтинск, на вопрос о главной цели своих исследований Э. Бютов отвечает так: «Я хотел людям правду написать, откуда они пришли, когда и как они там жили. Хотел дать нашим людям такие документы, чтобы они узнали, откуда их предки, откуда их родственники. … Они не имеют этого знания, какой была история, потому что они этим не занимались». Говоря о реакции на книгу в Германии, он рассказывает, что многие люди, такие же, как он, бужские голендры, а также их дети, выражали ему свою благодарность. «Мне люди пишут: ”Теперь мы знаем, кто мы есть и откуда мы приехали. Мы были немцами даже лучшими, чем эти, которые нас называли поляками или русаками”». «Историки могут не только разделять те некоторые посылки, на которых зиждется коллективная память, – своими работами они также могут способствовать формированию самих этих посылок… Всякое действие, направленное на сохранение памяти о прошлом, придает коллективной памяти новый импульс, служит толчком к новым переменам», – пишет Яель Зерубавель в своей статье о динамике коллективной памяти15. Возможно, здесь перед нами как раз такая ситуация. В любом случае, публикация сборников документов, появление статей и книг, проведение встреч «земляков», выступления перед ними исследователей с представлением своих работ, организация поездок на Волынь – всё это не может не актуализировать коллективную память, причем закрепляя в ней определенные представления. Возвращаясь к пихтинским голендрам, следует сказать, что до недавнего времени в их среде не существовали институты и частные лица, которые бы выполняли роль 13 «уполномоченных знания» о прошлом группы подобно тому, как это было с «германскими голендрами». Однако, в последние годы что-то подобное происходит и здесь. С начала 1990-х гг. районный краеведческий музей активно занимается темой пихтинских переселенцев. С середины 1990-х можно говорить о возникновении интереса к Пихтинску «извне»: со стороны исследователей, журналистов, путешественников, общественных деятелей. Вольно или невольно все они становились причастны и к процессу формирования коллективной памяти пихтинцев. Конечно, речь не идет о прямой зависимости: сегодня – статья или организация встречи земляков, завтра – коллективное представление. Однако какое-то опосредованное влияние имеет место. Это можно видеть на примере слова «голендры». «Голендры»: метаморфозы понятия Давнее знакомство с пихтинцами, а также перерыв на несколько лет в общении с ними, позволяет сегодня провести некоторый сравнительный анализ относительно того, как функционирует данное название в исследуемом сообществе. Когда я впервые оказалась в Пихтинске в конце 1994 г., слово «голендры» в большей степени, чем сейчас, относилось к области коммуникативной памяти. Точнее сказать, оно покидало ее, уходя из памяти немногих пожилых людей в никуда. Спустя десять лет оказалось, что «голендры» у всех на слуху, но вряд ли можно говорить о функционировании понятия в коммуникативной памяти группы. Что произошло за прошедший отрезок времени? С одной стороны, умерли почти все те пожилые люди, которые рассказывали о том, что голендрами называли людей, приехавших на Пихтинский участок, а также поселения, где они жили раньше. То есть, исчезли живые носители знания, (хотя и тогда лишь немногие, как, например, 90-летний Густав Михайлович Людвиг, могли более или менее ясно что-то разъяснить). С другой стороны, за эти годы слово как бы обрело новый статус. Обнаруженное в архивных документах, оно появилось в научных статьях, стало повторяться в журналистских телерепортажах и газетных материалах. Понятие постепенно стало «входить в оборот», но уже не с подачи дедушек и бабушек. Вряд ли можно говорить, что оно окончательно вошло в коллективную память жителей Пихтинска, однако какието предпосылки к этому появились. Как слово «голендры» представлено в рассказах моих информантов? Некоторые из них, преимущественно старшего поколения, повторяют практически то же самое, что можно было услышать десять лет назад. Причем они являются либо детьми, либо прямыми родственниками тех людей, которые рассказывали о голендрах тогда. Однако 14 чаще встречается другой мотив: «раньше мы не слышали этого слова, а сейчас из журналов и газет знаем». Многие при этом посмеиваются – мол, снова нас кем-то обозвали. Одна информантка, которая поначалу высказала уже знакомое утверждение «мы – не немцы» и рассказала, как насмехались над ними в интернате, вдруг под конец интервью, когда речь зашла о «голендрах», сказала буквально следующее: «А вот немцы как-то, мне даже кажется, душе легче, как-то вот мы привыкли, чем к этим голендрам. Как то оно … не сочетается или как. В душе не улаживается. … Пусть бы лучше уж немцами звали» (ТГЯ, ж, прим. 1965, ПФ-12). На другом полюсе этой своеобразной шкалы мнений находится полное принятие слова как обозначения своего сообщества. К примеру, Елена Л., 1973 года рождения, позиционирует себя и свою группу именно как голендров, не просто принимая подобное определение, но и активно «продвигая» знание его содержания. При клубе, где она работает, Елена организовала детский исторический кружок, подготовила группу детей к участию в фольклорном фестивале, где, по ее словам, они должны были представлять «нашу национальность - голендров». Вспоминая эпизод, как, будучи в больнице, она показывала соседкам по палате фотографии с пихтинской свадьбы, Елена добавляет: «Ну, вот тоже им говорила, что мы – голендры. Объясняла. Ну, я всегда говорю, что мы – голендры» (ЕВЛ. ж, 1973, ПФ-1). Традиция как составляющая коллективной памяти Есть еще одно существенное различие между «сибирской» и «германской» частями прежде единого сообщества. Бужские голендры, живущие сегодня в Германии, имеют четкое представление о своей этнической принадлежности («немцы», «волынские немцы»), которое опирается, главным образом, на культурную память. У них есть имя, есть варианты собственной письменной истории, своего рода «биографии нации». Однако у них нет традиционных практик, объединяющих всех членов группы. Ведь компактность проживания, которая характеризовала пребывание голендров на Буге, в процессе переселения и адаптации на новом месте была утрачена. С исчезновением этого условия произошло и быстрое растворение прежних традиций. У сибирских же голендров, наоборот, отсутствует четкое обоснование самоназвания и знание истории группы. Но при этом у них есть традиция или, как говорят пихтинцы, «наш обычай», что объединяет их и играет важную роль в сложном комплексе факторов и маркеров групповой идентичности. Я. Ассман характеризует традицию как элемент культурной памяти, по сути отождествляя ее с ритуалом. Да, ритуал, как наиболее оформленная и застывшая ее 15 часть, безусловно, относится к сфере культурной памяти. Но ритуалами традиция не исчерпывается, а включает в себя также различные обычаи и привычки, не имеющие сакрального характера и входящие в «реальность повседневной жизни». Другими словами, я бы не рассматривала область традиций с точки зрения разделения на коммуникативную и культурную память, а соотносила бы ее с коллективной памятью в целом. «Наш обычай» в Пихтинске - это не только свадьбы, похороны и другие обряды жизненного цикла; не только календарные праздники, утратившие религиозную нагрузку, но сохраняющие объединительную функцию. Это еще и повседневные нормы поведения, регулирующие взаимоотношения между поколениями. Можно сказать, что потомки бужских голендров, переселившихся в начале ХХ в. в Сибирь, в этом смысле представляют собой в большей степени «реальное», а не «виртуальное» или «воображаемое» сообщество. В этой реальной физической группе поддерживаются традиционные практики, которые «работают» на воссоздание групповой идентичности и хранят информацию о ее прошлом. Уже упоминавшийся Эдвард Бютов, приехав в Пихтинск, был более всего поражен именно тем, что встретил там элементы живой традиции, еще сохраняющиеся в его воспоминаниях о детстве на Волыни, но уже исчезнувшие из сегодняшней жизни бужских голендров в Германии. «Здесь так много сохранили нашей культуры, что нигде такого больше не будет, наверно. Свои дома, как живут, как работают. ... Свадьба, бич, чепцы … В нашем музее в Линдстове тоже много такого. Можно приходить и видеть, как жили люди. А здесь на самом деле еще так живут». *** Клиффорд Гирц в своей замечательной книге «Интерпретации культур» писал о том, что одной из особенностей этнографического описания является его микроскопичный характер, и что «антрополог, как правило, выходит к более широким интерпретациям и абстрактному анализу через этап очень подробного изучения чрезвычайно мелких явлений»16. Он подчеркивал, что только обладая материалом, полученным в результате полевых исследований в ограниченном контексте, можно «придать действительную актуальность мегаконцепциям, которыми страдают современные общественные науки…, сделать возможным размышлять не только реалистично и конкретно о них, но, что более важно, творчески и продуктивно с их помощью»17 . 16 В данной статье мы попытали подобным образом посмотреть на особенности самоидентификации двух локальных сообществ с помощью концепции коллективной памяти. Применение теории М. Хальбвакса и Я. Ассмана показалось нам довольно продуктивным для понимания происходящих здесь процессов. Сознательно не стремясь к широкомасштабным концептуальным построениям, мы полагаем, тем не менее, что представленный соотношения материал позволяет коллективной сделать памяти и некоторые групповой выводы относительно идентичности, их взаимообусловленности и взаимодействия. Бужские голендры, живущие в современной Германии, с одной стороны, и жители трех сибирских деревень, с другой, в самоопределении во многом опираются именно на коллективную память. Она включает не только эксплицитно выраженные представления о прошлом своего сообщества (как недавнем, так и уходящем вглубь веков), но и ту информацию, которая содержится в традиционных нормах поведения и обрядовых практиках. Мы видим на рассмотренных примерах, что коллективная память не представляет собой нечто неизменное и застывшее. Она подвержена влиянию внешних факторов, в том числе политического и идеологического характера. Содержание культурной и коммуникативной памяти сообщества может меняться, что влечет за собой также изменения в его идентичности. В то же самое время коллективная память также формируется и изменяется под влиянием складывающейся идентичности. Выбор того, что люди вспоминают, а что забывают, зависит и от преобладающей в данный момент тенденции в их самоидентификации. Таким образом, отношения памяти и идентичности представляют собой взаимообусловленный процесс. 17 ПРИМЕЧАНИЯ См.: Halbwachs M. On Collective Memory. Engl. transl. by L. A. Coser. Chicago, 1992. P. 37- 1 189; Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005. С. 16-50. См.: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 2 идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. 3 Ассман Я. Культурная память …С. 54. 4 Ассман Я. Там же. С. 56. 5 См.: Шостакович Б. Голендры: этимология термина и понятия // Тальцы. Иркутск, 2004. №4. С. 23-35; Marchlewski W. Mennonici w Polsce (o powstaniu społeczności mennonitów Wymyśla) // Etnografia Polska. Warszawa, 1986. T. XXX. S. 129-146. «Голендры – в Гродненской губ. под этим названием известны потомки голландцев, 6 поселившихся здесь, вероятно в XIII веке. В настоящее время, в Брестском у., существует близ местечка Влодавы только две колонии их – Нейбров и Нейдорф, население которых, забыв свой природный яз., говорит на местном наречии, с примесью польских слов». / См.: Словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 17. С. 42. Подр. об этом см.: Бютов Э. Происхождение и история бужских голендров // Тальцы. 7 Иркутск, 2004. №4. С. 3-22; Нolz H. Die Bughauländer: Erste Protestanten Ostpolens // Wolhynische Hefte. Schwabach, Wiesentheid, 1990. N6. Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 171, оп. 1, д. 401, л. 1; ф. 8 171, оп. 5, д. 53, л. 14. 9 ГАИО. Ф. 789, оп. 3, д. 4, 5. 10 ГАИО. Ф. 789, оп. 3, д. 4, 5 11 При цитировании материалов интервью в скобках указаны инициалы, пол и год рождения информанта, а также номер полевой фонограммы. 12 Оригинал воспоминаний хранится в семейном архиве И. З. Зелента, копия – в архиве автора. 13 Устав «Исторического общества Волынь», принятый на общем собрании 3.11.1988 г. 14 Bütow E. Bug Holländer in Wolhynien: Spuren und Geschichte. Schwerin, 2002. 15 Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. Казань, 2004. №3. С. 75, 89. 16 Цит. по: Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб, 1997. С. 189. 17 Гирц К. «Насыщенное описание»… С.192. 18