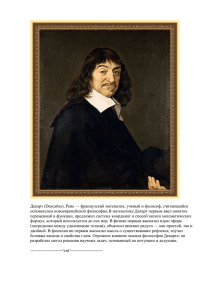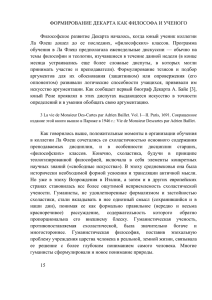ОТ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ МАГИИ К ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ)
advertisement
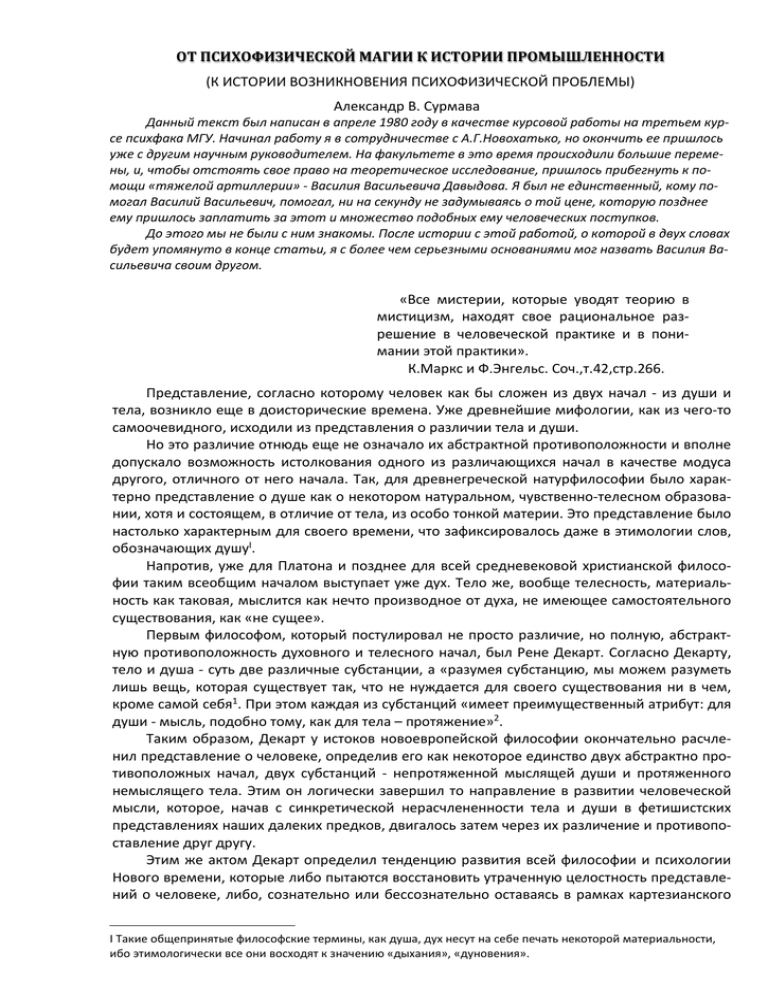
ОТ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ МАГИИ К ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ) Александр В. Сурмава Данный текст был написан в апреле 1980 году в качестве курсовой работы на третьем курсе психфака МГУ. Начинал работу я в сотрудничестве с А.Г.Новохатько, но окончить ее пришлось уже с другим научным руководителем. На факультете в это время происходили большие перемены, и, чтобы отстоять свое право на теоретическое исследование, пришлось прибегнуть к помощи «тяжелой артиллерии» - Василия Васильевича Давыдова. Я был не единственный, кому помогал Василий Васильевич, помогал, ни на секунду не задумываясь о той цене, которую позднее ему пришлось заплатить за этот и множество подобных ему человеческих поступков. До этого мы не были с ним знакомы. После истории с этой работой, о которой в двух словах будет упомянуто в конце статьи, я с более чем серьезными основаниями мог назвать Василия Васильевича своим другом. «Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики». К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч.,т.42,стр.266. Представление, согласно которому человек как бы сложен из двух начал - из души и тела, возникло еще в доисторические времена. Уже древнейшие мифологии, как из чего-то самоочевидного, исходили из представления о различии тела и души. Но это различие отнюдь еще не означало их абстрактной противоположности и вполне допускало возможность истолкования одного из различающихся начал в качестве модуса другого, отличного от него начала. Так, для древнегреческой натурфилософии было характерно представление о душе как о некотором натуральном, чувственно-телесном образовании, хотя и состоящем, в отличие от тела, из особо тонкой материи. Это представление было настолько характерным для своего времени, что зафиксировалось даже в этимологии слов, обозначающих душуI. Напротив, уже для Платона и позднее для всей средневековой христианской философии таким всеобщим началом выступает уже дух. Тело же, вообще телесность, материальность как таковая, мыслится как нечто производное от духа, не имеющее самостоятельного существования, как «не сущее». Первым философом, который постулировал не просто различие, но полную, абстрактную противоположность духовного и телесного начал, был Рене Декарт. Согласно Декарту, тело и душа - суть две различные субстанции, а «разумея субстанцию, мы можем разуметь лишь вещь, которая существует так, что не нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя1. При этом каждая из субстанций «имеет преимущественный атрибут: для души - мысль, подобно тому, как для тела – протяжение»2. Таким образом, Декарт у истоков новоевропейской философии окончательно расчленил представление о человеке, определив его как некоторое единство двух абстрактно противоположных начал, двух субстанций - непротяженной мыслящей души и протяженного немыслящего тела. Этим он логически завершил то направление в развитии человеческой мысли, которое, начав с синкретической нерасчлененности тела и души в фетишистских представлениях наших далеких предков, двигалось затем через их различение и противопоставление друг другу. Этим же актом Декарт определил тенденцию развития всей философии и психологии Нового времени, которые либо пытаются восстановить утраченную целостность представлений о человеке, либо, сознательно или бессознательно оставаясь в рамках картезианского I Такие общепринятые философские термины, как душа, дух несут на себе печать некоторой материальности, ибо этимологически все они восходят к значению «дыхания», «дуновения». 2 дуализма, пытаются сделать то, что не удалюсь самому Декарту - устранить из теории противоречия и парадоксы, с необходимостью из него вытекающие. Это делает понятным, почему философия Декарта и поныне остается в центре теоретических споров, почему к Декарту вновь и вновь обращаются философы и психологи, физиологи и кибернетики в поисках аргументов в своих сегодняшних дискуссиях о проблеме человека. Однако единодушие в обращении к Декарту находится в явном противоречии с разнообразием зачастую прямо противоположных отношений к его основным философским идеям. Так, советские физиологи всячески подчеркивали историческую заслугу Декарта, которую они усматривали в том, что он вольно или невольно стал основоположником материалистического, естественнонаучного подхода к изучению «высшей нервной (психической)» деятельности головного мозга3. «Декарт выдвинул глубокую, весьма смелую для тех времен и по существу своему материалистическую мысль о том, что мозг является органом ответных реакций организма на воздействие многообразных факторов и событий окружающей среды, т.е. осуществляет отражательную деятельность. Это послужило основанием считать его родоначальником рефлекторной теории деятельности нервной системы»4, - писал Э.А.Асратян в «Послесловии редактора» к академическому изданию книги И.П.Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». Причем, непременным атрибутом цитируемой позиции была обязательная оговорка, что эту «по существу своему материалистическую мысль» Декарта ни в коем случае нельзя смешивать с такими его «мистическими представлениями» как «нематериальность души и ее независимость от тела». - Чем же объясняется такое парадоксальное соединение в философии Декарта материализма с мистикой?- спрашивали себя сторонники этой концепции. И сами же отвечали – дуализмом! Между тем, этот ответ провоцировал новый вопрос – а чем, собственно, обусловлен сам картезианский дуализм в понимании природы человека? В ответе на этот новый вопрос возникали уже некоторые вариации. «Интеллектуальной робостью» - вот, по существу, ответ А. Б. Когана. «Пытаясь объяснить все более сложные ответные действия животных и человека механизмом рефлекса, Декарт... вплотную подошел к тому, чтобы распространить рефлекторный принцип на высшие формы человеческого поведения, составляющие проявление нашей психической жизни. Однако он не решился посягнуть (курсив мой - А. С.) на святость духовного мира человека, ревностно оберегаемого непререкаемым авторитетом церкви»5. Однако более распространенной была и остается позиция, аргументирующая от неразвитости естественнонаучных представлений в XVII веке. С точки зрения последней Декарт «в силу ограниченности научных знаний того времени» уподоблял живой организм «несложным (курсив мой - А. С.) машинам (часам, кузнечному меху и т.п.)»6. Далее, как правило, следует снисходительно-ироничное описание «нитей», «клапанов», «животных духов» и пресловутой шишковидной железы, а вслед за этим делался вывод, что поскольку «этим механизмом (курсив мой - А. С.) трудно объяснить поведение человека, поэтому в соответствии со своей дуалистической философией он (Декарт - А. С.) подчинил его высшему разуму, бессмертной душе». Ну, а чтобы в данном вопросе не оставалось никаких неясностей, приведенное рассуждение резюмировалось так: «Если современный критик рефлекторной теории искренне верит в то, что (сегодняшние - А. С.) представления о рефлекторной дуге такие же, как и во времена Декарта, то ему ничего другого не остается, как следовать знаменитому философу до конца»7. Но как ни «страшна» указанная альтернатива, даже среди физиологов находились ученые, которые, не пугаясь ее, действительно следуют за Декартом «до конца». Так, Ч. Шер- 3 рингтон в 1947 году недвусмысленно заявил: «То мнение, что наша личность, может быть составляется из двух основных элементов, не заключает, на мой взгляд, больше невероятности, чем допущение, что она зиждется только на одном начале»8. А поскольку компетентность автора вышепроцитированных строк в современном нейрофизиологическом представлении о механизмах деятельности нервной системы сомнений ни у кого не вызывала, то сторонникам своеобразно понимаемого материалистического монизма в ответ на такое заявление не оставалось ничего иного, как сердито и недоуменно развести рукамиI. Здесь, однако, представляется уместным внести, наконец, некоторую ясность в обсуждаемый предмет. Не вдаваясь в дискуссию об интеллектуальной робости автора принципа «de omnibus dubito», обратимся сразу к аргументам от неразвитости нейрофизиологии в XVII веке. Авторы указанной позиции, на наш взгляд, явно смешивают две не просто различные, но прямо противоположные вещи - теоретическое, философское понятие Декарта о рефлексе с ограниченными естественнонаучными представлениями его времени, опираясь на которые Декарт пытался представить себе механизм его функционирования. Последние, разумеется, безнадежно устарели за три с лишним века, которые отделяют нас от Декарта, и представляют сегодня чисто исторический интерес. Но совсем иначе дело обстоит с его теоретическим понятием рефлекса, которое, не будучи по содержанию связано с одной из возможных особенных форм своей реализации более, чем с любой иной, и не могло сколько-нибудь устареть вместе с представлением о мозговых клапанах. В этой же связи заметим, что якобы страшная для материалистов перспектива «следовать знаменитому философу до конца» при более тщательном рассмотрении оказывается далеко не такой уж пугающей. Ибо, строго следуя логике «знаменитого философа», мы отнюдь не обязаны вместе с Ч. Шеррингтоном останавливаться у того тупика, в который уперлась мысль Декарта, но можем и должны выйти за ее пределы, т. е. перейти к материалистическому монизму Б. СпинозыII с тем, чтобы, опираясь на его принципиальное, а потому в полной мере сохраняющее свою силу и поныне, решение картезианской психофизической проблемы, не топтаться на уровне задач XVII века, а, идя в ногу со своим временем, решать задачу построения подлинно материалистической физиологии и психологииIII. Вернемся, однако, к позиции тех философов, психологов и физиологов, которые не только не обвиняют Декарта в создании тупика дуализма, но, напротив, горячо приветствуют его как основоположника материалистического, естественнонаучного подхода к изучению человека. Вот как подобную позицию формулировал, в частности, П. К. Анохин: «... он (Декарт - А. С.) дал законченную схему отношений между стимулом и ответом, и одного этого было достаточно, чтобы человеческая мысль, бесплодно кружившаяся около проблемы «души», встала на ясный естественнонаучный путь плодотворных исследований»9. Как видим, и у П. К. Анохина энтузиазм вызывает не система Декарта, взятая в целом как конкретный теоретический организм, но лишь одна ее часть, произвольно извлеченная из состава целого и противопоставленная всему остальному. Часть эта - учение о рефлексе, в котором Декарт выразил свое представление о животных (согласно его теории они вовсе лишены души) и о теле человека как бездушных рефлекторных машинах. Все поведение животного, по мнению Декарта, может быть объяснено исключительно на основе чисто механической причинности как функция устроенного соответствующим обI В предисловии к вышеназванной книге Ч. Шеррингтона, написанном, в целом, с большим пиететом к великому английскому физиологу, Э. Айрапетьянц и А. Батуев на странице 14 указанного издания пишут: « Так в финале жизни великого физиолога явился как бы некий его однофамилец с философскими заблуждениями в понимании и человека, и его природы». II 0т Декарта, в принципе, возможны два пути: вперед - путь Спинозы, и назад - путь окказионалистов, которые, отталкиваясь в своих философских построениях от наиболее слабых мест в логике Декарта, дошли до откровенной мистики. Подробнее об этом см. статью: В. В. Давыдов, Е. Э. Иллеш Исторические корни психофизического параллелизма. - Вопросы философии, 1979, № 11, с. 139-150. III В физиологии такая в высшей степени плодотворная попытка опериться на логику Спинозы представлена в трудах Н. А. Бернштейна. 4 разом протяженного тела. Так что для каузального понимания поведения животных нет ни малейшей необходимости привлекать какую бы то ни было душу, ни разумную, «ни чего другого, что могло бы служить для него растительной или чувствующей душой»10. Что же касается человека, то его тело тоже автомат, способный действовать вполне самопроизвольно, но только постольку, поскольку им осуществляется чисто биологические функции, общие человеку с животными и растениями. Напротив, специфически человеческое поведение, по глубокому убеждению Декарта, может быть понято только благодаря деятельности непротяженной души, способной по своей (свободной) воле изменять и направлять движения телесной машины. Нетрудно усмотреть в вышеприведенных положениях Декарта дуализм, различить в них две тенденции - материалистическую и идеалистическую, соответственно, две методологии: объективную, естественнонаучную, и субъективную, интроспекционистскую. Следовательно, будучи материалистами, мы должны отделить в философии Декарта зерна от плевел, рациональное зерно от идеалистической шелухи, вооружиться в психологическом исследовании и животных, и человека естественнонаучной идеей рефлекса, а бестелесной «душой» предоставить возможность заниматься теологам и историкам философии. Вот ход рассуждений, типичный для всех физиологов и психологов, исходящих из представления о рефлекторном происхождении психических процессов. Однако эти рассуждения при всей их распространенности, содержат на наш взгляд, принципиальную ошибку уже в самом своем основании. Действительно, у Декарта можно усмотреть тенденции материалистические и идеалистические, как, впрочем, и многие другие. Но чего в философии Декарта нет, так это эклектики, т. е. произвольного сочетания нескольких принципиально разнородных теоретических подходов. А это значит, что все попытки строить монистическую, материалистическую психологию, выхватив из целостной системы Декарта идею рефлекса и противопоставив ее идее бестелесно-непротяженной души, не могут привести к материалистическому идеалу. Открещиваясь от картезианской непротяженной души, как от идеалистического соблазна, к материализму не придешь, ибо, как справедливо заметил Гегель, «убегающий еще не свободен, потому что он в своем бегстве все еще обусловливается тем, от чего он убегает»11. Теорию рефлекса извлекают из системы Декарта как нечто устойчивое и самодостаточное, однако вся история психологии и физиологии ярко демонстрирует недостаточность, неполноту этого принципа. Всякий раз попытки построить целостную, внутренне непротиворечивую теорию, основанную исключительно на принципе рефлекторности, терпят неудачу изза того, что в нее, помимо воли и желания авторов, с какой-то роковой неизбежностью проникает нечто другое, противоположное этому принципу. Примером этому может послужить история с так называемым «рефлексом цели», который были вынуждены ввести в свою теоретическую конструкцию сначала И. П. Павлов, а за ним и кибернетики, пытающиеся, опираясь на рефлекторную концепцию, моделировать человеческую психику12. Особенно примечательный конфуз вышел с этим «рефлексом» у И. П. Павлова, считавшего, как известно, грех антропоморфизма тягчайшим для физиолога. Введя понятие цели в объяснение деятельности чисто материальных механизмов центральной нервной системы, он, сам того не желая, впустил в храм антиантропоморфизма вражеского лазутчика - телеологизм, т. к. телеология сама по себе есть не что иное, как «несколько более утонченная форма того же самого антропоморфизма13». И в рефлекторной теории она «оказалась неизбежным дополнением к грубо механистическому воззрению, как бы зеркально перевернутым изображением его несовершенства14». Аналогичная же причина в психологии привела к краху классического, т. е. логически последовательного, бихевиоризма. «Сознание», выгнанное в дверь в угоду последовательно проводимому принципу рефлекторности, благополучно влезло в окно, лишь слегка терминологически загримированным. Суть же всех этих злоключений адептов рефлекторности заключается в том, что представление о протяженном немыслящем теле, включая специфичный ему рефлекторный 5 принцип, и о непротяженной бестелесной душе не просто внешним образом соединены в системе Декарта, но взаимно предполагают и взаимодополняют друг друга, являясь имманентными сторонами органического целого. Вот как подобную логическую ситуацию характеризует Гегель: «Мысль о каком-либо нечто влечет за собой мысль о другом, и мы знаем, что имеется не только нечто, но также еще и другое. Но другое не есть то, что мы лишь находим, так что нечто могло бы мыслиться также и без него, но нечто есть в себе другое самого себя, и в другом для него объективируется его же собственная граница. Если же мы теперь поставим вопрос, в чем состоит различие между нечто и другим, то окажется, что оба они суть одно и то же»15. Итак, что же является ближайшей причиной, побудившей Декарта наделить машину человеческого тела бестелесно-непротяженной душой, а вслед за этим и весь мир расколоть на две враждебно противостоящие друг другу субстанции? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к «Рассуждению о методе» Декарта, где он указывает на принципиальные различия между «самыми тупыми» людьми и самыми совершенными машинами, «которые имели бы сходство с нашими телами и подражали бы нашим действиям настолько, насколько это возможно в моральном отношении»*16. Первым основанием для различения человека и машины у Декарта является то, что даже самая совершенная машина, какую только можно вообразить или, как выражается Декарт, какая «возможна в моральном отношении», неспособна к осмысленной речи, «... можно хорошо себе представить машину, - рассуждает Декарт, - сделанную так, что она будет произносить слова и даже что она будет произносить некоторые из этих слов по поводу телесных действий, которые будут вызывать некоторые изменения в ее органах; например, если тронуть ее в известном месте, то она спросит, что ей хотят сказать, а если в другом, то она закричит, что ей делают больно и тому подобное...»17. Таким образом, согласно Декарту, можно построить такую рефлекторную машину, которая будет внешним образом моделировать человеческую речь, связывая по принципу механической ассоциации определенные вербальные реакции с определенными стимулами. Но такая механическая болтовня не будет иметь ничего общего с человеческой речью, ибо эта машина «не сможет расположить их (отдельные «слова», входящие в состав ее вербальных реакций - А. С.) различно в соответствии со смыслом всего того, что будет говориться в ее присутствии»18. Не сможет потому, что порядок и связь слов и отдельных предложений в машинной «речи» будет отражать порядок и связь конечного числа элементов ее конструкции, ее специфическое устройство, ее программу, но вовсе не бесконечно разнообразные порядок и связь вещей вне ее механической (или суперкибернетической) «головы», не предметный смысл некоторой всегда уникально-неповторимой ситуации, развернутой перед этой машиной либо в виде некоторого конкретного сцепления протяженных, чувственных вещей, либо в виде порядка, и связи идей, содержащихся в речи человека-собеседника. Таким образом, уже в своем XVII веже Декарт прекрасно понимал всю бесперспективность попыток строить теорию человеческой речи, основываясь на принципе механической ассоциации. И не его вина, а тем более не его заслуга, если в веке XX такие попытки привели к созданию рефлекторной теории речи как «второй сигнальной системы». Более трех столетий после смерти автора «Рассуждений о методе» все еще можно прочитать следующее: «Современная физиология высшей нервной деятельности человека учением о второй сигнальной системе «обосновывает со стороны механизма мозговой деятельности человека… выводы о целостном, системном или структурном характере речи и мышления»19. И писалось это не в дни печально известной «Павловской сессии», а в годы оттепели, когда за отказ клясться именем Павлова уже не волокли на Голгофу. А вот фрагмент из книги с выразительным названием «Моделирование мышления и психики». «Принципиально возможно создать модель, - пишет Н.М.Амосов, - приближается по сложности к мозгу. Все дело в том, как расположить в ней элементы, чтобы при их взаи- 6 модействии она более или менее полно повторяла живой организм. Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы создать машины, имеющие такие же программы деятельности, как и мозг.»20 Интересно сопоставить эту мысль Н.М.Амосова со вторым основанием для различения человека и машины, которое Декарт приводит сразу же вслед за первым. «Второе средство состоит в том, что, хотя бы такие машины выполняли много вещей так же хорошо или, может быть даже лучше, чем кто-либо из нас, они неизбежно не могли бы выполнять ряда других, благодаря чему обнаружилось бы, что они действуют не сознательно, но лишь в силу расположения своих органов. (Своей программы, добавим мы, выражаясь современным языком – А.С.) Ибо, в то время, как разум является орудием универсальным, которое может служить при всякого рода обстоятельствах, эти органы нуждаются в некотором особом расположении для выполнения каждого особого действия. Отсюда явствует, что морально невозможно иметь достаточно органов в одной машине, чтобы заставлять ее действовать во всех обстоятельствах жизни таким образом, как нам позволяет действовать наш разум»21 Иными словами способность человека действовать (и, в частности, говорить) не сообразно с устройством своей телодвигательной (соответственно – речедвигательной) телесной машины, но, сообразуясь с каждый раз уникально-неповторимой формой и расположением предметов его деятельности, его, человека, универсальность в принципе не могут быть поняты из механического устройства его тела. Бесконечное число телесных механизмов (совершенно безразлично – буквально механических, как в схеме Декарта, или электронных, как у Амосова) заранее предуготовленных для действий в бесконечно разнообразных предметных ситуациях, которые могут встретиться, а могут и не встретиться в жизни человека, в его теле просто не уместятся (если б даже им было откуда взяться), а следовательно, причину человеческой универсальности, как раз составляющей специфическое отличие человека от самой совершенной машины, надо искать не в устройстве его протяженного тела, а в непротяженной мыслящей душе. Таков категорический вывод Декарта. Может ли современное естественнонаучно ориентированное мышление принять этот вывод? Разумеется, нет! Нет, ибо оно в принципе не хочет иметь дело с какими бы то ни было душами и непротяженными субстанциями, справедливо относя их в разряд пережитков средневековой мистики. Поэтому единственным предметом, заслуживающим внимания, естественнонаучное мышление полагает такой предмет, все без исключения свойства которого могут быть поняты как те или иные функции его пространственных, «протяженных» структур. Иначе говоря, предмет естественных наук – это вещь последовательно обездушенная, деантропоморфизированная. Это единственная здравая, более того, единственно возможная позиция для того, чтобы от средневековой алхимии перейти к современной химии. Однако, как только указанную логику пытаются приложить к изучению человека, а именно к ней, как к идеалу стремится вся естественнонаучно ориентированная психология, так сразу же эта логика переходит в свою противоположность и начинает массами порождать фантомов, вроде целого мира совершенно непротяженных гомункулусов, которые, обитая где-то там, в мозгу, «осознают информацию», представляемую им органами чувств в «закодированном виде»22. Справедливости ради надо заметить, что этот, несколько неожиданный, возврат в лабораторию алхимика происходит совершенно стихийно, без чьего-либо злокозненного умысла. Поскольку человека пытаются изучать «совершенно объективно», предварительно очистив как предмет естественнонаучного теоретизирования от всего субъективночеловеческого или антропоморфного, то оставшийся после такой идеализации обрубок живого, целостного человека будет, в совершенно точном смысле этого слова, машиноморфен. И тогда эту бездушную машину, дабы она хоть немного походила на своей жизненный прототип, приходится вновь наделять человекообразными, антропоморфными качествами в виде «рефлексов цели», «рефлексов свободы» и т.п., т.е. нашим архиобъективным исследователям человека приходится, в поисках недостающих элементов научного анализа, вновь 7 отправляться в мир духов. Так, пытаясь уйти от Декарта с его непротяженной субстанцией, к ней же и возвращаются. От непротяженной субстанции пытаются избавиться, обращаясь к ее абстрактной противоположности – субстанции абстрактно протяженной. От Декарта идут к Декарту же, оставаясь в рамках заложенного им в фундамент науки Нового времени специфического способа полагания объекта, предполагающего описанную выше его деантропоморфизацию. А, значит, вместе с Декартом и расплачиваются за ограниченность своих представлений, будучи вынужденными дополнять их откровенной мистикой; вновь и вновь воспроизводить все тот же замшелый картезианский дуализм. Позитивный, сохраняющий и поныне свою силу вывод Декарта сам по себе отрицателен. Он гласит: нельзя понять человека как существо свободное и универсальное, т.е. в его всеобщей природе, пытаясь выводить эти качества из устройства его протяженного тела. Это категорическое декартовское «нельзя» совершенно того же рода, что и констатация, что нельзя понять природу горения с помощью теории флогистона, что нельзя создать вечный двигатель и т.п., а потому с ним необходимо считаться всем, кто с позиций сколь угодно «современной» науки подступается к проблеме человека. Однако не трудно заметить, что в категорическом декартовском «нельзя» выражена не вся позиция Декарта. Цельный, логически не отпрепарированный Декарт не ограничивался этим отрицательным выводом, но от него переходил к утверждению о существовании двух субстанций. И хотим мы того, или нет, но Декарт вошел в историю человеческой культуры именно как дуалист. Именно он заложил такой фундамент новоевропейской науки о человеке, на котором невозможно построить устойчивое здание теории. Три столетия такие попытки раз за разом приводили к одному и тому же печальному исходу – здание, расколотое противоречиями, разваливалось на части, в которых не состояло труда узнать все те же две картезианские половинки. И что особенно удивительно, сразу же вслед за Декартом в том же XVII веке Бенедикт Спиноза предложил гениальный по простоте и, главное, последовательно материалистический выход из лабиринта картезианского дуализма. Почему же, спрашивается, за очень немногими исключениями, к которым правда надо отнести Г.Гегеля и К.Маркса, абсолютное большинство теоретиков и поныне предпочитает следовать не за Спинозой, а за Декартом? Или, не будь у философии Нового времени этого l`enfant terrible, то, по крайней мере, история психологии сложилась бы более благополучно? И соответственно прав П.Я.Гальперин, упрекая Декарта за то, что он своими диалектическими фокусами расколол человека надвое, предложив классическую формулировку проблемы дуализма души и тела? «Декарту принадлежит, - пишет П.Я.Гальперин, - (в исторической ретроспективе сомнительная, а в наше время уже бесспорно отрицательная) честь указания четких признаков такого дуализма. … пока сохраняется такое различение (различение тела и души как двух субстанций - А.С.) пропасть между ними представляется абсолютной, непреодолимой»23. Можно подписаться под каждым словом в этой констатации печальных последствий для психологии, которыми чревато некритическое принятие картезианской логики. Однако не будем спешить с упреками Рене Декарту. Попробуем прежде разобраться в действительных, постоянно воспроизводящих себя предпосылках как самого картезианского дуализма, так и исключительной живучести последнего. Понятие, согласно концептуалистской традиции, в частности, понятие человека, есть значение термина, фиксирующее совокупность признаков, абстрактно общих для данного класса предметов. Соответственно, «понятие человека», согласно этой логике, есть совокупность признаков абстрактно общих и египетскому рабу и современному предпринимателю, и восточному мистику и Рене Декарту. Вряд ли надо доказывать, что при такой логике, отбрасывающей все реальные различия как межу отдельными историческими эпохами, так и 8 между отдельными людьми внутри этих эпох, так называемое «понятие человека» будет набором банальностей, фиксирующих, что все люди суть особи биологического вида homo sapiens, и всем им, чтобы жить, должно есть, пить и размножаться. Даже необходимость иметь одежду и жилище не войдет в это «понятие», так как тогда под него нельзя будет подвести первобытные племена, не знающие ни того, ни другого. Нет нужды останавливаться на критике подобного представления о понятии. Здесь нам необходимо подчеркнуть лишь одну сторону концептуалистской логики – ее аисторизм. Концептуалистская логика в принципе не способна дать вразумительный ответ на вопрос: почему различные исторические эпохи формировали столь непохожие друг на друга представления о природе человека. Почему, скажем, в скульптуре и живописи разных эпох внимание художников привлекали совершенно различные части человеческого тела? Так, для древнего грека не было ничего более естественного, чем обращать особое внимание на пластику, лепку мускулатуры человеческого тела, по сравнению с которыми лицо отходило, в известной мере на второй план, а глаза и подавно представлялись чем-то третьестепенным. Напротив, в эпоху христианского средневековья распределение внимания художника прямо обратное. Художника-христианина в первую очередь интересуют глаза его модели. В них и через них иконописец, как много веков спустя Фихте, видит окно в душу человека, составляющую его, человека, глубинную сущность, по сравнению с которой его тело само по себе уже не имеет никакого значения, а потому, как на византийских и древнерусских иконах, может быть изображено в высшей степени условно и схематично. Дабы не пришлось объяснять такое специфическое перераспределение внимания художников разных эпох, ну, скажем, изменением в физическом устройстве их зрения, необходимо обратиться к принципиально иной логике. Так вот, с точки зрения логики диалектической, понятие некоторого предмета не рождается в созерцании субъектом единичного предмета или целого класса таковых. В идеальном образе предмета, в его понятии фиксируется не физическое отношение между телами предмета и субъекта познания, но исторически возникающие и развивающиеся общественные способы и формы деятельности человечества с данным предметом24. Понятие человека не составляет в этом смысле исключения. В нем каждая эпоха фиксирует принципы и формы отношения общества к человеку. Иначе говоря, в понятии человека каждая эпоха идеализирует самое себя как конкретно-историческую «совокупность общественных отношений». Поэтому исключительно через конкретно-исторический анализ этих общественных отношений, отношений человека к человеку, или как любили выражаться старые философы, человека к самому себе, только и можно понять, почему древние греки и римляне представляли человека по преимуществу в виде прекрасного тела, средневековое христианство усматривало его глубинную сущность в бестелесной душе, а Новое время в лице Декарта постулировало двойственную психофизическую его природу. А, следовательно, и корни психофизической проблемы надо искать не в душной фаустовской келье, а в широкой социальной действительности. Ключевский как-то остроумно заметил, что прежде психология была наукой о человеческой душе, а теперь – это наука об ее отсутствии. Это наблюдение точно отражает тенденцию большинства естественнонаучно ориентированных психологических школ, прилагающих немалые усилия дабы «очистить» теорию от малейшего следа «души», справедливо видя в последней атавизм религиозных представлений. Все феномены душевной жизни человека пытаются редуцировать к их материальной, земной основе, объяснить их как функцию специфически организованной человеческой телесности, полагая в этом свою миссию как естественнонаучно ориентированных психологов, психологов материалистов. Между тем, после выполнения этой задачи «…главное-то остается не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некоторое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, вопервых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революцио- 9 противоречия»25. низирована путем устранения этого Эта известная мысль Маркса на наш взгляд как нельзя лучше объясняет причину той теоретической коллизии, которая и поныне остается родовым кошмаром для теоретической психологии. Декарт прекрасно понимал всю бессмысленность попыток такого сведения, редукции феноменов духовной природы человека к его «земной», абстрактно-телесной основе. Но сегодня, усвоить этот урок XVII века, еще полдела. Сегодня, наверно можно было бы сделать и следующий шаг к преодолению картезианского дуализма. А сделать это можно только поняв, что последний есть лишь точное теоретическое описание фактического положения вещей, фактического распадения человека на две абстрактно независимые половины: бесплотную, лишенную телесности душу, и абстрактно-протяженную, обездушенную плоть. Как возможна такая абстракция? Ответить на этот вопрос можно только объяснив как возможен, как исторически возникает отчужденный, наемный труд, который здесь на земле «отчуждает от человека его собственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущность, его человеческую сущность»26, что затем лишь отражается в картезианской теории двух субстанций. Здесь, разумеется, напрашивается сразу несколько вопросов. Какие, собственно, основания, кроме того, что Декарт, вообще, жил на заре Нового времени, позволяют связывать его чисто теоретические представления с социально-экономическим характером производства современной ему эпохи? Как, каким образом наличное состояние становящегося буржуазного общества и место в нем человека могли отразиться в столь отвлеченных категориях, как протяженная и непротяженная субстанции? Где, наконец, в текстах самого Декарта есть, и есть ли в них вообще, хоть малейший намек на то, что его понимание природы человека хоть как-то связано с феноменом наемного труда? Что ж, попробуем ответить на все эти вполне правомерные вопросы. Вспомним, уже приводившееся нами выше рассуждение, в котором Декарт доказывает необходимость наделения человеческого тела разумом, непротяженной мыслящей душой. Он сравнивает человека с машиной и замечает, что не просто различие, но противоположность человека и рефлекторной машины заключается в том, что действия самой совершенной машины, какую только можно вообразить, основывается на принципе сигнальности, тогда как человеческая деятельность универсальна, то есть предметна. А далее, будучи не в состоянии указать на подлинное основание человеческой универсальности, рационально ее объяснить, Декарт оказывается вынужденным наделить человека непротяженной душой. Само это рассуждение характерно именно для Нового времени. Во-первых, Декарт вообще считает нужным доказывать, что у человека есть душа, и, во-вторых, замечательно то, как он это делает. Характерно, что человека Декарт сравнивает не с Богом и не с каким либо иным духом, но с машиной, то есть вещью не только заведомо бездушной, но и неживой. Противоречие между очевидной тождественностью их телесной основы sub specie spatii и столь же очевидной противоположностью действительного способа их действия – человек в противоположность машине способен действовать и действует универсально – приводит Декарта к необходимости постулировать двойственную природу человека, а, значит, сразу же сталкивает его с нелегкой проблемой координации противоположных субстанций в живом человекеI. Для этого Декарту пришлось привлечь на помощь т.н. «животных духов», шишковидную железу, мозговые клапаны, словом, множество чисто умозрительных гипотетических представлений, которые и должны были, согласно его замыслу, хоть как-то заполнить пропасть, образовавшуюся между двумя субстанциями и расколовшую человека на две несоединимые половины. Должны были, но так и не смогли, ибо трещина дуализма, прежде чем расколоть человека в картезианской теории, расколола его в реальной жизни. Но прошла она не между протяженной шишковидной железой и непротяженной душой. Трещина дуализма расколоКак-то они должны взаимодействовать, иначе какой прок в мыслящей душе, если она не может управлять телом по своей воле, но в то же время, согласно их определению в качестве абстрактно противоположных субстанций, они не могут взаимодействовать никак. I 10 ла действительное мыслящее тело человека, отколов от него его неотъемлемую часть – его «неорганическое тело», или, во всяком случае, существенную часть последнего. Необходимой предпосылкой складывавшегося на заре Нового времени товарнокапиталистического способа производства является наличие рабочих, свободных, по выражению Маркса, в «двояком смысле»27, то есть свободных лично, и «свободных» от каких бы то ни было средств производства, лишенных их. «В истории первоначального накопления эпоху составляют перевороты, которые служат рычагом для возникающего класса капиталистов, и прежде всего те моменты, когда значительные массы людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса»28. Однако, то, чего лишаются массы людей в процессе их экспроприации – материальные условия производства человеческой жизни – отнюдь не есть нечто безразличное и, в своей «протяженной» телесности, внешнее для личности каждого из них. Если человеческого младенца сразу же после рождения какие-либо обстоятельства лишают возможности овладеть всей совокупностью материальных средств человеческой деятельности, созданных предшествующими поколениями людей, то он скорее всего просто погибнет. В тех редких случаях, когда дети, выросшие в стае животных на манер киплинговского Маугли, выживали физически, они так никогда и не становились людьми в собственном смысле слова, то есть, согласно теории Декарта, для объяснения их поведения не понадобилось бы привлекать какую бы то ни было душу. В человеческой истории, однако, куда более распространены случаи, когда человек уже в зрелом возрасте лишается материальных средств своей жизнедеятельности. И за примерами таких драматических, а порой и трагических для человека коллизий нет надобности отправляться в тропические джунгли Индии, ибо их можно встретить в изобилии и в цивилизованной ЕвропеI. Но особенно богатой на такие примеры бывают эпохи первоначального накопления капитала. Так, в Англии «Пролог переворота, создавшего основу капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV и первые десятилетия XVI столетия. Масса поставленных вне закона пролетариев была выброшена на рынок труда»29. Скальпель, или вернее, топор реальной исторической абстракции рассек действительное мыслящее тело человека на две враждебно противостоящие друг другу половинки. И ровно в той мере, в какой это послужило развитию его неорганической половины – мира вещей, эта абстракция привела к деградации и разложению его органической части – реального, живого человека. В лучшем случае, если отдельному человеку удавалось на договорных началах вступить в деятельное отношение со своим утраченным телом, он становился рабом последнего, превращаясь в его частичный, обезличенный придаток. В худшем случае, если в силу неблагоприятной для него конъюнктуры на рынке труда такая сделка оказывалась для него невозможной, само его органическое тело становилось обреченным на смерть с такой же необходимостью, как если бы топор вышеназванной исторической абстракции расчленил его живое органическое тело. Нейропсихология наглядно демонстрирует, как распадаются отдельные психические функции человека при локальных поражениях мозговой ткани. При этом перед глазами исследователя проходят жуткие картины больных людей, которые в результате выпадения функций тех или иных участков мозга лишаются таких специфически человеческих способностей, как способность к произвольному движению, письму или речи. Историческая психология может продемонстрировать не менее, если не более, жуткие картины распада человеческой личности у людей с пока еще вполне физиологически сохранным мозгом. Смерть последней коровы или лошаденки, потеря земли, безработица, Россия, переживающая сегодня второе издание этой эпохи, может с успехом пополнить копилку этих примеров. I 11 политические или расовые преследования, лишающие человека возможности трудиться, т.е. возможности заниматься специфически-человеческим делом, – вот те «локальные поражения» подлинного субстрата человеческой деятельности и мышления, человеческой психики, которые могут привести и с жестокой необходимостью приводят сначала к различным отклонениям от нормы, а затем и к полному распаду человеческой личности. Разумеется, такое средство человеческой жизнедеятельности, как речь нельзя отнять у человека так же, как и его землю. Но и сама речь человека, лишенного средств для человеческой жизни и надежды обрести их когда-либо вновь, превращается в бессвязное бормотание обитателя Бедлама. Поэтому не так уж и далек от истины экспроприированный своими дочерьми шекспировский король, когда он, повстречав на дороге другого, экспроприированного своим братом, беднягу, восклицает: «Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Ни шелка от шелковичного червя, ни воловьей кожи, ни овечьей шерсти, ни душистой струи от мускусной кошки! Все мы с вами поддельные, а он – настоящий. Неприкрашенный человек – и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего.»30 До тех пор пока, как это было в докапиталистической Европе, у объединенных в общину крестьян господствует непосредственная общая собственность на землю, до тех пор господствуют «отношения работника к земле как к природному условию производства, к которому он относится как к своему собственному неорганическому наличному бытию, как к лаборатории своих сил и к той области, где господствует его воля»31. Поэтому земля – основное средство производства в эту эпоху – выступает как вещь непосредственно антропоморфная, как естественное продолжение тела, обрабатывающего ее работника. Она столь же послушна его воле, как его рука или нога. Крестьянин буквально «чувствует» свою землю. Совсем иную картину мы застаем в Новое время, когда трещина отчуждения уже расколола это мыслящее тело человека. Формально воля человека все еще относится к своему собственному органическому телу как к сфере своего господства. Более того, с ликвидацией феодальной зависимости воля отдельного индивида становится абсолютно, абстрактно свободной как никогда прежде. Однако посмотрим чего эта воля может теперь желать, какие определения она может абстрактно свободно положить в себя? Для того, чтобы жить по-человечески, а к другой жизни человек не приспособлен, человек должен с помощью материальных человеческих орудий воздействовать на живую и неживую природу, добывая себе из нее средства своего существования. Следовательно, первейшее определение человеческой воли должно побуждать человека к труду как необходимой предпосылке человеческого существования. Однако именно этого, настоятельнейшего пожелания своей воли человек как раз и не может исполнить в силу того, что он отчужден от материальных средств производства своей жизни. Он «свободен» пойти направо или пойти налево, покуда его еще несут его голодные ноги, но он не способен жить, ибо для человеческой жизни его природное органическое тело само по себе еще недостаточно. Поэтому единственное, что ему остается, это продать свою способность к труду собственнику средств производства и тем самым эмпирически реализовать «мистическую» картезианскую абстракцию немыслящего протяженного машинообразного тела и мыслящей непротяженной души, наделенной абстрактной свободой воли. Так человек, лишаясь своего неорганического тела, лишается и своего собственного органического тела, будучи вновь и вновь вынуждаем социальными обстоятельствами передавать право распоряжаться «машиной» своего собственного тела безличной воле капитала, так между протяженной субстанцией его порабощенного тела и непротяженной абстрактно свободной душей не остается буквально ничего общего. Естественно, что эту пропасть не заполнить никакими животными духами и никакими словесными увертками с помощью «информации» и «нейродинамических кодов», ибо практические предпосылки объективных теоретических иллюзий не могут быть устранены 12 чисто теоретическими спекуляциями. Разумеется, мы не утверждаем, что формулируя свое дуалистическое понимание природы человека Рене Декарт метафорически изображал саморазорванность человека Нового времени. Разумеется, в своем становлении и развитии картезианская антропология опосредовалось всей предшествующей историей научно-философской разработки понятия человека от античности до средневековой схоластики. Но мы утверждаем, что именно конкретно-исторический социальный образ, всеобщаяI физиономия его современника, схваченные культурно (в том числе эстетически и нравственно) развитым воображением философа, только и могли послужить тем образом целого, которое определило вектор и способ переработки теоретического наследства, доставшегося Декарту от античности и средневековья. То направление и тот способ, которые в конечном итоге и привели Декарта от представления о всего лишь различии тела и души к представлению об их абстрактной, несоединимой противоположности. И если сбросить со счетов эту действительную историческую предпосылку, воспроизводящую себя во все более широких масштабах все три столетия, отделяющий нас от Декарта, то совершенно необъяснимым станет факт удивительной живучести картезианского дуализма, который не только не обнаруживает признаков старческого одряхления, но вербует себе все новых и новых сторонников в таких науках, как кибернетика и нейрофизиология, вплоть до новомодной «cognitive science». Столь же необъяснимой будет и та специфическая точка зрения, которая, опираясь на чисто картезианское представление о материи как абстрактно-протяженной субстанции, закрывает глаза на логическую необходимость дополнить ее односторонность бестелесной душой и в результате, уже в противоречие Декарту, не без пафоса провозглашает, что человек есть машина, только машина и ничего кроме машины. (Сравни известные рассуждения Сталина и Мао-цзе-Дуна о человеке-винтике). Выше уже отмечалось, что само сопоставление человека с машиной характерно именно для Нового времени. Позднее, после Декарта, такое сопоставление станет общераспространенным и в XVIII веке будет даже отмечено целым философским трактатом Ламетри, который просто и без затей назовет его – «Человек – машина». Ну, а если проследить данную тенденцию дальше, в ХХ век, когда отождествлять человека с машиной стало своего рода «хорошим тоном» для бихевиористов и кибернетиков, всерьез озабоченных конструированием машины «умней и талантливей человека», то придется признать, что Декарт действительно очень точно схватил объективную историческую тенденцию в понимании природы человека. Как машина вообще могла появиться в философской антропологии? Дабы ответить на этот вопрос посмотрим как она прежде появилась в реальной действительности. «Не требуется особой проницательности, - писал Маркс, - чтобы понять, что отправляясь, например, от возникшего из разложения крепостничества свободного труда, т.е. от наемного труда, машины могут возникнуть лишь в рамках противоположности по отношению к живому труду, как чужая для него собственность и враждебная ему сила; другими словами, что машина должна противостоять рабочему как капитал»32. Иначе говоря, машина, появляясь на исторической арене, является миру не как безразличная для человека или даже полезная ему вещь, но как враждебно противостоящая ему сила. Как сила, обладающая своей враждебной ему волей, за которой лишь историческое развитие обнаруживает волю капитала, как общественного отношения. Как вещь непосредственно антропоморфная и в этом качестве вполне сопоставимая с человеком. Ну, а теоретические выводы из такого сопоставления уже находятся в непосредственной зависимости от степени развитости самого капитала. Для Декарта, который жил в XVII веке на заре капиталистической эпохи, вывод о I Всеобщая в диалектическом смысле, т.е. отнюдь не общая всем даже в такой развитой буржуазной стране XVII века, как Голландия. 13 нетождественности человека и машины был еще самоочевиден. И никто из его современников, даже из числа его философских оппонентов не пытался оспаривать этого его положения. Радикально противоположную картину мы застаем в ХХ веке. Здесь множеству исследователей человека столь же самоочевидным представляется тезис о полной тождественности машины и человека. Так что же произошло за те три столетия, которые отделяют нас от Декарта, что здравый смысл, диктующий нам что, самоочевидно, а что надо еще доказывать, диаметрально изменил свою точку зрения на указанную проблему. Обратимся вновь к «Капиталу». «Вся система капиталистического производства основывается на том, что рабочий продает свою рабочую силу как товар. Разделение труда делает эту рабочую силу односторонней, превращая ее в совершенно частичное искусство управлять отдельным частичным орудием»33. Человек, включенный в систему капиталистического производства, утрачивает, таким образом, свое главное родовое определение – быть субъектом труда универсального. Его труд становится односторонним и машинообразным, а сам он вследствие этого утрачивает свое действительное отличие от конечной машины. Таким образом, первично отчужденный труд «превращает в машину»34 человека совершенно реально, и уже только во вторую очередь это превращение совершается идеально в современных рефлектологических теориях. Утрачивая свою универсальность, человеческая деятельность неизбежно теряет и другое свое сущностное определение – свободу. «Машинный труд, до крайней степени захватывая нервную систему, подавляет многостороннюю игру мускулов и отнимает у человека всякую возможности свободной физической и духовной деятельности»35. Однако свобода и универсальность не исчезают вовсе. Отчуждаясь от человека, они становятся определениями машины, машины капиталистического производства, капитала. «То, что теряют частичные рабочие, сосредоточивается в противовес им в капитале»36. Машина становится существом одушевленным ровно в той же степени, в какой человек низводится до уровня частичного придатка частичной машины. Что же происходит с человеком, отчужденным от своего неорганического тела, когда он в силу принудительной необходимости отправляется на рынок труда, чтобы продать свою рабочую силу? Выше уже говорилось, что трещина дуализма расколола подлинное мыслящее тело человека уже в тот момент, когда он в историческом процессе первоначального накопления капитала лишился материальных средств своей жизнедеятельности. Однако, оставшаяся в его распоряжении часть, его живое человеческое тело, наделенное человеческими способностями – «душой», так же не может остаться целостным после этой операции. Трещины дуализма начинают раскалывать и его, наполняя прозаической реальностью картезианские абстракции тела и души, а затем идут и дальше, раскалывая, разрывая на части уже саму человеческую душуI. При капитализме акт купли-продажи составляет имманентную предпосылку процесса производства. Но в этом акте рабочий продает нанимателю не себя как целостную личность (тогда бы он превратился просто в его раба), но только свою абстрактную способность к труду – рабочую силу. А для этого он должен отличать себя как личность от своей рабочей силы, относиться к ней, причем, относиться как к чему-то внешнему и чуждому себеII. В то же время «как личность он постоянно должен сохранять отношение к своей рабочей силе как к своей собственности…»37. «Под рабочей силой, как способностью к труду, - пишет Маркс, - мы понимаем совоI Феномен так называемого «разорванного сознания», впервые изображенный Д.Дидро в «Племяннике Рамо», Гегель считал типичным именно для нового времени. II. Интересно отметить, что особенность, отличающая деятельность наемного рабочего от труда непосредственного собственника средств производства по ее психологическому содержанию – характеру реальных мотивов, своеобразно отражена обыденным сознанием в представлении о том, что наемнику свойственно работать «без души». Так в буржуазную эпоху даже обыденное сознание становится картезианским. 14 купность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительские стоимости.»38 Но капиталистический способ производства, по крайней мере на индустриальном этапе своего развития, характеризуется тенденцией элиминировать необходимость в «духовных способностях» и свести труд непосредственного производителя, а следовательно, и рабочую силу, способную его выполнять, к возможно более простому и машинообразному виду. «Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и господствующая над ним сила. Этот процесс отделения начинается в простой кооперации, где капиталист по отношению к рабочему представляет единство и волю общественного трудового организма. Он развивается далее в мануфактуре, которая уродует рабочего, превращая его в частичного рабочего. Он завершается в крупной промышленности, которая отделяет науку, как самостоятельную потенцию производства, от труда и заставляет ее служить капиталу. В мануфактуре обогащение совокупного рабочего, а следовательно, и капитала общественными производительными силам обусловлено обеднением рабочего индивидуальными производительными силами.»39 И далее Маркс цитирует Фергюсона, который пишет: «Невежество есть мать промышленности, как и суеверий. Сила размышления и воображения подвержена ошибкам; но привычка двигать рукой или ногой не зависит от того и другого. Поэтому мануфактуры лучше всего процветают там, где наиболее подавлена духовная жизнь, так что мастерская может рассматриваться как машина, части которой составляют люди.»40 Так капитал действием своих имманентных законов приводит к тому, что «духовная субстанция» полностью отделяется от «субстанции протяженной», так картезианская абстракция чисто протяженного немыслящего тела обретает реальность в повседневной индустриальной действительности. Тем же актом продажи своей рабочей силы рабочий полагает себя как бестелесное существо, дух, обладающий абстрактной свободой воли. Как бестелесное существо, дух – ибо телесность-то как раз и отчуждается в акте купли-продажи рабочей силы. Как дух, обладающий свободой воли, ибо для того, чтобы заключать такие сделки, надо выступать в качестве юридического лица, свободная воля которого распространяется на рабочую силу как на свою собственность. Как дух, обладающий абстрактной свободой воли, ибо вся его свобода заключается в чисто умозрительной, абстрактной возможности не продавать ее вовсе и «свободно» подохнуть с голоду. *** Так обнаруживается, что психофизический дуализм был заложен в основание науки о человеке не злой волей Декарта, но объективными историческими законами развития самого человекаI. Так через критику общественных отношений раскрывается тайна поразительной живучести психофизического дуализма в современной психологии. Так снова подтверждается мысль Маркса, что «история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией…»41. Некоторые направления современной психологии, стремясь встать на монистические, материалистические и естественнонаучные позиции, препарируют систему Декарта, извлекая из нее рефлекторный принцип и отбрасывают картезианскую бестелесную душу как ненужный хлам. Однако такая «материалистическая революция» на деле приводит лишь к закреплению в теории исторически преходящего, а потому в контексте исторического развиI На предыдущих этапах человеческой истории дуализм тела и души либо вовсе отсутствовал, либо выступал в менее развитой форме различия, но еще не абстрактной противоположности двух начал в человеческой природе, как раз потому, что эти эпохи характеризовались иным, чем при капитализме, отношением человека к человеку и человека к природе, - конкретно – иными формами собственности на средства производства. 15 тия иллюзорного, образа человека буржуазного общества (притом, взятого с его страдательной, нереволюционной стороны) в качестве понятия человека вообще, человека как такового, а это и есть не что иное, как чистейшей воды идеализм. Так механистический материализм немедленно переходит в свою спиритуалистическую противоположность, когда с его позиций пытаются рассуждать о человеке. В XX веке (напоминаю, что это текст был написан в 1982 году – А.С.) эту простую истину стоило бы усвоить тем более основательно, что чуждый диалектике материализм в наше время все больше теряет кредит и в самих естественных науках. Психология правомерно стремится (сегодня возможно уместнее было бы прошедшее время этого глагола) преодолеть умозрительный, спекулятивный характер своих построений, поставить их на твердую естественнонаучную основу. Однако, пытаясь искать естественную, природную основу человеческой психики в рефлекторных механизмах головного мозга, она как раз и придает человеческой психике сверхъестественный, фантастический характер. Человеческая психика может быть понята только через анализ естественноисторических законов возникновения и развития человеческой культуры, а эти законы есть ближайшим образом законы развития «промышленности». «Промышленность является действительным историческим отношением природы, а следовательно, и естествознания к человеку. Поэтому если ее рассматривать как экзотерическое раскрытие человеческих сущностных сил, то понятна станет и человеческая сущность природы, или природная сущность человека; в результате этого естествознание утратит свое абстрактно материальное или, вернее, идеалистическое направление и станет основой человеческой науки… Становящаяся в человеческой истории – этом акте возникновения человеческого общества – природа является действительной природой человека; поэтому природа, какой она становится – хотя и в отчужденной форме – благодаря промышленности, есть истинная антропологическая природа42». Таким образом, только через теоретическую и практическую критику общественных отношений может быть устранена абстрактная противоположность тела и души, которая в форме психофизической, психофизиологической, социально-биологической и т.п. «проблем» до сих пор остаются камнем преткновения для попыток построить целостную психологическую теорию. «… только в общественном состоянии субъективизм и объективизм, спиритуализм и материализм, деятельность и страдание утрачивают свое противопоставление друг другу, а тем самым и свое бытие в качестве таких противоположностей; мы видим, что разрешение теоретических противоположностей само оказывается возможным только практическим путем, только посредством практической энергии людей, и что поэтому их разрешение отнюдь не является задачей только познания, а представляет собой действительную жизненную задачу, которую философия (и психология, добавим мы – А.С.) не могла разрешить именно потому, что она видела в ней только теоретическую задачу43». *** Здесь в моем тексте стояла точка, и, уже рукой В.В.Давыдова, было дописано: «Это положение Маркса необходимо глубоко осознать всем психологам, строящим свою науку на диалектико-материалистических основаниях.» Надо признаться, эта приписка весьма смутила меня. Студент 3 курса, дающий указания профессиональному сообществу как надо строить науку, зрелище не для слабонервных. Но и спорить с В.В.Давыдовым, язык не поворачивался. Впрочем, трудность вскоре разрешилась сама собой… (Описанные события происходили в 1980 году, и, естественно, предметом теоретического анализа, коль скоро речь шла о «современной» психологии, нейрофизиологии и кибернетике, являлись работы преимущественно советских авторов. Столь же естественно, что теоретические выводы, т.е. анализ общественно-исторических корней картезианского дуализма, в полной мере относились мной не только к истокам теоретических позиций Скиннера или Шеррингтона, но и в первую очередь к теоретизированию советских психологов и физиологов. 16 Надо ли говорить, что тотально отчужденный характер труда при так называемом «реальном социализме» был самоочевиден для всякого, кто вообще был знаком с этой марксовой категорией. И, наконец, надо ли говорить, что занятие наукой в те приснопамятные годы предполагало принятие некоторых «правил игры», диктовавшихся политической ситуацией и даже не научной, а просто человеческой совестью. Правил игры, предполагавших, что рецензент не обязан видеть актуальный политический подтекст, даже если он и содержался в теоретической работе, посвященной мыслителю XVII века. И, уж во всяком случае, не обязан доносить о своих находках.) Итак, я поставил точку в своей курсовой, получил за нее свой честно заработанный зачет, а заодно предложение В.В.Давыдова (тогда главного редактора) опубликовать ее в «Вопросах психологии». Нетрудно догадаться, как я был счастлив такой оценке своего первого в жизни научного текста. Но долго радоваться не пришлось. Сначала некто, обнаружив на рукописи пометку «Факультет психологии МГУ» поспешил навести справки об авторе. «Некто» явно располагал доступом к информации недоступной простым смертным, ибо прямым следствием его изысканий стали «дружеские» намеки тогдашнего декана психфака В.В.Давыдову, что тот сделал неправильный выбор, взявшись быть научным руководителем столь опасного диссидента. В.В.Давыдов не испугался. Тогда доброжелатели стали действовать более надежными средствами. После того, как на рукопись было получено две положительные рецензии - академиков В.В.Давыдова и А.В.Петровского – её отдали более понятливому рецензенту. И – этот рецензент – написал «отзыв» в том отработанном в советские годы жанре, который в просторечии именуется доносом. План сработал. Статья пошла не в журнал, а в мое «Дело» на Лубянке, где она, видимо, хранится и поныне. Что же В.В.Давыдов? Вскоре после описанной выше истории он вновь выручил меня из беды, когда меня в очередной раз пытались отчислить из МГУ. И, вот, когда и над ним самим сгустились тучи, а я был, наконец, успешно отчислен с последнего курса, он вновь не испугался, и пригласил меня за отсутствием директорского кабинета к себе домой с тем, чтобы сказать мне - недоучившемуся опальному студенту, а в тот момент пожарнику орденоносного театра им. Ленинского Комсомола – дружеские обнадеживающие слова и засадить за теоретическое исследование, ставшее главным смыслом моей научной жизни. Спасибо ему. 1 Декарт Р. Избранные произведения. М.,1950,с.448. 2 Декарт Р. Избранные произведения. М.,1950,с.449. 3 См., например: Воронин Л.Г. Физиология высшей нервной деятельности. М.,1979,с.7, 256, 300. 4 Асратян Э.А. в кн. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности /поведения/ животных. М.,1973,с.612. 5 Коган А. Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности. М., 1959, с. 11 6 Воронин Д. Г. Физиология высшей нервной деятельности. М., 1979, с. 7. 7 Там же, с. 300. 8 Шеррингтон Ч. Интегративная деятельность нервной системы. Л., 1969, с. 28. 9 Анохин П. К. От Декарта к Павлову. М., 1945, с. 30. 10 Декарт Р. избранные произведения. М., 1950, с. 293. 11 Гегель Г. Энциклопедия философских наук, т. 1, М., 1974, с. 233. 12 См.: Амосов Н. М. Моделирование мышления и психики. Киев, 1965. 13 Васильев И. Науменко Л. Три века бессмертия. - Коммунист, 1977, с. 66. 14 Там же. 17 15 Гегель Г. Гегель Г. Энциклопедия философских наук, т. 1, М., 1974, с. 231. 16 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 300. 17 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 301. 18 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 301. 19 Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М.,1960, с.11. 20 Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. Киев, 1950, с.5. 21 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 301. 22 См.: Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., 1971 и его же: Информация, сознание, мозг. М.,1980. 23 Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 1976, с.42. 24 См. Ильенков Э.В. Проблема идеального. Вопросы философии, 1979, № 6, 7. 25 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 265. 26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 265. 27 Маркс К. Капитал, т.I, М., 1978, с.726. 28 Маркс К. Капитал, т.I, М., 1978, с.728. 29 Маркс К. Капитал, т.I, М., 1978, с.729-730. 30 Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 томах. М., 1960, т.6, с. 501. 31 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч.I, с. 487. 32 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч.II, с. 348. 33 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.441. 34 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 98. 35 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.434. 36 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.374. 37 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.178. 38 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.178. 39 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.374. 40 Маркс К. Капитал, т. I, М., 1978, с.374. 41 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 123. 42 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 124. 43 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 123.