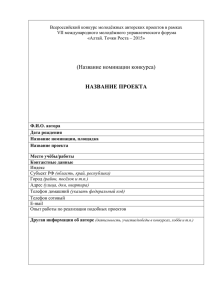Теркулов В.И. Номинатема_опыт определения и
advertisement
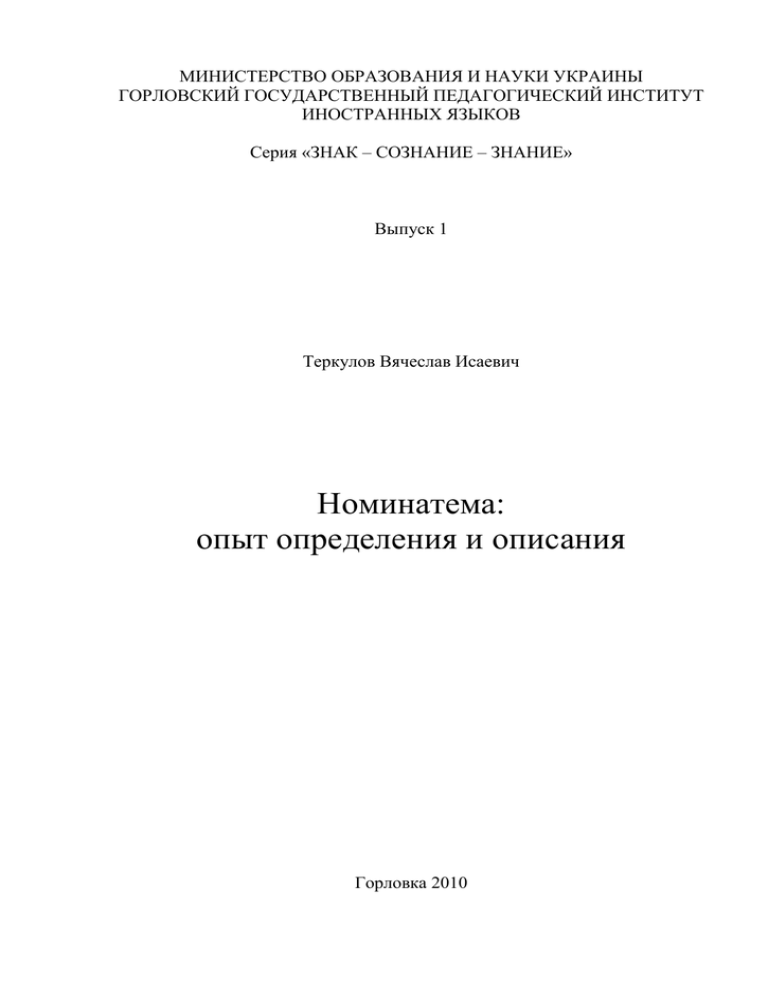
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ГОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Серия «ЗНАК – СОЗНАНИЕ – ЗНАНИЕ» Выпуск 1 Теркулов Вячеслав Исаевич Номинатема: опыт определения и описания Горловка 2010 ББК 81.0 УДК 81'371 – 81'367.7 Т Т Теркулов В.И. Номинатема : опыт определения и описания / В. И. Теркулов / научн. редактор М. В. Пименова. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – ___ с. – (Серия «Знак – Сознание – Знание»). – Вып. 1. Книга посвящена определению и описанию особенностей функционирования номинатемы, которую автор считает основной номинативной единицей языка. Номинатема рассматривается с точки зрения лингвальной когнитологии или, по-другому, когнитивной лингвальной семиотики. Автор устанавливает следующую схему номинации: «номинатема – концепт как инвариантное значение номинатемы – глосса как реализация номинатемы в речи – лексическое значение глоссы как референция и коагуляция концепта – референт». В книге рассматриваются модели речевого модифицирования номинатемы и формирования новых номинатем. Книга предназначена для филологов, культурологов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами воплощения знания в знаках языка. Научный редактор: член-корреспондент Сибирской Академии Наук Высшей Школы, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего языкознания и славянских языков Кемеровского государственного университета М.В. Пименова. Рецензенты: Зав. кафедрой английской филологии Волгоградского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор В.И. Карасик Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института Г.Н. Манаенко Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Витебского государственного университета им. П. М. Машерова В.А. Маслова Печатается по решению ученого совета Горловского государственного педагогического института иностранных языков (протокол №_ от __) ISBN © В.И Теркулов © ГГПИИЯ 2 ВВЕДЕНИЕ 5 ОТ АВТОРА КАРАСИК В.И. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.И.ТЕРКУЛОВА «НОМИНАТЕМА : ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ» МАНАЕНКО Г.Н. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.И. ТЕРКУЛОВА «НОМИНАТЕМА: ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ» 5 14 ГЛАВА 1. О ЛИНГВАЛЬНОМ СТАТУСЕ КОНЦЕПТОВ 23 ГЛАВА 2. ДИСКУССИЯ О БАЗОВОЙ НОМИНАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕ 40 2.1. РЕЧЕВАЯ И ЯЗЫКОВАЯ НОМИНАЦИЯ 2.2. СЛОВОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ БАЗОВОЙ НОМИНАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ 2.3. НЕСЛОВОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ БАЗОВОЙ НОМИНАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ 40 53 75 ГЛАВА 3. КОНЦЕПТ КАК ИНВАРИАНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 87 16 3.1. СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА 3.2. ПОНЯТИЕ ИНВАРИАНТА 3.3. ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА 3.4. ВОПРОС О СТАТУСЕ СВОБОДНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 87 97 110 135 ГЛАВА 4. ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ 158 4.1. ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МОТИВАЦИИ. ДЕРИВАЦИЯ И ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ 4.2. ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ 4.3. НОМИНАТЕМА С ДОМИНАНТОЙ СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ 4.4. ПОНЯТИЕ УНИВЕРБАЛИЗАЦИИ 158 173 181 193 ГЛАВА 5. ФОРМЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НОМИНАТЕМЫ 219 5.1. О СООТНОШЕНИИ ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ ГЛОССЫ 5.2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛОССЫ И ФОНЕТИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ 5.3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛОССЫ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ 219 221 229 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 253 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 263 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 304 3 Известно, что семантическая система представляет собой систему знаков с номинативными и коммуникативными функциями. Если номинативные единицы репрезентируют реалии, то коммуникативные организуют их в текст. Современная лингвистика получила явный «коммуникативный крен», в то время как исследование номинативной стороны не менее важно. И в этом смысле появление рецензируемой работы В.И. Теркулова актуально для лингвистики. Она посвящена исследованию особенностей функционирования номинатемы, которую автор считает основной номинативной единицей языка. Актуальность и новизна взглядов автора бесспорны. Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Витебского государственного университета им. П. М. Машерова Валентина Авраамовна Маслова 4 ВВЕДЕНИЕ От автора Лингвокогнитология, когнитивная лингвистика стала одним из самых популярных направлений современного языкознания. Н.Н. Болдырев определяет ее как «одно из самых современных и перспективных направлений лингвистических исследований, которое изучает язык в его взаимодействии с различными мыслительными структурами и процессами: вниманием, восприятием, памятью и т.д.» [Болдырев 1998, с. 3]. С этим мнением трудно не согласиться. Сомнение вызывает только стремление некоторых лингвокогнитологов превратить язык, о котором Ф де Соссюр некогда писал, что он, «рассматриваемый в самом себе и для себя», является «единственным и истинным объектом лингвистики» [Соссюр 1977, с. 269], в нечто вспомогательное, а значит – второстепенное для языковедения. В исследованиях представителей данной научной отрасли он часто воспринимается не столько как предмет изучения, сколько как средство изучения концептов. Даже наиболее близкое к собственно лингвистическим студиям семантико-когнитивное направление этой науки, представленное работами А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, Г. В. Быковой, Е.С. Кубряковой, 3.Д. Поповой, И.А. Стернина, Е.В. Рахилиной и др.1, по свидетельству 3.Д. Поповой и И.А. Стернина, ставит своей задачей не «исследование лексической и грамматической семантики языка», а «исследование лексической и грамматической семантики языка как средства доступа к содержанию концептов, как средства их моделирования от семантики языка к концептосфере» (выделено мной. – В.Т.» [Попова 2006, с. 7]. Как пишет В.А. Маслова, «когнитивная лингвистика, вкупе с когнитивной психологией и когнитивной социологией, образующие когнитологию, пытаются ответить на вопрос о том, как в принципе организовано сознание человека, как человек познает мир, какие сведения о мире становятся Замечу, правда: я не уверен в том, что все упомянутые ученые стремятся только использовать язык как повод для изучения концептов, о чем и постараюсь рассказать ниже. 1 5 знанием, как создаются ментальные пространства» [Маслова 2004, с. 8]. Иначе говоря, лингвокогнитология существует в представлении некоторых лингвистов лишь как одна из составляющих когнитологии, отличающаяся от остальных ее составляющих только путем проникновения в сознание человека – через язык. Как видим, места для исследования самого языка здесь не осталось, что вызывает у меня как у традиционно сориентированного лингвиста некоторую растерянность. Мне все-таки хочется вернуться к языку как к единственному объекту лингвистики, правда, уже проведенному через фильтры когнитивного подхода. И, скажем прямо, такой путь все-таки достаточно что базовой единицей популярен в современном языкознании. Напомню, лингвокогнитологии является концепт. Наиболее авторитетная и в то же время наиболее широкая трактовка концепта определяет его как «термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; это оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [Кубрякова 1997, с. 90]. Язык же при этом «осмысливается в наши дни как обусловленное культурой и переживаемое в индивидуальном сознании знание о мире2 (выделено мной. – В.Т.), проявляющееся в коммуникативной деятельности» [Карасик 2007, с. 4]. Логика подсказывает, что совмещение двух указанных утверждений должно привести нас к предварительному выводу о том, что концепт является элементом языковой структуры. В связи с этим очень важным становится определение статуса концепта в языке и описание его не просто как ментальной единицы, а как языкового конструкта. Концепт, воплощаясь в языке, создает мир языковых сущностей и, вследствие этого, создает мир Несколько позже я уточню это утверждение. В моем представлении лингвальное знание о мире само по себе является миром (см. гл. 1). 2 6 социума, что, как мне кажется, подтверждается фразой К.К.М. Клакхона: «Человек видит и слышит только то, к чему его делает чувствительным грамматическая система его языка, то, что она приучила его ждать от восприятия… Человек, выросший в той или иной языковой среде, воспринимает последнюю как часть самой природы вещей, всегда остающихся на уровне фоновых явлений» [Клакхон 1998, с. 190]. Именно поэтому в предлагаемой Вашему вниманию работе концепт рассматривается не столько как достояние психики человека, что, отмечу, абсолютно справедливо и мною ни в коем случае не оспаривается, сколько как языковая инфраструктура, центр семантической и формальной организации языка, определяющий границы и формы существования языковых знаков. Это – одна из функций концепта, правда, на мой взгляд – взгляд, как я уже говорил, традиционно сориентированного лингвиста, – самая важная из всех возможных его функций. Задача описания концепта как языкового конструкта и сформировала идею создания новой научной серии «Знак – Сознание – Знание», настроенной не на описание концептов через язык, а на описание языка через концепты. Вопреки приведенному выше мнению 3.Д. Поповой и И.А. Стернина, можно утверждать, что лингвокогнитология, в одном из наиболее перспективном, как мне видится, из своих направлений, которое я рекомендую назвать лингвальной когнитологией или когнитивной лингвальной семиотикой, все же обращается к когнитивному исследованию именно языка, а не того, что находится за его пределами. В этом направлении, представленном работами Е.С. Кубряковой, посвященными проблемам когнитивной трактовки процессов номинации и деривации [Кубрякова 1981; Кубрякова 1986; Кубрякова 2004], М.В. Пименовой, рассматривающей особенности формирования лингвальных когнитивных классов [Пименова 2001; Пименова 2004], Н.Н. Болдырева, изучающего проблемы когнитивной семантики [Болдырев 2000], Е.А. Селивановой, описывающей особенности когнитивной ономасиологии, 7 фразеологии Селіванова и дериватологии 2004], А.М. [Селіванова Эмировой, 1996; Селиванова рассматривающей 2000; когнитивно- коммуникативный аспект фразеологии [Эмирова], и мн. др., объединяется собственно когнитивная лингвистика, исследующая связи между номинативной единицей и вещью, контенсивная лингвистика, изучающая семантические «прототипы» – модальность, залоговость, темпоральность и под., и концептуальная лингвистика, изучающая собственно концепты [Колесов 2005, с. 16]. При этом важным моментом является включение в систему конструктов лингвальной когнитологии (когнитивной лингвальной семиотики) традиционной лингвистики, которая и становится поставщиком первичных сведений о языковой системе. Базовый постулат методологии «лингвальной когнитологии» (конечно же, без употребления данного наименования) был выведен Е.С. Кубряковой, которая утверждала, что «каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [Кубрякова 2004-1, с. 16]. В связи с этим, цель описываемого в пределах предлагаемой серии направления когнитивной лингвистики состоит в том, чтобы «не только поставить в соответствие каждой языковой форме ее когнитивный аналог, ее концептуальную или когнитивную структуры (объясняя тем самым значение или содержание формы через определенную когнитивную структуру, структуру мнения или знания), но и объяснить причины выбора или создания данной «упаковки» для данного содержания (выделено мною. – В.Т.)» [Кубрякова 2004-1, с. 16], то есть установить тактики формирования наименования и процессов коагуляции. Данный путь, на мой взгляд, перспективен. Как отмечал Н.Н. Болдырев, исследования языка, построенные на осознании его как когнитивной сущности, «приводят к новому осмыслению и пониманию многих традиционных проблем языкознания, таких как: природа и структура языка, проблема частей речи, соотношение семантики и синтаксиса, значения и смысла, вопросы полисемии и 8 производности значений и многие другие. Все эти проблемы получают адекватное объяснение концептуализации и в рамках категоризации, теорий когнитивных прототипической и моделей, фреймовой семантики, то есть в русле решения основных проблем когнитивной лингвистики» [Болдырев 2001, с. 30]. Такие изыскания настроены на изучении языка уже не столько как математической структуры, сколько как мира существования человека. И в этом смысле «рассматриваемый в самом себе и для себя» язык учитывает и нахождение в нем человека как создателя мира лингвальных существований. Название предлагаемой вниманию уважаемого читателя серии («Знак – Сознание – Знание») мне подсказала фраза профессора Ставропольского пединститута Г.Н. Манаенко: «Языковое произведение (текст) выступает в качестве основы для координации знаний участников коммуникации. Значение же языкового выражения в таком случае предстает как доступ к сознанию» [Манаенко 2009, с. 39]3. Мне тут явно не хватало «знака», который я и добавил, предполагая, что именно к нему стремился Геннадий Николаевич. По моему мнению, знак представляет собой объективированное сознание (концептосферу) человека, основанное на лингвальном знании (лингвоконцепт), то есть сформированном языком знании о мире, которое, в свою очередь, является миром лингвального бытия человека. Точно так же, как мне кажется, толковал соотношение указанных сущностей и В.В. Колесов, писавший, что «путь от символа в концепт лежит не через знание ("всё известно") или познание (номинализм), а через сознание (реализм), ибо это – не объяснение и не переименование, а преображение в содержательных формах концептуального квадрата» [Колесов 1999]. Напомню, что квантом знания и является, в сущности, концепт. Таким образом, именно символ, знак продуцирует преломленное через сознание концептуальное знание. Отмечу во избежание недоразумений, что с некоторыми утверждениями Г.Н. Манаенко, касающимися предмета моего исследования, я абсолютно не согласен, но это не значит, что я не предполагаю, что прав не я, а он. Мы спорим, и я рад этому, поскольку с такими людьми и спорить приятно. Хотя бы потому, что в таком споре понимаешь – он нужен не для того, чтобы определить победителя, а для поиска пресловутой истины. 3 9 Формы существования научной серии «Знак – Сознание – Знание» предполагаются самые разнообразные. Логичным, однако, будет начать ее с монографической работы, в которой должны быть изложены если не основы лингвального подхода к концептосфере языка, то хотя бы основные понятия, определяющие пути лингвальных исследований лингвокогнитологии. И таким основным понятием является, на мой взгляд, представление о базовой номинативной единице языка, единице, которая может быть напрямую связана с концептом, то есть выступать в качестве базового его воплощения. Эту единицу я называю номинатемой. Термин «номинатема» в том значении, о котором говорится здесь, был употреблен в моей первой монографии – Теркулов В. И. Слово и номинатема: опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2007. – 240 с. [Теркулов 2007]. Именно поэтому я своей волей и определил необходимость начала серии именно с моей монографии, посвященной описанию данного явления. Я надеюсь, что это будет заявкой на установление объекта дискуссий, которые, как мне желается, будут представлены в следующих выпусках серии. Кстати, следующий выпуск будет привязан к конференции «Лингвокогнитология и языковые структуры», которая состоится в рамках IV Международной Летней научной школы «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования: русский мир и восточнославянская ментальность». Эта школа, проводимая совместно Горловским государственным педагогическим институтом иностранных языков, Кемеровским региональным отделением Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов и Международной распределенной лабораторией когнитивной лингвистики и концептуальных исследований (ЛКЛиКИ) под руководством профессора М.В. Пименовой и при моем деятельном участии, пройдет в июне-июле 2010 года на базе Горловского государственного педагогического института иностранных языков на берегу Азовского моря и станет поводом для обсуждения тех 10 проблем, которые вынесены в название серии и описаны в предлагаемой Вашему вниманию монографии. Отмечу, что предлагаемая вниманию читателя монография мыслилась как второе издание «Слова и номинатемы», исправленное и переработанное. Однако работа по исправлению и переработке привела к возникновению новой по идеологии книги. Если «Слово и номинатема» стремилось к тому, чтобы дать структурное исследование стремиться описание к номинатемы, трактовке то этого предлагаемое феномена с лингвокогнитологической точки зрения. Я, однако, все же желал хотя бы в названии сохранить связь двух книг, и поэтому пошел по наиболее простому пути – пути сокращения этого самого названия. «Слово и номинатема» сократилось до «Номинатема», поскольку слову в моем исследовании окончательно и бесповоротно отказано в языковом (в соссюровском понимании этого термина) статусе, а «опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка» сократился вначале до «опыт описания», а потом, когда я осознал, что перед описанием неплохо было бы дать и определение, превратился в «опыт определения и описания». Нужно сразу сказать, что представляемый на суд читателя опус некоторые знающие люди еще до его подписания в печать обозначили достаточно неприятными для меня наименованиями «схоластика» и «софистика», что кажется мне значимым, поскольку, по моему стойкому убеждению, указанные сущности вряд ли можно рассматривать как лежащие в одном ряду. Я не случайно упомянул здесь мнение некоторых знающих людей, поскольку, как подсказали мне другие знающие люди, правда, в иной области – книгоиздательской, для коммерческого успеха любой книги необходимо, чтобы в ней была загадка, которая решается в ее финале. Вот и для Вас, уважаемый читатель, будет интрига. Вы достойны того, чтобы самостоятельно определить, что же лежит в основе системы доказательств моей книги – схоластика или софистика. А может, и что-то иное, неведомое мне. Единственное, что я хочу сказать в свое оправдание, так это то, что 11 меньше всего мне хотелось следовать в своих откровениях неким школярским канонам, что, как мне кажется, и подтверждается моим отказом от так любимого школьными грамматиками «слова» как основы номинативной системы языка. А если я и применил какие-то «софистические доводы» в доказательство своих убеждений, то, как знать, – настолько ли они неправильны? Может, неправильны доводы моих оппонентов, которых я, дай Бог им и их близким здоровья и радости, признаю людьми большого ума и высоких нравственных идеалов. В то же время судьба подарила мне знакомство с людьми, которые, будучи не менее значимыми, а может, даже и более значимыми, да нет, точно более значимыми, познакомились с моей книгой и не стали заниматься навешиванием ярлыков, а просто высказали свое мнение о тех или иных моих идеях. Причем, не щадя моего самолюбия. За что я их люблю, ценю и уважаю еще больше, поскольку целью моих изысканий было не самоутверждение себя как таланта, гения и корифея, а поиск ответов на некоторые волнующие меня вопросы. И замечания этих моих оппонентов хоть и не поколебали моей убежденности в моей же правоте, но заставили быть более взвешенным в своих суждениях (что, уважаемый читатель, как Вы видите из текста Введения, дается мне с большим трудом) и показали те аспекты проблемы, над которыми еще необходимо подумать. Вот за это им преогромнейшее спасибо! Родина должна, конечно же, знать имена этих людей. И я удовлетворяю любопытство Родины. Единственное, что я не укажу – это их регалии. Во-первых, вполне возможно, что я не все их знаю. А во-вторых, их имена – это уже предельные концепты. Вряд ли кому-то из тех, кого заинтересовала эта книга, нужно напоминать о том, кто такие М.В. Пименова, В.А. Маслова, В.И. Карасик, Г.Н. Манаенко, Е.А. Селиванова, Е.С. Отин, Л.А. Кудрявцева, В.А. Глущенко, Т.С. Пристайко, Н.П. Тропина, В.М. Калинкин, О.А. Семенюк, И.И. Степанченко и многие другие. Огромное спасибо вам, добрые люди! Особенно – научному консультанту моей докторской диссертации проф. 12 Славянского государственного педагогического университета Владимиру Андреевичу Глущенко – за терпение и понимание. А «самое огромное спасибо»4 человеку, который взял на себя неблагодарный филологических труд наук, редактирования профессору моей КемГУ работы, Марине – доктору Владимировне Пименовой. Она, в общем-то, и подтолкнула меня к идее создания не только монографии, но и серии в целом. И еще одно имя, которое я не могу не вспомнить. Это Евгений Иванович Царенко – доцент кафедры общего и исторического языкознания Донецкого национального университета, который в прошлом году отпраздновал свое семидесятилетие. К этой книге он, вроде бы, прямого отношения не имеет. Но не будь его, не было бы не только этой книги, но и доктора филологических наук В.И. Теркулова. Именно Евгений Иванович был сначала научным руководителем моей дипломной работы, а затем и кандидатской диссертации. Все, что я придумал в своей лингвальной жизни, появилось именно благодаря ему, благодаря тем урокам, которые я запомнил на всю жизнь. Я помню об этом, дорогой Евгений Иванович! И дай Вам Бог здоровья и радостей! Но, как мне кажется, вступительная часть несколько затянулась. Пора приступать к делу. Я все-таки надеюсь, что уважаемого читателя заинтересует и предлагаемая монография, и серия, которая начинается ею. А если так, то до скорой встречи! С наилучшими пожеланиями, В.И. Теркулов. P.S. Прежде чем перейти к основной части книги, я считаю нелишним привести некоторые замечания рецензентов о ее содержании. 4 Так говорят мои соседи по дому – и мне это нравится! 13 Карасик В.И. Рецензия на монографию В.И.Теркулова «Номинатема : опыт определения и описания» Рецензируемая монография представляет собой обоснование нового интегративного подхода к изучению языковой семантики. Суть его состоит в развитии содержательно ориентированного языкознания, построенного на классической соссюрианской дихотомии языка и речи, с учетом и критическим осмыслением достижений когнитивной лингвистики. Базовым понятием, используемым в работе, является номинатема, которая понимается автором как «абстрактная (структурная) языковая единица, представляющая собой модель номинации, независимо от того, в каких субстантных единицах эта модель реализуется». Книга состоит из введения, пяти глав, посвященных понятию о лингвальном статусе концептов, дискуссии о базовой номинативной единице, концепту как инвариантному значению, процессам образования и формирования внутренней структуры номинативных единиц, формам модифицирования номинатемы, и заключения. Говоря о достоинствах рецензируемой монографии, считаю нужным подчеркнуть широкий охват проанализированных концепций и конструктивную критику как различных исследований лексического и фразеологического значения, словообразования и синтаксиса, так и работ в области лингвоконцептологии. Автор последовательно доказывает тезис о продуктивности строго лингвистического подхода к выявлению и описанию концептов с опорой на их разноуровневые языковые проявления. Такая позиция представляется вполне закономерной в связи с реакцией лингвистической общественности на определенные тенденции в развитии когнитивной лингвистики, состоящие в размывании предмета науки о языке. Вообще-то, такое размывание неизбежно и отражает важнейшую характеристику современного гуманитарного знания – интеграцию его 14 различных областей и направлений. Естественно, что стремление сохранить свою научную идентичность заставляет языковедов вернуться к работам своих предшественников и найти в них аргументацию в пользу лингвистического статуса тех феноменов, которые сегодня наиболее активно обсуждаются. Таким феноменом является концепт. Для В.И. Теркулова концепт – это языковая данность, которая может быть адекватно осмыслена и раскрыта при обращении к языковым формам его манифестации, и, прежде всего, – при изучении моделей номинации, заложенных в концепте. Заслуживает внимания предложенная автором схема соотношения номинации онтологического и лингвального миров, в которой противопоставляются три корреляции – баланс между реальностью и ее языковой интерпретацией, перформативное давление такой интерпретации и, наконец, разрыв между внеязыковой и языковой реальностью. Соответственно, автор выделяет три типа концептов – номинативные, перформативные и поэтические. Соглашаясь с этой схемой, я хотел бы подчеркнуть важность креативного компонента в любом типе языкового осмысления действительности, т.е. важность интерпретатора. Здесь обнаруживается уязвимая сторона традиционной семантической теории, которую (при всех критических оговорках) отстаивает автор: в качестве некой условной точки отсчета принимается семантика, а не прагматика языкового знака. Сторонники семантического подхода к языку полагают, что существуют объективные признаки реальности, зафиксированные в значениях языковых единиц и дополняемые субъективными, характеристиками. С прагматическими позиций по прагмалингвистики своей сути, первична коммуникативная практика, которая основана на личностно-ситуативном осмыслении реальности и которую можно моделировать в разных направлениях, и поэтому дихотомия «язык – речь» теряет свою значимость, есть речь, и есть множество возможных концепций ее моделирования, включая и традиционную уровневую модель языка. Стремясь преодолеть 15 ограниченность этой уровневой модели (и выражая должное уважение ее создателям и разработчикам), сторонники коммуникативного подхода к языку обращаются к изучению языкового сознания (например, вербальноассоциативная сеть, по Ю.Н. Караулову) и коммуникативного поведения (изучение общения в его дискурсивной конкретности). Для В.И. Теркулова очевидны слабые места традиционной семантической теории, в монографии последовательно проводится критика словоцентрических теорий номинативной единицы. Автор находит конструктивный выход из жесткой формальной схемы обсуждаемых теорий и предлагает рассматривать глоссы как номинативные языковые единицы, привязанные к контексту и ситуации. Наиболее интересным здесь, на мой взгляд, является тезис автора о мотивации номинатемой ее глосс. В работе детально показаны типы и виды этой мотивации. Таким образом, рецензируемая монография представляет собой глубокое исследование проблем современного языкознания, интегрирует идеи когнитивной характеризуется и структурно-семантической новизной предложенной концепции лингвистики, и несомненно заслуживает опубликования. Зав. кафедрой английской филологии Волгоградского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор В.И. Карасик Манаенко Г.Н. Рецензия на монографию В.И. Теркулова «Номинатема: опыт определения и описания» По природе сознание склонно к использованию языка для выражения мысли, которую надо сообщить кому-то, или же для ее прояснения самому себе. Г. Гийом «Принципы теоретической лингвистики» 16 В современной лингвистике отражаются общекультурные и общенаучные тенденции переосмысления фундаментальных соотношений человека и мира, мира и знания, знания и деятельности. Начиная с изысканий В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни, языкознание стремится к выявлению и объяснению глубинных закономерностей функционирования своего объекта человеческого бытия: «Уже – само возникновения и языка как целостного феномена определение языка как средства коммуникации и, одновременно, уникальной среды, в которой только и находит свое выражение «дух народа», его история и культура, предполагает выход (пока только потенциальный) за пределы описания, систематизации и классификации естественных языков» [Руденко, Прокопенко 1995: 119]. Подчеркнем: выход за установленные ранее, традиционные параметры описания. Идеи же М.М. Бахтина о принципиальной диалогичности языка и становлении языковой формы в непрерывном социальном взаимодействии заметно изменили не только «масштабы» объекта лингвистики, но и координаты его осмысления и описания [см.: Волошинов 2000]. Данные методологические посылки, на наш взгляд, и определяют пафос современной отечественной версии когнитивной лингвистики. В то же время сквозь призму когнитивных идей происходит переосмысление лексического, фразеологического, словообразовательного, синтаксического и т.д. «материала» и теорий, интерпретирующих эти подсистемы в рамках других научных парадигм, в том числе и системоцентрических. Антропологические идеи «оживляют» многие теории, созданные в последние десятилетия, и дают мощный толчок к их развитию. По совершенно «Семасиология справедливому (структурная утверждению семантика) и Н.А. Илюхиной, лингвокогнитивистика соотносятся по объекту – оба направления обращены к смысловому континууму языка / мышления, к структурированию этого континуума, нацелены на выявление типов единиц, закономерностей их воспроизведения 17 и т.д., в том числе во многом обращены к языковой картине мира, к тому, как мир, переработанный сознанием, отражен в системе языка, в лексикосемантической подсистеме» [Илюхина 2009: 34]. И действительно, появление и развитие лингвоконцептологии в отечественной науке не только во многом предвосхищено семантическими исследованиями последних десятилетий, но и характеризовалось в ней эволюцией теоретической концепции лексического значения от дифференциальной теории к интегральной, которая фактически подвела эту категорию к когнитивной категории концепта. И вот перед нами еще один научный труд, посвященный исследованию лингвистической семантики – монография В.И. Теркулова «Номинатема: опыт определения и описания», в которой не только используется в качестве основополагающего теоретического конструкта понятие концепта, но и определяется и описывается функционирование номинатемы как основной номинативной единицы языка. При этом номинатема рассматривается в аспекте разработанной автором концепции «лингвальной когнитологии», или «когнитивной лингвальной семиотики». Что же действительно нового вносит ее автор, В.И. Теркулов, в семантические представления и, в частности, методологию теории номинации? Как отмечается в современной эпистемологии, в случае противоречия между новой интересной теорией и совокупностью твердо установленных фактов лучший способ действий заключается не в устранении теории, а в использовании ее для обнаружения скрытых принципов, ответственных за это противоречие [Фейерабенд 1986: 212]. Такое решение предполагает не только применение к области «твердо установленных фактов» плодотворных и перспективных общенаучных идей, но и поиск нетрадиционных подходов к известным фактам с позиций новых теорий, что, конечно, влечет за собой необходимую коррекцию как самих опорных понятий, так и осмысления их соотношений. Не менее существенным становится выдвижение в качестве исходных теоретических посылок иных теоретических конструктов, последовательное развитие которых, благодаря новизне подхода, позволяет 18 на основе соотнесения с прежним теоретическим видением объекта вскрывать принципы, порождающие противоречия. В современной лингвистической науке разграничиваются образ (картина) мира в сознании членов определенного лингвокультурного сообщества и языковая картина мира как результат описания системного устройства того или иного естественного языка: « … информация, содержащаяся в концептуальной системе, служит как для восприятия (выделения в мире) определенных объектов, так и для выделения языка как особого объекта: осуществляемое концептуальной системой их соотнесение есть кодирование языковыми средствами определенных фрагментов, “кусков” концептуальной системы. Дальнейшее усвоение информации о языке означает усвоение его грамматики как средства оперирования выражениями языка» [Павилёнис 1983: 100–102]. Исходя из данного положения, В.И. Теркулов считает, что в семантической структуре языка репрезентируется два мира: онтологический мир внеязыковых сущностей и лингвальный мир, созданный языком. В авторской концепции именно мир, созданный языком, является миром человеческого существования, и поведение человека, хотя и имеет онтологические рамки, обусловлено законами этого мира (ср. тезис Е.С. Кубряковой: «именно объективация сознания с помощью языка оказывается условием человеческого существования и главной отличительной чертой homo sapiens. <…> появление специального обозначения для сложившейся или складывающейся в голове человека структуры знания позволяет превратить нечто диффузное и дотоле неопределенное в нечто характеризующееся явными границами и выделенное в отдельную сущность» [Кубрякова 2004, с. 306]). И поскольку обозначенное именем знание приобретает свою условную законченность именно в языке, оно, по мнению автора монографии, может быть определено именно как сущность лингвального мира, т.к. «схваченное знаком» знание становится концептом «лингвального» мира – лингвоконцептом – и должно рассматриваться 19 именно как компонент языковой структуры. Представленный в рецензируемой работе критический анализ многочисленных концепций лексического и фразеологического значения, словообразовательных и синтаксических теорий, а также лингвоконцептологических исследований, служит доказательству положения о лингвистической природе концептов, проявленных на разных уровнях языка. Такая позиция представляется вполне логичной и оправданной в силу системоцентрического подхода к изучаемым феноменам – ведь они исследуются именно в языковых координатах. Обоснование языкового статуса концептов необходимо автору для теоретической разработки оригинальной и эвристически привлекательной схемы номинации: номинатема – концепт как инвариантное значение номинатемы – глосса как реализация номинатемы в речи – лексическое значение глоссы как референция и коагуляция концепта – референт. Особо подчеркнем теоретическую значимость понятия «номинатема», которая, по В.И. Теркулову, в своем речевом и в языковом воплощении существует в двух параметрах: в параметре тождества самой себе, который формируется отдельностью от всего другого. При этом в основе тождества номинативной единицы лежит её языковое семантическое тождество, подкрепленное формальной связанностью её речевых модификаций: «Семантическое тождество на уровне языка обеспечивается единым лексикограмматико-семантическим инвариантным, общеконцептуальным, сигнификативным номинативным значением, реализуемым в речи в своих денотативных и коннотативных частных лексико-семантических и грамматических модификациях. Формальная связанность (формальный инвариант) предполагает внутреннюю формальную взаимную мотивированность одной глоссы другою. В этом случае, признавая, что обнаруживаемое в речи речевое лексическое значение глоссы меньше по объему, чем концепт, я отмечаю то, что значения всех глосс одного и того же знака, с одной стороны, обусловлены концептом, а с другой – именно в силу вышесказанного позволяют в той или иной мере описать концепт, 20 схваченным данным знаком. А это позволяет определить место концепта (точнее, его «схваченной части» данной номинатемой. – Г.М.) в структуре знака как место инвариантного, инфраструктурного значения, определяющего возможности референции, то есть обозначения данным знаком элементов онтологического мира (референтов), и коагуляции, то есть актуализации при референции тех или иных аспектов (слотов, сем) инвариантного концепта». Известно, что «познание не движется от наблюдения к теории, а всегда включает в себя оба элемента. Опыт возникает вместе с теоретическими допущениями, а не до них, и опыт без теории столь же не мыслим, как и (предполагаемая) теория без опыта» [Фейерабенд 1986: 310]. Именно поэтому монография В.И. Теркулова безусловно вызовет споры и среди последователей «традиционной» лингвистики, и среди лингвистов- когнитологов, так как в ней, с одной стороны, ставятся проблемы, не относившиеся ранее к вéдению семантики и концептологии, а с другой стороны, многие проблемы лингвистической семантики, решаемые в традиционном плане, здесь освещены по-новому и принципиально иначе. В рецензируемой монографии, интегрирующей семантики когнитивной лингвистики, и многочисленные неординарные идеи, но знания лингвистической содержатся не и тонкого образцы только и проницательного анализа речевого материала, что в целом подтверждает необходимость ее публикации. Список литературы Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка // М.М. Бахтин (под маской). – М.: Лабиринт, 2000. С. 350 – 486. Илюхина Н.А. Семасиология и лингвокогнитивистика: преемственность и методологическое взаимодействие // Язык – текст – дискурс: традиции и новаторство: материалы международной научной конференции: в 2 ч. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2009. Ч. 1. С. 34 – 441. 21 Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки славянской культуры, 2004. Павилёнис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка. – М.: Мысль, 1983. Руденко Д.И., Прокопенко В.В. Философия языка: путь к новой эпистеме // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. С. 118 – 143. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986. Манаенко Г.Н. – д. филол. н., профессор кафедры русского языка Ставропольского государственного педагогического института 22 Глава 1. О ЛИНГВАЛЬНОМ СТАТУСЕ КОНЦЕПТОВ Своей целью когнитивная лингвистика считает «исследование соотношения семантики языка с концептосферой народа, соотношения семантических процессов с когнитивными» [Попова 2005, с. 7]. Можно согласиться с лингвистами, отмечающими возможность развития и процветания лингвокогнитологии только в пределах антропоцентрической парадигмы, которая «осознается главным принципом современной лингвистики на рубеже XX–XXI веков» [Пименова 2009, с. 7]. Однако понимание лингвистического антропоцентризма в моей работе несколько отличается от того представления, которое только констатирует, что, согласно данному принципу, «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования» [Кубрякова 1995, с. 212]. В вершину угла моей концепции, основанной на определении В. фон Гумбольдтом языка как «мира, лежащего между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 1984, с. 304], поставлено предположение о существовании организованного языком мира событий, то есть о существовании перформативного лингвального бытия социума и субъекта. Данный интерпретированным вывод подкрепляется представлением о языковой особым образом относительности, известным как гипотеза Сепира-Уорфа. Напомню, что, по утверждению Э. Сепира, «люди живут не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешений некоторых частных проблем общения и мышления. На самом же деле 23 “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» [Цит. по: Уорф 1960, с. 135]. Не вызывает сомнений убедительность примеров, приведенных Б. Л. Уорфом в подтверждение данного тезиса. Действительно, например, «около склада так называемых gasoline drums “бензиновых цистерн” люди ведут себя соответствующим образом, т. е. с большой осторожностью; в то же время рядом со складом с названием empty gasoline drums «пустые бензиновые цистерны» люди ведут себя иначе: недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки. Однако эти empty “пустые” цистерны могут быть более опасными, так как в них содержатся взрывчатые испарения» [Уорф 1960, с. 136]. Однако я несколько по-иному трактую причины, сформировавшие возможность появления таких ситуаций. Если для американского ученого их наличие обусловлено тем, что структура языка, по его мнению, определяет мышление и способ познания реальности, то для меня большое количество случаев провоцирования языковыми сущностями неправильной оценки ситуации является основанием для утверждения о репрезентации в семантической структуре языка двух миров – онтологического, референтного, то есть мира внеязыковых сущностей и событий, протоколируемых в языке, и лингвального, то есть мира, созданного языком. Другими словами, в моей концепции не язык определяет мышление, а мир, созданный языком, является миром нашего человеческого существования. Наше поведение обусловлено законами этого мира, хотя и имеет, в то же время, онтологические рамки. Как отмечал В.И. Красиков, описывая концепцию Л. Витгенштейна, «существует как бы два среза бытия: мир как совокупность фактов, целокупность событий, поддающихся описанию в познании через фактуальные предложения, логические комбинации и жизнь – область человеческих смыслов и ценностей» 24 [Красиков 2003, с. 10]. Оба эти мира находятся в тесном взаимодействии: «Предложение – образ действительности. Предложение – модель действительности, как мы ее себе мыслим» [Витгенштейн 2009, с. 45]. Важно то, что на пересечении этих миров и существует человек как личность, с одной стороны, определяющая формы существования онтологического и лингвального бытия, а с другой, определяемая, формируемая этими мирами. Как писал Б.М. Гаспаров, «языковое существование личности представляет собой продолжающийся на протяжении всей жизни этой личности процесс ее взаимодействия с языком. В этом процессе язык выступает одновременно и как объект, над которым говорящий постоянно работает, приспосабливая его к задачам, возникающим в его текущем жизненном опыте, и как среда, в которую этот опыт оказывается погружен и в окружении которой он совершается» [Гаспаров 1996, с. 6]. Учет вышесказанного позволяет внести некоторые коррективы в схему номинации. Эта схема, изначально определявшаяся как дихотомия (реальность → язык), представляется мне в виде трихотомии (онтологическая реальность → язык → лингвальная реальность). При этом именно лингвальная реальность становится главным конструктом человеческого бытия. Как писал В. фон Гумбольдт, «человек думает, чувствует и живет только в языке» [Гумбольдт 1984, с. 378]. Несколько по иному высказался по этому поводу М.М. Бахтин, по мнению которого антропоцентризм «культурного кода» порождает пленение человека языковыми стереотипами как стереотипами культуры: «Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам, мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом в предмете. Конкретному историческому человеческому слову этого не дано: оно может лишь условно и лишь до известной степени от этого отвлечься» [Бахтин 1975, с. 92]. 25 Традиционно такое лингвальное бытие мира определяют как языковую картину мира, то есть как «отраженные в категориях (отчасти и в формах) языка представления данного языкового коллектива о строении, элементах и процессах действительности в её соотношении с человеком» [Виноградов 1995, с. 148]. Следует отметить в этой связи, что, в отличие от картины мира, которая закономерно трактуется только как «глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения человека, то есть выражающий существенные свойства мира в понимании человека в результате его духовной и познавательной деятельности» [Постовалова 1999, с. 21], лингвальный мир – это не только отражение внеязыковой реальности в языке, но и особым образом организованная реальность, то есть не только картина мира, но и мир. Справедливо в этой связи мнение М.В. Пименовой о том, что «при таком подходе язык может рассматриваться как определенная концептуальная система» [Пименова 2001, с. 20-21]. Конечно же, язык – это «система ориентиров, необходимая для деятельности человека в окружающем его вещном и социальном мире» [Леонтьев 1999, с. 19]. Однако следует согласиться с А.И. Пигалевым: «Язык создает искусственное сверхчувственное социальное пространство-время культуры» [Пигалев 1999, с. 50], и поэтому система ориентиров «вещного и социального миров» представляет собой не что иное, как именно языковое «сверхчувственное социальное пространство-время культуры». И это, кстати, приводит к тому, что «язык всей своей системой настолько связан с жизнью, копирует ее, входит в нее, что человек перестает различать предмет от названия, пласт действительности от пласта ее отражения в языке. Создается иллюзия полного их единства» [Лотман 1994, с. 69]. Такой подход во многом соприкасается с представлениями М. Хайдеггера, писавшего о том, что «картина мира, сущностно понятая, означает <…> не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины» [Хайдеггер 1993, с. 49]. Еще более четко эта мысль была выражена А. Эйнштейном: «Человек стремится каким-то адекватным 26 способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной» [Эйнштейн 1923, с. 45]. Каким же образом сосуществуют языковая картина мира, то есть номинация онтологического мира, и лингвальный мир. Я отмечаю 3 типа такого сосуществования. 1. Лингвальный мир стремится к совпадению с языковой картиной мира, перформация стремится к слиянию с номинацией. Например, фраза Весь день идет дождь, в сущности, отражает реальное состояние мира. Я называю эту ситуацию «лингвальный баланс». Однако следует сказать, что даже этот лингвальный баланс предполагает некоторое превалирование перформации над номинацией. Приведенная выше фраза, например, с точки зрения лингвального мира истинна при любых условиях, с точки же зрения онтологического мира она может быть как истинной, так и ложной. В языковом бытии некий промежуток времени «день» полностью (весь) связан с гештальтной ситуацией «идет дождь», где статус гештальт-агента выполняет дождь. Однако в онтологическом мире существует целый ряд факторов, позволяющих усомниться в полном тождестве внеязыковой и языковой реальностей. Во-первых, указанная фраза с точки зрения онтологического мира может быть как истинной, так и ложной. Во-вторых, во фразе предполагается абсолютность описываемого события, однако в онтологическом мире дождь идет только в определенной местности, физически связанной с субъектом-номинантом. Последний же в языковом мире делает дождь событием вселенским, а не локальным. В-третьих, во фразе дождь темпорально представляется как континуум, в то время как в реальности он может на время прекращаться и т.д. Представление мира в языке становится фактором создания новой предметной реальности, которую А.Ф. Лосев обозначил следующим образом: «Язык есть предметное обстояние бытия» [Лосев 1990, с. 98]. 27 2. В некоторых случаях перформативность лингвального мира является средством организации реального мира. В первую очередь это проявляется в использовании так называемых перформативных глаголов и предложений, то есть повествовательных предложений, репрезентирующих высказывание, которое не описывает соответствующее действие, а равносильно самому осуществлению этого действия. Так, высказывание Обещаю тебе прийти вовремя есть уже обещание. Такую же значимость имеют и манипулятивные тексты, в основе которых лежит «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [Быкова 1999, с. 99]. Манипулятивный текст создает лингвальную реальность, выгодную своему создателю и направленную на формирование нового лингвального сознания и мира у получателя данного текста. 3. Иногда перформативность лингвального мира становится причиной полного его отрыва от реальности. В данном случае лингвальный мир становится миром вымысла, а мир онтологический даже не предполагается. Наиболее ярко это отражается в разнообразных произведениях словесного творчества. Слово в художественном тексте является не фактом обозначения, а фактом созидания. Оно – единственная реальность художественного мира. «Обозначаемых» им реалий попросту не существует в нашем внесловном, физическом мире: нет и не было в реальности носа, гулявшего по Невскому проспекту, Евгения Онегина – все они существуют только в слове и представляют собой особым образом организованную словесную материю. Если в реальном языке фраза «идет дождь» является констатирующей предикацией двух номинативных сущностей, отражающих внеязыковые референты действия (идет) и субстанции (дождь) в настоящей (Весь день здесь и сейчас в реальности) локации, то в литературной действительности фраза “Весь день идет дождь” является самодостаточной реальностью, имеющей место только в мире слова. Мир и слово тут отождествляются. 28 Здесь уместно привести размышления В.В. Федорова о том, что слово является «единственным субъектом, поскольку бесчисленные субъекты разнообразных существований суть превращенные формы бытия слова» [Федоров 2006, с. 480]. При этом слово художественное и слово естественное представляют собой две стороны одной сущности – не может художественное слово, несмотря на многочисленные попытки, например, тех же футуристов (см. “Весну” А. Крученых), выйти за пределы законов функционирования естественного слова. В сущности – художественное слово, художественный текст, художественный язык – это естественное слово, естественный текст, естественный язык в неестественной для них функции. Не в функции номинации и коммуникации, а в функции “креации”, перформации, созидания, сотворения новой – лингвальной реальности. Понятно, что обозначенные три модели взаимодействия онтологического (внеположенного по отношению к языку) и лингвального миров даны мной только в качестве повода для дискуссий и причины поиска более дробной классификации. Различие онтологического и лингвального мира, на мой взгляд, является проекцией на языковую и речевую деятельность субъекта двух аспектов номинативной выражающего функции стремление языка – собственно адекватно номинативного, отразить внеязыковую, онтологическую реальность, и перформативного, представляющего собой реальное воплощение номинативных интенций субъекта-номинанта в мире лингвальных сущностей. Субъект, пытаясь обозначить внеязыковую реальность, онтологический мир, в сущности, создает новую – лингвальную – действительность, которая подчиняется законам субъекта, стереотипам, являющимся отражением заложенных в языке моделей преобразования внеязыкового мира в языковой, преломленных через лингвальную компетенцию номинанта. Задача дальнейших исследований как раз и состоит в определении конкретных форм сосуществования онтологического и лингвального миров в текстах разных типов, моделей лингвальной 29 перформации объективной действительности. Такой подход к определению статуса реальности, репрезентируемой в языке и порождаемой языком, позволяет по-новому подойти к определению языкового статуса концепта. Как известно, существует два подхода к определению соотношения языка и концептосферы. Наиболее распространенная точка зрения предполагает, что концепт – это не языковая, не лингвальная, а психологическая, ментальная сущность. Например, З.Д. Попова и И.А. Стернин утверждают, что концепт – это только «принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной деятельности» [Попова 2006, с. 9]. В основе такой трактовки констатация того, что «наряду с языковым существует неязыковое мышление, с одной стороны, и что языковое существование связано не только с мышлением, но и с чувственно-волевой сферой и подсознанием, с другой стороны» [Карасик 2007, с. 9]. С тем, что существуют невербальные формы мышления, спорить трудно, однако сложно согласиться и с тем, что концепт нельзя рассматривать как лингвальную единицу только потому, что есть возможность его существования вне языка, а именно так следует трактовать такое утверждение: «Концепт не имеет обязательной связи со словом или другими языковыми средствами вербализации. Концепт может быть вербализован, а может быть и не вербализован языковыми средствами» [Попова 2005, с. 8]. В качестве примера В.И. Карасик приводит следующую ситуацию: «Когда я слышу фа-минорную хоральную прелюдию Баха, мне вспоминаются финальные кадры из фильма А. Тарковского “Солярис”: изображенная мыслящим океаном встреча героя с отцом, самый дорогой подарок, который можно получить, навсегда попрощавшись с родным человеком. Такая встреча – это концепт, у которого нет однословного вербального обозначения» [Карасик 2007, с. 12]. Ниже я выскажу свое мнение об обязательности-необязательности однословной реализации базовой номинативной единицы. Здесь же отмечу другое. Даже говоря о 30 неоязыковленных концептах, сторонники нелингвальной природы последних вынуждены прибегать именно к вербальным средствам их описания и опираться именно на языковую плоскость их существования. Как отмечает В.И. Карасик, «описание концепта – это специальные исследовательские процедуры толкования значения его имени и ближайших обозначений (выделено мной. – В.Т.)» [Карасик 2002, с. 134]. См. в другом месте: «Мы объясняем концепты через значения слов» [Карасик 2007, с. 10]. Еще более четко это выражено в том исследовании, которое, как это ни парадоксально, является, по моему мнению, манифестом теории нелингвальной природы концепта. Сами З.Д. Попова и И.А. Стернин утверждают, что «произнесенное или написанное слово является средством доступа к концептуальному знанию» [Попова 2003, с. 19], что «слово <…>, как и любая номинация, – это ключ, “открывающий” для человека концепт как единицу мыслительной деятельности и делающий возможным воспользоваться им в мыслительной деятельности. Языковой знак можно также уподобить включателю – он включает концепт в нашем сознании, активизируя его в целом и «запуская» его в процесс мышления» [Попова 2003, с. 19]. Другими словами, «естественный язык <…> выступает лишь средством, обеспечивающим исследователю доступ к «языку мозга»» [Воркачев 2007-2, с. 10]. Однако это свидетельствует именно о том, что, во-первых, в концепте нет ничего такого, что не могло бы реализоваться в языке5, а во-вторых, что, будучи полностью реализованным в языке, концепт являет собой именно лингвальную – языковую сущность. Именно таким мне видится собственно лингвистический подход к трактовке концепта, представленный в работах Е.С. Кубряковой, С.Г. Воркачева и многих других. Наиболее важен для меня тезис Е.С. Кубряковой о том, что «именно объективация сознания с помощью языка оказывается условием человеческого существования и главной отличительной чертой См. об этом у Е.А. Селивановой: «Невербальные формы информации всегда могут быть организованы через вербальные» [Селиванова 2000, с. 101] (см. также [Кацнельсон 1988; Пиаже 1984] и др.). 5 31 homo sapiens. Тогда как невербализованные знания выступают как неявные, неосознаваемые, смутные <…>, появление специального обозначения для сложившейся или складывающейся в голове человека структуры знания позволяет превратить нечто диффузное и дотоле неопределенное в нечто характеризующееся явными границами и выделенное в отдельную сущность» [Кубрякова 2004-2, с. 306]. Обозначенное именем знание приобретает свою условную законченность именно в языке и поэтому может быть определено именно как сущность лингвального мира. Я не сомневаюсь в том, что мышление человека может быть невербальным, что зона существования концептов распространяется далеко за пределы языка. Однако «схваченное знаком» знание становится концептом лингвального мира – лингвоконцептом, а следовательно, должно рассматриваться именно как компонент языковой структуры. В этом случае уместно вспомнить слова С.Г. Воркачева: «“Концепт” в лингвокультурологических текстах – это вербализованный культурный смысл, и он “по умолчанию” является лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) – семантической единицей “языка” культуры, план выражения которой представляет двусторонний языковой знак, линейная протяженность которого, в принципе, ничем не ограничена» [Воркачев 2005-2, с. 10]. Здесь отмечаются два важных для меня момента. Во-первых, «лингвоконцепт» (как знаковым является альтернативы термину употребление «концепт»), термина поскольку префиксоид «лингво» указывает на данную сущность именно как на элемент лингвального мира, а во-вторых, мнение о ничем не ограниченной линейной протяженности выражающего концепт знака абсолютно совпадает с моей теорией существования на уровне языка не знака, а модели номинации, называемой мной номинатемой, которая является базовым выразителем концепта и может реализовываться в речи, коагулируя концепт, в любом речевом знаке (глоссе), не связанном с представлением об ограниченной линейной протяженности [Теркулов 2007]. 32 Концепт, следовательно, является в этом случае уже не столько категорией мышления вообще, сколько категорией вербального мышления, категорией вербального мира. При этом, как это будет показано ниже, концепт, существующий в лингвальном мире, становится не просто знанием об объекте номинации, но системоорганизующей лингвальной единицей. В силу того, что на уровне языка нет ничего, кроме инвариантных сущностей (Ф. де Соссюр), именно концепты, связанные с инвариантной формой номинативной единицы, определяют законы коммуникации, законы своей коагуляции и выбора формальных языковых структур. В связи с этим необходимо внести некоторые уточнения в определение базовых параметров лингвоконцепта. Ни для кого не секрет, что в когнитологии существует огромное количество определения концептов. Как пишет С.Г. Воркачев, «несмотря на то, что лингвоконцептологи к настоящему времени относительно едины в понимании объекта своего научного интереса как некого культурного смысла, отмеченного этнической специфичностью и находящего языковое выражение [см.: Воркачев 2001, с. 66-70], видовая пролиферация этого объекта, как представляется, дает повод обратиться к “биологической метафоре”: разновидности лингвоконцептов в пределах дефиниционной формулировки растут, “как трава” – не имея под собой какого-либо последовательного классификационного основания [см.: Сорокин 2003, с. 288], что весьма затрудняет их типологию» [Воркачев 20071, с. 15]. Различные определения базовых характеристик концепта позволяют составить общую картину представлений о нем, которая является, в сущности, концептом «концепт», поскольку выделение последнего осуществляется, очевидно, на основе предложенной М.В. Пименовой модели исследования концептов, которая «заключается в интерпретации значения конструкций, объективирующих те или иные признаки концептов» [Пименова 2009, с. 74]. Уточним, правда, что в моем исследовании характеристики концепта определяются его статусом конструкта лингвального мира. Конечно же, он имеет ментальную природу. Как 33 отмечала А.А. Залевская, концепт – это объективно существующее в сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера [Залевская 2001, с. 39]. Однако для языка важнее всего то, что концепт – это «синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в “снятом”, редуцированном виде – своего рода “гипероним” последних» [Воркачев 2007-2, с. 5]. Следует отметить, что эта «снятость», на мой взгляд, позволяет наделить концепт статусными характеристиками каждого из упомянутых ментальных образований. С одной стороны, он должен быть определен как когнитивная сущность в своем индивидуалистском, личностном (представление) состоянии, с другой – в своем феноменологическом, гносеологическом (понятие) проявлении, а с третьей – как языковая, лингвальная (значение) инстанция. Иначе говоря, концепт «является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [Лихачев 1997, с. 287]. Он реализуется в сознании как комбинированный онтологически-индивидуально-этнический «квант знаний». С одной стороны, «концепт всегда выступает как часть целого, которая содержит в себе отражение системы <…> Концепт – микромодель культуры, а культура макромодель концепта. Концепт порождает культуру и порождается ей» [Зусман 2001, с. 41]. Это формирует онтологический и этнический компоненты концепта. С другой стороны, как писала Н.Ф. Венжинович, «концепты индивидуальны и кодируются в сознании единицами универсального кода, в основе которых лежат индивидуальные чувственные образы, которые формируются на базе личного чувственного опыта человека» [Венжинович 2006, с. 9]. В силу этого в концепте реализуются как онтологические, так и, что самое главное, прагматические аспекты идентификации референта (референции). «Следствия познания как взаимодействия субъекта и объекта воплощаются в языке, который есть одновременно и информативной системой и аккумулятором знаний – материально воплощенным выражением мышления», – отмечает 34 В.М. Русановский [Русанівський 1981, с. 49]. При этом «человеческая мысль постоянно колеблется между логическим восприятием и эмоцией, мы или понимаем, или ощущаем; чаще всего наша мысль складывается вместе с тем и из логической идеи, и из чувства. И хотя эти два элемента могут объединяться в разнообразных пропорциях, все же в каждом конкретном случае преобладает что-то одно: или логическое восприятие, или чувства. Наша мысль в одних случаях будет иметь логическую доминанту, а в других эмоциональную» [Балли 1955, с. 182]. В связи с этим наиболее точной представляется мне структурация концепта, предложенная В.И. Карасиком и включающая следующие компоненты: 1) объективное потенциальное содержание; 2) содержательный минимум, представленный в словарной дефиниции и являющийся частичной и субъективной актуализацией концепта; 3) конкретизацию содержательного минимума (которая, в свою очередь, включает тематизацию, например, автобус – это машина; прагматизацию, например, отпуск для человека, живущего на севере, ассоциируется с морем, полуобнаженными девушками и пальмами; сюда же относятся статусно-ролевые, ситуативные, этноспецифические обертоны языковых реалий) (См.: [Карасик 1996, с. 3-9]). Нужно уточнить и еще один аспект существования лингвальной структуры концепта. Как писали В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин, «лингвокультурный концепт многомерен …. Традиционные единицы когнитивистики (фрейм, сценарий, скрипт и т.д.), обладая более четкой, нежели концепт, структурой, могут использоваться исследователями для моделирования концепта» [Карасик 2001, с. 76]. Очень интересна классификация И.А. Стернина, который выделяет три типа (класса) концептов: 35 1) концепты-представления, представляющие собой «обобщенные чувственно-наглядные образы предметов и явлений» [Стернин 1998, с. 24], например: ночь, бабушка, солнце и т.п.; 2) концепты-понятия, определяемые как «мысль о наиболее общих, существенных признаках предмета или явления, результат рационального отражения основных, существенных признаков предмета» [Стернин 1998, с. 25], например: истец, ответчик, судья; 3) концепты-гештальты, то есть «комплексные, целостные функциональные структуры», упорядочивающие «многообразие отдельных явлений в сознании» [Стернин 1998, с. 24-25], например: театр, подготовка, написание. Следует отметить, что разделение субстанциональных концептов на представления и понятия трудно признать убедительным, потому что всякий концепт содержит в себе рациональное и чувственно-наглядное одновременно. Кстати, это косвенно признается и И.А. Стерниным. Как он отмечает, одна и та же номинативная единица «может в разных коммуникативных условиях реализовывать либо гештальт, либо понятие, либо представление, поскольку все эти концепты представляют разные уровни мыслительной абстракции, а коммуникативные потребности могут потребовать разной степени конкретизации мысли» [Стернин 1998, с. 26]. Уровни мыслительной абстракции – это, как раз, уровни представления и понятия. И гештальт, как функциональная сущность, и субстантный концепт, как констатирующая сущность, могут быть реализованы в речи и как представление, и как понятие, однако это уже уровень речевого модифицирования, а не языкового инварианта. Поэтому мной в дальнейшем будет применяться предметно-чувственного разделение типа концептов (концепты-субстанции) на и концепты концепты- гештальты. Именно такое разделение, на мой взгляд, имеют в виду, когда говорят о том, что знания (читай – концепты) делятся «на знания декларативные («знания, что…») и процедуральные (знания, как…»)» 36 [Кубрякова 2004-2, с. 10]. Данное разграничение типов знаний релевантно противопоставлению двух упомянутых мной типов концептов – декларативно-субстантных и процедурально-гештальтных. Основной формой выражения субстантного концепта является имя, гештальтного – глагол. Если концепты-субстанции представляют собой структурно гомогенную группу, то среди концептов-гештальтов по типу реализации функциональности я различаю два типа гештальтов. Во-первых, это фреймы, трактуемые как «структура данных для представления стереотипной ситуации» [Минский 1979, с. 7] и репрезентирующие статическое представление о ней. Таковы, например, фреймовые гештальты выставка, смотреть, вечер. Во-вторых, это скрипты (сценарии), представляющие обозначенную номинатемой ситуацию в виде «списка событий, задающих стереотипный эпизод» (см.: [Schank 1982-1; Schank 1982-2]) и репрезентирующие динамическое представление о ней, например, урок, читать, концерт. В принципе, все концепты могут быть описаны в пределах предложенных выше систем координат. Здесь нужно только сделать одно уточнение: они могут иметь разный статус в пределах трех типов взаимодействия онтологического и лингвального миров, а, следовательно, по-разному, в взаимодействия, зависимости реализовывать от сущностных свои характеристик номинативные этого потенции. Я предполагаю разграничение трех типов концептов по их погруженности в лингвальный мир. Во-первых, это номинативные концепты, которые существуют как отражение реальных сущностей онтологического мира. Таковы, например концепты свет, зажгла, Наташа во фразе Наташа зажгла свет. Во-вторых, это перформативные концепты, которые возникают как реализация идеи индивида преобразовать мир. Это могут быть концепты, обозначенные перформативными глаголами, то есть глаголами, благодаря которым «производство высказывания является осуществлением действия» 37 [Остин 1986, с. 1986], например «обещать», «клясться» и т.д. Сюда же следует отнести концепты манипулятивных, в первую очередь, политических текстов, о концептуальной организации которых Э. В. Будаев и А. П. Чудинов пишут: «Положение о том, что субъект склонен реагировать не на реальность как таковую, а скорее на собственные когнитивные репрезентации реальности, приводит к выводу, что и поведение человека непосредственно определяется не столько объективной реальностью, сколько системой репрезентаций человека» [Будаев 2007, с. 23]. Поэтому в перформативных концептах данного типа реализуется не номинативное, стремящееся к адекватности онтологического и реального миров знание о связанном концептом объекте, а желаемое, настроенное только на внушение коммуниканту своей истинности знание. В-третьих, это поэтические концепты, которые абсолютно утрачивают связь с онтологическим миром и настроены полностью на формирование лингвальной реальности (см. об этом: [Теркулов 2010]). Именно здесь в полной мере реализуется способность знаков языка «создавать новые ментальные пространства (ментальные миры условностей, воображения, фантазий)» [Селиванова отражательные, хотя 2000, и с. можно 72]. Поэтические предположить концепты не существование в этимологической ретроспективе неких прототипов поэтической реальности. Здесь и сейчас они представляют собой вымышленные знания, они не номинируют мир, не представляют онтологический мир в терминах желаний индивида, а создают мир, являются его единственной онтологической реальностью. Я уже говорил о том, что концепт рассматривается мной как некая сущность лингвального мира, которая, будучи квинтэссенцией знания, в языке приобретает речемыслительной статус организатора деятельности. Это структуры, элемент языка, организатора определяющий возможности речи. Концепт является лингвальной сущностью. Иначе говоря, как отмечала А. Вежбицкая, концепт – это объект из мира “Идеальное”, 38 имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире “Действительность” [Вежбицкая 1997]. Наличие имени у концепта и есть тот стимул, который определяет его языковую природу. Определение концепта как лингвальной сущности, указание на наличие в языке имени, объективирующего концепт, позволяет мне предположить, что он должен быть связан с той или иной номинативной единицей, являющейся базовым средством его выражения. Вопрос состоит лишь в том, с какой и как? Другими словами, перед исследователем лингвального статуса концепта стоит вопрос о том: а) какая единица языка должна быть признана базовой номинативной сущностью; б) как соотносится с нею концепт; в) какими могут быть проявления базовой единицы номинации в реальных ситуациях общения. Поиску ответов на эти вопросы и посвящена эта работа. 39 Глава 2. ДИСКУССИЯ О БАЗОВОЙ НОМИНАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕ 2.1. Речевая и языковая номинация Вопрос о базовой единице номинации имеет достаточно длительную историю рассмотрения. Свое представление о ней высказывали В.М. Алпатов [Алпатов 1982], Ш. Балли [Балли 1955], Л. Блумфильд [Блумфильд 1960; Блумфильд 1968]; И.А. Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963], Ж. Вандриес [Вандриес 2004], Й. Вахек [Вахек 1964], В.М. Жирмунский [Жирмунский 1961], В.А. Звегинцев [Звегинцев 1957], С.Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1965], А. Мартине [Мартине 1963], Ф. де Соссюр [Соссюр 1977], А. Фрей [Фрей 2006] и многие другие. Если отвлечься от некоторых частностей, можно констатировать: традиционная лингвистика основывает свои изыскания на том, что таковой «считается слово и анализ начинается с выделения слов, от которых затем происходит переход к выделению как более кратких (морфем), так и более протяженных (словосочетаний, иногда и предложений) единиц языка» [Алпатов 1982, с. 66]. При этом отмечается абсолютный функциональный статус слова в системе языка: «Слово охватывает фактически весь объем языковых функций: номинативную (обозначения), сигнификативную (обобщения), коммуникативную (общения) и прагматическую (экспрессивного воздействия)» [Уфимцева 1974, с. 39]. Сюда же следует отнести и когнитивную функцию. Наиболее последовательный представитель этой словоцентрической концепции А.И. Смирницкий утверждал, что «слово должно быть признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, как слово» [Смирницкий 1955, с. 11]. Однако опыт многочисленных попыток толкования понятия «слово» показал, что «как только речь заходит об определении этой единицы, многое 40 сразу же становится сомнительным и спорным» [Шмелев 1973, с. 53]. И сам А.И. Смирницкий отмечал: «Различные образования могут быть словами в разной степени, т.е. в разной мере обладать “качеством слова”: как их выделимость, так и их цельность могут быть неодинаковы, хотя и достигать того минимума, который необходим, чтобы данные образования все же выступали как слова» [Смирницкий 1956, с. 187-188]. Как известно, в отличие от других языковых единиц, слово реализовано в эмпирических представлениях говорящих. Как писал М.В. Панов, «с каким упорством и трудом обучают детей морфологическому анализу, а словесному не учат – это дается без всякой науки. В бытовом разговорном языке нет ни слова предложение (в грамматическом его значении), ни тем более слова морфема. Попросите человека, не знающего школьной премудрости, сказать какое-нибудь предложение – он не поймет вас. На просьбу же сказать какоенибудь слово отзовется всякий. Такая простая и ясная вещь: слово» [Панов 1956, с. 129]. Эти эмпиричность и простота как раз и являются факторами априорного признания «фундаментальности», первостепенной значимости слова для языка, признания того, что именно оно является первой, основной, а для некоторых лингвистов и единственной [Руделев 1991, с. 70-71] единицей языка. Иначе говоря, традиция предполагает, что слово – это «живой психологический факт, и он может, даже вопреки действительности (выделено мной. – В.Т.), представляться как первосущность» [Пешковский 1959, с. 94]. Но в то же время именно эта простая и ясная эмпирическая, индуктивная «очевидность» слова становится преградой для его полноценной дефиниции.6 Неслучайно еще в 1925 году М.Н. Петерсон писал: «Вообще удовлетворительного определения слова нет, да и едва ли можно его дать (выделено мной. – В.Т.) <…> слово – такое простое понятие, которому нельзя дать логического определения, а поэтому приходится См., например: «Имеются многочисленные попытки определить понятие слова, однако общепризнанная дефиниция слова отсутствует» [Георгиев 1972, с. 129]. 6 41 пользоваться простым указанием или описанием» [Петерсон 1925, с. 23]. Показательно в этом отношении замечание Н.А. Луценко: «Лингвистика пока не может выйти за рамки слова как эмпирического факта, использует слово в качестве понятия, как следует не определённого» [Луценко 2003, с. 9]. Разумеется, простота данного явления иллюзорна. Даже лингвисты, абсолютно справедливо считающиеся корифеями языкознания, осознанно или неосознанно стремились избегать определения слова, ссылаясь при этом на недостаток времени и места. Например, Ф. де Соссюр, только прикоснувшись к этой проблеме, вынужден был оправдываться: «Надо было бы выяснить, на чем основывается разделение на слова, ибо слово, несмотря на трудность определить это понятие, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка, – но одной этой темы достаточно для заполнения целого тома» [Соссюр 1977, с. 13]. Сложность определения заложена уже в том, что слово функционирует одновременно в нескольких установление его границ пересечениях должно существования учитывать данные языка, и пересечения. Пересечения, о которых здесь говорится, – это пересечения синтагматики и парадигматики слова, которые глубинно релевантны фундаментальному пересечению речи и языка. Как писал А.М. Пешковский, «мы должны различать два образа: один, возникающий у нас при произнесении отдельного слова, и другой – при произнесении того или иного словосочетания с этим словом. Весьма вероятно, что первый есть лишь отвлечение от бесчисленного количества вторых» [Пешковский 1959, с. 93]. Позднее В.В. Виноградов ввел представление об этой двойственности слова в научную парадигму и предложил «различать два понятия и два термина – слово и лексема, то есть лексическая единица языка, как система форм и функций, осознаваемая на фоне структуры языка в целом, или форма слова и слово» [Виноградов 1975, с. 37]. В современной лингвистике это различие оформилось в различие двух 42 статусов слова – «статуса слов названий, или слов-ономатем, и статуса синтаксических слов, функционирующих в предложениях, или словсинтагм» [Кузнецова 1982, с. 30]. Слово-ономатема – это тот самый «теоретический» «знак, имеющий самостоятельное содержание, которое может быть осмыслено вне контекста, независимо от функционирования в составе предложений. Это обобщенная виртуальная единица лексической системы, главной функцией которой является номинация» [Кузнецова 1982, с. 31]. В то же время, слова-синтагмы представляют собой «конкретное проявление словесной формы данного слова (ономатемы. – В.Т.) в определённом морфологическом составе» [Ломтев 1958, с. 44]. Это «слово в его отношениях и связях с другими словами в речи» [СРЛЯ 1982, с. 246]. Иначе говоря, это ситуация, когда слово-ономатема «является в самом языке (точнее, в речи. – В.Т.) представленной определенными разновидностями, каждая из которых обладает качеством слова и так или иначе характеризует данное слово» [Смирницкий 1954, с. 8], то есть тем, что я называю глоссой [Теркулов 1994; Теркулов 2003, с. 98].7 Таким образом, слово-синтагма (глосса) – это явление речи, конкретная речевая единица с конкретизированной системой значений и созначений и соответствующей им формой выражения, а слово-ономатема – это языковая сущность, представляющая собой совокупность таких глосс, объединенных по определенным признакам, о которых речь будет идти ниже. Ученые отмечают, что «взятое само по себе, как единица словаря, вне связи с другими словами, слово реальной синтаксической единицы не представляет. Чтобы стать ею, оно должно вступить в семантико-синтаксические отношения с другими словами, то есть войти в связную речь на правах члена предложения, обернувшись в словоформу. Отсюда следует, что слово и словоформа (а в нашем случае – слово-ономатема и слово-синтагма. – В.Т.) соотносятся так же, как язык и речь, только в разных лингвистических масштабах (выделено мной. – В.Т.)» [Бровко 2002], на что, собственно 7 См., например, у О.С. Ахмановой: «Глосса … 3. Любая реализация слова в речи» [Ахмановой 1966, с. 108] 43 говоря, я и обратил внимание выше. Указанное противопоставление слова-ономатемы и слова-синтагмы представляет собой, следовательно, конкретное воплощение глобального противопоставления языковой и речевой номинаций, на которое в свое время указал В.Г. Гак [Гак 1977-1, с. 248-257]. Нужно предварительно сказать, что термин «номинация» двузначен – он употребляется как для обозначения процесса, и в этом случае имеет значение «процесс, ситуация означивания внезнаковой действительности», так и для обозначения результата, то есть, собственно, номинативных единиц, и в этом случае имеет значение – «номинативный знак» [Гак 1977-1, с. 232]. Противопоставление языковой и речевой номинации – это, в первую очередь, и есть противопоставление языковой (инвариантной) и речевой (вариантной) единиц и установление механизма реализации первой во второй. В этой ситуации, следовательно, уместно синкретичное использование термина «номинация», дающее возможность объединить процесс и результат в единый статико-динамический комплекс. Такая трактовка очень близка предложенной в свое время Г.В. Колшанским интерпретации номинативной единицы через процесс номинации. Ученый определяет последний как «закрепление за языковым знаком понятия (сигнификата), отражающего определённые признаки денотата: свойства, качества и отношения предметов и процессов материальной и духовной сферы, благодаря чему языковые единицы образуют содержательные элементы вербальной коммуникации» [Колшанский 1977, с. 101]. Различение языковой и речевой номинации в этом случае реализуется в процессуальных и субстанциональных параметрах: языковая номинация закономерно должна быть описана одновременно и как модель процесса, и как система потенциальных речевых номинативных знаков, а речевая номинация – как конкретный процесс обозначения и конкретная единица. Возникает вопрос – как же соотносятся языковая и речевая номинации? В.Г. Гак предположил, основываясь, в большей мере, на динамической 44 трактовке данного явления, что языковая номинация – это создание новых номинативных единиц, а речевая – это использование уже готовых единиц в процессе ситуативного означивания [Гак 1977-1, с. 248-257]. Откуда же берутся эти «готовые» единицы, которые реализуются в речи, каков их статус в номинативной системе языка? По В.Г. Гаку, они не могут быть ни языковыми номинациями, поскольку не создаются, а уже существуют в системе, ни речевыми номинациями, поскольку именно их язык использует в речи не в целом, а только в той или иной модификации. Вполне очевидно, что они существуют до номинативной ситуации и реализуются в ней не целиком, а лишь в каком-либо из своих конкретных воплощений. Например, глосса вечера во фразе «все они с нетерпением ожидали вечера» не эквивалентна полностью номинативной единице – слову вечер, так как реализует только одну из ее конкретных форм [в’éч’ьръ] с конкретными грамматическими (ед.ч., род.пад.) и лексическим («время суток») значениями. Если с речевой номинацией здесь все понятно – ее воплощением является глосса вечера, то статус инвариантной номинативной единицы вечер требует своего уточнения. В работах некоторых ученых процесс и явление означивания стали рассматриваться с коммуникативной точки зрения (см.: [Кубрякова 1986; Мецлер 1990; Сахарный 1985; Снитко 1990]), что привело к некоторому уточнению понятия языковой номинации. Е.С. Кубрякова уже не ограничивает её только процессом создания новых номинативных единиц, но и указывает на существование номинативных сущностей в языке как инвариантов обозначения. По мнению ученого, под номинацией следует понимать «речемыслительный процесс, направленный либо на выбор существующего (выделено мной. – В.Т.) в языке готового обозначения для именуемого явления, либо на создание подходящего названия для него» [Кубрякова 1986, с. 42]. В этом случае обозначенная мной как инвариантная единица – слово вечер – является именно языковой номинативной сущностью, а глосса вечера – одним из ее речевых воплощений. Номинация 45 «как процесс» при такой трактовке есть выбор из возможных модификаций языковой номинативной единицы для реализации интенций конкретной ситуации именования. В связи с этим абсолютно справедлива интерпретация различения типов номинации, предложенная Н.П. Тропиной: «Деление номинаций на языковые и речевые (коммуникативные) ориентировано, в первую очередь, на разграничение знака виртуального и знака актуального, на разграничение процессов виртуального и актуального означивания» [Тропина 2003, с. 32]. При этом «фиксация знаком предмета происходит в конкретных актуализированных знаках, в речи. Виртуальный знак в лексической системе фиксирует нечто иное» [Селиванова 2000, с. 57]. Именно виртуальным знаком следует считать то, что традиционная лингвистика называет словом-ономатемой, то есть языковым лексическим инвариантом номинации, что, собственно, и «фиксирует виртуальный знак», а актуальным (актуализированным) – словом-синтагмой, в котором осуществляется конкретный акт номинации, определенный потенциями слова-ономатемы. Учеными предлагалось множество критериев определения основы тождества и отдельности слова-синтагмы и слова-ономатемы (читай: речевой и языковой номинативных единиц), которые, впрочем, практически сразу же признавались неубедительными и противоречивыми. Во многих исследованиях констатировалось, что «все так называемые комплексные определения слова не дают возможности делить текст на слова» [Алпатов 1982, с. 68], и что «в речевой деятельности, так же, как и в индивидуальном стиле, границы слова и фразы особенно зыбки, текучи, неопределенны» [Виноградов 1946, с. 46]. Было бы, кстати, упрощением считать, что для слова-синтагмы актуальна только проблема определения критериев его делимитативности, отдельности от других слов и от смежных явлений, а для слова-ономатемы – тождества, идентификации слов-синтагм (глосс) в пределах одной языковой единицы, а именно так трактуют соотношение тождества-отдельности 46 лексемы многие лингвисты. Например, К.А. Левковская пишет: «Вопрос о выделимости слова в потоке речи относится к проблеме отдельности слова, которая по самой своей сущности принадлежит к области исследования речи, то есть практического пользования языком как средством общения. По отношению же к языку как общественному явлению эта проблема несколько видоизменяется и выступает уже как проблема самостоятельности (тождества. – В.Т.) слова» [Левковская 1962, с. 60]. Следует в связи с этим напомнить, что тождество и отдельность – это две взаимоположенные стороны любой сущности. Как писал Г.В.Ф. Гегель, «нужно оставить совершенно в стороне <…> мнения о том, что делает разум, так как они до некоторой степени имеют лишь историческое (historische) значение; и, скорее, рассмотрение всего, что есть, в нем самом показывает, что оно в своем равенстве с собой неравно себе и противоречиво, а в своей разности, в своем противоречии тождественно с собой, и что в нем самом совершается это движение перехода одного из этих определений в другое (выделено мной. – В.Т.); и это именно потому, что каждое из них есть в самом себе противоположность самому себе. Понятие тождества – простая соотносящаяся с собой отрицательность – не есть продукт внешней рефлексии, оно образовалось в самом бытии. Напротив, то тождество, которое находится вне различия, и то различие, которое находится вне тождества, суть продукты внешней рефлексии и абстракции, произвольно задерживающейся на этой точке безразличной разности» [Гегель 1997, с. 371372]. Поэтому и слово-ономатема и слово-синтагма (или соответствующие им сущности несловоцентрического подхода) одновременно существуют в параметрах «тождества самому себе» и «отдельности от всего другого». Именно это и является доминантой нашего дальнейшего рассмотрения теорий определения границ слова и выведения своей несловоцентрической, по сути, теории, в которой слову отводится роль одной из манифестаций (конечно же, наиболее распространенной) номинативной единицы – номинатемы. 47 интегрирующей языковой Правда, здесь необходимо различать разные плоскости существования тождества-отдельности речевой синтагмной и языковой инвариантной номинативных единиц. Если в первом случае тождество самому себе представляется как линейное тождество, а отдельность от всего другого – как линейная отдельность, и проблема состоит в отождествлении того или иного звукокомплекса с номинативной единицей путем определения его линейных границ на основе отделения от других рядоположенных звукокомплексов (например, отождествление самой себе единицы веют в синтагме вихривраждебныевеютнаднами осуществляется на основе отделения его от звукокомплексов враждебные и над), то во втором случае тождество единицы определяется как системно-парадигматическое тождество, основанное на инвариантном объединении различных речевых номинаций в одну языковую единицу. Здесь возникает уже проблема отделения комбинаторных разновидностей (глосс) одной номинативной единицы от комбинаторных разновидностей (глосс) другой номинативной единицы. Например, чем следует считать звукокомплекс над нами а) глоссой самостоятельной языковой номинативной единицы над нами; б) глоссой номинативной единицы над или глоссой номинативной единицы нами; в) глоссами отдельных номинативных единиц над и нами? Как будет показано ниже, именно проблема определения границ тождества-отдельности как в первом, так и во втором случае решаема в современном языкознании только на основе абсолютизации неприемлемых для описания номинативной единицы формальных признаков. Это – ошибка, призванная только «защитить» сложившийся за века статус слова как базовой ономасиологической сущности. Я же предполагаю, вслед за Т.К. Черемухиной, что «границы обозначений и в языке и в речи носят “размытый” характер, обусловленный подвижной природой отражаемого понятия и гибкостью семантической структуры единицы, приспосабливающейся к потребностям того или иного коммуникативного задания» [Черемухина 1980, с. 2]. 48 Полученные мной результаты исследования процессов модифицирования единой языковой номинативной сущности приводят к довольно парадоксальному, на первый взгляд, выводу: определение статуса слова как статуса самостоятельной инвариантной, базовой языковой сущности не соответствует действительности. Семантическое тождество, констатируемая в большинстве исследований основа актуального тождества слова, закономерно расширяет зону его варьирования (модифицирования) надсловными модификациями – сочетаниями знаменательных слов со служебными и словосочетаниями разного типа. Это позволяет предположить, что обозначение базовой номинативной единицы термином, который указывает на ее моновербальный характер, то есть термином «слово», «лексема» и т.п., не совсем правильно, поскольку факт противоречивости статуса той или иной единицы в языке не позволяет терминологически отождествлять этот, приписываемый ей в некоторых концепциях, статус с ее названием. Можно было бы использовать уже упомянутый здесь термин «ономатема» (правда, выведя его из юкстапозита «слово-ономатема»). Однако и он не очень удачен, так как по своей внутренней форме может быть неосознанно отнесен не только к ономасиологии, но и к ономастике. Считаю, что в этом случае более уместным было бы употребить используемый в некоторых исследованиях термин номема [Никитевич 1985] или номинатема [Булыгина 1977, Демьянков 1994, с. 106-107; Зализняк 1973, с. 58; Солнцев 1987, с. 133]. Выбор первого или второго из этих вариантов наименования в нашем случае не может иметь под собой каких-то глубинных структурно-семантических оснований. Здесь главным фактором будет, без сомнения, лишь вкус ученого, который избирает тот или иной термин, лишь подчиняясь каким-то своим личностным соображением. Если говорить обо мне, то я слишком часто употреблял для обозначения базовой единицы номинации именно термин номинатема [Теркулов 2004; Теркулов 2006; Теркулов 2007 и др.], поэтому замена его на термин номема, который в 49 концепции его «сочинителя» все же более связан (но не тождественен, о чем – ниже) с тем содержанием, которой я в этот термин вкладываю, нежели термин номинатема в указанных выше исследованиях, просто может привести к некоторой неразберихе при сопоставлении терминологии этого исследования с терминологией моих предыдущих изысканий, чего мне абсолютно не хочется. Поэтому в дальнейшем я и буду употреблять то наименование, которое уже имело место в моих предыдущих работах, то есть уже упомянутый здесь термин «номинатема». Укажу только, что его объем в моей концепции значительно шире, чем в указанных работах, где зону его применения ограничивают только словом. У меня он используется не для обозначения такого представления о слове, которое «возникает в результате абстракции отождествления всех словоформ, различающихся только синтаксическим значением (то есть словоформ, имеющих одно и то же несинтаксическое, или номинативное, "ономатологическое", значение)» [Булыгина 1977, с. 127], а для обозначения абстрактной (структурной) языковой единицы, представляющей собой модель номинации, независимо от того, в каких субстантных единицах эта модель реализуется. В некоторых исследованиях номинатемой также называют речевую (текстовую) номинативную единицу: «Основной единицей номинативной организации текста является номинатема как текстовая составная часть, выбор которой детерминирован антропоцентрично, категориально, когнитивно, текстовыми парадигматическими связями и т.д.» [Кресан 2001, с. 8]. О.Я. Кресан, цитата из работы которой приведена, является продолжателем линии В.Г. Гака [Гак 1976] и Е. А. Селивановой [Селиванова 2000, с. 181]. Не возражая по сути, отмечу только, что использование «эмического» термина (номинатЕМА, ср.: фонЕМА, морфЕМА и под.) для обозначения единицы «этического» уровня представляется мне несколько неубедительным. Считаю, что любая речевая номинативная единица всегда является реализацией, реальным воплощением номинатемы как языковой сущности, однако для ее обозначения я использую не термин «номинатема», 50 а термин «глосса номинатемы». Нужно обратить особое внимание на то, что объединение глосс в лексему или, шире, номинатему традиционно осуществляется на основе методологически необоснованного априорного ограничения реализаций последней только однословными единицами. Для обоснования такого подхода словоцентрическая лингвистика неоправданно создает формальные по своей природе конвенциональные правила: «В последнее время высказывается мнение, что предел формально-грамматического варьирования может быть найден только в самой форме», – пишет С.М. Шигапова [Шигапова 2000]. Как аксиома звучит утверждение о том, что «единица словаря не тождественна словоформе, но совпадает с ней в протяженности (выделено мной. – В.Т.)» [Алпатов 1982, с. 69]. Однако даже для словоцентрического подхода к установлению системы модификаций единой номинации это утверждение достаточно противоречиво – существуют, например, большие сомнения в возможности трактовки как совпадающих по протяженности супплетивных форм слова, например, форм слова человек (человек – люди). В некоторых ситуациях ученым приходится выискивать дополнительные критерии сопротивления отождествлению речевых единиц в слово. Например, слова волчиха и волчица совпадают по протяженности и имеют идентичное значение. Однако в большинстве исследований их рассматривают только как синонимы, то есть как единицы, относящиеся к разным номинативным комплексам, поскольку, как традиционно считается, «морфологическим пределом варьирования слова служит тождество морфологической структуры и морфемного состава сопоставляемых единиц» [Горбачевич 1978-2, с. 15], которого у них нет (различие суффиксов -иц- – -их-). Следует обратить внимание на то, что этот принцип применяется крайне непоследовательно. Например, приведенные выше супплетивные формы слова человек уже по своей природе противоречат данному требованию – они не совпадают в корневой морфеме (человек- – люд-), но все же считаются большинством лингвистов 51 реализациями одной лексемы. Кроме того, различие морфемного состава и морфологической структуры не мешает исследователю, чье высказывание было приведено выше, считать вариантами одного слова такие, например, модификации как накапливать – накоплять, засаривать – засорять [Горбачевич 1978-2, с. 159], мочала – мочало, титло – титла [Горбачевич 1978-2, с. 143] и т.п., различающиеся не только набором морфем, но и пусть структурным, грамматическим, но значением (мочала, например, – существительное женского рода, а мочало – среднего). Отмечу здесь, предваряя дальнейшие рассуждения, что у меня нет никаких сомнений в том, что единицы типа волчица – волчиха в силу своей формальной связанности и семантической идентичности должны определяться как разные формальные манифестации одной и той же номинативной сущности. Ограничение манифестаций одной номинатемы только словами представляется неубедительным еще и потому, что в речи, как это будет показано ниже, границы семантического тождества единой номинативной единицы преодолевают пределы реестра слов-синтагм, которые с ней эмпирически связываются в сознании носителей языка. Как писал В.М. Никитевич, «подходя к системе номинаций только со стороны наиболее типичного знака – полнозначного слова, мы способны увидеть лишь ту часть номинативных значений, которые выражаются словом, другие же значения одного и того же класса и способы их выражения, реально существующие в языке, остаются вне поля зрения исследователя» [Никитевич 1985, с. 17]. Отождествление языковой «унифицирующей» единицы со словом есть не что иное, как дань эмпирической очевидности слова, и поэтому употребление терминов слово, лексема, а также композитных образований, содержащих отсылку к слову (слово-тип, слово-ономатема, слово-номинатема и т.п.), абсолютно не указывает на реальные внутриязыковые закономерности. Видимо, именно осознанная «недостаточность» словной интерпретации номинативной базы языка привела к тому, что некоторые исследователи вынужденно приходят к выводу, что «все единицы языка и 52 речи, кроме предложений8, обладают только свойством номинативности (выделено мной. – В.Т.)» [Солнцев 1987, с. 133], то есть являются только реализаторами номинативной функции. Это позволяет предположить, что ни одна из разновидностей синтагм – слово, сочетание слов, словосочетание – не может считаться основным её носителем. Основная номинативная единица всегда находится на границе между собой и не собой. Она может быть и словом, и словосочетанием, и сочетанием слов. Иными словами, номинативный инвариант должен трактоваться как некое абстрактное ментальное образование, отвлеченное от своих реализаций, но одновременно с этим представляющее собой то общее, что в той или иной степени в них присутствует. Однако для того, чтобы определить, что же реально является основой тождества номинатемы самой себе, а следовательно – основой для обобщения разных единиц в одну интегративную сущность, легче обратиться к слову, потому что, во-первых, в каждой субстантной разновидности единицы языкового уровня, и в частности – в слове, реализуются базовые характеристики целого, и поэтому те параметры, которые были определены при анализе слова, являются, в сущности, проекцией параметров номинатемы на ее доминантную реализацию, а во-вторых, в силу того, что слово долгое время считалось основной языковой номинативной единицей – его номинативные признаки более всего находились под пристальным вниманием языковедов и получили поэтому достаточно разностороннее описание. 2.2. Словоцентрические теории базовой номинативной единицы Традиционно считается, что определение критериев тождества / отдельности слова (и любой другой номинативной единицы) логичнее начать со слова-синтагмы (глоссы): «Определение понятия лексемы (словаономатемы. – В.Т.) также очень важно для языкознания, однако оно должно Мне выведение предложений за пределы «единиц, облаающих только свойством номинативности» кажется необоснованным. 8 53 быть построено, пользуясь уже полученным определением слова как единицы речи (слова-синтагмы. – В.Т.)» [Кузнецов 1964, с. 75]. Вряд ли с этим можно согласиться. Эмпирическое исследование реализаций той или иной единицы в любом случае осознанно или неосознанно опирается на представление об объединяющей их первосущности. В нашем случае априори роль такой первосущности передается абсолютно не определенному в теории слову-ономатеме. Именно неопределенность данного явления, которое, напомню, имеет языковую интегрирующую природу, ставит под сомнение саму возможность адекватной и полноценной интерпретации и речевых номинативных единиц. Однако подтверждение истинности- ложности словоцентрической трактовки номинативной базы языка все же можно найти только в результате критического анализа именно концепций выделения слова-синтагмы как аксиоматически признанной основной речевой номинативной единицы, поскольку она, эта трактовка, может найти как свое подтверждение, так и опровержение только в результате всестороннего анализа эмпирического материала и определения сущности процессов и единиц речевой номинации. На уровне слова-синтагмы проблема состоит в его отличении от соположенных вычленяемых из речевого потока явлений, также имеющих номинативную природу. Как известно, «в пределах общей категории номинации следует выделить три разных вида: а) номинация через слово и словосочетание (лексическая), б) номинация через предложение (пропозитивная) и в) номинация через текст (дискурсивная)» [Азнаурова 1977, с. 121].9 Не буду здесь касаться проблемы определения параметров номинативности предложения и дискурса, достаточно интересной, но находящейся вне пределов моих научных разысканий, и укажу на неслучайность рассмотрения в одной рубрике предложенной классификации Я оставляю в стороне те концепции, которые не признают особого номинативного статуса словосочетания, как абсолютно не учитывающие реальных номинативных процессов. К таковым относится, например, концепция И.Р. Выхованца, утверждавшего, что «адекватное определение слова возможно при сопоставлении его с низшей, непосредственно прилегающей к нему единицей – морфемой, и высшей, непосредственно расположенной над ним грамматической единицей – предложением» [Вихованець 1988, с. 16]. Как видим, здесь для словосочетания места не осталось. 9 54 слова и словосочетания – этот ряд как раз и является зоной дефиниционной неустойчивости. Наука пока что не может однозначно ответить на вопрос, где заканчивается слово и где начинается словосочетание или любое другое сочетание единиц, имеющее номинативную природу, поскольку в языке отмечается наличие «многочисленных переходных случаев, которые по определенным критериям могут быть отнесены к тем или иным языковым единицам. Это касается и вопроса определения границ слова, когда по одним критериям языковая единица может квалифицироваться как слово, по другим – как словосочетание, фразеологизм или морфема» [Лучик 2000, с. 35]. Проблему определения слова-синтагмы описал А.И. Смирницкий, который установил, что она «расчленяется на два основных вопроса: а) вопрос о выделимости слова, представляющий собой вместе с тем вопрос о различии между словом и частью слова (компонентом сложного слова, основой, суффиксом и пр.); б) вопрос о цельности слова, являющийся вместе с тем вопросом о различии между словом и словосочетанием (добавлю, и сочетанием служебного слова со знаменательным, сочетаниями сочинительного типа и т.д. – В.Т.)» [Смирницкий 1956, с. 187]. В первом случае речь идет об интерпретации слова как «определённого типа связи морфем» [Солнцев 1977, с. 251]. Здесь возникает необходимость определения параметров тождества слова-синтагмы самому себе в речевом потоке. Задача состоит в поиске параметров его отграничения от морфемы. Наиболее актуальным в этом смысле является вопрос о статусе служебных слов в их сочетаниях с полнозначными лексемами. Для русского языка это, в первую очередь, касается предложно-падежных сочетаний. Такие сочетания обычно трактуются как синтаксемы, вернее, как речевые реализации синтаксем, то есть «минимальных синтаксических единиц, представляющих собой единство категориального значения, морфологической формы и синтаксической функции» [Конюшкевич 2006, с. 74]. Как видно, уже на уровне грамматики и синтаксиса предложно- 55 падежные сочетания интерпретируются как единства.10 Существует две трактовки статуса предлогов в таких сочетаниях. Самая распространенная концепция, представленная в [Бондаренко 1961; Всеволодова 2002; Всеволодова 2005; Загнітко 2003-Загнітко 2007-3; Золотова 1973-Золотова 1988; Конюшкевич 2006] и многих других, определяет предлоги, союзы, артикли и т.п. именно как служебные слова. При этом констатируется, что «типичные служебные слова (например, предлоги и артикли) не отличаются от аффиксов ни с фонетической, ни с семантической точек зрения, но различаются по степени спаянности с основой» [Алпатов 1982, с. 69]. Однако понятие «степень спаянности» слишком уж привязано к конкретным ситуациям речевого означивания. Например, сочетание на дом может быть предельно спаянным в предложении «Она получила задание на дом», где между предлогом и полнозначным словом невозможна вставка других слов, и предельно расчлененным в предложении «На дом опустился туман», где между предлогом и полнозначным словом можно, например, вставить слово наш. Чем же тогда является комплекс на – словом или морфемой, или же в одних случаях он должен быть определен как адвербиальная морфема, а в других – как предлог? Малоубедительно в этой связи утверждение Г.А. Золотовой о том, что «роль предлогов представляется <…> более морфематической, хоть от морфемы они отличаются богатой и тонкой семантической дифференциальностью и неограниченной пополняемостью» [Золотова 1973, с. 94]. Каким образом устанавливается это большее «богатство и тонкость семантической дифференциальности», остается, к сожалению, непонятным. С другой стороны, в [Вихованець 1980; Касевич 1984; Курилович 1962; Пешковский 1956; Потебня 1958; Потебня 1999; Русанівський 1985 и др.] предлоги относят к особому типу морфем. Е. Курилович, например, указывает на то, что падеж с предлогом представляет собой единую форму, значение которой создаётся предлогом и падежным окончанием: предложно-падежный 10 Как будет показано ниже, они являются единствами и с точки зрения лексической семантики. 56 оборот – не группа слов, но слово, в котором предлог выступает в качестве морфемы [Курилович 1962, с. 175-203]. Еще более четко определяет статус служебных слов как аналитических морфем В.Б. Касевич: «Служебные слова – это грамматические морфемы (выделено мной. – В.Т.), которые могут отделяться от “своей” знаменательной морфемы другими лексическими единицами, в том числе и такими, с которыми данная служебная морфема не способна вступать в непосредственную грамматическую связь» [Касевич 1984, с. 55]. Следует обратить внимание на то, что как первая, так и вторая точка зрения основаны на поиске формального определения границ тождества речевых сущностей. По моему мнению, служебные слова, которые входят в состав синтаксем и могут формально сближаться как со словом (например, слова степени самый, наиболее; глагол-связка быть и т.п.), так и с морфемой (предлоги, частицы, артикли и т.д.), должны трактоваться только как часть речевой номинативной единицы. Они являются всего лишь речевыми маркерами грамматической ситуации в пределах сложного номинативного единства. Трудности в определении параметров выделимости слова-синтагмы связаны также с определением структурно-функционального статуса сокращенных компонентов в сложных аббревиатурах типа спецфонд, профсобрание, автостанция и т.п. Л.В. Щерба, например, считал, что здесь «одна из частей сложного слова является обыкновенным словом, а другая – своего рода префиксом или суффиксом (выделено мной. – В.Т.) с известным всякому значением, как, например, партработник, партбилет, партсобрание и т.п.» [Щерба 1957, с. 137]. Такая трактовка, как это ни странно, полностью противоречит самой возможности выделения аббревиатур и относит их не к «слово- и основосложениям», а к случаям аффиксации на базе простого слова. Действительно, если, соглашаясь с мнением Л.В. Щербы, считать, например, комплекс грамм- (<граммофонная) префиксом в слове грампластинка, то следует определить данное слово не 57 как аббревиатуру от граммофонная пластинка, а как префиксальное образование от слова пластинка. Однако, как справедливо указывал А.В. Солнцев, «номинативность слов определяется как понятийная, а номинативность морфем как ассоциативная» [Солнцев 1987, с. 135]. Если же говорить о номинативности конструктов аббревиатур, то для них убедительно звучит мнение Л.Ф. Каховской: «Составляющие аббревиатуру элементы не обладают собственным значением. Они являются произвольными усечениями компонентов исходного словосочетания и в момент деривации служат строительным материалом для создания нового слова» [Каховская 1980, с. 5]. Именно отсутствие собственного значения и явно отсылочная функция (ком отсылает к слову комитет, обл – к слову областной и т.д.) и не позволяет отождествить сокращенные части аббревиатурных наименований со служебными морфемами. В этом смысле интересна точка зрения А.Г. Лыкова, который небезосновательно предлагает считать такие аббревиатуры словосочетаниями, поскольку очевидно, что их первая часть абсолютно эквивалентна слову (специальный, профсоюзное, автобусная, партийный и т.д.) [Лыков 1976, с. 42]. Данное мнение может быть откорректировано следующим образом: аббревиатура должна рассматриваться как формальный, конденсированный дублет исходного словосочетания. Второй из выведенных А.И. Смирницким аспектов верификации слова – вопрос о его цельности – обычно интерпретируется как вопрос об отдельности слова-синтагмы от других слов-синтагм в речевой цепи. Как уже отмечалось, номинативную функцию выполняют не только слова, но и другие единицы. М.В. Федорова, например, констатировав, что «во всех языках, обладающих словами, как названия, точнее – средства номинации, используются не только отдельные слова, но и определенные группы слов», предложила выделять «три основных типа номинант, то есть речевых номинативных единиц: 1) однословные, или монолексемные; 58 2) комплексные с разграничением в их составе бинарных (из двух знаменательных слов) и собственно комплексных (из большего числа слов); 3) описательные» [Федорова 1979, с. 132]. Нужно отметить, что во многих случаях разграничить эти номинативные единицы практически невозможно. Так, например, часто указывается на то, что «при рассмотрении аппозитивных словосочетаний возникает проблема отличия словосочетания от сложного слова» [Молошная 1975, с. 36]. Что такое бал-маскарад, диван-кровать, жар-птица, Москварека, альфа-лучи – слово или словосочетание? Этот же вопрос возникает и при определении статуса «сложений», построенных на основе примыкания. Почему, например, быстрорастворимый считается словом, а нежно любимый – словосочетанием? В сущности, во многих работах говорится о том, что такое разграничение является условным и конвенциональным. Например, в упомянутых выше номинативных юкстапозитных единицах типа впередсмотрящий, глубокопромерзающий, далекоидущий, здравомыслящий и т.п., по мнению В.М. Никитевича, в сущности, «экономится лишь пропуск (пробел) между словами» [Никитевич 1985, с. 1516]. Это, кстати, дало повод А.М. Нелюбе сделать вывод о том, что единицы такого типа «не принадлежат к словообразовательной номинации (по крайней мере, к словообразовательным процессам)» [Нелюба 2009]. Следует отметить еще и то, что «речь человека изобилует такими словосочетаниями, компоненты которых фиксированы в своем составе, а отношения между ними закреплены» [Телия 1966, с. 5]. Это идиомы, такие, как не солоно хлебавши, темна вода в облацех и т.п., которые, по мнению некоторых лингвистов, «можно бы и не противопоставлять простым словам, а считать их только разновидностью слова – «составными словами» и рассматривать их в особом разделе лексикологии» [Ларин 1977, с. 126]. Да и не только идиомы, но и словосочетания-коллокации, «которые вычленяются рядом исследователей из общей массы относимых к фразеологическим, но отличаются от последних нулевой экспрессивностью и нулевой (в том числе 59 и утраченной) метафоричностью» [Федорова 1979, с. 135], например, магнитный железняк, грудная жаба, метеорологическая служба и др., можно назвать, «сочетаниями, эквивалентными слову» [Рогожникова 1977, с. 112]. Для определения синтагматических границ слова учеными чаще всего предлагаются критерии, которые базируются на абсолютизации формальных параметров его существования. Причиной поиска таких критериев оказываются не только трудности определения семантической основы тождества слова, но и общие тенденции середины-конца ХХ столетия – структуральные теории, развитие кибернетики, создание формализованных компьютерных языков. Кроме того, «привлекательность «формальных» определений слова <…> состоит в том, что в них используются объективные языковые показатели, что они основаны на “языковой материи”, которая наиболее доступна непосредственному наблюдению, а заключения о ней – прямой экспериментальной проверке» [Шмелев 1973, с. 57]. При этом многим лингвистам «представляется наиболее целесообразным дать определение слова (“слова вообще”) на основании некоторых однородных критериев» [Шмелев 1973, с. 56]. Как писал Ю.С. Степанов, «в формальной теории слова существенны три основных и тесно связанных пункта: формальное выделение слова, формальное определение слова и формальное разложение слова, причем решение первого вопроса является необходимой предпосылкой для решения двух остальных» [Степанов 1966, с. 64]. Последнее уточнение автора позволяет сконцентрировать внимание именно на первом пункте – проблеме формального выделения слова. Нужно сказать, что «в деле» формального выделения «слова-синтагмы» на наше сознание очень сильно воздействует не реальное языковое состояние, а доставшийся нам от школы стереотип письменной интерпретации данной единицы. На этом стереотипе, кстати, основаны и кибернетические определения слова, предложенные еще дескриптивистами, 60 осуществлявшими сегментацию потока речи, «определяя слово как отрезок текста, заключенного между двумя пробелами» [Турыгина 1988, с. 20]. Однако то, что хорошо для кибернетических систем, абсолютно неприемлемо для реального языка. Понятно, что «для описания письменной формы языка определить “слово” довольно легко. На письме слово – это последовательность букв между двумя пробелами» [Милославский 1981, с. 6]. Но нужно помнить о том, что письменная форма речи – это условная, конвенциональная кодификация, базирующаяся не на констатации реальных языковых состояний, а на принятых в обществе орфографических традициях (нормах), отражающих как живое употребление языковых единиц, так и некие «конвенции», либо обеспеченные традицией, либо не имеющие под собой никаких оснований. Поэтому письменная практика вряд ли может быть признана удачным критерием для выделения слов. Однако именно она нередко довлеет над нами, когда мы пытаемся решить вопрос о том, что же перед нами – сочетание слов или слово. Например, слитное и раздельное написание не с причастиями, мотивированное в большей мере именно влиянием конвенциональных правил орфографии, требует от нас в одних случаях интерпретировать единицы типа не написанный как слово, например, во фразе ненаписанный роман, а в других – как сочетание слов: не написанный мною роман, хотя как в первом, так и во втором случае семантика рассматриваемой единицы абсолютно идентична. Различие касается только семантики указанных фраз в целом. Конвенциональность правил слитного, полуслитного и раздельного написания, определяющих набор графических слов-синтагм, подтверждается неэквивалентными написаниями неэталонными носителями письменной речи как раз упомянутых выше спорных, двойственных единиц. Известно, что слитное написание в представлении пишущего является маркером тождества слова-синтагмы, полуслитное (дефисное) указывает на сложное слово особого типа, а раздельное выступает как немаркированный элемент противопоставления орфограмм. Последнее 61 может указывать и на аналитическую форму слова (буду учиться) и на дискретность слов (буду учителем). В неэталонном письме данные типы написаний достаточно часто смешиваются в следующих направлениях: а) замена слитного написания полуслитным: Этого не может быть, потому что мою маму зовут так-же (орфография (http://kurilka.citforum.ru/data/misc/stories/fan_letters.html) оригинала); б) замена слитного написания раздельным: Мы две подружки, очень похожие на группу «Тату», я понимаю, может, вы их не любите, за то мы любим друг друга, а в перерыве вас (орфография (http://kurilka.citforum.ru/data/misc/stories/fan_letters.html) оригинала); б) замена раздельного написания слитным: Если он влезет в решение чьей судьбы и зделает вред общему нашего Мира то снего спрос. Но он этого недопустит я знаю сним сидел, кнему Вы братва можете обращаться по делу правильности нужных бумаг их как писать грамотно – и безошибок (http://sedok.narod.ru/d_files/fr18.htm) (орфография оригинала). Как видим, практически все зоны сложности дифференциации слова-неслова представлены здесь как лабильные. Это и подтверждает то, что приведенные выше суждения об эмпиричности слова не находят своего подтверждения в реальной речевой практике. Причем даже в той практике, в которой выделение слова, казалось бы, не должно вызывать затруднений. Как писали И.А. Стернин и З.Д. Попова, «что такое слово, кажется, известно всем носителям языка. Каждый, кто учился писать, знает, что слово от слова отделяется пробелом, что слова пишутся раздельно. Но почему же многие останавливаются в недоумении перед тем, как написать /то же/ и /тоже/, /также/ и /так же/, /вышесказанный/ или /выше сказанный/, /недовыполнение/ или /не довыполнение/ и др. Очевидно, далеко не всегда можно точно установить, имеем ли мы дело с одним или с двумя словами. А как оценить, например, такую пару: /никем – ни с кем/, одно слово или три 62 слова?» [Попова 1984, с. 22]. Что же тогда говорить о слове не в письменной, а звучащей, то есть наиболее естественной речи? Итак, ограниченность графематических критериев выделения слова очевидна, «ведь ими можно воспользоваться только при чтении готового текста. А если нужно самому написать что-либо, то как узнать, в каком месте разрывать последовательности букв пробелами?» [Попова 1984, с. 22]. Нужно сказать, что большие сложности в применении однородных критериев отмечаются при их выведении не только на базе письменной, но и на базе устной речи. Концепции выделения слова-синтагмы на основе однородного признака непроницаемости, можно теории свести к трем теориям: цельнооформленности и теории теории воспроизводимости. Наиболее известным «пропагандистом» теории непроницаемости был П.С. Кузнецов, предложивший свои параметры выделения слова в работе «Опыт формального определения слова» [Кузнецов 1964]. Данные параметры имеют явно фонетическую природу. По мнению ученого, «звуковая последовательность, могущая быть ограниченной паузами любой длины, есть звуковая последовательность, которая содержит по крайней мере одно самостоятельное слово»; «звуковая последовательность, определенная указанным выше способом, внутрь которой не может быть вставлена другая звуковая последовательность, определенная таким же способом, и есть отдельное самостоятельное слово» [Кузнецов 1964, с. 76-77] (см. также: [Науменко 2003, с. 7; Панов 1967, с. 167-178; Трубецкой 1987, с. 39 и др.]). Если говорить о первом тезисе П.С. Кузнецова, то он представляет собой экстраполяцию «критерия письменной речи» (наличие пробелов на письме) на устную речь (наличие пауз в речи). Часто к паузуации добавляют еще единое и единственное ударение для каждого слова; определенную слоговую структуру слова; гармонию гласных; определенные позиционные изменения звуков или тона; пограничные сигналы, свидетельствующие о начале или конце слова и т.д. (см.: [Трубецкой 1960, с. 299-325]). Каждый из 63 упомянутых критериев в реальности может находиться в зоне двоякой трактовки. Например, одноударность может характеризовать не только слово, но и предложно-падежную синтаксему, например в город, из лесу, а двуударность – слово, например ветроустановка, штандартенфюрер; после слова, заканчивающегося на согласный, русское полнозначное слово может начинаться с [ы], например, смог [ы]грать, стал [ы]скать; в заимствованных словах возможны «звукосочетания, не характерные для корпуса слова», например [нг] митинг, [мт] почтамт и т.д. Справедливо в этом отношении мнение М.А. Ярмашевич: «В качестве фонетических признаков оформления слова выделяются и другие, более основательные, хотя для разных языков разные: например, это оглушение конечного согласного в русском языке (отмечу отсутствие такового перед начальным звонким согласным следующего слова: горо[д] ждал. – В.Т.), сильный приступ [?] в немецком языке (немецкое слово, однако, может иметь гортанную смычку в начале – das Eis [?aIs] «лёд», но тот же признак может сигнализировать границу между префиксом и корнем – ver[?aIz]en «оледенеть». – В.Т.), позиционная редукция, характерная для многих языков (отметим, что часто единая модель редукции характеризует сочетание слов: [Λтвинта], а дискретные модели – одно слово: [снéгъ/зъдиержáнијь]. – В.Т.). Но и эти признаки срабатывают не всегда (выделено мной. – В.Т.)» [Ярмашевич]. Если говорить о чистой непроницаемости (второй тезис), то как, например, трактовать те сочетания слов, в пределы которых невозможна вставка других единиц, например, ко мне, восемьдесят шесть, на дом, по утрам, в нерешительности, на днях и т.п.? Внутрь этих сочетаний мы не можем вставить другие «звуковые последовательности, определенные таким же способом», но, несмотря на это, все же считаем их двухсловными, хотя и эквивалентными слову [Сергеева 2000, с. 60-61]. Достаточно парадоксально в упомянутой концепции представлено и определение служебного слова: «Звуковая последовательность, которая не 64 является ни отдельным самостоятельным словом, ни частью отдельного самостоятельного слова, есть служебное слово» [Кузнецов 1964, с. 76-77]. Другими словами, служебное слово становится в данной теории реляционной сущностью, выделение которой всецело зависит от выделения знаменательного слова. А поскольку механизм этого выделения работает далеко не всегда, то и трактовка того или иного слова как служебного не всегда может быть признана точной. Это позволяет утверждать следующее. Во-первых, тактики выделения слова на основе принципа непроницаемости в пределах одного языка не абсолютны – они распространимы только на определенную группу единиц, лексемная атрибуция которых и без его использования не вызывает затруднения. Во-вторых, с его помощью невозможно определить слово как универсалию – принципы непроницаемости для разных языков будут разными в той мере, в какой различаются фонетические системы этих языков. В качестве альтернативы указанному принципу А.И. Смирницкий выдвигал принцип цельнооформленности как основополагающий, «наиболее существенный и сам по себе достаточный признак, отличающий сложное слово от словосочетания» [Смирницкий 1956, с. 202]. Согласно этому принципу, слово характеризуется морфологическим единством – оно определяется как единица речи, на которую распространяется единый набор грамматических категорий: «Цельнооформленность означает, что слово имеет один морфологический показатель, грамматически оформляющий все слово. Этот признак отграничивает слово от морфемы и от словосочетания, имеющего два отдельных морфологических оформления» [Зенков 1998, с. 100]. Например, для «составных слов» типа жар-птица, альфа-луч и словосочетаний с аппозитивной связью предполагалось, что в случае «словосочетаний с аппозитивной связью и сложных слов, состоящих из основ двух существительных, цельнооформленность выражается в неизменяемости по падежам и числам 1-го компонента анализируемого 65 образования, например, Летит жар-птица и Любуюсь жар-птицей, а отсутствие цельнооформленности, или раздельнооформленность – в изменяемости по падежам и числам 1-го компонента, например, Открылась фабрика-кухня и Обедаем на фабрике-кухне» [Молошная 1975, с. 37]. Однако, используя упомянутое определение, мы вынуждены были бы считать, с одной стороны, словосочетаниями слова типа двести, триста, потому что обе их части имеют падежные окончания (ср.: двумстам, тремстам), а с другой – словами словосочетания типа хорошо усвою, быстро достану, так как только вторая их часть изменяется по лицам и числам (ср.: хорошо усвою, быстро достанешь). Кроме того, словом следует считать и предложно-падежные сочетания, сочетания с артиклем и т.п. – они вполне очевидно настроены на выполнение единой морфологической функции. Это, конечно же, вызывает сомнения. Поэтому-то многие ученые и отмечают «условность (в синхронном плане) разграничения сложных слов и словосочетаний по формальным признакам» [Мокиенко 1989, с. 108]. Онтологическую неправомерность определения тождества слова-синтагмы через его «морфологическую целостность» отмечает и М.В. Панов: «При определении слова через грамматическую форму мы упускаем специфику лексики; лексику определяем как нечто не лексическое, слово определяем через часть слова – притом через лексически как раз менее всего характерную часть (через аффикс)» [Панов 1956, с. 137]. Это утверждение очень важно для меня – я к нему еще вернусь, когда буду говорить о неубедительности и неадекватности абсолютизации формальных параметров при определении семантического по своей природе явления номинации. М.В. Панов, в свою очередь, предположил, что в основе выделения слова-синтагмы лежит признак идиоматичности, под которым понимается то, что слова – «это смысловые единства, части которых не составляют свободного сочетания» [Панов 1956, с. 146]. Однако, как указывала Т.Н. Молошная, «нередко предлагаемый признак идиоматичности, как определяющий сложное слово, в отличие от неидиоматичности, как 66 определяющей словосочетание, не может быть признан критерием для их разграничения, потому что не только сложные слова, но и словосочетания могут быть идиоматичными, например, железная дорога, зеленый змий и пр.» [Молошная 1975, с. 37]. Сам же М.В. Панов не видит здесь никакого противоречия, считая что «во многих фразеологических сочетаниях (железная дорога, дом отдыха) на раздельность указывают грамматические признаки. Они спорят с главными, решающими признаками слова. Однако те единицы, в которых основные признаки слова не в ладу со второстепенными, составляют полосу переходных случаев от слова к не-слову. <…> Переходные случаи такого рода должны быть: они есть в любой области языка. Если сказанное верно, т.е. если сочетание не видно ни зги и пр. – слово, хотя и занимающее переходные области к не-словам, то, кроме ранее сделанного вывода: слово – то, что фразеологично, – следует сделать и иной: то, что фразеологично – слово» [Панов 1956, с. 146]. Для обоснования справедливости моих сомнений приведу точку зрения И.Е. Аничкова: «Обычному, не высказанному никем, но всеми негласно, как само собой разумеющемуся, понимаемому взгляду о необъятности всего множества возможных на каждом языке сочетаний я противопоставляю тезис об устойчивости и уловимости сочетаний слов. Ни одно слово не может вступать в сочетание с любым другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным числом других слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны и установлены» [Аничков 1992, с. 141]. Более того, по мнению ученого, «идиомы не случаются в языке спорадично, а заполняют язык сплошной массой, лучше сказать, составляют язык. Любой отрезок любого текста или живой речи состоит целиком из идиом, имеет свою идиоматику, как и свою фонетику и свой синтаксис, и подлежит рассмотрению с точки зрения идиоматики, как и с точки зрения фонетики или синтаксиса» [Аничков 1997, с. 108]. Другими словами, по мнению ученого, любое словосочетание языка является идиоматическим. Это мнение И.Е. Аничкова формирует 67 серьезный контраргумент рассматриваемой теории – в силу того, что все словосочетания идиоматичны, отличить их от слов и, наоборот, слова от них в пределах концепции М.В. Панова невозможно. Как пишет М.А. Ярмашевич, «нет ни одного признака, который сам по себе, без учета других, позволил бы однозначно решить проблему отдельности слова. Поэтому большинство исследователей говорят о комплексе признаков, характеризующих слово как центральную единицу языка и относящихся в той или иной мере только к знаменательным словам» [Ярмашевич]. Попытку найти такой комплекс признаков на основе примирения концепций цельнооформленности и идиоматичности предпринял Д.Н. Шмелев, считавший, что «оба критерия неизбежно дополняют друг друга: один учитывает форму выражения единицы, другой форму ее содержания. Нет никаких оснований сожалеть о разнородности этих критериев: сама определяемая единица является двусторонней единицей, ее двусторонний характер и должен быть отражен в определении, – следовательно, определение как раз должно быть построено на разнородных критериях» [Шмелев 1973, с. 59]. По мнению лингвиста, «слово – это единица наименования, характеризующаяся цельнооформленностью (фонетической и грамматической) и идиоматичностью» [Шмелев 1973, с. 61]. Например, слово снегоочиститель – отдельное слово, так как его цельнооформленность (парадигма существительного) подкреплена идиоматичностью, то есть не создаваемостью, а воспроизводимостью в речи, что отличает его от словосочетания очиститель снега: если снегоочиститель имеет узкое и четко определенное значение – это «приспособление, машина для механической расчистки пути при снежных заносах», то очистителем снега можно назвать и дворника, и такую машину, и химический состав и т.д. Нетрудно заметить, что и в данном случае повторяются те же сложности, которые возникают и при раздельном использовании упомянутых критериев, и их комплексное использование отнюдь не снимает проблемы. Например, выражение хорошо изученный 68 может быть определено и как идиоматическое, и как цельнооформленное, но в то же время оно остается не совсем словом. Д.И. Шмелев – далеко не единственный лингвист, который стремился к комплексности дефиниции слова. Н.М. Шанский, например, попытался дать определение, учитывающее все параметры существования слова. По мнению лингвиста, «основными признаками слова как лингвистической единицы в целом (во всей своей совокупности свойственными лишь классическим словам) являются следующие: 1) фонетическая оформленность, 2) семантическая валентность, 3) непроницаемость, 4) недвуударность, 5) лексико-грамматическая отнесенность, 6) постоянство звучания и значения, 7) воспроизводимость, 8) цельность и единооформленность, 9) преимущественное употребление в сочетаниях слов, 10) изолируемость, 11) номинативность, 12) фразеологичность» [Шанский 1972, с. 10]. Правда, практически сразу ученый сделал оговорку, что существуют первичные признаки слова и вторичные. Первичными он считал «предельный минимум признаков, характерных для слова», в который входят «фонетическая оформленность, семантическая валентность, недвуударность, лексико- грамматическая отнесенность и непроницаемость» [Шанский 1972, с. 31]. Однако и данные принципы либо вступают в противоречие друг с другом (например, недвуударность и лексико-грамматическая отнесенность несоединимы при выделении слова (словосочетания) жар-птица), либо вообще могут характеризовать не слово, а сочетание слов (например, те же критерии в приложении к сочетаниям знаменательных слов со служебными с тобой, в лесу и т.д.). Таким образом, формальные методики выделения слова, пытающиеся определить нечто номинативное через его формальные признаки, не могут быть признаны удачными – мной не обнаружено точек соприкосновения критериев, предложенных в многочисленных теориях определения слова. Проблема состоит в том, что декларированному выше совмещению критериев препятствует нетождественность трактовки декларированных в 69 них спорных, переходных явлений. Например, фонетический критерий определения слова, базирующийся на абсолютизации одноударности, противоречит синтаксическому критерию непроницаемости, согласно которому только «между словами (а не морфемами. – В.Т.) возможны вставки других слов» [Милославский 1981, с. 7]: сочетание в город с точки зрения фонетического определения слова является одной лексемой, поскольку имеет только одно ударение, а с точки зрения синтаксического определения представляет собой сочетание двух слов, поскольку между ними можно вставить, например, слово далекий (в далекий город). То же касается и других предложенных лингвистикой критериев. «Создано много определений слова, – отмечает М.В. Панов, – они разнообразны, но у всех есть одна общая особенность: эти определения требуют по самому существу своему небольшого дополнения в скобках: Слово – это то, что называет (но иногда слово и не называет: ах, за, бы). Слово – это то, что передает понятие (а иногда и не передает: это Сидор Павлович). Слово – то, что легко выделяется в предложении (иногда не очень, о чем говорят частые ошибки малограмотных: аунего изавтра временито можетбыть ненайдется). Слово – то, что имеет определенные фонетические признаки (увы, иногда их и нет). И т.д., и т.д. Все определения, очевидно, улавливают только отдельные, причем обычно даже не самые существенные стороны слова» [Панов 1956, с. 129-130]. Абсолютно справедливы слова Д.С. Шмелева: «Все эти определения являются, конечно, по существу не определением “единицы, неотступно представляющейся нашему уму”, о которой говорит Ф. де Соссюр, а всего лишь правилами выделения того, что мы должны (согласно данному определению) считать “словом”» [Шмелев 1973, с. 56]. Неудачность комплексных определений слова подвигла некоторых ученых к предположению, что только «рассмотрение морфологического, синтаксического, лексического слов как разных единиц (а не слова вообще. – В.Т.) снимает указанные трудности» [Алпатов 1982, с. 69]. Разделение слов на фонетические и морфологические (вернее, 70 семасиологически-морфологические) было предложено еще И.А. Бодуэном де Куртенэ. Как писал В.М. Алпатов, «традиционно нерасчлененное понятие слова, имеющее прежде всего психолингвистическое значение, И.А. Бодуэн де Куртенэ разделил на два независимых понятия двух разных по своим свойствам единиц языка. Более того, как фонетическое, так и семасиологически-морфологическое слово вовсе не обязательно совпадает со словом в традиционном понимании. <…> Тем самым единице, вполне эквивалентной традиционному слову, вообще не находится места в концепции ученого» [Алпатов 2001, с. 23]. Определение фонетического слова, предложенное И.А. Бодуэном де Куртенэ, до сих пор остается неизменным. По мнению ученого, «каждая из фонетических фраз делится на фонетические слова, состоящие из слогов, объединенных в одно целое одним лексическим акцентом (одним ударением) и объединяющим представлением фонетической организации цельного слова как состоящего из слогов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2, с. 76]. Например, во фразе «На то щука в море, чтоб карась не дремал» ученый выделял фонетические слова на тó, щỳка, в мóре, чтоб карáсь, не дремáл. В определении морфологического (семасиологически- морфологического) слова главным является то, что «каждая из сложных синтаксических единиц распадается на простые синтаксические единицы, т.е. на отдельные уже не фонетические, но семасиологически-морфологические слова, выделяемые из случайной связи благодаря тому, что они попадаются в других сочетаниях» [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2, с. 78]. Предлагались разные критерии выделения морфологического слова. Некоторые лингвисты предполагают, что морфологическое слово – это лексема как совокупность словоформ, переводя, таким образом, проблему из области речи в область языка. Однако что включает в себя понятие словоформы, остается не уточненным. Можно ли считать словоформой сочетание слова степени с прилагательным, например, самый красивый, сочетание вспомогательного модального глагола с инфинитивом могу писать и т.д. 71 В концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ морфологическое слово переводится на синтаксический (речевой) уровень и абсолютно эквивалентно синтаксеме, которую сейчас определяют как «синтаксическую форму слова» [Загнітко 2007-3, с. 115], комплекс синтагмных единиц, выполняющих единую синтаксическую функцию. В упомянутой выше фразе о щуке ученый выделял следующие семасиологически-морфологические слова: на то, щука, в море, чтоб не дремал, карась [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2, с. 78]. Иногда говорится о том, что морфологическим словом «именуется слитное произношение сочетаний служебных слов со знаменательными словами» [Керимов 2003]. Это не совсем правильно. Сочетания, формирующие морфологическое слово, не ограничиваются проклитическими и энклитическими формами типа на столе, смог бы, но охватывают и большую группу комбинаций полноударных единиц типа буду читать, наиболее удачный и т.п. Именно для определения морфологического слова наиболее приемлемо применение принципа цельнооформленности. Но в этом случае, как уже говорилось выше, придется, с одной стороны, считать словами поливербальные комплексы типа быстро говорящий, а с другой, разделить на несколько морфологических слов двуоформленные лексемы типа двести (двухсот). Лексическое слово – это «совокупность всех его грамматических форм во всех имеющихся тождественных и значениях. внутренне <...> Совокупность взаимосвязанных формально лексико-семантических вариантов, т. е. конкретных, непосредственно воспринимаемых реализаций его в тексте» [Новиков 1982, с. 113]. Однако именно для лексического слова и существует проблема в отграничении от рядоположенных номинативных единиц. Чем является предлог или артикль? Словом или морфемой? Как интерпретировать сочетание девяносто девять? Как слово или как словосочетание? Но даже если и проигнорировать описанные сложности в определении каждого из обозначенных типов слова, необходимо констатировать, что «многовекторный» подход к его описанию становится преградой для его 72 «поимки». При таком подходе во фразе, например, Стоило бы об этом говорить чаще обнаруживается шесть лексических слов, четыре фонетических (об этом так же, как и стоило бы трактуются как цельные фонетические слова – они одноударны), три морфологических (говорить чаще должно быть рассмотрено как одно слово, так как оно имеет единый набор грамматических значений, так же, как и уже упомянутые выше комбинации об этом и стоило бы). Вряд ли можно считать такой подход убедительным. Кроме того, здесь возникает еще одна сложность, на которую в свое время указал Н.М. Шанский: «Различные слова могут быть словами в разной степени» [Шанский 1972, с. 10]. Речь идет о различии номинативного статуса служебного и знаменательного слов – служебное слово выполняет функции, которые не может выполнять знаменательное, и наоборот. Как отмечает Л.Л. Буланин, «если в формальном отношении знаменательные и служебные слова, при всех различиях между ними, сопоставимы и могут считаться словами, то в функциональном отношении между ними нет ничего общего, поскольку служебные слова являются выразителями грамматических отношений и в этом смысле выполняют служебную, вспомогательную функцию» [Буланин 1976, с. 11]. Иными словами, знаменательные слова – это слова с лексической доминантой, а служебные – с грамматической, что, собственно говоря, требует определения как минимум двух моделей выделения слова – для знаменательных и для служебных единиц. Другую «многовекторность» отмечает Л.В. Щерба, который говорит о различии определения слова для разных языков: «В самом деле, что такое слово? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному (выделено мной. – В.Т.). Из этого, собственно, следует, что понятия «слово вообще» не существует» [Щерба 1957, с. 9]. Соглашаясь с мнением Л.В. Щербы, В.М. Жирмунский уточняет его следующим образом: «Формальные признаки слова могут по-разному взаимодействовать друг с другом, и вместе с тем они не имеют универсального характера. Они различны в разных языках в 73 зависимости от особенностей их фонетико-грамматического строя» [Жирмунский 1961, с. 4]. Именно поэтому, по мнению И.Р. Выхованца, «понятие слова, очевидно, нужно определять относительно конкретного языка или группы родственных языков» [Вихованець 1988, с. 14]. Действительно: то, что приемлемо для выделения слова во флективнофузионном языке, не работает в агглютинативном, изолирующем и инкорпорирующем, и наоборот. Например, упомянутый выше принцип цельнооформленности может использоваться, хотя и с некоторыми оговорками, во флективно-фузионных, изолирующих и агглютинативных языках, но он абсолютно неприменим для инкорпорирующих, потому что «в неинкорпорирующих языках акцентным единством и аффиксальной морфологизацией обладает, как правило, слово, а в инкорпорирующих – словосочетание или предложение в целом» [Аничков 1992, с. 8]. Подытоживая сказанное, следует констатировать: 1) словоцентрические теории не могут определить слово как целостную единицу – каждый раз, говоря о слове, мы должны уточнять, какое слово имеется в виду – фонетическое, лексическое, морфологическое; при этом даже такой подход не снимает противоречий и трудных мест – и при определении, так сказать, уровневых слов существуют периферийные зоны, для которых трудно установить, что же перед нами, слово или другая единица; 2) словоцентрические теории не могут определить слово и как языковую универсалию, так как оно часто имеет разные параметры существования в разных языках. Все это становится веским основанием для того, чтобы утверждать, что слово в теории – «неуловимая» единица, определение которой в целом как базовой номинативной сущности невозможно. В этой связи прав Н.А. Луценко: «Определения появляются, критике слова, сменяя одно другое, появляются приходится лишь констатировать и их неудовлетворительность, а слово по-прежнему, как выразился один лингвист, 74 остаётся в бегах» [Луценко 2003, с. 3]. 2.3. Несловоцентрические теории базовой номинативной единицы Констатация того, что «понятие слова оказывается принципиально неопределимым» [Теньер 1988, с. 39], привела к появлению в науке мнения о том, что «необходимо освободиться от неопределенного понятия слова» [Балли 1955, с. 315] и заменить его другим понятием, более точно отражающим явление и процесс означивания. Ученые предлагали разные пути решения проблемы поиска основной единицы языка вместо слова. Можно условно разделить «несловоцентрические» теории на две группы – с формальной и семантической доминантой. Формальные теории ищут минимальную значащую форму, семантические – форму, связанную с минимальным значением. Отмечаются «дословные» и «надсловные» концепции. Наиболее авторитетными дословными теориями, то есть теориями, предполагающими, что базовая языковая единица меньше слова, являются концепции Ш. Балли, Л. Блумфильда, А. Мартине А. Фрея, и др. Формальные теории дословной базовой языковой единицы были представлены в [Блумфильд 1960; Блумфильд 1968; Мартине 1963; Фрей 2006] и некоторых других. В частности, в концепции А. Мартине в качестве центра языковой системы выводятся «монемы» (морфемы) [Мартине 1963, с. 383] – значащие единицы, объединяющиеся в высказывании в синтагмы, которые могут соответствовать и морфеме, и отдельной словоформе: «Монемы не делимы на меньшие единицы, обладающие смыслом. Это не означает, что они вообще неделимы. Монемы можно расчленять на части, не имеющие смыслового значения. Например, в монеме мест- мы можем выделить четыре элемента: м, е, с, т. Ни один из этих элементов не является сам по себе носителем какого-либо смысла. Но каждый из них встречается в других монемах, служит материалом для их построения и средством 75 отличения одной значимой единицы от другой (ср.: тыл, тол или цел, мел, дел и т. п.). Такие элементы называются фонемами» [Ветров 1968, с. 43]. По тому же пути шел и Л. Блумфильд, который считал, что основной единицей языка должно быть признано не слово, а «форма», минимальной, и, следовательно, базовой разновидностью последовательно которой выделяются является слово, морфема. словосочетание Потом и ученым предложение [Блумфильд 1960, с. 146]. Эта мысль, кстати, неожиданно находит поддержку и в работах Ф. де Соссюра, который хоть и представлял слово как центральную единицу языка [Соссюр 1977, с. 143], в то же время считал, что осознание говорящими единиц, более мелких, чем слово (корень, аффиксы), чья реальность подтверждается неологизмами и образованиями по аналогии [Соссюр 1977, с. 72], позволяет предположить их онтологическую природу, а не лингвистическую моделируемость. Однако если слово существует до предложения, независимо от него, то этого нельзя сказать об элементах слова по отношению к нему как единице [Соссюр 1977, с. 159]. А это значит, что в реальности базовой, так сказать, феноменологической единицей, которая создает язык, является не слово, а именно эти конструкты: «Понятие слова несовместимо с нашим представлением о конкретной единице языка. <...> Не в слове следует искать конкретную единицу языка» [Соссюр 1977, с. 138]. Как отмечает Н.А. Луценко, «взаимоотношения морфемы и слова <…> остаются совершенно невыясненными. Странно, но факт: лингвисты затрудняются в определении исходного звена при анализе языка как системы, отдавая предпочтение то слову, то морфеме, не отказываясь при этом от сведения связи между морфемой и словом к реляции части – целого. Соответственным образом предложение истолковывается то как сочетание слов, то как набор морфем. Очевидно, это связано с тем, что лингвисты синхроническую ценность понятий слова и морфемы не в состоянии осмыслить концептуально. Считается, что слово находится в определенной зависимости от морфемы, а морфема от слова. Достаточно очевидно, что подобная “диалектика” суждений, в сущности, ничего не объясняет» 76 [Луценко 2003, с. 9]. Для достижения ясности в этом вопросе необходимо уточнить, что же имеется в виду, когда используется атрибут «основная» в применении к той или иной языковой единице? По моему мнению, выделение основной единицы языка должно быть связано с выполнением ею той или иной языковой функции. Слово, как известно, «является номинативной единицей, единицей наименования» [Шмелев 1977, с. 53], оно выполняет номинативную функцию. К.Г. Красухин пишет: «И все же: какова основная функция языка, то есть такая, которую не может выполнять другая знаковая система? На эту роль, очевидно, может претендовать номинация или приписывание предметам некоторых символических единиц, то есть знаков» [Красухин 1996, с. 382-386]. Таким образом, понятие основная единица языка в нашем случае абсолютно идентично понятию основная номинативная единица. Однако «номинативность есть свойство языкового знака называть что-нибудь (выделено мной. – В.Т.)» [Солнцев 1987, с. 133]. Но, как известно, ни основы слова, ни аффиксальные морфемы «ни с каким элементом действительности не соотносятся» [Земская 1964, с. 39], то есть имеют не номинативную, а логико-грамматическую природу [Немченко 1984, с. 17], поэтому и не могут считаться основными номинативными единицами языка. Критерии выделения базовой номинативной единицы, следовательно, необходимо искать именно в семантике, поскольку именно семантика языковых единиц представляет собой концентрированное отражение процесса и явления номинации. По этому пути идут «дословные» семантические теории, задача которых состоит в поиске минимального языкового семантического комплекса и определение на его основе возможных базовых номинационных систем. Так, например, в концепции Ш. Балли понятие «слово» заменяется понятиями «семантема» и «синтаксическая молекула». Семантемой ученый называл «знак, выражающий чисто лексическое простое или сложное понятие независимо от его формы (основу loup-, march-; простое слово loup, rouge; суффиксальное слово louveteau, rougeâtre; сложное слово loup-cervier, 77 faim de loup и т.д.)» [Балли 1955, с. 317]. Термином же синтаксическая молекула обозначался «всякий актуализированный комплекс, состоящий из семантемы и одного или нескольких грамматических знаков, актуализаторов или связей, необходимых и достаточных, чтобы она могла функционировать в предложении. Так, ce loup является молекулой, потому что без ce семантема loup не образует синтаксического механизма» [Балли 1955, с. 317]. Здесь центром системы языка становится не морфема (монема, форма), выделение которой явно формально, а семантически законченная единица, которая в традиционной лингвистике отождествляется с основой, вернее, некая сущность, связываемая только с лексическим смыслом – семантема: «Семантема содержится в основе (выделено мной. – В.Т.) и не пользуется никакой независимостью» [Балли 1955, с. 318]. Если экстраполировать предложенные Ш. Балли сущности на приведенное мной противопоставление языковой и речевой номинации, можно предположить, что семантема – единица языкового уровня, а синтаксическая молекула – речевого, поскольку в семантеме концентрируется лексическое наполнение некоей формальной единицы, оторванное от конкретных проявлений этого наполнения в конкретных морфолого-синтаксических условиях речи, а синтаксическая молекула как раз привязывает это наполнение к конкретным речевым ситуациям, оформляя потенции синтаксемы как факт диктума. Для французского – аналитического – языка такое определение, на первый взгляд, приемлемо, потому что, в сущности, даже вырванный из речи фразеологизм faim de loup представляется носителю языка сочетанием лексических основ. Поэтому и создается впечатление, что на уровне языка в нем реализуется чистый лексико-семантический комплекс. Это впечатление обманчиво, что косвенно подтверждают факты синтетических языков, где даже простое слово не может быть определено на эмическом уровне как чистая основа. Как справедливо отмечал В.И. Дегтярев, «лексическое и грамматическое значения в смысловой структуре слова (номинатемы. – В.Т.) образуют цельные семантические 78 комплексы» [Дегтярев 1973, с. 31]. Например, слово красивый даже для языкового уровня свободно членится на основу и флексию (вернее, потенциальный набор флексий), хотя, несомненно, вне речи может быть определено как чистый семантический комплекс. Грамматические значения «семантемы» в этом комплексе также присутствуют, во-первых, в виде грамматических общекатегориальных архисем – рус. красивый относится к прилагательным (архисема «признак, качество»), фр. loup – к существительным (архисема «субстанция, существо»), во-вторых – в виде набора потенциальных частных грамматических значений, которые определяются грамматической архисемой (падеж, число у существительных) или местом в языковой системе (склонение, род у неодушевленных существительных). Иначе и быть не может, поскольку, как это будет показано ниже, «роль грамматических значений – смыслоорганизующая» [Дегтярев 1973, с. 31]. Возможно, именно поэтому и сам Ш. Балли указывал: «Можно было бы полагать, что французский язык, в той мере, в какой он оказался незаинтересованным в окончаниях, освободил семантему или основу от ее грамматической оболочки; и действительно, он заменил окончания местоимениями-субъектами, вспомогательными глаголами, предлогами и различными частицами, которые и должны были освободить семантему. К сожалению, тенденция к уплотнению имеет следствием порабощение семантемы этими элементами» [Балли 1955, с. 318]. На самом деле, никакого порабощения нет: просто, вместо одних, синтетических, как это будет показано ниже – во многом избыточных, грамматических маркеров, легко вычленяемых из слова или другой номинативной единицы, система предложила другие – адекватные, соответствующие сущности грамматики, аналитические маркеры. Заложенные в языковой единице грамматические потенции речи никуда не исчезли. Они реализовались в других, абсолютно достаточных морфологических комплексах. Предположим, что отказ от абсолютизации «аграмматичности» семантемы привел бы, в конечном итоге, Ш. Балли к идее существования 79 единого языкового лексико-грамматико-семантического комплекса, не только аккумулирующего в себе «чистое понятие», но и относящего это понятие к определенному грамматическому классу наименований с присущими этому классу потенциями реализации его грамматико-семантических множителей, что, в принципе, совпадает с результатами моего исследования. Во многом на семантику, номинацию настроены теории, предполагающие в качестве номинативной базы языка надсловные единицы. Так, например, Г.Г. Белоногов, разрабатывавший системы машинного перевода, пришел к выводу, что «в естественных языках слово на самом деле не является основной смысловой единицей, как многие века утверждалось. Основной единицей смысла является понятие. Понятий очень много: по нашим предположениям, в естественном языке их сотни миллионов. Тогда как разных слов всего около одного миллиона. Поэтому большинство понятий выражаются словосочетаниями, причем смысл этих сочетаний, как правило, несводим или не полностью сводим к сумме составляющих их слов. Вот почему, с нашей точки зрения, основными единицами при переводе должны быть не отдельные слова, а словосочетания (выделено мной. – В.Т.), выражающие понятия, наименования понятий, отношения между понятиями, и фразеологические элементы, отражающие типовые ситуации» [Белоногов 2002, с. 143]. Кстати, эту же мысль, задолго до Г.Г. Белоногова, высказал И.Е. Аничков: «Каждое слово в каждом языке в определенный момент его развития входит в ограниченное количество более или менее устойчивых сочетаний слов и в каждом языке в определенный момент обращается ограниченное число сочетаний. <…> Общее число этих устойчивых или застывших сочетаний для каждого языка относительно невелико. В то же время любая фраза, произнесенная или взятая из любого текста, полностью из них состоит» [Аничков 1992, с. 141]. Однако и в этом случае проблема также не решается. Просто, теперь необходимо установить критерии, отличающие словосочетания данного типа от слов. А это так же 80 сложно, как и установление критериев отличия слова от словосочетания. Непонятно, например, как мы должны определять компоненты нераспространенных односоставных предложений типа Светает. Ночь. Как слова? Как словосочетания с опущенным компонентом? Я считаю, вслед за сторонниками семантических теорий выделения базовой номинативной единицы, что для определения границ речевой номинации доминантным действительно должен быть тот принцип, использование которого очевидно вытекает из её природы. Слово в целом и в его парадигматической и синтагматической реализациях – это, «номинативная и когнитивная единица языка, которая служит для именования и сообщения знаний о предметах, признаках, процессах и отношениях реальной действительности (выделено мной. – В.Т.)» [Столярова 2003, с. 121]. Приведенное определение дает все основания предполагать, что в основе дискретизации слова или, точнее, речевой номинативной единицы в речевом потоке должны быть семантические принципы, которые, на удивление сторонников словоцентрических теорий, в реальности не работают. Это отмечалось уже В.М. Жирмунским: «Семантическое единство слова (то есть его смысловая цельность и самостоятельность) обязательно для всякого слова и представляется основой цельности и самостоятельности формальной, однако, взятое само по себе, оно еще недостаточно (выделено мной. – В.Т.)» [Жирмунский 1961, с. 3]. Об этом же пишет и Э. Сепир: «Первое наше побуждение – определить слово как языковой символ, соответствующий отдельному понятию. Но <...> подобное определение немыслимо» [Сепир 1993, с. 29]. Как отмечает Ю.С. Маслов, «мы не можем ограничиться указанием на то, что слово – это "значащая единица в составе предложения", "звук или комплекс звуков, обладающий значением" и т.п. Такие формулировки не являются неверными, но они приложимы не только к словам, но и к другим значащим единицам, меньшим или большим, чем слово (выделено мной. – В.Т.)» [Маслов 1987, с. 88]. 81 Неубедительной попыткой решения проблемы отграничения слов от словосочетаний на основе семантического принципа было репрезентированное в некоторых исследованиях утверждение того, что словосочетания «выражают в составе предложения единые, хотя и расчлененные (выделено мной. – В.Т.) значения» [Грамматика-60, с. 10], что, якобы, отличает их от слов. Уже не раз отмечалось, что «содержание, выражаемое в процессе речи, отнюдь не является простой суммой (содержаний. – В.Т.) тех единиц, которые используются в этих целях» [Котелова 1975, с. 10], и словосочетания «эквивалентны слову не только в формальном и семантическом отношении, но и по функции в речи» [Рогожникова 1977, с. 112]. Это элементы, «возникшие, прежде всего, в целях номинации и выполняющие в основном эту функцию, аналогичны словам в прямом номинативном значении» [Солодуб 1988, с. 45]. Примем как предварительное суждение предположение о том, что значение словосочетания по своей структуре и статусу абсолютно тождественно значению слова. А расчлененность может касаться только формы. Но, как было показано выше, у нас в большом количестве случаев нет достаточных критериев для установления того, что перед нами – цельная или расчлененная форма. Итак, даже словоцентрическая лингвистика признает, что семантической и номинативной целостностью обладают не только слова, но и словосочетания, и другие единицы. А это закономерно приводит к выводу, что слово является не столько базовой, сколько формальной разновидностью номинативных единиц, что, кстати, и находит свое косвенное подтверждение в превалировании формальных определений слова в теории номинации. Оговорюсь: я не возражаю против того, что слово существует. Другое дело, что оно имеет в языке совсем иной статус, нежели тот, который ему приписывают традиционные теории. Оно является одним из средств речевой номинации, одной из возможных реализации основной номинативной единицы языка – номинатемы. И это косвенно подтверждает Ю.С. Степанов, 82 утверждающий: «Уже одно то, что номинация может осуществляться либо отдельным словом, либо словосочетанием, либо предложением, говорит о том, что эта функция независима от синтаксического построения» [Степанов 1973, с. 342]. Путь к построению теории базовой номинативной единицы указывается в «Лингвистическом словаре пражской школы»: «Прямые языковые корреляты понятий и мышления следует искать не в области языковой системы, а в области языкового выражения, языковых манифестаций. Прямое языковое выражение понятия – это не слово, а номинация; прямое языковое выражение мысли – это не предложение, а высказывание» [Вахек 1964, с. 203]. Отсюда абсолютно справедливое утверждение о том, что языку безразлично, какими средствами осуществляется номинация [Солнцев 1970, с. 34]. Как замечает В.Б. Касевич, «на материале разных языков можно прийти к заключению, что “пространство” между морфемой и предложением стратифицировано мельче, чем предлагается» [Касевич 1977, с. 56]. В этом промежутке находятся следующие речевые номинативные единицы, которые в дальнейшем я буду обозначать обобщающим термином «глоссы». 1. Слово, то есть минимальная единица, необходимая для выражения того или иного смысла, например дождь, люблю, хорошо. 2. Сочетание слов, то есть синтагмное объединение слов, одно из которых имеет лексическое значение, а второе – грамматическое, например, на столе, буду писать, смог бы. 3. Словосочетание, то есть синтагмное объединение слов, каждое из которых может быть употреблено самостоятельно с автономным лексическим значением, например, зеленая листва, тянуть канитель, легкая атлетика и т.п. Наличие такого разнообразия в средствах номинации становится причиной появления теорий, трактующих эти единицы как равноправные рече-языковые номинативные единицы. По этому пути идет, например, В.М. Никитевич, который, рассматривая данные явления, утверждал, что «слово 83 не является единственным средством номинации <…> Все более становится очевидным, что как номинативные эквиваленты могут выступать означающие разной структуры» [Никитевич 1985, с. 16]. Все типы номинативных единиц ученым объединяются под одним названием «номема». Тем самым В.М. Никитевич констатирует, что любая речевая номинативная синтагма есть отражением ее языкового эквивалента, что, в принципе, стирает различие между языковой и речевой номинацией. Так, например, анализируя производные от слова синий, ученый утверждает, что «не только глагол синеть, но и словосочетание становиться синим, как его эквивалент, выступает синхронически как производное к прилагательному синий» [Никитевич 1985, с. 20]. В таком случае перед нами две автономные номинативные единицы, параллельно деривационно связанные с прилагательным синий – синеть и становиться синим. Данное мнение основывается на убеждении, что «номинация как процесс – это создание не только слова, но и коммуникативного заместителя слова во всех тех случаях, когда слово не может быть создано или когда оно не вполне удовлетворяет цели высказывания» [Никитевич 1985, с. 22], причем «раздельнооформленные номинации – словосочетания <…> являются реальными заместителями отсутствующего слова (выделено мной. – В.Т.)» [Никитевич 1985, с. 3]. Примерно так же трактует явление означивания и Е.Н. Сидоренко, которая, оперируя понятием «языковых смыслов», впервые употребленным в [Шведова 1995; Шведова 1998], говорит о существовании целого ряда ономатологических единиц – выразителей этих самых языковых смыслов. Ученый считает дифференциальными признаками языковых смыслов следующие: «Именование определённых фрагментов действительности, понятие о которых сформировано у носителей языка; категориальное (обобщённое структурно-семантическое) значение слов и расчленённых единиц именования, их общее значение; наличие комплекса языковых средств выражения каждой ономасиологической 84 единицы <…>; универсальный характер присутствия в разных языках» [Сидоренко 2006, с. 275]. На основании этого к ономатологическим единицам Е.Н. Сидоренко относит: собственно слова, например, дом, кот; предложные сочетания, например, в четверг, о нем; словосочетания особого типа, эквивалентные слову, например, курсовая работа (ср.: курсовая), набережная улица (ср.: набережная) и т.п.; некоторые сочетания идиоматичного типа, например: потому что, невесть что, в любой степени, называемые лексиями [Сидоренко 2003, с. 121-122], то есть «семантическими и функциональными эквивалентами слова, структурно более усложненными в сравнении с синтетическими лексемами» [Тукова 2004, с. 348]; фразовые номинанты, то есть «наименования соответствующего фрагмента действительности, имеющие строение придаточной предикативной единицы, выступающие в качестве развернутого члена главной по отношению к ней предикативной единицы и представляющее собой сложное окказиональное название: Кто повыше, достаньте яблоко» [Сидоренко 2006, с. 275] (см. о системе ономатологических единиц подробнее [Сидоренко 2000-Сидоренко 2006]). Нужно сказать, что указанная система не представляется мне законченной, хотя бы в экстенсиональном смысле: за её пределами оказались многие явления, имеющие очевидно номинативную природу. Возникает, например, вопрос, почему выразителем языковых смыслов считается только одна разновидность сочетаний служебных слов со знаменательными – сочетание имени с предлогом? Думается, что одинаковый с ними статус должны иметь и сочетания знаменательных слов со словами степени (самый любимый, более свежий), со вспомогательными глаголами (могу работать, буду любить), с частицами (хотел бы, читал ли) и т.д. Вне зоны рассмотрения Е.Н. Сидоренко оказались и номинативные единицы более высоких уровней, такие, например, как фразема, предложение, которое, как известно, «наряду со свойством коммуникативности, одновременно обладает свойством номинативности. <Оно>, сообщая о каком-либо факте или 85 событии, одновременно называет его» [Солнцев 1987, с. 134], и текст [Азнаурова 1977, с. 121]. Однако для меня более важным является другое. Ономатологические единицы в концепции Е.Н. Сидоренко, как и номемы в концепции В.М. Никитевича, абсолютно идентичны на уровне языка и речи – словосочетание, например, зеленый лист, являясь ономатологической единицей или номемой представляет одновременно и языковую и речевую номинацию. Трудно определить, насколько приемлема такая явно эмпирическая трактовка? Можно без сомнения утверждать только то, что, действительно, такие единицы в речи выполняют номинативную функцию. Но насколько справедливо утверждение о том, что они совпадают с языковыми основной инвариантными номинативной осуществить, образованиями? единицы абстрагировавшись языка от его Считаю, что (инварианта) конкретных выделение необходимо речевых разновидностей, определив механизм взаимодействия языковой и речевой номинации. А это возможно только на основе определения параметров существования языковой в узком лингвистическом смысле этого слова номинативной единицы, реализующейся в единицах речевой номинации, которые я в дальнейшем будем обозначать интегрированным термином глосса. 86 Глава 3. КОНЦЕПТ КАК ИНВАРИАНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 3.1. Семасиологический подход к проблеме актуализации концепта Как известно, «означающее не мотивировано, то есть произвольно по отношению к означаемому, с которым у него в действительности нет никакой естественной связи» [Соссюр 1977, с. 101].11 Это создает возможность для ничем, кроме мнения языкового коллектива, ограниченного видоизменения плана выражения языковой единицы. Механизм функционирования языковой структуры здесь не устанавливает никаких ограничений модифицирования. Напротив, все видоизменения плана содержания внутренне обусловленны. Это и позволяет предположить, что тождество базовой номинативной единицы «семантично», оно организуется его «лексико-семантическим стержнем» [Виноградов 1944, с. 31, 42], то есть является, по сути, семантическим тождеством, поскольку на уровне актуального тождества полная мотивированность отмечается только для системы его лексикосемантических вариантов. Его фонетическая структура допускает существование фонетических дублетов, чьи различия часто не имеют статуса обязательных и необходимых. Так, например, различие фонетических дублетов калоша – галоша не имеет каких-либо внутриязыковых структурных оснований, а обусловлено только фактом заимствования этимологически тождественных слов (нем. Kahlosche, фр. galoche) из разных языков и их лексической аттракцией в русском языке. Такая же структурная необусловленность отмечается и на морфологическом уровне. Например, нет никаких внутриязыковых причин для появления у слова зал (муж. р.) грамматического дублета зала (жен. р.). Родовое различие здесь обусловлено различием моделей разнонаправленного освоения одного и того же иноязычного слова в русском языке: глосса зал возникает в результате Это утверждение не абсолютно. Однако в данном случае оно вполне «работает», поскольку учитывает только один аспект внутриглоссовой организации – отношение между «чистой», абсолютной формой и «чистым», абсолютным значением. 11 87 «фонетического» заимствования фр. salle, при котором её грамматическая атрибуция осуществляется по финали (консонантная финаль существительного в именительном падеже в русском языке, как известно, обычно является показателем отнесенности слова к парадигме мужского рода), а глосса зала является результатом «книжного», интеллектуального заимствования, и её отнесение к женскому роду обусловлено калькированием рода французской номинатемы (фр. salle относится в языке-источнике к женскому роду). Более того, даже тогда, когда в плане выражения разных глосс наличествует структурная взаимная мотивированность, основанием для сведения их в одну номинатему является все же фактор тождества (в той или иной форме) их значения. Во-первых, при внутриязыковой обусловленности формальной дублетности в случаях типа прóдана – проданá, где первая модификация лексемы возникает «под влиянием внутренней аналогии и выравнивания акцентной парадигмы в кратких формах: прóдан, прóдано, прóданы» [Горбачевич 1974, с. 81], основанием для определения указанных единиц как актуальных дублетов является, в первую очередь, «совпадение лексического значения и возможность субституции в свободных сочетаниях» [Горбачевич 1978-2, с. 9] – и прóдана и проданá значат «отдана кому-либо за плату» и могут употребляться в одних и тех же контекстах: книга прóдана и книга проданá. Во-вторых, при внутриязыковой обусловленности грамматических форм «морфологические изменения слова не затрагивают его единства как лексемы», так как «при тождественности лексического значения (выделено мной. – В.Т.) перформация облика слова свидетельствует о различии грамматического значения, присущего той или иной форме» [Арсеньева 1965, с. 59]. Иными словами, и объединение различных словоформ в пределах одной лексемы базируется на их семантической связанности. Нельзя сказать, что семантика номинатемы представляет собой 88 тождество как монолит. В языке, как известно, «многозначность <…> – одна из важнейших особенностей лексики» [Будагов 1974, с. 122]. Поэтому особую значимость приобретает вопрос об основе тождества семантики номинатемы, позволяющей сводить в единый номинативный комплекс все ее лексикосемантические варианты. Вот здесь и следует вернуться к проблеме соотношения понятий «значение» и «концепт». В современном языкознании проблема определения параметров семантического тождества номинативной единицы реализовалась в целом ряде работ в виде проблемы разграничения полисемии и омонимии. К исследованиям, представившим наиболее полную картину сложностей такого разграничения и предложившим свои варианты решения указанной проблемы, следует отнести [Абаев 1957; Малаховский 1990; Пономарева 2006; Тышлер 1966; Jespersen 1928; Pustejovsky 1996; Ravin 2000] и многие другие. Можно говорить о том, что сейчас существует две концепции трактовки и описания полисемии – семасиологическая концепция деривационных связей между значениями лексемы и ономасиологическая концепция общего значения, которые нашли свое продолжение в двух концепциях, определяющих соотношения явлений «концепт» и «значение». Глубинное различие между этими двумя подходами состоит в том, что «ономасиологический способ рассмотрения языковых явлений предполагает, что говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системно-языкового состояния в речевое (формула: "внеязыковое содержание – языковая форма/языковая система – речь"). Семасиологический подход выдвигает на первый план речевую деятельность слушающего и, следовательно, учитывает обратные переходы: "речь – языковая система/ языковая форма – внеязыковое содержание"» [Даниленко 1977, с. 108]. Доминирующая в современном 89 языкознании семасиологическая концепция предполагает, что основой для объединения разных значений, связанных с одной материальной оболочкой, в единую языковую номинативную сущность являются «актуальные деривационные связи значений лексемы» [Кацнельсон 1965, с. 60]. Например, набор значений слова зерно, по мнению сторонников этой концепции, составляет единую семантическую структуру и является основой его тождества, поскольку связь между этими значениями «типична, регулярна и неуникальна» [Малаховский 1990, с. 46] (см. также: [Курилович 1962]): а) отношение значений «семя растения» – «семя хлебного знака» основано на типичном, регулярном и неуникальном таксономическом переносе «род – вид» (имена сортов) (ср.: земля «грунт вообще» – земля «сельскохозяйственный грунт»); б) отношение значений «семя растения» – «малая частица» реализует метафору по фактурному сходству (ср.: горошина «зерно гороха» – горошина «звено бус»); в) отношение значений «семя растения» – «зародыш» представляет собой воплощение функционального переноса по семе «носитель фрагмента эволюции» (ср.: росток «стебель растения в самом начале его развития» – росток «признак начинающегося развития чего-л.»). Можно понять, чем обусловлено возникновение этой концепции – деривационные связи выделить в семантике значительно проще, чем инвариантное, объединяющее значение, потому что они могут быть описаны не на основе определения сущности процесса номинации, а как внутриязыковые ассоциативные сочленения. Другими словами, их выделение явно настроено не на констатацию глубинных механизмов номинации, а на внутриязыковые схемы, не просто сходные с механизмами традиционной морфемной деривации, но и выведенные на их основе, на чем, кстати, и акцентируют внимание С.Д. Кацнельсон писал: сторонники «Процессы означенной теории. семообразования (в Например, терминах современного языкознания – семемообразования. – В.Т.) и словообразования 90 в известной степени параллельны» [Кацнельсон 1986, с. 51]. Различие же «заключается не в сути, не в направленности семемо- и словообразования, а в технике, в языковых ресурсах, используемых в каждом из этих случаев» [Тропина 2003, с. 17]. Например, связь между читать – читатель типична, регулярна и неуникальна, так как отражает деривационный стереотип, реализованный также и в парах мечтать – мечтатель, писать – писатель, преподавать – преподаватель и т.д. (по свидетельству [Зализняк 1977, с. 589-594] отмечается около 400 таких пар). Ее отличие от «семантической деривации» состоит, согласно упомянутому мнению, только «в технике» – в использовании при образовании новых единиц особых деривационных морфем. Указанное понимание лексико-семантического варьирования оформилось в семасиологическую концепцию «семантической деривации», представленную в [Апресян 1974; Арутюнова 1980; Кацнельсон 1986; Кудрявцева 2004; Русанівський 1988; Тараненко 1989; Тропина 2003] и многих других. Методологической основой этой концепции является так называемое «широкое» толкование деривации (см.: [Колшанский 1983; Кубрякова 1974; Курилович 1962; Мурзин 1984; Сахарный 1974] и др.). Согласно ему, деривация определяется не как процесс образования новых номинативных единиц, а как «процесс образования или результат образования в языке любого вторичного знака, то есть знака, который может быть объяснен с помощью единицы, принятой за исходную, или выведен из неё путем применения определенных правил» [Кубрякова 1974, с. 64]. Еще более расширил определивший её зону как действия термина «процесс «деривация» образования слова, Л.Н. Мурзин, предложения, грамматических форм слова, словосочетаний, фразеологизмов, слогов или тактов и т.п., наконец, текстов, всех возможных языковых единиц, начиная с фонемы и кончая текстом» [Мурзин 1984, с. 3]. Все новое, что возникает в языке, в этом случае признается имеющим деривационную основу. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что процессы образования новых 91 номинативных единиц, например, морфологических дериватов типа снег – снежный, и продуцирование новых слогов, фонем имеют одинаковую природу. Еще более неприемлемость такого понимания данного явления проясняется при анализе семантической деривации, которая сторонниками указанной концепции понимается как «отношения семантической производности, связывающие между собой разные значения одного слова на уровне синхронной полисемии, и отношения между значениями слова в разные моменты его истории» [Зализняк 2001, с. 14]. Отношения между производящим и производным лексико-семантическими вариантами обозначают предложенным Д.С. Шмелевым термином «эпидигматические отношения» [Шмелев 1973, с. 191]. Последние определяются как «две линии деривационных отношений лексико-семантических единиц (однозначных слов и лексико-семантических вариантов многозначных слов) – ассоциативно-смысловых и словообразовательных сближений» [Кудрявцева 2004, с. 22]. При номинатемы, таком в понимании сущности, не проблема семантического тождества решается, она снимается: попросту семантического тождества и семантической отдельности как таковых нет, а следовательно, нет и необходимости в разграничении лексико-семантических вариантов одного слова и омонимов. Мы можем объединить их под названием разных «лексико-семантических вариантов» одной номинативной единицы, поскольку как первые, так и вторые возникают в результате семантической деривации. Как пишет Н.П. Тропина, «разграничение полисемии и гомогенной омонимии является, скорее, проекцией на лексическую неоднозначность лексикографических нужд, чем отражением их онтологических различий; <…> полисемия и гомогенная омонимия – одно и то же лингвистическое явление на разных стадиях своего существования (выделено мной. – В.Т.)» [Тропина 2003, с. 19]. Впрочем, признание существования различия между полисемией и гомогенной омонимией самою же Н.П. Тропиной несколько ранее ставится под сомнение. Она пишет: «В языке существует, реально 92 воспринимается носителями языка и признается современными исследователями факт выводимости, производности, мотивированности между значениями полисема и даже между гомогенными омонимами. В последнем случае носители языка часто видят мотивационные связи даже там – в случае этимологической омонимии, – где они для филолога заведомо невозможны» [Тропина 2003, с. 19]. Другими словами, по мнению ученой, если уж носители языка видят связь между гомогенными омонимами, то и лингвисты гомогенной должны констатировать, омонимии неоднозначность – это что только лексикографических разграничение «проекция нужд». Мне на полисемии и лексическую кажется несколько странным такой метод доказательств. Вряд ли нужна лингвистика как наука, если мнения носителя языка достаточно для определения истинности или ложности теоретического построения. Носители языка очень часто находят в языке какие-то связи, когда становятся самодеятельными лингвистами: и между гетерогенными омонимами (см., например, расхожую фразу о супружестве – хорошее дело браком не назовут, где, очевидно, найдена связь между гетерогенными омонимами брак «супружество» – брак «испорченная продукция»), и даже между структурно абсолютно несвязанными словами (случаи народной этимологии). Задача лингвиста – как раз определить, насколько эти связи реальны. По абсолютно справедливому мнению Н.П. Тропиной, к явлению семантической деривации (точнее – семантического варьирования), «как особого феномена языка может (и должен. – В.Т.) быть осуществлен <...> мультипарадигмальный подход со стороны семантики, синтагматики, прагматики, ономасиологии с применением методологии, методов и приемов, разработанных и апробированных как традиционным описательным языковедением, так и другими областями языкознания – структурной лингвистикой, функциональной лингвистикой, этнопсихолингвистикой, когнитивной лингвистикой: только тогда можно надеяться на адекватное ее описание» [Тропина 2004, с. 3]. К сожалению, декларированное стремление 93 примирить ономасиологию и семасиологию здесь выступило всего лишь в означивании процесса продуцирования лексико-семантических вариантов (у Н.П. Тропиной – семантических дериватов) термином «вторичная номинация»: «В номинативном ракурсе все семантические дериваты являются результатом вторичной номинации» [Тропина 2003, с. 19]. Под вторичной номинацией в этом случае понимается использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции обозначения. По мнению В.Н. Телия, в языке «закрепляются такие вторичные наименования, которые представляют собой наиболее закономерные для системы данного языка способы наименования и восполняют недостающие в нем номинативные средства» [Телия 1977, с. 129]. Однако такая интерпретация вторичной номинации не является ономасиологической, поскольку имеет явно языковую реляционную основу – констатацию использования существующего знака в новой для него функции. Это реализует установку «язык > означивание > реалия», характерную для семасиологического описания лингвистических фактов, в то время как ономасиологический подход требует описания языковых сущностей через реальность, то есть по модели «реалия > означивание > знак». В принципе, термин «вторичная номинация» здесь выступает в качестве абсолютного синонима термина «лексико-семантическая деривация». Итак, можно констатировать, что в концепции «семантической деривации» номинативное, лексическое определяется как формальное, что абсолютно неприемлемо. При такой трактовке понятие тождества номинации становится неопределяемой, вернее, определяемой не на основе четких параметров, а только лишь на основе интуиции носителя языка, фикцией, гносеологическим, а не онтологическим феноменом. Причина лежит в неоправданном применении семасиологического, эмпирического подхода к определению ономасиологических сущностей. Можно ли считать это методологически верным? К определению первичности того или иного 94 подхода к интерпретации тех или иных фактов необходимо подходить с точки зрения реализации в этих фактах языковых функций. В нашем случае реализуемой функцией языка является номинативная, то есть функция означивания. Поэтому-то и следует интерпретировать структуру, функции, модели существования языковых сущностей (семасиология) в аспекте реализации ими номинативной функции (ономасиология). А такой подход закономерно приводит нас к идее существования языкового семантического инварианта и интерпретации речевых значений как реализаций, функций этого инварианта в речи. Следует отметить, что именно эта концепция стала, на мой взгляд, источником для стойкого неприятия рядом когнитологов теорий, отождествляющих концепт и значение номинативной единицы. З.Д. Попова и И.А. Стернин указывали на «наличие достаточно большого числа работ, которые объединяет фактическое отождествление понятий концепт и значение слова: традиционный анализ семантики слова называется при этом анализом концепта, а семантические исследования – когнитивными. <…> Работы такой ориентации в последнее время, по нашим наблюдениям, несколько пошли на убыль, но их поток еще не иссяк. Подобное отождествление тенденцию представляется просто к модному нам неплодотворным, использованию оно отражает терминов концепт, когнитивный, о чем мы уже не раз писали» [Попова 2006, с. 8]. Основой для такой интерпретации соотношения концепта и значения является очевидная настроенность сторонников данной теории на трактовку значения как речевой сущности. Именно поэтому Е.А. Селиванова, говоря о соотнесенности элементов внутренней структуры значения номинативной единицы, относит когнитивные структуры концепта к элементам, воплощенным в денотате, то есть индивидуальном речевом значении номинативной единицы. Ею «вводятся термины материальный денотат – обозначаемый словом предмет, идеальный денотат – представление о нем, сигнификат – понятие о классе этих предметов. Думается, идеальным 95 денотатом является в данном случае когнитивная структура концепта – все возможные знания об объекте номинации» [Селиванова 2000, с. 58]. Наблюдение над речевыми употреблениями слов действительно показывают, что «любое языковое средство, объективирующее тот или иной концепт, объективирует концепт не полностью, поскольку ни одно значение своим ограниченным семным составом не может передать комплексное содержание концепта во всей полноте его признаков» [Попова 2003, с. 51]. Однако в то же время возникает вопрос, на который при таком подходе очень трудно ответить: почему вообще возможно обозначение разными глоссами одной номинативной единицы разных воплощений одного и того же концепта? Укажем на то, что в речи, в сущности, объективация, коагуляция тех или иных аспектов существования концепта является рефлексией на акт номинации, то есть обозначения некоего внеязыкового референта. Если относиться к концепту как к семантической структуре, могущей реализоваться только в речи, нужно признать и то, что он не может существовать в языке как прототипное знание, как закон, устанавливающий модели употребления номинативных единиц. А такое возможно только в том случае, если рассматривать номинацию вне дихотомии «язык – речь», что, кстати, и является отправной точкой теорий сторонников идеи разграничения концептов и значений. В.И. Карасик, например, говорит о нейтрализации различия между языком и речью [Карасик 2007, с. 4]. Однако такой подход делает необъяснимым и факт обозначения данной номинативной единицей данного референта. На мой взгляд, необходимо, по крайней мере, попытаться осмыслить возможность интерпретации лингвоконцепта как основы модели номинации, как семантической сущности, инварианта, определяющего возможности употребления знака в конкретных условиях номинации. Таким образом, мне представляется необходимым рассмотреть концепт в аспекте проблемы тождества номинации, в аспекте соотношения «языковой инвариант – речевые варианты». 96 3.2. Понятие инварианта Как известно, «вопрос о тождестве слова (номинатемы. – В.Т.) <...> – прежде всего вопрос о том, каковы границы различий между отдельными употреблениями слова, за которыми оно перестает быть единым и равным самому себе, а его видоизменения приобретают характер самостоятельных слов» [Шигапова 1999]. В силу того, что определение границ тождества номинатемы, как следует из приведенной цитаты, релятивно, оно и должно основываться на констатации того, какие именно отношения между разными глоссами находятся в пределах ее тождества, а какие характеризуют глоссы разных номинатем и почему? Иначе говоря, необходимо установить параметры языкового инварианта, настроенные на объединение разных речевых единиц-глосс. Сейчас очень распространена теория, согласно которой инвариантом считается интерпретированный как факт языка «основной вариант». Одним из признаков варьирования считают «наличие в составе колеблющихся форм слова иерархически старшей, эмической единицы – исходной формы слова» [Богословская 2006, с. 11] (См. также: [Тимофеев 1971]). Это вызывает большие сомнения. Отождествление инварианта с той или иной речевой единицей, определяемой как основной, «нулевой», словарный и т.д. вариант, так же условно, как, например, отождествление фонемы <в> со звуком [в], поскольку в этом случае исчезает возможность интеграции в нем его речевых модификаций, имеющих другую форму выражения. Справедливо мнение, высказанное Э.А. Воробьевой: «В понятии инварианта отображены общие свойства класса объектов, образуемого вариантами. Сам инвариант не существует как отдельный объект, это не представитель класса, не эталон, не “образцовый вариант”. Инвариант – это скорее название класса относительно однородных объектов (выделено мной. – В.Т.)» [Воробьева 2005]. Вряд ли можно в варианте [в] найти все то, что позволяет объединить в фонему <в> звуки [в’], [ф]. Есть признаки, которые можно обнаружить у всех 97 указанных звуков – это «шумность», фрикативность, лабиадентальность. Однако они присущи как в [в], так и [в’], [ф]. Если исходить из представления о доминантном основном варианте, то любой из названных звуков мог бы быть определен как таковой, поскольку имеет все обозначенные выше признаки. И определение [в] как инварианта так же условно, как и определение в качестве такового любой из оставшихся модификаций рассматриваемой фонемы. Однако если подходить к определению инварианта как навыка, как отдельного виртуального, абстрактного объекта, существующего на уровне языка и реализуемого в речи в своих индивидуальных модификациях, мы можем представить указанную выше фонему на уровне языка только как совокупность стабильных характеристик «шумность», фрикативность, лабиадентальность и лабильных характеристик «глухость – звонкость» и «твердость – мягкость», а также законов / навыков выбора из этих лабильных характеристик в зависимости от условий дистрибуции этой фонемы (глухой в конце [ф], мягкий перед гласным переднего ряда и т.д.). И номинативный инвариант, на мой взгляд, тоже должен быть представлен только как навык, как абстрактная единица, которая отвлечена от своих реализаций и представляет собой то общее, что в той или иной степени в них присутствует, а также то лабильное, что может приводить к модифицированию единой номинативной единицы в речи. Кроме того, в понятие инварианта должно войти и представление о навыке, законе выбора из своих потенциальных модификаций. Последнее позволяет мне заметить: несмотря на то, что «инвариант существует лишь поскольку существуют его манифестации – варианты» [Макаев 1962, с. 47], я все же не буду так абсолютен в стремлении дать ему чисто экстенсиональную трактовку. Следует уточнить, что помимо класса в понятие инварианта должно войти интенсиональное представление о стержне, основе, на базе которой и осуществляется объединение единиц этого класса, о той основе, которая и определяет границы класса и возможное модифицирование в пределах этих границ. Как писал У. Росс Эшби, идея инвариантности «состоит в том, что хотя система в целом претерпевает 98 последовательные изменения, некоторые ее свойства («инварианты») сохраняются неизменными» [Росс Эшби 1959, с. 109]. Трудно согласиться также и с «гносеологической» трактовкой инварианта, согласно которой последний – это только «абстрактное обозначение (выделено мной. – В.Т.) одной и той же сущности (например, одной и той же единицы) в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов» [Пахалина 1990, с. 80-81]. Я предполагаю, что инвариант – это не «абстрактное обозначение», а реально существующая в языке абстрактная единица – онтологическая модель объединения модификаций, определяющая возможности и условия своей реализации в речи, а значит, являющаяся, так сказать, «функциональным законом модифицирования». Для определения его параметров, на мой взгляд, необходимо дать первичную типологию моделей модифицирования единой языковой сущности на речевом уровне. Проблема модифицирования в речи языковой номинативной единицы рассматривалась многими исследователями. В разное время о данном языковом феномене писали М.Г. Арсеньева, Т.В. Строева, А.П. Хазанович [Арсеньева 1965], Е.И. Аюпова [Аюпова 2003], Ш. Балли [Балли 1955], О.И. Блинова [Блинова 2003], З.М. Богословская [Богословская 2006], К.С. Горбачевич [Горбачевич 1974-Горбачевич 1978-2], Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, [Жирмунский [Мартине Л.П. Катлинская 1961] 1963], [Граудина 2004], К.А. Левковская В.Г. Руделев [Левковская [Руделев 1991], В.П. Жирмунский 1962], А. Мартине В.Н. Русановский [Русанівський 1981], Н.Н. Семенюк [Семенюк 1965], М.Д. Степанова [Степанова 1967], Ф.П. Филин [Филин 1963] и многие другие (см. обзор концепций вариативности в [Стукало 2006, с. 24-31]). Традиционно выделяют два типа модифицирования номинативной единицы. Во-первых, это вариативность, при которой глоссы определяются как разные варианты номинатемы, то есть имеют статус разных «формальных модификаций, не связанных с изменением основного лингвистического значения данной конкретной единицы» [Семенюк 1965, с. 49], формальных 99 проявлений одной и той же сущности, «которая при всех изменениях остается сама собой» [Пахалина 1990, с. 80-81]. Вариантами, например, считают фонетические модификации номинатемы типа шкаф – шкап, грамматические модификации типа шкаф (муж. р.) – шкафа (жен. р.) и т.д. В ряде исследований вариантами называют также единицы, которые имеют статус «разных значений одного и того же слова, реализующихся в данных контекстах употребления (лексико-семантические варианты типа дом «жильё» – дом «строение». – В.Т.)» [Ахманова 1966, с. 71]. Во-вторых, это грамматическое словоизменение, при котором разные глоссы соотносимы как грамматические формы номинатемы (словоформы) (село [им. пад.] – села [род. пад.]). Кроме того, А.И. Смирницкий выводит еще один тип межглоссовых отношений, названный им «узким тождеством», под которым понимаются «все случаи употребления одного и того же слова, не имеющие внутрисловных различий» [Смирницкий 1954, с. 9], например: под окнами дома – у дверей дома. У данной классификации есть ряд недостатков. Во-первых, в ней в один и тот же класс – вариативность – включаются не просто различающиеся, но даже противоречащие друг другу явления формальной вариативности. (фонетической Их и грамматической) сосуществованию в пределах и семантической одной категории противоречит уже то, что первая является «выражением языковой избыточности» [Горбачевич 1978-1, с. 245], от которой язык стремится избавиться, а вторая – «естественным свойством слов, как бы заложенным в них, обусловленным всем устройством языковой системы» [Кузнецова 1982, с. 104]. Справедливо в этом отношении мнение Д.Н. Шмелева, который считал, что формальное варьирование «никак не параллельно лексико-семантическому варьированию слова, поскольку последнее основано на ассоциациях, которые прозрачно отражены в самих единицах лексики», в то время как формальные дублеты «и не находятся в отношениях 100 “дополнительного распределения” между словами, и никак не объяснимы с точки зрения современных связей между словами» [Шмелев 1977, с. 72]. Во-вторых, некоторые типы отношений между глоссами вовсе игнорируются предложенной выше классификацией. Так, например, в ней не нашлось места для таких звуковых модификаций слов, «которые обусловлены общими фонетическими законами звукового строя языка» [Смирницкий 1954, с. 32], типа рус. [дуп] (старый ду[п] с конечным [п], реализующимся в конце синтагмы) и [дуб] (дуб да береза с конечным [б] перед начальным звонким следующего слова). Трудно согласиться в этом случае с О.С. Ахмановой, которая считает, что «различия подобного типа не относятся к внутрисловным различиям» [Ахманова 1957, с. 45]. Пожалуй, единственной работой, в которой предпринимается попытка определить их место в системе языка, является статья А.И. Смирницкого «К вопросу о слове (Проблема “отдельности слова”)» [Смирницкий 1952]. Однако ученый рассматривает их в пределах традиционной терминологической матрицы среди фонетических вариантов, с чем трудно согласиться: основное их отличие от последних – в синтагматической обусловленности различий в звучании глосс. В-третьих, мне не совсем понятно выделение в качестве самостоятельного компонента классификации явления «грамматического словоизменения». Укажем, что А.И. Смирницкий, разграничивая варианты и грамматические формы (по его мнению, варианты – это «глоссы одного и того же слова, различающиеся не как разные грамматические формы» [Смирницкий 1954, с. 20]), веских аргументов для обоснования этого не дал. Здесь налицо отсутствие единого основания для разграничения типов отношений между глоссами. В случае с вариантами основанием для выделения является сам фактор модифицирования, независимо от того, связано ли оно со значением модификаций номинативной единицы или нет (в одном ряду находятся и фонетические варианты, не связанные с различиями в семантике, и лексико-семантические варианты, где номинативное различие 101 находится в самой природе явления). В случае же с грамматическим словоизменением основанием для выделения различных форм номинатемы является признак наличия у них разных грамматических значений. Осознание этого противоречия привело к тому, что в ряде концепций грамматические формы стали также определяться как варианты (см., например: [Попова 1984, с. 25]). Я все же считаю, что в основе классификации модификаций одной номинатемы должен лежать единый параметр, и этим параметром может стать только «тип её модифицирования». Вопрос состоит лишь в том, что же положить в его основу? Недостатком приведенной концепции типологии речевого модифицирования номинативной единицы является также её «атомичность» и отвлеченность от конкретных условий функционирования глосс. Следует обратить внимание на то, что в каждом конкретном случае употребления взаимоотношения между глоссами представляют собой целый комплекс разнообразных сходств/ различий на разных уровнях внутриноминатемной структуры. Так, например, если сравнить два случая реализации глосс ноль/нуль – «Сам по себе этот стул – ничто, ноль» (Заполярная правда. – 13.07.07) и «Мы почитаем всех – нулями, а единицами – себя» (Пушкин 2005), – можно отметить, что отношения между этими глоссами выступают одновременно и как отношения фонетической вариативности при традиционной трактовке этого термина (н[о]ль – н[у]лями), и как отношения лексико-семантической вариативности («ничто» – «ничтожество»), и как отношения грамматических словоформ (им. пад. – тв. пад.). В традиционных же концепциях обычно абсолютизируется только один признак противопоставления – либо фонетический, либо семантический, либо грамматический – в зависимости от целей исследования, что и не позволяет дать целостное, объемное представление об особенностях системы глосс одной языковой номинативной единицы. Итак, для определения структуры номинатемы есть необходимость в построении новой, имеющей четкие основания и охватывающей все случаи 102 межглоссовых связей классификации минимальных, распространяемых на разные уровни словесной структуры (фонетический, грамматический, семантический) типов отношений между глоссами, находящимися в отношениях актуального тождества, то есть соотносимыми (отождествляемыми) с одним инвариантом. Эта классификация, как уже было сказано, должна быть развернута на основе параметра «тип модифицирования». Следует помнить, что межглоссовые связи комплексны – в языке не существует, например, чистых фонетических вариантов. Их выделение учитывает только фонетическую сторону глосс. В то же время на остальных уровнях своей структуры, как показывает приведенный выше пример ноль и нулями, глоссы одновременно с фонетическим варьированием реализуют и другие типы модифицирования – семантического и грамматического. Путь к построению такой классификации был (хоть и вскользь) предложен в приведенной выше фразе Д.С. Шмелева, обратившего внимание на необходимость учета дистрибуции (в его терминологии – распределения) глосс при установлении их статуса в пределах тождества номинативной единицы. Это абсолютно оправданно хотя бы потому, что в языкознании уже есть прецедент – описание моделей (типов) варьирования (модифицирования) фонем и морфем именно через их дистрибуцию. С.Н. Трубецкой, например, различал: а) звуки, которые в том или ином языке встречаются в одной и той же позиции и могут замещать друг друга, не меняя при этом значения слова (свободное модифицирование); такие звуки ученый называл факультативными вариантами одной фонемы [Трубецкой 1960, с. 53]. б) звуки, которые никогда не встречаются в одной и той же позиции, то есть находятся в отношениях дополнительной дистрибуции; такие звуки ученый называл комбинаторными вариантами одной и той же фонемы [Трубецкой 1960, с. 56]. Дескриптивная лингвистика применяла принцип дистрибуции и при 103 описании типов модифицирования морфемы. Например, Г. Глисон утверждал, что «два элемента можно рассматривать как алломорфы одной и той же морфемы, если они имеют одно и то же значение, находятся в отношении дополнительной дистрибуции (выделено мной. – В.Т.), встречаются в параллельных конструкциях» [Глисон 1959, с. 136]. Кроме того, в некоторых работах были предприняты попытки определения дистрибуций и речевых реализаций лексических единиц (глосс). Например, М.Д. Степанова, описывая лексические варианты в немецком языке, предположила, что они «могут иметь место при совпадающей, ограниченной или дополнительной дистрибуции: в первом случае мы имеем свободную, во втором – частично свободную, в третьем – альтернативную вариативность. Свободная вариативность наблюдается в плане выражения (например, тоннель – туннель, которые свободно взаимозаменяются в пределах одной социально-коммуникативной системы. – В.Т.), <…> частично свободная вариативность также встречается в плане выражения и обусловлена, главным образом, стилистическими или территориальными условиями (например, рáпорт – рапóрт, где второе отмечается в речи военных. – В.Т.), альтернативные варианты прослеживаются и в плане содержания (лексико-семантические варианты. – В.Т.), и в плане выражения (грамматические формы одного слова. – В.Т.)» [Степанова 1967, с. 91]. Соглашаясь в принципе с таким подходом, укажу только на три необходимых уточнения. Во-первых, нет нужды в выделении ограниченной дистрибуции и частично свободной вариативности, поскольку основания для их выделения ученый видит не в особенностях реализации в «частично свободных вариантах» структурных особенностей синтагм (окружений, дистрибуций), а только в месте таких единиц в той или иной социально-коммуникативной системе языка. Иными словами, если в случае со свободной и альтернативной вариативностью доминантным признаком для разграничения является место единицы в системе языка, то частично-свободная выделяется 104 на основе дополнения структурного признака социальным. Однако с точки зрения структуры языка между частично свободными и свободными вариантами нет никакого различия – и те и другие могут свободно взаимозаменяться в одинаковых контекстах. Например, при свободной вариативности замена во фразе Многие водители с ходу не могли понять, как правильно объезжать закрытый туннель (Комсомольская правда. – 24.07.2007) глоссы туннель на глоссу тоннель имеет тот же структурносемантический и дистрибутивный статус, что и замена глоссы рáпорт на глоссу рапóрт во фразе Для этого желающим понадобится сдать экзамены на оценку не ниже "тройки" и написать рапорт командиру (Комсомольская правда. – 23.07.07). И в том и другом случае взаимная замена глосс не приводит к изменению значения фразы в целом. Во-вторых, для системы языка важны не только различия, но и абсолютная тождественность, в частности тождественность значения, так как именно она и позволяет идентифицировать глоссы. Поэтому состояние тождественности также должно быть реализовано в категории «тип модифицирования номинатемы». В-третьих, использование во всех случаях одного и того же термина «вариативность» довольно громоздко. Оно, с одной стороны, требует его атрибутивного расширения (свободная, альтернативная и т.д.), что противоречит стремлению терминологии к экономии средств, а с другой, неосознанно настраивает на идентичность статуса разных типов модификаций номинатемы, с чем очень сложно согласиться. Подытоживая рассмотрение указанных выше определений типологии модифицирования языковых сущностей через дистрибуцию, отметим, что они значимы уже потому, что устанавливают функционально оправданный принцип подхода к определению моделей отношений между единицами в пределах тождества. Как писал Н.А. Луценко, «идея дистрибуции как исследовательского принципа совершенно верно отразила то, что, во-первых, окружение конструктивно по отношению к единице, во-вторых, условия конструирования 105 воспроизводимы, поэтому и могут быть приняты в качестве основы интерпретации системы» [Луценко 2003, с. 16]. Итак, существует два типа дистрибуции речевых реализаций одной языковой единицы: дополнительная, то есть «такое отношение единиц, когда каждая из них возможна только в своем окружении, контексте и ни в каком другом» [Касевич 1984, с. 33], и свободная, когда они, функционируя в качестве реализации одной и той же языковой сущности, могут иметь одинаковое окружение. Проекция этих типов распределения на уровень номинативной единицы структурно-функциональных позволяет типа определить отношений между три реализациями номинатемы, которые, в силу того, что термин варианты и варьирование будет использован мной в узком смысле – для обозначения одной из разновидностей отношений между глоссами – я буду называть не вариантами, а модификациями номинатемы. Эти три разновидности суть идентичность, дублетность и вариативность. Под идентичностью понимается абсолютное тождество тех или иных компонентов структуры глосс, реализуемых в идентичных или разных окружениях. Например, в предложениях «Чтобы можно было передвигаться на высокой скорости не в ущерб мягкости хода и безопасности, усилили подвеску и поставили спортивные амортизаторы, и, конечно, тормоза сделали более эффективными» (Итоги. – 17.07.07) и «Как рассказал водитель автомобиля, у него неожиданно отказали тормоза» (Твой день. – 17.07.07) глосса тормоза идентична как на уровне лексического значения «прибор, аппарат для замедления или полной остановки движения машины», так и на уровне звучания [търмΛзá]. Под дублетностью понимается различие тех или иных компонентов глосс, которое не обусловлено различием их окружений, то есть различие, базирующееся на отношениях свободного модифицирования.12 Дублеты – это Термин «свободное варьирование» я заменяю термином «свободное модифицирование» по той же причине, что и термин «вариант» термином «модификация» – во избежание путаницы: термины 12 106 единицы, «выполняющие в языке (вернее, в речи. – В.Т.) одну и ту же функцию и различающиеся между собой по их распределению в социальном или географическом пространстве данного языка, или по их частотности и продуктивности» [Кубрякова 1970, с. 209]. Например, в предложениях «Да не какого-нибудь, а легендарного – «Треугольника»/«Красного треугольника», галоши которого обули всю Россию и немалую часть мира» (Санкт-Петербургские ведомости. – 16.07.07) и Может быть, вам нужны непромокаемые и легко моющиеся калоши? (Советская Белоруссия. – 17.07.07) глоссы калоши и галоши находятся в отношениях фонетической дублетности, потому что, различаясь в звучании, они могут свободно взаимозаменяться в одинаковых контекстах. Под вариативностью понимаются внутрисловные различия между глоссами, обусловленные различиями контекстов, в которых они употребляются. Другими словами, варианты номинатемы находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и не могут встречаться в одних и тех же контекстах – «каждый вариант соотнесен со строго определенным набором позиций» [Арутюнова 1970, с. 193]. Так, например, во фразе «Бесславный конец был уготован творению французского ювелира Абеля Лафлёра, который изготовил этот приз к первому чемпионату мира 1930 г.» (Футбол. – 20.06.06) глосса конец звучит как [кΛн'éдз], поскольку находится в позиции перед начальным звонким согласным следующего слова, а во фразе «Конец пришел так внезапно: он только заснул, он ничего не сказал» (Орловская искра. – 29.11.06) – как [кΛн'éц], поскольку находится перед начальным глухим согласным следующего слова. При этом [кΛн'éдз] не может быть употреблена в тех же контекстах, что и [кΛн'éц] и наоборот, что и позволяет считать данные глоссы находящимися в отношениях фонетической вариативности. Приведенное разграничение является, по сути, только определением «варьирование» и «вариант» я использую в «узком» значении и связываю только с одной разновидностью модифицирования, о которой – ниже. 107 терминов модифицирования. Однако остается вопросом, какие же единицы можно считать находящимися в его пределах, а какие нет? Другими словами, нам необходимо установить виды модифицирования, под которыми я понимаю реальное наполнение типа, учитывающее уже то, какой именно компонент структуры номинатемы и каким образом подвергается модифицированию в глоссах. Так, например, актуальным для современного языкознания является вопрос о том, чем являются – модификациями одной сущности или разными номинатемами – так называемые словообразовательные варианты (директорша – директриса), у которых модифицируется словообразовательный суффикс, супплетивные формы (идти – ходить), различающиеся основами, причастия и деепричастия (напишу – написавший – написав) и т.д. Как писала С.М. Шигапова, «разногласия при определении основных видов варьирования (в моей терминологии – модифицирования. – В.Т.) объясняются отсутствием общепринятых критериев выделения вариантных единиц на разных уровнях языка» [Шигапова 1999]. Чтобы составить полный реестр видов модифицирования, необходимо установить параметр, лежащий в основе определения доминанты инварианта, поскольку только осознание интегрирующих характеристик номинатемы позволит создать четкую процедуру отождествления в ее пределах разных глосс. Существует два подхода к определению основы номинативного инварианта. Первый, эмпирический, представлен в [Горбачевич 1974-Горбачевич 1978-2; Ломтев 1958; Москальская 1969; Рогожникова 1966] и др. В указанных работах вариантами (в моей терминологии – модификациями. – В.Т.) считают «регулярно воспроизводимые видоизменения одного и того же слова, сохраняющие тождество морфолого-словообразовательной структуры, лексического и грамматического значения и различающиеся либо с фонетической стороны (произношением звуков, составом фонем, местом ударения или комбинацией этих признаков), либо формообразовательными 108 аффиксами (суффиксами, флексиями)» [Горбачевич 1978-2, с. 17]. Такой подход повторяет ту же ошибку, что и в рассмотренных мной выше концепциях формального определения слова-синтагмы. При нем модифицирование номинативной, лексической сущности определяется через нечто нелексическое, неноминативное. А в этом случае во главу угла ставятся не глубинные, номинативные параметры, а конвенциональные договоренности, благодаря которым отождествление в номинатеме ее реализаций осуществляется не по степени отражения в них базового (базовых) свойств инварианта, а по тому, соответствуют ли они априорно выведенной исследователем матрице, согласно которой они могут быть только различающимися либо с фонетической стороны (произношением звуков, составом фонем, местом ударения или комбинацией этих признаков), либо формообразовательными аффиксами (суффиксами, флексиями). Разумеется, такой подход не может быть принят. На мой взгляд, приемлемой как соответствующая самому пониманию номинативности может быть признана другая трактовка отождествления, предложенная в [Виноградов 1975; Попова 1984; Семенюк 1965; Смирницкий 1952; Смирницкий 1954; Смирницкий 1956; Степанова 1967; Суняйкина 2001] и др. Согласно ей, признаками вариантов являются, вопервых, «общая корневая часть (и, таким образом, лексико-семантическая общность, материально выраженная в звуковой оболочке вариантов)», вовторых, «такие отношения между звуковыми и лексико-семантическими различиями, при которых первые не выражают последних (выделено мной. – В.Т.)» [Смирницкий 1956, с. 41-42]. Здесь сведение речевых модификаций в одну языковую сущность основывается на их предполагаемом семантическом тождестве. При этом не забывается, что такое тождество может характеризовать не только модификации одной номинатемы, но и разные номинатемы-синонимы. Поэтому вводится дополнительный критерий – тождество корневой части глосс как носителя основного, объединяющего значения. Достаточно емко описала участие 109 формы и содержания в модифицировании глосс С.Д. Суняйкина: «Различия между вариантами слова как в звуковой оболочке, так и в лексикосемантическом ядре могут быть только частичными, так как и в том и в другом случае должна быть общность» [Суняйкина 2001, с. 121]. Такой подход представляется мне наиболее приемлемым: он определяет тождество номинативной единицы именно через номинативность – выраженность в каждой из её речевых модификаций идентичной номинативной ценности, то есть как семантическое тождество, подкрепленное формальной связанностью (см., например, у В.В. Виноградова: «Сознание тождества слова покоится на понимании его семантического единства в многообразии его... видоизменений» [Виноградов 1944, с. 42]). Однако это мнение также не может быть принято априори. Необходимо установить, какова структура семантического тождества, как и почему оно объединяет различные глоссы в одну ономасиологическую языковую структуру? Это и позволит определить, какие глоссы могут быть определены как модификации одной номинатемы, а какие – нет. 3.3. Ономасиологический подход к проблеме актуализации концепта Понимание семантического тождества как ономасиологической сущности представлено в [Губанова 1969; Звегинцев 1957; Марков 1984; Марков 2001; Потебня 1999; Щерба 1974], где предполагается, что у слова (номинатемы) может быть только одно инвариантное языковое значение, изменение которого автоматически ведет к распаду тождества. Например, В.М. Марков утверждал: «Появление нового значения – это появление нового слова, осуществленное в результате единичного словообразовательного акта» [Марков 1984, с. 8]. На первый взгляд, эта концепция абсолютно отрицает существование многозначности. В ряде её разновидностей это действительно так. Например, Л.В. Щерба писал: «Неправильно думать, что слова имеют по несколько значений: это, в сущности говоря, формальная и даже просто типографская 110 точка зрения. На самом деле мы имеем всегда столько слов, сколько фонетическое слово имеет значений» [Щерба 1974, с. 290-291]. Так же интерпретирует лексико-семантическое варьирование В.А. Губанова: «То, что обычно называется «многозначностью», представляет, в сущности, разные слова с одинаковой оболочкой, находящиеся в отношении словопроизводственной связи» [Губанова 1969, с. 167]. С этим, конечно же, согласиться нельзя – такая трактовка не учитывает глубинных особенностей процесса означивания. Более того, данное мнение является обратной стороной концепции семантической деривации. Разница состоит лишь в том, что в последней все семантические модификации конвенционально признано считать находящимися в пределах тождества номинатемы, а в «теории однозначности» – в пределах разных номинатем. Следует, однако, сказать, что в большинстве случаев сложившаяся в истории науки трактовка предложенной теории как теории абсолютной однозначности все же не соответствует действительности и обусловлена неправильным пониманием её основополагающих принципов. Так, например, как отрицание многозначности можно было бы принять мнение А.А. Потебни, который утверждал, что «мы нашли многозначность слов понятием ложным: где два значения, там два слова» [Потебня 1958, с. 39]. Однако, как убедительно показали С.Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1986] и Ж.П. Соколовская [Соколовская 1989], ученым признавалось лексикосемантическое варьирование, просто, в его концепции оно имело несколько иной статус. Сущность понимания соотношения значения и лексико-семантического варьирования в рассматриваемой теории состоит в том, что понятие «значение» переносится в сферу языка и определяется как некий семантический языковой (я акцентирую внимание именно на этом слове) инвариант, реализуемый в речи в своих лексико-семантических вариантах. Именно так интерпретирует процесс номинации В.А. Звегинцев, обозначавший языковой инвариант термином «общее значение». По мнению 111 ученого, «слово не может иметь нескольких “значений”, напоминая некоторую совокупность синонимов, связанных известными смысловыми отношениями. Поскольку в лексическом значении слова закреплен результат определенного обобщения, и этот процесс обобщения не прерывается до тех пор, пока живет и развивается язык, в одном слове не может происходить одновременно нескольких разных обобщений, проходящих по разным направлениям, что только и могло бы привести к образованию в слове нескольких лексических значений. Лексическое значение в слове одно, но оно может складываться из нескольких потенциальных типовых сочетаний, которые с разных сторон характеризуют единое смысловое целое. <…> Эти типовые потенциальные сочетания в описанном смысле правильнее назвать лексико-семантическими вариантами (термин А.И. Смирницкого) единого значения слова. В соответствии с этим собственно лингвистическое определение лексического значения слова должно принять следующий вид: значение слова – это совокупность его лексико-семантических вариантов» [Звегинцев 1957, с. 125-126]. Именно в работе В.А. Звегинцева явно семасиологическая сущность – лексико-семантическая вариативность – определяется через процесс номинации (от общего значения к типовым семантическим сочетаниям), то есть ономасиологически. Правда, ученый не рассматривал общее инвариантное значение в проекции противопоставления языковой и речевой номинаций, не определил его как языковой обобщенный феномен в отличие от речевого актуализированного феномена – лексико-семантического варианта. Именно это, вероятно, и послужило для некоторых лингвистов, чьи убеждения строились на основе абсолютизации анализа речевых модификаций значения (теория семантической деривации), основанием для отождествления такого инварианта с его речевой реализацией, что, в свою очередь, стало поводом для того, чтобы считать его «отвлеченной теоретической фикцией». Например, Е. Курилович называл общее значение» «абстракцией, с трудом поддающейся формулировке (выделено мной. – В.Т.)» [Курилович 112 1962, с. 237-250]. Убежденность противников теории общего значения в ее неприемлемости основывается на сложности трактовки в ней «так называемых метафорических значений, когда последние связаны с “первичными”, “основными” значениями не какими-либо существенными “элементами смысла”, а так сказать, ассоциативно, на основе тех признаков, которые не являются семантически значимыми при определении первичных значений» [Шмелев 1977, с. 83], например: В брате кипело возмущение (в противоположность – В чайнике кипела вода), Спор разгорелся (в противоположность – Костер разгорелся) и т.д. Отметим, что для утверждения того, что данные единицы действительно находятся в пределах тождества номинатемы, сторонниками теории семантической деривации, в сущности, был выдвинут только тезис, имеющий формальные основания, – данные значения образованы от других, прямых значений, соотносимых с идентичной звуковой оболочкой. Другими словами, они связаны с базовым значением через форму, поэтому-то, по мнению ученых, и могут быть признаны лексико-семантическими вариантами одной номинативной единицы. Данная трактовка, повторю, объясняющая лексическое через нелексическое, методологически неверна. Мотивировка убежденности здесь базируется не на осознании глубинных механизмов номинации, а только на сложившейся традиции. Я же убежден, что такие употребления номинатемы, не нарушающие, кстати, ее семантического тождества, ни в коем случае не противоречат пониманию ее языкового значения как инварианта. Я исхожу из того, что основой тождества слова является тождество его лексического значения, реализованное по следующей схеме: «инвариантное общее значение» значение»). Для – «актуализированное общее понимания того, каким значение» образом («частное осуществляется актуализация общего (инвариантного, языкового) значения необходимо определение, что же оно собой представляет. Сейчас уже трудно согласиться с логической концепцией, согласно которой «в основе значения каждого знаменательного слова лежит <…> понятие (выделено мной. – В.Т.), 113 содержащее общие существенные признаки какого-то отрезка действительности, то есть такие признаки, которые дают возможность объединить единичные предметы и явления в определенные классы» [Шмелев 1977, с. 60]. Такое понимание значения, имеющее в своей основе логическое объяснение процесса означивания, очень удобно для сторонников теории семантической деривации, потому что позволяет перевести интерпретацию семантических процессов в область логических формул. Однако как раз именно такая трактовка делает невозможным определение приведенных выше коннотативных значений номинатем кипеть, разгореться как лексико-семантических вариантов их прямых значений. У слов кипеть и разгореться в этом случае другие «общие существенные признаки»: у кипеть вместо «бурлить при нагревании жидкости» – «нарастать, развиваться с силой», у разгореться вместо «загореться, начать гореть» – «развиваясь, усиливаясь, дойти до высокой степени развития». Логическое определение значения вынуждает меня трактовать такие единицы именно как омонимы, с чем, повторяю, трудно согласиться. Решением проблемы в этом случае будет использование представления о языковом, инвариантном значении номинатемы как о концепте. Мое понимание статуса концептов в языке во многом совпадает с пониманием, предложенным В.В. Колесовым, который определял концепты как «содержательные формы слова» [Колесов 1999]. То же находим, например, у М.В. Никитина, по мнению которого лексическое значение – это «концепт, связанный знаком» [Никитин 1974, с. 70]. В отличие от концепции, предполагающей несвязанность концепта и значения, теория концептуальной природы последнего стоит на позиции признания концепта «организатором» тождества знака, тем языковым элементом, который определяет возможности речевого означивания. Отметим, что Н.Н. Болдырев, абсолютно не соглашающийся с тем, что можно отождествлять концепт и значение, все же отмечал, что «концептуальная информация, которую кодирует язык, является наиболее 114 существенной, и именно концепт определяет семантику языковых единиц, используемых для его выражения» [Болдырев 2001, с. 26]. Чем является это утверждение, если не указанием на то, что концепт – это единица уровня определения границ номинации, в нашей терминологии – уровня языковой номинации, содержания виртуального знака, языкового номинативного инварианта? Как писала Т.И. Сайтаева, «акты семиозиса и номинативные акты предполагают пред-существование им определенной когнитивной инфраструктуры сознания с языковой способностью как ее главной составляющей» [Сайтаева 2006, с. 65]. Именно концепт является этой когнитивной инфраструктурой, хотя бы потому, что в его основе «лежит исходная, прототипическая модель <…> значения слова13 (т.е. инвариант всех значений слова)» [Тазетдинова 2002, с. 2] (последнее выделено мной. – В.Т.). Иначе говоря, соотношение концепта и значения следует определить так: концепт является не столько значением, которое обычно относят к уровню речи, сколько элементом организации системы значений, то есть – виртуальным инвариантным значением, обнаруживаемым на уровне языка. Можно согласиться с мнением Г.Н. Манаенко о том, что, определяя соотношение концепт – значение, «все же более уместно говорить лишь о части (фрагменте) “схватывает знак”, концепта поскольку (концептуальной концепты, по структуры), мнению которую большинства исследователей, существуют в ментальном пространстве индивидуума не в виде четких понятий, а как “пучки” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают каждое слово и другое языковое выражение» [Манаенко 2009, с. 38]. Необходимо только одно уточнение – в приведенной цитате речь идет о речевом значении номинативной единицы. На уровне же языка значение и концепт совпадают, поскольку только это может быть причиной того, что через речевые значения мы познаем концепт – он осознаваем лишь потому, что существует как возможность своей реализации в конкретных условиях коммуникации. 13 В моей терминологии – номинатемы. 115 Следовательно, концепт как лингвальная сущность выступает только в качестве инварианта для всех возможных речевых значений номинатемы. Иначе говоря, абсолютно справедливо мнение о том, что речевые лексические значения «возбуждают в памяти человека связанные с ними концепты» [Кубрякова 1997, с. 159]. Однако это «возбуждение» возможно только в том случае, если концепт находится на вершине системы этих речевых ситуативных значений одной номинативной единицы, если от него к речи направлен закон реализаций этой единицы в глоссах, а от этих единиц к номинатеме стремится знание о концепте. Поэтому фраза Н.Н. Болдырева о том, что «языковые значения передают лишь некоторую часть знаний о мире» [Болдырев 2001, с. 27], должна быть несколько видоизменена – не языковые, а речевые значения передают лишь некоторую часть знаний о мире. Иначе эта фраза будет противоречить устоявшемуся в когнитивистике утверждению о том, что «мы можем добраться до мысли только через слова14 (никто еще пока не изобрел другого способа)» [Вежбицкая 1999: 293]. Если именно языковые значения передают только часть знаний о мире, то концепт абсолютно непознаваем. Ведь мы же не сможем к нему пробиться иначе, чем через номинативные языковые единицы. А вот если мы предположим, что а) в речи объективируется только часть концептуальных знаний, связанных со знаком; б) вся совокупность концептуальных знаний может быть выведена путем протоколирования объективированных знаком в речи концептуальных знаний; в) это возможно только потому, что лингвоконцепт является инвариантным, виртуальным значением знака, прототипическим знанием, связанным с моделью номинации, все сразу же станет на свои места. Кстати, косвенно тождество инвариантного значения номинативной единицы и концепта отмечает и Н.Н. Болдырев, говорящий о том, что, во-первых, «системное значение слова 14 Лучше – через номинативные единицы. 116 описывает стоящий за ним концепт, и в речи на основе этого значения формируется соответствующий смысл» [Болдырев 1999, с. 64] (экстенсиональный аспект инварианта), а во-вторых, «значение слова энциклопедично по своей сути» [Болдырев 2001, с.28] (интенсиональный аспект инварианта). Я сделаю только два уточнения. Во-первых, системное, читай, инвариантное, значение ничего не описывает. Оно существует как модель номинации. Если же мы признаем его энциклопедичность, мы одновременно признаем его тождественность концепту. Следовательно, системное, инвариантное значение не описывает, а является лингвоконцептом. Во-вторых, я сомневаюсь в том, что инвариантное концептуальное значение может быть приписано на уровне языка слову. Как показало мое исследование, слово – только один из формальных реализаторов концепта. На уровне языка существует не слово, а номинатема – модель номинации, что и будет показано ниже. В.В. Колесов отмечает: «Соотнесенность знака с реальностью символична, и таково первое следствие наших уточнений: слово – это знак знака, т.е. символ, поскольку словесный знак указывает на что-то, одновременно передавая значение чего-то другого» [Колесов 2002, с. 37]. И далее: «В целом можно сказать, что знак указывает на вещь и тем самым фиксирует уже известное знание о вещах; идея отражает общие свойства вещи и тем самым воплощает со-знание данного социума» [Колесов 2002, с. 40]. Иначе говоря, процесс речевой номинации, границы которой определяет языковой инвариант-концепт, осуществляется одновременно как референция, то есть обозначение внеязыкового факта, что реализует номинативное направление «реальность → язык», и коагуляция, то есть актуализация коммуникативно значимых, а следовательно – формирующих языковое представление, компонентов концепта. Последние реализуются в инвариантном значении-концепте в виде сем. На это в свое время обратил внимание В.В. Левицкий, отметивший, что слоты (компоненты концепта) «во многом напоминают те элементы в сигнификативной или денотативной 117 структуре слова, которые в традиционной лингвистике называются компонентами (семами. – В.Т.)» [Левицкий 2006, с. 156]. Я же считаю, что не «напоминают», а являются ими. Структура концепта – инвариантного значения, следовательно, представляет собой семный (слотовый) комплекс. Этому семному (слотовому) комплексу, «с одной стороны, принадлежит все, что принадлежит строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д.» [Степанов 1997, с. 41]. Под семой-слотом понимается предельно минимальная часть элементарного языкового, концептуального значения, в составе которой выделяется семантический множитель, то есть параметр существования того или иного аспекта значения, и семный конкретизатор, то есть реальное наполнение этого параметра. Например, в значении слова стул «предмет мебели для сидения» реализуется репрезентирован семантический сема «для множитель сидения», в которой «назначение» и семный конкретизатор «для сидения». По отношению к языковой личности семы подразделяются на референтные, то есть указывающие на тот или иной аспект существования референта вне связи с языковой личностью15, например, сема «конечность» у значения «верхняя конечность человека» слова рука, и оценочные, то есть указывающие на отношение говорящего, оценку им референта, например, пейоративная сема «очень глупый» у значения «очень глупый человек» слова дебил. По месту в структуре семемы семы подразделяются на: а) архисемы, которые «отражают признаки, свойственные целым классам объектов» [Гак 1977-2, с. 14], например, сема «предмет мебели» в значении слова шкаф; б) дифференциальные семы, которые «отражают непосредственные различия объектов» [Гак 1977-2, с. 14] и «конкретизируют архисему в Отсутствие связи с языковой личностью здесь условно, поскольку актуализация той или иной семы в речевом потоке определена «взглядом» говорящего на референт, то есть на внеязыковое явление. 15 118 составе семемы» [Стернин 1985, с. 59]; например, в значении слова шкаф при архисеме «предмет мебели» реализуются семы: «для хранения одежды, посуды, книг», отличающая данную номинатему от номинатемы сервант; «в виде большого ящика с дверцами», отличающая её от номинатемы этажерка и т.д. в) периферийные семы, которые обозначают либо переменные, либо устранимые признаки предметов [Никитин 1983, с. 46], например, сема «форма крышки» у существительного стол, которая может наполняться в зависимости от ситуации конкретизаторами «круглый», «овальный», «квадратный» и т.п. В архисеме и дифференциальных семах обычно реализуются референтные, онтологические признаки концепта, а в потенциальных семах, которые Ю.Д. Апресян тоже квалифицирует как «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого, которые выражают принятую в данном коллективе (а также в индивидуальном сознании и опыте носителей языка. – В.Т.) оценку соответствующего предмета или факта действительности» [Апресян 1974, с. 67] – несущественные референтные и оценочные. Я неслучайно выше обратил внимание на роль индивидуального сознания и опыта носителя языка при означивании референтов, так как нередко в процессе актуализации значения в речи именно они становятся причиной для неожиданных окказиональных номинаций, обусловленных личностными коннотативными ассоциациями, например, для обозначения качественного продукта словом монтана, названием марки джинсов, чье качество для индивидуального носителя языка является эталонным; обозначения неприятной, но обязательной работы словосочетанием манная каша, которая у номинанта ассоциируется с неприятными ощущениями детства, и т.д. Процесс речевого означивания на базе языкового инвариантного концептуального значения имеет вид актуализации сем последнего в связи с целями номинации. Именно различие целей и формирует лексикосемантическую вариативность. Существует 119 два типа актуализации инвариантного концептуального значения номинатемы в ее лексикосемантических вариантах: семная актуализация при сохранении тождества денотата / референта и абсолютизированная семная актуализация, приводящая к замещению денотата / референта. Сущность семной актуализации состоит в том, что «поскольку проявления могут быть у объекта обозначения самыми разнообразными, так как он «поворачивается» к воспринимающему лицу своими разными сторонами, то за одним и тем же обозначением могут скрываться различные аспекты поведения данного объекта» [Ахманова 1957, с. 87]. Эти «аспекты поведения объекта» реализуются в процессе номинации в виде так называемого «актуального смысла номинатемы», под которым понимается «актуально значимая часть системного значения языкового знака, актуализировавшаяся (через актуализацию коммуникативно значимых сем инварианта. – В.Т.) в данных коммуникативных условиях» [Васильев 1990, с. 14]. Например, концепт, обозначенный номинатемой иголка «заостренный металлический стержень с ушком для вдевания нити, употребляемый для шитья», может быть реализован при тождестве референции в конкретных контекстах и с актуализацией семы «употребляемый для шитья» («дай мне иголку, мне надо пришить пуговицу») и с актуализацией семы «заостренный металлический стержень (представляющий опасность)» («смотрите, ваш ребенок взял иголку») и т.д. Такие варианты И.А. Стернин называет семными вариантами слова [Стернин 1985, с. 106]. Правильная трактовка ситуаций, когда номинатемой обозначаются реалии онтологически иного типа, когда она реализует так называемую когнитивную метафору, требует превентивного напоминания сущности процесса языкового означивания, изложенного в первой главе. Возможность отождествления в метафоре двух несовместимых сущностей определяется возможностью актуализации в языке двух миров – онтологического, существующего как объект номинации, и лингвального, являющегося созданным человеком при помощи языка в процессе номинации артефактом, 120 сферой языкового бытия субъекта-номинанта. В связи с этим мной предполагается реализация в акте номинации не одной, а двух номинативных функций – собственно номинативной, при помощи которой субъект пытается описать внеязыковой мир (референция мира), и перформативной, при помощи которой данный внеязыковой мир становится объективной реальностью языка (категоризация и концептуализация). При этом номинативная и перформативная функции существуют в тесном сплочении. Указанное различие между онтологическим и лингвальным мирами позволяет по-новому трактовать многие явления языковой структуры, чисто онтологическая интерпретация которых приводила к некоторым неточным, на мой взгляд, выводам. Все ситуации изменения референтной роли номинатемы следует, в этой связи, определить как реализацию ее перформативной коннотативной интенции. Данные изменения происходят в тех ситуациях, «когда слово, не теряя прежней связи с денотатом, получает и новую связь, с новым денотатом» [Вандриес 2004, с. 19], что отмечается, например, в случае сосуществования значений «животное семейства ластоногих» и «человек, занимающийся купанием в холодной воде» у слова морж. Есть соблазн определить возникновение нового значения в последнем случае как деривационный перенос по семе «купание в холодной воде». Однако сущность процесса означивания здесь значительно глубже. Оно имеет в своей основе то, что «мышление есть оперирование концептами как глобальными единицами структурированного знания» [Попова 1999, с. 6], и любое из его воплощений, образное в том числе, соотносимо с концептом, поскольку последний – «это многомерное смысловое образование, имеющее образное (фреймовое), описательное (понятийно-дефиниционное) и ценностное измерение» [Дмитриева 1997, с. 148] (выделено мной. – В.Т.). Однако образ, как известно, «дает знание не об отдельных изолированных сторонах (свойствах) действительности, а представляет собой целостную мысленную картину отдельного участка действительности» 121 [Образное 2004]. Иначе говоря, образ возникает как представление, созданное путем замещения, при котором один из отрезков действительности (в данном случае – «человек, занимающийся зимним купанием») воспринимается как другой отрезок действительности (в данном случае – как «северное животное») целостно – он не в реальности, но в языке, в лингвальном мире, детерминированном нашим образным мышлением, становится моржом. Конечно же, такое образное отождествление осуществляется в результате актуализации семы «купающийся в холодной воде», однако это не перенос по сходству словообразованием, а функций, образное декларируемый осознание одного семантическим через другого, представление одного другим, мотивированное семной актуализацией с замещением денотата (референта). Вот как описывает этот процесс Н.А. Красавский: «В основе метафоры лежит какое-либо сравнение, определённое формальное или функциональное сходство между различными фрагментами действительности. Человеческое сознание, фиксируя подобного рода сходства, как бы уподобляет один предмет, его признаки, в целом одно явление другому предмету, явлению. На основании такой предметноментальной операции, как сопоставление по аналогии, человек переносит наименование одного предмета на другой» [Красавский 2006, с. 23] (все выделено мной. – В.Т.). Точно так же определяется природа коннотативной/когнитивной метафоры в логико-философском аспекте, где, как писала Е.А. Селиванова, «она трактуется как мыслительная операция неистинного фиктивного обозначения путем объединения двух мыслей о разных предметах, признаках, ситуациях преимущественно путем выделения определенного смежного понятия» [Селиванова 2008, с. 97]. Перед нами «способ думать об одной области через призму другой» [Пименова 2003, с. 29], способ реализовывать одно из явлений реальности как другое, отождествленное с ним в лингвальном мире. Человек становится моржом именно в нем. Доминанту образного отождествления различающихся референтов в 122 номинациях данного типа не отрицают и сторонники семасиологического подхода, утверждая, что «наблюдения над семантическими дериватами – производными лексико-семантическими вариантами в русском языке – убеждают в том, что в структуре любого такого лексико-семантического варианта присутствуют образный и эмоционально-экспрессивный компоненты» [Кудрявцева 2004, с. 77]. Я, однако, ограничиваю участие образного элемента только фактами замещения денотата, в то время, как семная актуализация инвариантного значения связана, скорее, не с образностью, а с осознанием ситуативно и коммуникативно значимых сторон одного и того же референта. Можно только отметить, что образное отождествление референтов через замещение денотата имеет в своей основе аналогизацию референтов. Как писала Г. Кочерга, «выбор фрагмента ассоциативно-терминального компонентами компонента, его ментально-психонетического реляций комплекса с другими в целом предопределяет ассоциативно-терминальный тип мотивации, которая в свою очередь может иметь разную природу аналогизации донорской и реципиентной зон» [Кочерга 2004, с. 91]. Ситуации актуализации сем без замещения референта я буду называть денотацией, имеющей своей целью определить коммуникативно значимые аспекты существования и функционирования обозначенного номинатемой через глоссу референта, а с замещением – коннотацией, представляющей собой коммуникативно значимое образное отождествление референтов. Инвариантное значение номинатемы реально настроено на денотацию. Коннотация же заложена в нем потенциально и проявляется в глоссах только в определенных речевых ситуациях. Следует отметить, что я ни в коем случае не отрицаю возможности семасиологического описания лексико-семантического варьирования. Оно должно быть, и, более того, оно и составляет сущность собственно языкового подхода к этому явлению. Однако оно должно опираться на несколько иные методологические основания. Например, 123 мнение А.А. Тараненко, определявшего метафору как «семантический процесс, при котором форма языковой единицы или оформление языковой единицы переносится с одного референта на другой на основе того или иного сходства последних при отражении в сознании говорящего» [Тараненко 1989, с. 108], требует корректировки в том смысле, что данный семантический процесс имеет не доминанту переноса лингвального по сходству, отождествления в а доминанту концептуальном коннотативного «образе» двух референтов, основанного на их сходстве в тех или иных референтных признаках. И поэтому семасиологическая трактовка моделей «лексико-семантической деривации», отмечаемая, например, в работе Л.А. Кудрявцевой [Кудрявцева 2004, с. 49-105], должна быть несколько откорректирована не в фактурном плане, к которому никаких претензий нет, а в методологическом. Во-первых, она должна быть определена не как система моделей «лексико-семантической деривации», а как система моделей лексикосемантического варьирования в пределах тождества номинатемы. Во-вторых, в ее основе должен лежать не фактор «переноса», а факторы актуализации и отождествления, и поэтому модели лексикосемантического варьирования, как в их метафорических, метонимических разновидностях, должны быть распределены так и между процессами денотации и коннотации. Например, «расширение значения с сохранением архисемы» может быть трактовано как денотация, которая, кстати, иногда ошибочно воспринимается как коннотация. Это происходит тогда, когда инвариантное концептуальное значение обладает высокой степенью обобщенности и используется для обозначения разнородных референтов. Например, инвариантное значение номинатемы двор реализуется и в лексико-семантическом варианте «участок земли между домовыми постройками одного владения, одного городского участка», например: Детская площадка во дворе, и в лексико-семантическом варианте «крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное 124 крестьянское хозяйство», например: Деревня в сто дворов, и в лексикосемантическом варианте «отгороженный от улицы участок земли с надворными постройками при отдельном доме, усадьбе», например: Сарай во дворе» и т.д. Однако во всех этих случаях оно реализует одно и то же значение – «отграниченное от улицы пространство, включающее дом», что и позволяет предположить, что в указанных вариантах происходит только актуализация периферийной семы «статус» единого инвариантного значения номинатемы (городской двор, крестьянский двор, сельский двор), то есть акт денотации. В некоторых ситуациях такое варьирование может иметь на первом этапе своей реализации статус коннотации, например, в приведенных Л.А. Кудрявцевой случаях употребления номинатемы всеобуч в значении «широкое, повсеместно проводимое обучение чему-либо». Первоначально употребление глосс данной номинатемы в значениях «родительский всеобуч», «экономический всеобуч», «строительный всеобуч» имело своей целью образное отождествление указанных конкретных типов всеобщего обучения с «всеобщим обучением грамоте». Однако устойчивость и регулярность таких употреблений привела к коррекции инвариантного значения – вместо «всеобщее обучение грамоте» оно приобрело вид «широкого, повсеместно проводимого обучения чему-либо», и поэтому его реализации «обучение грамоте», «обучение строительному делу», «обучение родительским обязанностям» и т.п. стали фактами денотации с актуализацией семы «предмет обучения». Итак, как пишет Н.Ф. Алефиренко, считающий термин концепт, вслед за Л. Витгенштейном и А. Вежбицкой, «размытым понятием с инвариантными признаками», «наборы таких инвариантных признаков, включаемых в описание концепта, репрезентируемых одним и тем же языковым знаком, могут не совпадать (в речи. – В.Т.). В таком случае каждый из таких комплектов признаков (в моем понимании – «актуализированных сем». – В.Т.) формирует свою семантическую структуру лексико-семантического варианта многозначной лексемы, а так называемое 125 «размытое» понятие выполняет роль объединяющего фактора, в результате действия которого все ЛСВ не выходят за рамки единого полисеманта. Концепт, следовательно, представляет собой генетический корень или смысловой эмбрион, экспликация которого осуществляется только путем осмысления формирования семантической структуры слова» [Алефиренко 2002, с. 18] (см. также: [Беляевская 1994]). С разных точек зрения значение номинатемы может быть определено по-разному: 1) с точки зрения его места в дихотомии «язык – речь» оно определяется мною как языковое и противопоставляется речевым значениям глосс; 2) с точки зрения структуры номинатемы оно определяется мною как инвариантное и противопоставляется реализованным в речи вариантным значениям глосс; 3) с точки зрения его вхождения в языковую картину миру – как общеконцептуальное и противопоставляется конкретным, коагулированным, актуализированным речевым значениям; 4) с точки зрения процесса референции – как сигнификативное и противопоставляется денотативно-коннотативным. Иными словами, стержень номинатемы – это языковое, инвариантное, концептуальное, сигнификативное значение, реализующееся в речевых, вариантных, конкретных денотативно-коннотативных значениях её глосс. Семантическая же деривация определяется в предлагаемой мною концепции следующим образом: «Семантическое словообразование <…> осуществляется путем включения слова в иной лексический разряд, в результате чего образуются омонимы, то есть равнозначные производные лексемы, которые в категориальном отношении подобны лексемам, образованным с помощью морфем» [Марков 2001, с. 121]. В этом случае актуализация сем при коннотации трансформируется в их абсолютизацию и формирует новый концепт с присущей уже только ему денотацией и 126 коннотацией (см. об этом следующую главу – п. 4.2.). При таком подходе термином «эпидигматика» я буду обозначать не процесс деривационного порождения одним лексико-семантическим вариантом слова его другого варианта, а глубинный ономасиологический процесс порождения денотации и коннотации как разных типов актуализации общего инвариантного концептуального языкового значения номинатемы. Вопрос о семантическом тождестве номинатемы требует адекватной оценки статуса в её структуре и другого семантического комплекса – грамматического значения. В основе его выделения лежит критерий закономерного модифицирования грамматической семантики. Я обращаю внимание на грамматическое значение потому, что при внутриязыковой обусловленности грамматических форм «морфологические изменения слова не затрагивают его единства как лексемы» [Арсеньева 1965, с. 59]. Как отмечает Дж. Байби, существует два параметра грамматического модифицирования в пределах тождества номинативной единицы: «1) семантическое понятие должно быть крайне существенным для значения основы, к которой присоединяется – критерий релевантности, или существенности. 2) оно должно быть семантическим понятием достаточно высокой степени общеприложимости – критерий общности» [Bybee 1985, с. 12]. Другими словами, если присоединение предлога в к глоссе дом является релевантным для значения этой глоссы, поскольку получившаяся комбинация слов указывает на обозначенный ею объект как на предел/цель движения внутрь (критерий релевантности), и эта семантика повторяется каждый раз, когда предлог в присоединяется к существительному в винительном падеже, обозначающему «географический объект, имеющий границы и центр», например, в город, в сад, в дупло (критерий общности), то я и считаю комбинацию в дом грамматической модификацией слованоминатемы дом. Я бы не стал разграничивать, вопреки мнению Р.З. Мурясова, считавшего, что «категориальное значение (т.е. такие значения частей речи 127 как предметность, признаковость, процессуальность) не входит в лексическое значение слова» [Мурясов 1989, с. 41], при когнитивном подходе лексические и грамматические значения. Скорее всего, они образуют единый номинативный комплекс. Нужно, на мой взгляд, согласиться с мнением В.М. Никитевича, использовавшего понятие номинативного значения, определенного им как «лексическое значение, в котором непременно присутствует как обязательный элемент целостное значение части речи и его подкласса» [Никитевич 1985, с. 17]. Впрочем, такой же точки зрения придерживаются и некоторые сторонники семасиологических концепций. Как писала А.А. Уфимцева, «тезис о неразрывном единстве лексического и грамматического в слове был и остается методологической основой изучения значения слова, обусловленной самой двойственной (языковой и экстралингвистической) природой слова» [Уфимцева 1977, с. 8]. Как справедливо пишет А. Вежбицкая, грамматические компоненты являются непрямыми способами вербализации концепта, включающими в себя сочетаемость, грамматические характеристики и другую информацию, из которой можно вывести его признаки [Вежбицкая 1997, с. 92]. Следует признать, в этой связи, что «роль грамматических значений – смыслоорганизующая. Лексические и грамматические значения в смысловой структуре слова образуют цельные семантические комплексы. Реализация лексического значения без учета грамматической семантики, то есть вне грамматически организованной речевой единицы невозможна или, по крайней мере, затруднительна» [Дегтярев 1973, с. 31]. Не случайно то, что в лингвистике довольно распространено мнение о том, что «классификация слов по частям речи не может считаться чисто грамматической, но имеет свою – и притом ярко выраженную – лексическую сторону» [Левковская 1962, с. 15]. Более того, некоторые ученые вообще считают ее чисто лексической (см.: [Балли 1955, сс. 128-129; Макаев 1962]). В.М. Русановский говорит о слитности лексического и грамматического в глоссе следующим 128 образом: «Лексема (глосса – В.Т.) зеленый является носителем признака “зеленый”, но кроме этого еще и носителем семы “родовой признак”. Последняя нашла свое воплощение в лексеме (глоссе. – В.Т.) в целом (выделено мной. – В.Т.), а также в морфеме -ый» [Русанівський 1988, с. 10]. Другими словами, грамматическое значение, интегрированное в общее инвариантное значение номинатемы, вводит концепт, определяемый мной как ее семантическое ядро, в систему языкового членения мира, делает его соотносимым с уже устоявшимися в языке представлениями об онтологических типах референтов (предмет, действие, признак и т.п.), актуализирует в нем наиболее общие признаки этих типов и тем самым устанавливает его место в системе языка, наделяя уже свойствами соответствия внеязыковой действительности языковым моделям. Как писал Э. Сепир, «конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем или другим рубрикам основных понятий, используя иные конкретные или полуконкретные идеи в качестве посредствующих функциональных связей» [Сепир 1993, с.65-66]. Эти рубрики и являются грамматическими компонентами инвариантного значения номинатемы. Они так же, как и в случае структурации лексического, предметного значения, имеют статус сем, правда, не лексических, а грамматических. Можно выделить следующие обобщенные типы грамматических сем (значений). Во-первых, грамматическое значение может указывать на отношение реалии, обозначенной глоссой, к тому или иному классу референтов реального мира (общекатегориальное грамматическое значение). Здесь уместно привести мнение М. Докулила, с точки зрения которого «обобщенное отражение действительности в сознании сначала определенным образом обрабатывается, расчленяется и упорядочивается в соответствии со способами наименования данного языка (выделено нами – В.Т.). Это внутреннее формирование понятия по отношению к его выражению в данном 129 языке происходит при помощи так называемых ономасиологических категорий, т.е. основных понятийных категорий, образующих в данном языке основу называния и обладающих своим категориальным выражением» [Dokulil 1962, с. 196]. Развивая данный тезис, Е.С. Кубрякова указывает на предельный уровень ономасиологического членения, предлагая соотносить ономасиологические категории с частями речи, ориентированными на разное обозначение по-разному воспринимаемых объектов действительности [Кубрякова 1978, с. 25]. Имя существительное при этом соотносится с ономасиологической категорией «предметность», имя прилагательное – «признаковость» или «атрибутивность», глагол – «процессуальность» [Кубрякова 1978, с. 45-48]. Таким образом, процесс номинации на первой стадии своей реализации относит обозначаемую сущность к тому или иному классу референтов, определяя тем самым её наиболее общие (грамматические) признаки. Такова, например, атрибуция номинатемы снег как «существительного», которая относит обозначенную ею реалию к «предметам или явлениям». Вполне очевиден изоморфизм общекатегориального грамматического значения и лексической архисемы. Общекатегориальное значение – интегральный компонент, относящий концепт к определенному типологическому классу референтов. Отличие общекатегориального значения от архисемы только в степени абстракции. Если грамматическое значение относит концепт к онтологически предельному классу референтов мира, то архисема является указанием на предельный семантический класс уже в границах онтологически предельного класса. Например, слово кровать относится общекатегориальным значением к «предметному» классу референтов, а архисемой – к предельному классу «мебель» в границах предметности. Во-вторых, грамматическое значение указывает на конкретный аспект сосуществования концепта с другими концептами, реализованный в межглоссовых различиях (частнокатегориальное значение). Например, 130 значение числа: глосса столы указывает на множественность предметов и противопоставляется глоссе, например, стол, указывающей на единичность. Вполне очевидно, что «частные грамматические значения в системе каждой части речи обусловлены её категориальным (общекатегориальным. – В.Т.) значением и сопутствуют этому значению в процессе функционирования слова (глоссы. – В.Т.) в качестве члена предложения» [Дегтярев 1973, с. 34]. В-третьих, грамматическое значение указывает на место глоссы/ номинатемы в системе языка, например, значение «склонение», «род для неполовых существительных» (формальное значение). Это чаще всего интегральный компонент номинативного значения, хотя, например, у прилагательных род дифференциален. Значимость формального значения в том, что оно, «имея формальный характер, организует смысловые отношения связываемых в речи словоформ» [Дегтярев 1973, с. 34]. Итак, структура семантического стержня номинатемы – значения представляется мне следующим образом. На уровне языка это единое инвариантное значение-концепт, грамматических представляющее (смыслоорганизующих) и собой систему лексических (смыслоустанавливающих) сем, которые актуализируются в речи в глоссах в ситуациях денотации и коннотации. Таким образом, номинатема, например, чайник, чья инвариантная структура представлена семами «предметность» (общекатегориальное значение), «посуда» (архисема), «неодушевленность», «способность к изменению по числам и падежам», «конкретность», «способность быть членом предложения» и т.п. (частнокатегориальные значения), «для заварки чая», «с носиком», «определенной формы» (дифференциальные семы), «мужской род», «2-е склонение» (формальное значение), «нечто примитивное», «нечто банальное» и т.д. (потенциальные семы, зависящие от индивидуального опыта носителя языка), реализуется в речи с актуализацией тех или иных сем или мотивированной этой актуализацией коннотацией. Например, в денотативном употреблении Нет, чай китайцы очень любят и 131 заваривают его только в глиняных чайниках (Газета по-киевски. – 20.07.2007) слово чайник имеет значение «прибор для заваривания чая», абсолютно адекватное значению инварианта с актуализированными потенциальной семой «материал» и частнограмматическими семами «мн. ч.», «предл. пад.». При коннотативном употреблении номинатемы адекватность языкового и речевого значений отсутствует. Доминантой номинации здесь будет создание образа чайника на основе актуализации сем «нечто примитивное»: Их не интересуют мнения чайников и критиков. Их не расстроит одномерный сценарий (Новая газета. – 20.07.07). Человек, слабо разбирающийся в чем-то, отождествляется по этим семам с указанным образом, становится в представлениях номинанта «как бы чайником» в исконно денотативном смысле этого слова. Повторим: на уровне инварианта такого значения нет, по крайней мере, в аспекте реальной адекватности. Не оно, а такое глоссоупотребление заложено в нем потенциально, как образная возможность, которая может реализоваться только в речи в коннотативном лексико-семантическом варианте. Однако набор грамматических значений глоссы чайников здесь абсолютно тождественен набору грамматических значений денотативных глосс данной номинатемы («предметность»16, мн. число, род. пад.). Инвариантное значение, концепт, сигнификат является единственным и единым языковым лексико-семантико-грамматическим значением номинатемы и может реализовать в речи свое тождество двумя способами: 1) как полную семантическую идентичность, когда лексическое значение глосс одной номинатемы совпадает, то есть идентично актуализирует лексическую часть концепта, например, в ситуациях употребления номинатемы парашют в значении «устройство с раскрывающимся в воздухе куполом и стропами для прыжка с самолета или спуска с высоты груза» в глоссах парашюта // парашют (изобретение Отметим, что «предметность» здесь сохраняется, поскольку значимость коннотации настроена именно на уничижительное, пейоративное отождествление некомпетентного человека с неодушевленным предметом. 16 132 принципа устройства парашюта относится к XIII столетью – «попытку применить на практике для своего спасения парашют произвели 2 француза, Жак Гарнерен и Друэ, бывшие в плену у австрийцев). когда грамматическое значение глосс одной номинатемы совпадает, то есть идентично актуализирует грамматическую часть концепта, например, в ситуациях употребления номинатемы хлеб в глоссе хлеба с идентичным грамматическим значением (род. пад. ед. числа): Этот документ устанавливает предельные торговые надбавки на сорта хлеба. – На сегодняшний день в списке четыре сорта дотируемого хлеба (http://www.regnum.ru/news/958066.html). 2) как семантическую вариативность, когда тождество выступает как лексико-семантическая вариативность, то есть когда глоссы семантически различаются: а) при денотации, например, в ситуации употребления глосс номинатемы кирпич «брусок из обожженной глины (также из смесей некоторых осадочных пород, извести, песка), который используется для строительства» с актуализацией семы «употребляемый для строительства» (передай мне кирпич, надо закончить стенку) и семы «тяжелый предмет (вес)» (не надорвитесь – в портфеле кирпич) и т.д.; б) при коннотации, например, в случае реализации глосс слова зерно в значениях «семя растений» и «малая частица чего-нибудь округлой формы», где во втором случае причиной номинации является распространения образа зерна на схожие с ним предметы, представление о них, как о зерне; когда тождество вариативность, то выступает есть когда как грамматико-семантическая глоссы являются разными грамматико-семантическими вариантами одной номинативной сущности и объединяются благодаря их отнесенности к устойчивым моделям атрибуции к определенным стереотипам реализации принадлежащих тому или иному грамматическому классу признаков; например, наличие субъектной реализации именительного падежа глоссы кофе в предложении Арабы 133 считали, что кофе – лекарство и партитивной реализации родительного падежа в предложении Для многих выпить кофе не является обычной гастрономической процедурой является выражением стереотипа реализации падежных признаков, присущих всем существительным. Формально связанные единицы, которые реализуют семантическое тождество во всех его разновидностях, и будут считаться мной субстантными разновидностями номинатемы. Следует, кстати, обратить особое внимание на план выражения номинатемы. Можно согласиться с М.Д. Степановой, пишущей: «Мы считаем необходимым, во-первых, строго различать неизменяемость значения при вариантности17 формального выражения (вариантность в плане выражения) и неизменяемость структуры при вариантности её значения (вариантность в плане содержания), во-вторых, принимать в качестве обязательного условия вариативности сохранение ощутимого инварианта при тех или иных изменениях в обоих случаях (то есть инварианта в плане выражения и инварианта в плане содержания)» [Степанова 1967, с. 90]. И далее: «Тождество единицы языка обусловлено: при формальных изменениях – их закономерностью, наличием структурного инварианта и стабильного значения, при семантических изменениях – наличием смыслового инварианта и стабильной структуры» [Степанова 1967, с. 90-91]. Форма и содержание при такой трактовке находятся в диалектическом единстве. Любая глоссовая реализация должна отражать в себе существенные признаки инварианта как в плане выражения, так и в плане содержания. Если с планом содержания все понятно – тождество организуется инвариантным общим значением, то с установлением инварианта в плане выражения есть определенные сложности. М.Д. Степанова, как и Ш. Балли, ищет инвариант формы в основе или части основы слова [Степанова 1967, с. 90]. Для меня это неприемлемо потому, что, как это будет показано ниже, в Для этой цитаты: термины «вариантность», «вариативность» здесь употреблены в том же смысле, в каком мы употребляем термин «модифицирование», то есть в родовом значении. 17 134 состав номинатемы входят и комплексы с доминантой словосочетанием, и их реализации могут не совпадать формально с главным членом конструкции, хотя и находиться с ней в отношениях актуального тождества (дежурный офицер – дежурный, где форма эллиптического универба не совпадает с формой главного компонента словосочетания, но находится, как это будет показано ниже, в отношениях дублетности с этим словосочетанием). Инвариантной для номинатемы является формальная взаимная связанность глосс, внутренняя формальная взаимная мотивированность одной глоссы другою. Именно формальный инвариант имеет все признаки экстенсионального образования. 3.4. Вопрос о статусе свободных словосочетаний Утверждение в качестве основы тождества номинатемы ее инвариантного, концептуального, сигнификативного языкового значения позволяет по-новому определить статус составных речевых номинативных единиц – словосочетаний и сочетаний знаменательных слов со служебными. Термином «словосочетание» я здесь обозначаю «лексико- грамматическое единство – сочетание двух (и больше) знаменательных слов, связанных между собой подчинительной связью» [Современный русский язык 1981, с. 43], например зеленая карета, нежно любимый, ехать в Москву и т.п. С этой дефиницией можно соглашаться [Загнітко 2003, с. 52], можно и не соглашаться [Жирмунский 1961, с. 15], включая, в последнем случае, в состав словосочетаний и сочинительные конструкции, и сочетания знаменательных слов со служебными и т.д. Однако для целей предлагаемой работы это определение абсолютно достаточно, поскольку именно подчинительные сочетания знаменательных слов, «идеологически» ничем не отличающиеся от других сочетаний, имеют ряд базовых особенностей, которые позволяют утверждать их несомненную автономность в системе языка. Эти особенности и представляют особый интерес. Вопрос в нашем случае состоит в том, насколько словосочетания 135 указанного типа являются номинативными единицами и каким образом реализуется их номинативность? Само представление о номинативности словосочетаний, то есть о том, что «основная функция словосочетания – номинативная» [Загнітко 2003, с. 53], причем «комбинация слов и словосочетание репрезентируют уже соединение некоторых отдельных значений-сигнификатов, в результате чего образуется новая номинативная единица (выделено мной. – В.Т.), идентификация и понимание которой зиждется на адекватном воспроизведении некоторого реального единства предметов, явлений и их свойств (сочетание предмета и признака, сочетание предметов, сочетание действий и т.д.)» [Азнаурова 1977, с. 123], вызвало в середине – конце семидесятых годов серьезную дискуссию на страницах «Вопросов языкознания» (см.: [Кобрин 1979; Моисеев 1977; Федорова 1979; Форменко 1975] и др.). Мне представляется, что номинативность является отличительной чертой таких единиц, однако мое представление об её статусе и формах проявления несколько отличается от традиционных мнений. Прежде всего, необходимо указать на то, что с точки зрения цельности семантики обычно выделяются три типа подчинительных словосочетаний: свободные сочетания, то есть «та часть словосочетаний, которым не свойственна заметная интеграция, спаянность компонентов» [Ларин 1977, с. 126], например, зеленая листва, покупать хлеб, хорошо учиться; идиоматизированные словосочетания, или коллокации, то есть устойчивые сочетания, характеризующиеся «неизменной формой и свойственным для них составом компонентов» [Рогожникова 1977, с. 111], например железная дорога, грудная жаба и т.п.; фразеологические обороты, то есть «относительно устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные сочетания лексем (выделено мной. – В.Т.), обладающие (как правило) целостными значениями» [Мокиенко 1989, с. 5], например сушить весла, тянуть канитель. Часто последние два типа сочетаний объединяют под одним названием «фразеологическая единица», которая в этом случае определяется как 136 «воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и структуре» [Шанский 1985, с. 20]. См., например, у Д.Н. Шмелева: «раздельнооформленные образования разделяются на «идиоматичные» (фразеологические единицы) и «неидиоматичные» (свободные, «классические» словосочетания)» [Шмелев 1973, с. 58]. Причина такого объединения в том, что и фразеологические обороты и идиоматизированные словосочетания вполне очевидно настроены на выполнение номинативной функции, в то время как для свободных словосочетаний эта функция не очевидна: «Свободные, синтаксические словосочетания – не номинативные единицы, фразеологические и (или в том числе) терминологические словосочетания, напротив, несомненно, номинативные единицы языка» [Моисеев 1977, с. 57] (то же: [Солодуб 1988, с. 37], [Федорова 1979, сс. 132, 135] и др.). При этом считается, что в речи воспроизводится только модель свободного словосочетания, а само свободное словосочетание «является единицей не воспроизводимой, а произвольной, возникающей и существующей как реально ощутимая, полнокровная величина лишь в акте речи» [Белый 1960, с. 110]. Как писал А.И. Моисеев, «если номинацию понимать так, как она обычно понимается – как наименование предметов и явлений, отраженных в понятиях, а в связи с этим и как наименование самих этих понятий, то обнаружить номинативную функцию у словосочетаний (у свободных, синтаксических сочетаний – не фразеологизмов) никак нельзя» [Моисеев 1977, с. 56]. Для доказательства своей правоты сторонники концепции неноминативной природы свободных словосочетаний приводят следующие размышления: «Можно ли считать, что в сознании говорящих по-русски есть понятие «покупать капусту» в отличие от понятия «покупать свеклу» (и в чем их различие?), понятие «покупать свежую капусту» в отличие от понятия «покупать квашеную капусту», понятие «идти в лес» и понятие «идти из 137 лесу» и т.п.» [Моисеев 1977, с. 56]. Это является основанием для вывода о том, что словосочетание – это только «речевая манифестация (реализация) языковой валентности» [Форменко 1975, с. 62], которая формирует «оригинальные образования, являющиеся произведениями речи говорящего, созданные путем использования той или иной продуктивной синтаксической модели» [Тер-Минасова 1977, с. 64]. Я считаю, что в данном случае допущена серьезная методологическая ошибка, сущность которой состоит в рассмотрении свободных словосочетаний в той же плоскости, что и коллокаций, и фразеологизмов, то есть как расчлененных самостоятельных и, что самое главное, целостных в этой расчлененности наименований. Для меня же более убедительным является мнение, согласно которому свободное словосочетание определяется «как сложное наименование, строящееся по принципу семантического распространения слова» [Кобрин 1979, с. 86]. В этом случае, правда, необходимо решить вопрос о том, как же соотносятся исходное слово и развернутое на его основе словосочетание. Как известно, «если в отдельной лексеме ощущается ее сигнификативная связь с определенным предметом, будь то наименование конкретных или абстрактных предметов (дом, число, время и т.д.), то словосочетание служит конкретным описанием того или иного денотата (вернее, референта; выделено мной. – В.Т.) (высотный дом, астрономическое число и т.д.)» [Азнаурова 1977, с. 123]. При этом, как писал И.Е. Аничков, «ни одно слово не может вступать в сочетания с какимнибудь другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным количеством других слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны и установлены» [Аничков 1997, с. 108]. Реестр этих сочетаний определяется особенностями семантики главного слова. Продуцирование словосочетаний имеет в своей основе актуализацию тех или иных семантических множителей последнего в зависимом слове, которое при такой трактовке становится вербализованным компонентом 138 семантики главной лексемы. Например, в словосочетаниях зеленый дом, трехэтажный дом, дом у обочины, каменный дом и т.п., имеющих тождественный референт, слова зеленый, трехэтажный, у обочины, каменный, указывающие только на различные характеристики этого референта, являются, семантических по сути, множителей реализаторами «цвет», семного «размер», наполнения «местоположение», «материал» значения слова дом как базовой в этом случае единицы номинации. Это и позволяет предположить, что указанные словосочетания являются многословными вариантами номинатемы аналитическими дом, а не лексико-семантическими самостоятельными языковыми сущностями. Актуализация сем номинативного центра абсолютно адекватна здесь актуализации сем монолексемных реализаций номинатемы при денотации. Например, при уже упомянутой выше актуализации сем номинатемы иголка «заостренный металлический стержень с ушком для вдевания нити, употребляемый для шитья» в значениях «употребляемый для шитья» и «заостренный металлический стержень (представляющий опасность)» и т.д., проведенной через широкий контекст, интонацию, ситуацию, мы считаем глоссы номинатемы иголка вариантами, находящимися в зоне тождества последней. Однако тот же смысл имеют и сочетания острая иголка (прилагательное острая актуализирует смысл «опасность»), и иголка для шитья (сочетание для шитья актуализирует смысл «назначение»). Отождествлению на уровне одной языковой единицы – номинатемы иголка – данных словосочетаний препятствует только устоявшееся мнение о том, что реализации слова по протяженности должны с ним совпадать. Это суждение явно настроено на формальные признаки отождествления и не имеет никакого отношения к базовой функции номинатемы – номинативной. Я считаю устоявшуюся теорию некорректной, поскольку определение границ той или иной языковой единицы должно быть релевантным ее базовой функции. Другими словами, свободное словосочетание находится в 139 сфере семантического тождества номинатемы со словесной доминантой, потому что его значение представляет собой именно уточненную семантику исходной лексемы, а это значит, что границы семантического тождества единой номинативной единицы находятся за пределами реестра однословных синтагм, которые с ней эмпирически связываются в сознании носителей языка. Косвенным подтверждением этому становится лексикографическая практика. Как писал, В.Г. Гак, «разновидности предмета в толковом словаре отражаются с помощью определительных словосочетаний» [Гак 1987, с. 9]. Кроме того, в большинстве исследованиях, когда говорится о лексико-семантических вариантах одной номинативной единицы, приводятся примеры, в которых эта лексико-семантическая вариативность реализуется именно через зависимую глоссу. Например, когда Л.А. Кудрявцева анализирует лексико-семантические варианты слова ностальгия, приводит примеры не чистого употребления этого слова, а комбинированного, где очевидна роль вспомогательных элементов в формировании нового значения: ностальгия по прошлому, ностальгия по искренности отношений, ностальгия по старым, добрым временам и т.п. [Кудрявцева 2004, с. 75]. Значение словосочетания инвариантного значения реализуется, номинатемы. следовательно, Необходимо как денотация отметить, что получившаяся аналитическая единица обладает основным признаком именно речевой сущности – она однозначна: «Конструктивно производные номинативные единицы с эксплицитной внутренней формой (то есть составные наименования) не обладают способностью соотноситься с широким спектром прямых значений, то есть, как знаковая форма возникают однократно для выражения определенного содержания, проявляя тенденцию к моносемичности» [Снитко 1990, с. 19]. А, как известно, в речи «и говорящий и слушающий приписывают слову только одно определенное значение, не думая при этом не только о синонимических словах, но и о других значениях данного слова» [Покровский 1896, с. 21]. Другими 140 словами, даже на уровне тактики составное наименование имеет все признаки речевой модификации номинатемы. Более того, «наблюдение за формированием аналитических конструкций и функционированием их в речи позволяет утверждать, что языковая репрезентация концепта осуществляется в определенных случаях преимущественно аналитическим способом, а коммуникативное намерение говорящего нередко реализуется лишь в рамках сложной номинации аналитического типа» [Ушкова 2006, с. 4]. Еще больше значимость вспомогательного компонента словосочетания в формирования смыслового модифицирования номинатемы проявляется в так называемых информационно недостаточных (синсемантических) словах, которые, «имея минимальное семантическое наполнение, <...> вступают в обязательную сочетаемость высочайшей степени с зависимыми словами, которые компенсируют их смысловую неполноту» [Коваль 2004, с. 7]. При этом «в синтаксически неделимых словосочетаниях между главным и зависимым компонентами устанавливаются комплетивные (информативнодополнительные) отношения, при которых зависимое слово является необходимым смысловым дополнением к информативно недостаточному главному слову (например, стая (кого?) лебедей; килограмм (чего?) сахара; стакан (чего?) чая; сноп (чего?) ржи и под.)» [Максим'юк 2006, с. 8]. Концептуальное значение в этом случае неспособно реализоваться в простых глоссах-словах и может найти свои воплощения только в словосочетаниях, что позволяет считать последние единственной формой существования номинатем с доминантой – синсемантичным словом. В.М. Никитевич, правда, утверждает, что создание словосочетаний является проявлением так называемого «аналитического словообразования» [Никитевич 1985, с. 54-55], поскольку, по его мнению, эти словосочетания коррелируют с синтетическими дериватами, например, богатый человек – богач, последователь Мичурина – мичуринец. Того же мнения придерживается и Е.С. Снитко (см.: [Снитко 1990, с. 6], где она определяет словосочетания, как производные единицы). Однако такое реляционное 141 определение не учитывает связи между самостоятельно употребленным главным словом и главным словом в сочетании с зависимым. Между ними очень часто (если не всегда) семантические расхождения значительно меньшие, чем между разными коннотативными лексико-семантическими вариантами одного слова. Например, варианты слова морж «животное» и «человек, который занимается закаливанием» тождественны только в семах «существо» и «купание в холодной воде», и тождество наименования сохраняется здесь только за счет образной коннотации, а морж и красивый морж различаются лишь неактуализированностью – актуализированностью семы „оценка внешнего вида”. Вполне очевидно, что значения указанного словосочетания значительно ближе к базовому значению лексемы морж, чем приведенный выше лексико-семантический однословный вариант. Кроме того, для упомянутых примеров В.М. Никитевича очевидно то, что словосочетания в них не формируют новых номинативных инвариантных значений, как это присуще параллельным им словам, а выступают только в качестве актуализатора семантики главного слова: если слово богач настроено однозначно на определение какого-либо человека как богатого со всеми присущими этому человеку сценариями поведения, при этом в любом контексте его значение будет отталкиваться от этой характеристики и актуализировать семы, прямо или косвенно связанные с характеристикой «богатство», то в словосочетании богатый человек «богатство» отражено только как одно из актуальных для процесса коммуникации свойств означенного в это время и в этом месте человека. В других контекстах для денотации лексико-семантического варианта возможна актуализация других свойств референта: умный человек, веселый человек и т.д. Поэтому принцип последовательности суждений требует от нас трактовать свободное словосочетание как аналитический денотативный лексико-семантический вариант номинатемы со словесной доминантой, существующий в пределах тождества последней. 142 Необходимо отметить, что возможности аналитической денотации значительно шире: зависимые компоненты словосочетаний могут однозначно актуализировать те семы, которые не может реализовать моновербальная реализация номинатемы, например, для номинатемы иголка – «материал» (стальная иголка, иголка из меди), «форма» (согнутая иголка, удлиненная иголка), назначение (граммофонная иголка, швейная иголка) и др. Такое понимание семантики свободных словосочетаний позволяет предложить новое решение проблемы статуса значений его компонентов. В науке устоялось мнение, что словосочетание «будучи единым, вместе с тем явно представляет собой сочетание ряда понятий, каждое из которых в отдельности отлично от всего сочетания, взятого в целом <...> Такое понятие может быть названо составным» [Годер 1961, с. 49]. Например, словосочетание высокое дерево традиционно трактуется как комбинация понятий (концептов?) «высокий» и «дерево», которые вместе формируют составное понятие. При этом слова, «вступая в сочетания друг с другом, отнюдь не утрачивают способность выражать понятия» [Кобрин 1979, с. 88]. Я же предлагаю другую трактовку: значение словосочетания – это значение базового компонента номинатемы, его носителя, актуализированное в зависимом слове. При этом, конечно же, каждая из сем номинатемы может также рассматриваться как концепт, что создает возможность, с одной стороны, использования в других случаях зависимого элемента словосочетания в качестве базы для самостоятельной номинатемы (ср., например, замок из снега, где глосса снега является актуализатором семы «материал» номинатемы замок в пределах денотации, и чистый снег, где она сама становится выразителем номинативной доминанты, то есть базовой глоссой номинатемы снег), а с другой, использования базовых глосс той или иной номинатемы в качестве актуализатора инвариантного значения другой номинатемы (ср.: теплый день – середина дня). Исключением следует, вероятно, считать атрибуты, выраженные прилагательными или эквивалентными им единицами. В ряде работ 143 высказывается предположение о «размытости» экстенсионала признаковых слов и о лингвистической бессодержательности поиска «различия» между экстенсионалом типа белый, зелёный вне контекста сочетаемости с предметными именами [Падучева 1985, с. 17; Уфимцева 1980, с. 37; Nida 1975, р. 153]. Признаковые слова, следовательно, «определяются как выражения, не имеющие в материальном мире денотата обозначения, а, следовательно, как нереферентные» [Постникова 2001, с. 202]. Поэтому говорить о их концептуальном значении не представляется возможным. Это единицы, явно настроенные только на актуализацию сем при денотации субстантивных номинатем. Таким образом, в отличие от идиоматизированных словосочетаний и фразеологизмов, которые действительно имеют цельное значение, не выводимое из значений их компонентов, свободное словосочетание реализует объемно значение главного слова. Зависимое слово является лишь вербализованным компонентом этого значения. Если использовать для обозначения лексического значения термин «понятие», как это делает А.И. Моисеев, мы можем определить упомянутое выше слово покупать как базовое обозначение понятия «приобретать что-либо за деньги», а словосочетания покупать капусту, покупать свеклу, покупать свежую капусту, покупать квашеную капусту и т.п. – как обозначения того же понятия с вербализованной семой «объект покупки», то есть как аналитические номинатемы-слова, денотатные существующие лексико-семантический в пределах варианты тождества последней. Следовательно, прав Е.В. Кротевич, который утверждал, что свободное словосочетание эквивалентно слову [Кротевич 1959]. Косвенно такой статус словосочетаний подтверждает и относительная грамматическая десемантизация зависимых глосс, выступающих актуализаторами сигнификативного значения номинатемы при денотации. Эта десемантизация отмечается для всех разновидностей синтаксических отношений. 144 Не вызывает сомнений отсутствие грамматических признаков у зависимых слов при примыкании. Примыкание, как известно, это такой вид морфологической связи, при котором не используются грамматические показатели и связь осуществляется позиционно [Баскаков 1974, с. 19]. Зависимость от главного слова выражается здесь чисто семантически. Другими словами, в конструкциях примыкания ценность и статус зависимого слова выражены наиболее адекватно: оно представляет собой семантический сгусток, функция которого – только актуализировать при денотации тот или иной семантический множитель инвариантного значения номинатемы. Более сложна ситуация синтаксического согласования. Как известно, «при рассмотрении атрибутивной связи встает один важный вопрос, не имеющий в теоретическом языкознании однозначного решения, а именно – вопрос о содержательном соотношении категориального грамматического значения, выражаемого контролирующим обоими вершинным участниками элементом, атрибутивной согласующим, связи то – есть существительным, с одной стороны, и зависимым элементом, атрибутом, с другой» [Коваль 1987, с. 97]. Можно ли считать, что в словосочетании синий шар атрибут синий имеет автономное грамматическое значение? Я склонен согласиться с той частью лингвистов, которые считают, что в атрибутивных конструкциях грамматическое значение атрибута «деградирует до уровня компонента синтаксической формы» [Кацнельсон 1972, с. 18], и что «грамматическое значение прилагательного повторяет грамматическое значение существительного» [Зализняк 1967, с. 83]. Другими словами, грамматические показатели прилагательного выполняют в большинстве случаев только формально-синтаксическую роль, а сам атрибут является таким же «сгустком чистого значения», как и примыкающие формы. Его функция также чисто номинативная – актуализация компонентов значения базовой номинатемы при денотации. Это подтверждается еще и тем, что в ситуациях аббревиации и чистого композитопостроения композит без сожалений избавляется от грамматических показателей атрибута как от 145 избыточных, ср.: авиационная база – авиабаза, водный лыжник – воднолыжник, квартирная плата – квартплата и т.п., что не приводит к каким-либо изменениям в значении номинатем. В некоторых случаях, правда, грамматические показатели атрибута могут становиться коммуникативно значимыми. Это происходит тогда, когда базовый компонент номинатемы не в состоянии точно отразить грамматические и некоторые лексико-семантические аспекты существования своего семантического инварианта, например, когда главное слово словосочетания неизменяемо: черный кофе, черного кофе (выражение падежного значения, чего не могут самостоятельно сделать глоссы номинатемы кофе), когда его онтологические характеристики отличаются от грамматических: красивая директор, честный юноша (выражение половых признаков, отличных от исходной семантики родовых маркеров базовых глосс) и т.д. Эти случаи не представляют исключения из правил, поскольку показатели грамматического значения атрибута здесь направлены не на выражение его собственных значений, а актуализируют коммуникативно значимые аспекты референции номинатемы в целом. При управлении, наиболее сложной ситуации, также происходит деграмматикализация зависимой глоссы: она застывает в одной из своих форм, что абсолютно нивелирует систему её грамматических значений, которые полностью реализуются в значении застывшей формы, переходя границу? между грамматическим и актуальным лексическим значениями. Как писал В.М. Русановский, «в словосочетаниях цветы для любимой, защита от дождя, шум воды сема принадлежности полностью себя реализует» [Русанівський 1985, с. 14-15]. Кстати, и в этом случае деграмматикализация зависимого слова косвенно подтверждается тем, что в композитах, образованных от словосочетаний с подчинительной связью, оно чаще всего представлено чистой основой: воздухонагреватель (<нагреватель воздуха), домохозяин (<хозяин дома), книговыдача (выдача 146 книг), то есть не как грамматическая единица, а как сгусток чистой лексической семантики. Все вышесказанное позволяет предположить, что во всех случаях грамматическое значение словосочетания – это грамматическое значение главного компонента. Это значит, что его внутренняя организация настроена на полную и безоговорочную актуализацию инвариантного значения номинатемы, правда, в аналитической форме. Как это ни странно, именно анализ словосочетания как аналитического лексико-семантического варианта позволяет определить формально- семантические признаки слова. По моему мнению, слово – это минимальный номинативный комплекс, компоненты которого не могут самостоятельно выполнять номинативную функцию. Другими словами, слово определяется мной как единица, которая может напрямую быть самодостаточным выразителем номинативности. Здесь требуется несколько уточнений. Во-первых, они касаются десемантизированных [Чуєшкова 2003, с. 6] компонентов фразеологических сращений, таких, как канитель, баклуши, зга и т.д. Язык противится их десемантизации и раз за разом предпринимает попытки к употреблению их в качестве самостоятельных слов. В ряде случаев это мотивировано их оформленностью как слова А что такое баклуши? Вы лично их хоть раз видели? (Московский комсомолец. – 17.05.00), название петербургской рок-группы «ЗГА» и т.д. Здесь на наше сознание, конечно же, влияет форма. Но эта форма не самих указанных слов, а остальных компонентов фразеологизмов, которые могут выполнять номинативную функцию: бить, не видно ни и т.д. Мы выделяем оставшиеся в этих фразеологизмах слова только реляционно, как остаток от вычленения знакомых единиц. В некоторых случаях «десемантизированный» компонент возрождается и становится полноценной номинативной единицей. Например, достаточно часто отмечаются полноценные с точки зрения ономасиологии употребления слова канитель: Напомним, 147 что канитель со строительством гостиничного комплекса на Крещатике, 5, в рамках реконструкции Европейской площади началась в 2004 году (Сегодня. – 07.07.07). Иными словами, такие единицы потенциально или реально способны к выполнению номинативной функции. Во-вторых, особого уточнения, в связи с этим, требует статус юкстапозитов. Отмечу, что в моем представлении сращения (юкстапозиты) не являются ни гибридными образованиями, ни сложными словами. Мое определение слова как минимальной речевой единицы, способной самостоятельно выполнять номинативную функцию, требует от нас трактовки компонентов «существительное + конструкций существительное» «наречие только + как причастие» и самостоятельных глосс-слов, причем таких, которые формируют аналитические лексикосемантические варианты базовых причастное «сращение» словесных номинатем. быстропротекающий Например, традиционно интерпретируется как слово только благодаря его слитному написанию. Однако то, что как первый его конструкт быстро, так и второй – протекающий – могут самостоятельно выполнять номинативную функцию в аналогичных конструкциях, а также то, что глосса быстро может быть рассмотрена как уточняющий компонент в одном ряду с конструктами медленно (Медленно протекающий процесс тоже нельзя наблюдать непосредственно (Рабочая газета. – 26.05.06)), легко (Токсоплазмоз, легко протекающий у беременной женщины, губителен для плода (Компьютерра. – 2002. – № 5)) и т.п., позволяет предположить, что быстропротекающий является не словом, а словосочетанием, которое только по традиции пишется слитно. Точно так же словосочетание с аппозитивной связью является именно словосочетанием, самостоятельно компонент, при поскольку выполнять этом, каждый из номинативную выполняет его компонентов функцию, является только и может зависимый актуализатором номинативного значения главного компонента при денотации (например, 148 актуализатора семы «назначение» в конструкциях вагон-ресторан, вагонсамосвал, вагон-рефрижератор, вагон-общежитие). В этой связи абсолютно права Н.М. Малкина, считающая такие единицы свободными словосочетаниями на том основании, что «данные образования легко распадаются, их компоненты способны вступать в иные сочетания, например, существуют сочетания robe-sac и manteau-sac, robe-fourreau, corsage-fourreau и т.д., т.е. семантическая цельность данных образований невелика» [Малкина 1963, с. 47]. Конечно же, словосочетаниям указанных типов присущи все те особенности, что и всем остальным словосочетаниям. В частности, они могут лексикализоваться, превращаясь в коллокацию (быстрорастворимый), развивать на своей базе образные значения (жар-птица) и т.д. Однако во всех этих ситуациях они все же остаются словосочетаниями. Конечно, иногда такие единицы могут стать прототипом для универбализационного композитопостроения. Но в этом случае обязательным является формальное изменение конструкции, при котором один или все ее компоненты уже не могут выполнять номинативную функцию самостоятельно. Таково, например, образование на базе словосочетания велосипед-тренажер (см.: Как вариант – вечером 1 час 15 минут покрутите педали велосипедатренажера и ложитесь спать без ужина (Московский комсомолец. – 15.02.05)) композита велотренажер (Вибромассажер, велотренажер, ласты, весы, сноуборд, фотоаппарат и дрель – за определенную плату с вами поделятся практически всем (Сегодняшняя газета. – 21.08.07)); на базе словосочетания автомобиль-водовоз (В Капотню питьевая вода доставляется при помощи специальных автомобилей-водовозов (Вечерний Харьков. – 25.05.05)) композита автоводовоз (Для других отраслей экономики на базе этого шасси изготавливаются: автогидроподъемники АГП-28, экскаваторы-планировщики, <…> автоводовозы с объемом термостатированной цистерны 10 кубометров (Снабжение и сбыт. – 27.09.04)) и т.д. Для меня не возникает проблемы, которую сформулировала 149 для юкстапозитов типа надмірно синій и непроглядно-білий В.Ю. Франчук: «Различие между словосочетаниями и соответствующими сложными прилагательными настолько невыразительное, что тяжело определить их принадлежность к определенной группе» – словосочетаний или сложных слов [Франчук 1965, с. 119]. Я считаю, что перед нами словосочетание, и поэтому абсолютно согласен с В.А. Горпиничем, относившим такие единицы не к случаям синтаксической деривации, а к случаям синтаксической номинации [Горпинич 1999]. В-третьих, необходимо определить статус сочетаний знаменательных слов со служебными единицами. Я считаю такие сочетания действительно состоящими из нескольких речевых единиц, однако определяю их только как аналитические грамматические модификации номинатемы. Абсолютно справедливо мнение В.В. Виноградова о том, что «служебные слова лишены номинативной функции и относятся к миру действительности через посредничество слов-названий» [Виноградов 1944, с. 40]. Но в этом случае мы должны констатировать монолитность номинативной функции сочетания знаменательного слова (слова-названия) со служебным. Иначе говоря, предлог, например, за самостоятельно не выполняет номинативной функции. Он становится номинативной единицей лишь в сочетании со знаменательной лексемой, например, в сочетании за домом, за спичками и др. Есть соблазн определить служебные слова как аффиксы, так как они, по мнению многих ученых, «являются фактором грамматической оформленности другого слова» [Шмелев 1973, с. 60]. Однако, продолжает автор приведенной цитаты, «они не являются в том же смысле, что аффиксы, факторами фонетической оформленности слова. Это и позволяет не считать их частью данного слова. А их “отъединяемость” в потоке речи позволяет считать их также словами, хотя и другого “сорта”» [Шмелев 1973, с. 60]. Но, с другой стороны, если мы соглашаемся с тем, что «служебное слово самостоятельно или вместе с аффиксом знаменательного отражает грамматическое значение знаменательного» [Золотова 1973, с. 117-118], мы и 150 должны определить сочетание такого служебного и такого знаменательного не как сочетание самостоятельных грамматический вариант слов, но лишь знаменательного как слова. аналитический Как пишет В.М. Русановский, «семантический объем грамматических словосочетаний (так ученый называет сочетания знаменательных слов со служебными. – В.Т.) равняется семантическому объему грамматической (знаменательной. – В.Т.) лексемы. <…> Следовательно, те сочетания, которые условно были названы грамматическими, уместнее было бы назвать сочетаниями грамматических лексем с аналитическими синтаксическими морфемами» [Русанівський 1985, с. 15]. Это и позволяет считать, что комплекс «знаменательное слово + служебное слово» находится в пределах семантического тождества в любой из его разновидностей с самостоятельно употребленным знаменательным словом. Такая трактовка близка концепции И.Р. Выхованца, который, например, считает предлог аналитической синтаксической морфемой [Вихованець 1988, с. 14], с тем только уточнением, что я все же считаю служебные слова не морфемами, а грамматическими «словоидами»18, словоподобными единицами, выполняющими грамматическую функцию и формирующими аналитическую грамматическую форму номинатемы. Они могут сближаться по структуре с морфемами (предлог, частица), но могут и иметь все формальные признаки слова (глагол-связка, слово степени и т.п.). Нужно отметить, что номинативное единство сочетания знаменательного слова со служебным в силу смыслоорганизующей роли грамматического значения, вернее, грамматической части номинативного значения должно реализоваться именно на уровне грамматики, что и подтверждает М.М. Гухман. По ее свидетельству, грамматическое значение аналитической конструкции «никогда не равняется сумме грамматических значений её компонентов, а выступает как значение неразложимого целого (выделено мной. – В.Т.)» [Гухман 1955, с. 354]. Эта неразложимость является Этот термин мы позаимствовали у В.П. Даниленко, который, правда, использует его в другом значении [Даниленко 1988, с. 131] – для обозначения композитных аббревиатур. 18 151 выражением неразложимого инвариантного значения номинатемы и мотивирует неразложимость и его лексико-семантической части. Вышесказанное позволяет предположить, что сочетание знаменательной единицы со служебной, в том случае, когда знаменательная является самодостаточным выразителем инвариантного номинативного значения, является единым словом, правда, в аналитической его форме. Не вызывает никакого сомнения отнесение к аналитическим грамматическим вариантам тех единиц, которые испокон веку считаются таковыми. Это следующие единицы. 1. Сочетания знаменательных слов с модальными единицами (частицами, модальными глаголами), указывающими на реальность – ирреальность действия, например, могу читать, читал бы, читал ли. Семантика, например, читаю – могу читать абсолютно идентична. И в том и другом случае имеется в виду процесс дешифровки графических знаков. Различие касается только общеприложимой релевантной семантики «отношение к реальности», которая является здесь только грамматической оболочкой для обозначения процесса чтения. 2. Сочетания неспрягаемых глагольных форм с глаголами- связками, указывающие на временные значения глагола, например, буду читать. Атрибуция временных форм глагола как морфологических модификаций ни у кого не вызывает сомнения. Поэтому вполне очевидно их отнесение к морфологическим вариантам номинатемы. 3. Сочетания прилагательных и наречий со словами степени, указывающими на интенсивность выражения признака, например, более активный, самый активный, активнейший. В этом случае также отмечается абсолютная идентичность признака. Различие касается только общеприложимой релевантной семантики «степень реализации признака». Проблема состоит только в определении статуса предложно-падежных сочетаний, например в дом, выражающих оттенки падежного значения номинатемы. Если сравнить значения указанного сочетания со значением 152 беспредложной единицы, можно отметить, что их лексическая семантика абсолютно идентична (ср.: дом – в дом). Модифицирование оформляется здесь существенной общеприложимой семантикой «движение внутрь», представляющей собой уточнённое значение аблятива. Она не затрагивает лексической семантики и указывает только на пространственную атрибуцию референта, обозначенного данным сочетанием. В этом смысле абсолютно справедливо мнение о том, что «предлог только в комплексе с существительным приобретает свои семантические очертания и может быть исчерпывающе истолкован» [Загнітко 2007-2, с. 133]. В некоторых работах предпринимались попытки все же найти какие-то особые словесные признаки у предлогов. В этом смысле не очень убедительным мне кажется мнение, высказанное И.К. Кучеренко, которая обращает особое внимание на то, что предлог «соотносим с явлениями действительности; как и слово, он формирует и выражает понятия о них, то есть имеет значение, которое принято называть лексическим», в силу чего «предлог и существительное входят в состав словосочетания со своими значениями, которые следует рассматривать как полноценные, хотя и посвоему специфические, взаимно приспособленные семантические составляющие содержания словосочетания» [Кучеренко 1973, с. 14]. См.: то же у А.А. Загнитко, «способность предлогов выявлять свое лексическое значение при имени связана не с отсутствием этого значения, а с соответственной его спецификой» [Загнітко 2007-1, с. 122]. Одновременно с этим считается, что «они наделены особенным, служебным, неполнозначным типом значения» [Всеволодова 2005, с. 4]. Однако таким же особенным, служебным, неполнозначным типом значения характеризуются и служебные морфемы. Повторяем, я не считаю предлоги, как и другие служебные единицы ни словами, ни морфемами, они занимают промежуточное положение между первыми и вторыми. Подводя итоги, отмечу следующее. Лексическая семантика автономных знаменательных слов-синтагм и знаменательных слов-синтагм в сочетании со 153 служебными единицами абсолютно идентична. И лес и в лес обозначают «множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами». Различия касаются только грамматической семантики: лес указывает на субъект или объект действия (лес быстро разрастается и мы любим лес), а в лес – на направление движения (мы идем в лес). Однако если морфологическое варьирование автономных глосс, согласно устоявшемуся мнению, «не нарушает тождества слова как лексемы», то и грамматическое варьирование, реализованное в сочетаниях знаменательных слов со служебными «словоидами», имеющее такую же природу, должно быть определено как варьирование, не нарушающее тождества номинатемы. Таким образом, трактовка базовой языковой номинативной единицы как слова-ономатемы не может быть признана удачной, поскольку в речи последнее реализуется не только как слово (глосса = слову-синтагме), но и как сочетание слов (дискретная синтагма). А это неизбежно приводит нас к выводу, что языковая единица представляет собой нечто большее, нежели слово, а именно – комплексную сущность, которая никогда в речи не ограничивается словом, а может реализовываться в самых разнообразных синтагмах. Абсолютно справедливо, в этой связи, мнение Н.В. Ситяниной о том, что «номинация словом и словосочетанием может считаться простой, т.к. она всего лишь фиксирует изолированные свойства и признаки объектов реальной действительности» [Ситянина 2003, с. 4]. Поэтому для обозначения указанной языковой единицы более удачен термин номинатема – он освобождает нас от ограничения моделей модифицирования номинации только словесными типами. Несомненно, номинатема в описанных выше случаях разворачивается на базе слова и может быть названа номинатемой со словесной доминантой (номинатемой с базой словом), поскольку именно слово в речи становится минимальным реализатором ее инвариантного значения. Все остальные модификации номинатемы могут считаться таковыми только на основе их инвариантной семантической тождественности 154 и формальной взаимосвязанности. Однако номинатема даже в этом случае не может быть отождествлена со словом. Если резюмировать приведенные размышления, я должен констатировать, что номинатема с базой словом может иметь в глоссах простое (однословное), грамматико-аналитическое (со служебным словоидом) и лексико-аналитическое (свободные словосочетания) выражения. В любом случае тождественность номинатемы не нарушается. При этом, как будет показано в далее, не только слово, но и коллокация может иметь статус основного реализатора инвариантного, сигнификативного значения. А это значит, что номинатему можно определить только как совокупность глосс (экстенсионал), находящихся в состоянии семантического (интенсионал – тождества инвариантное значение) во и всех его проявлениях взаимной формальной обусловленности. Таким образом, я считаю номинатему базовой номинативной единицей языка. В основе ее тождества лежит тождество её инвариантного языкового, сигнификативного, концептуального значения, связанного внутренней формальной взаимной мотивированностью ее глосс. В этом случае уточняется статус концепта как лингвальной сущности. Можно согласиться с мнением тех лингвистов, которые утверждают, что «соотношение слова и концепта можно уподобить видимой и невидимой части айсберга. Компоненты лексического значения слова выражают значимые, но не в полном объёме, концептуальные признаки. Концепт объёмнее лексического значения слова. Концептуальные признаки, объективированные в виде лексико-семантических вариантов и их отдельных компонентов, – это элементы далеко не полной структуры концепта, т.к. в эту структуру включаются и другие, не менее значимые, признаки. Структура концепта гораздо сложнее и многограннее, чем лексическое значение слова» [Пименова 2004, с. 8-9]. Однако, как показали предыдущие мои размышления, я предполагаю, что слово не является языковой единицей – оно представляет собой одну из речевых манифестаций номинатемы, пусть 155 самую распространенную, но все же не покрывающую полностью всю систему воплощения одной и той же номинативной единицы. Именно в этом смысле концепт и лексическое значение слова не одно и то же. Слово только коагулирует, актуализирует в речи одно из значений номинатемы, одно из состояний, связанного с номинатемой концепта. Но важно не это. Если рассматривать концепт только как фактитив, конечный результат исследования языка, как элемент лингвального мира, мы абсолютно справедливо придем к выводу, что «концепт как сложный комплекс признаков имеет разноуровневую представленность в языке» [Пименова 2004, с. 14]. При этом «выявление структуры концепта возможно через наблюдения за сочетаемостью соответствующих языковых знаков. Концепт рассеян в языковых знаках, его объективирующих. Чтобы восстановить структуру концепта, необходимо исследовать весь языковой корпус, в котором репрезентирован концепт – (лексические единицы, фразеологию, паремиологический запечатлевших фонд), включая образы-эталоны, систему свойственные устойчивых сравнений, определённому языку. Существенную помощь окажут также и авторские контексты, т.к. писатели и поэты используют языковой фонд, варьируя формы для выражения того или иного признака концепта, при этом, однако, они редко создают новые признаки» [Пименова 2004, с. 10]. Это один из путей исследования концептов – путь поиска составляющих лингвального мира. Но в то же время концепт это не просто фрагмент, квант знания. В силу того, что это квант знаний, схваченный знаком, он является одновременно и лингвальной сущностью. Если исходить из этого, нужно обозначить его место в структуре языка. В силу того, что язык семантичен, следует признать, что именно семантика организует его структуру. Следовательно, нужно рассматривать концепт не только как знание, выводимое из языка, но и как знание, выступающее в качестве инфраструктурного компонента номинативной единицы, как знание, организующее язык. Концепт существует во всех языковых формах и 156 определяет лингвальные характеристики этих форм. Но минимальной формой его выражения является номинатема – она выступает как базовое имя концепта. Следовательно, концепт, привязанный к номинатеме, создает границы ее тождества и определяет модели своей коагуляции в ее глоссах. Он может и не быть полностью выраженным глоссами данной номинатемы, хотя и стремится к этому, но все, что обозначается глоссами данной номинатемы, должно находится в пределах того знания, того концепта, который привязан к данному имени, к данной номинатеме. Таким образом, концепт – это инвариантное значение номинатемы, определяющее тактики ее воплощения в речи. Слово, наряду со словосочетанием, сочетанием знаменательного и служебного слов, – одна из глосс – реализаций номинатемы с коагулированной частью инвариантного концепта. 157 Глава 4. ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ 4.1. Понятие внутренней и внешней мотивации. Деривация и лексикализация Процессы образования новых слов и, шире, новых номинатем рассматривались лингвистикой в системе способов словообразования. Я уже обращал внимание (см., например: [Теркулов 2002]) на то, что традиционная типология способов В.В. Виноградовым, семантический, и словообразования, включающая морфолого-синтаксический предложенная морфологический, и еще лексико- лексико-синтаксический способы, не лишена целого ряда недостатков, наиболее существенным из которых является то, что понятие «средство словообразования», ставшее основой для классифицирования, в ней четко не определено и поэтому довольно размыто: в первом случае в качестве средства выступает субстанция – материально выраженный аффикс, во втором и четвертом – процесс – изменение значения слова или компрессия словосочетания, в третьем – результат – переход слова из одной части речи в другую. В этой ситуации вполне возможно отнесение одного и того же явления к разным словообразовательным способам. Например, появление у слова человек «homo sapiens» во фразе Тут к тебе человек пришел значения «некто» с точки зрения процесса должно быть отнесено к лексико-семантическому способу словообразования (перенос наименования), а с точки зрения результата – к морфолого-синтаксическому (переход: существительное – местоимение). Именно поэтому часто предпринимались попытки если не построения новой системы способов словообразования, то коррекции уже существующей. Е.А. Земская, используя традиционное определение способа (через средство), предложила новую, достаточно рациональную классификацию, в 158 которой выделила: а) аффиксальные способы, которые определяются как способы словообразования, использующие при производстве новых лексем словообразовательный аффикс (наличие словообразовательного средства); б) безаффиксные способы, которые не связываются ни с каким словообразовательным средством [Земская 1973, с. 172-181]. Недостатком этой модели является то, что безаффиксные способы определяются не через их внутреннее содержание, а через констатацию невозможности их включения в разряд аффиксальных способов. Это чревато тем, что под одним названием в ней могут быть объединены разные по своей природе явления. Например, Е.А. Земская вводит в рамки безаффиксного словопроизводства случаи конверсии (ходить – ход), хотя полная замена системы грамматических маркеров (грамматических аффиксов), которая отличает данный тип деривации [Смирницкий 1953, с. 20-31], вряд ли может целиком и полностью подпадать под данный словообразовательный тип. Удачная попытка преодоления этого противоречия предпринята в работе А.И. Моисеева, который называет способы деривации «функцией, обобщенно-дифференцированным отображением средств словообразования» [Моисеев 1987, с. 110]. Это определение позволило ученому выделить три способа словообразования: 1) аффиксацию, то есть «образование простых производных слов с помощью словообразовательных аффиксов или грамматических аббревиацию, аффиксов то есть в словообразовательной «образование функции»; сокращенных слов»; 2) 3) трансформацию, то есть «семантическое и грамматическое преобразование уже существующих в языке слов» [Моисеев 1987, с. 110-111]. Указанная теория требует некоторых уточнений. Во-первых, нет никакой необходимости в выделении аббревиации в отдельную разновидность способов словообразования. Аббревиация, которая отмечается, например, в случае создания глоссы рация на базе номинатемы радиостанция, как было показано в предыдущей главе, приводит лишь к созданию фонетического дублета исходной единицы. Необходимым условием для возникновения 159 новой номинатемы на базе «аббревицированного» или, шире, любого формального дублета является закрепление за ним нового значения, которое отличается от значения номинатемы-источника (радиостанция «любая» – рация «только переносная»), то есть процесс с явной доминантой семантического развития. Иначе говоря, любое преобразование формального дублета в самостоятельную номинатему должно также рассматриваться в границах способа «трансформация», потому что в его основе лежит именно семантическое преобразование (точнее, развитие) номинатем. Во-вторых, при трансформации отмечается не семантическое и грамматическое преобразование слов (номинатем), а преобразование глосс в самостоятельные номинатемы. Например, при адвербиализации в разряд наречий переходит не существительное целиком, а только какая-либо его падежная форма: верхом (тв. пад. от сущ. верх) – верхом (наречие). Существенным недостатком приведенных теорий является то, что они имеют семасиологическую доминанту и не рассматривают получившиеся в результате словообразования единицы с точки зрения их места и значимости в номинативной системе языка. Такое положение вещей становится фактором подмены теоретической интерпретации реальных процессов означивания условными, конвенциональными, настроенными только на методологическую простоту трактовками языковых сущностей. Семасиологическое описание, на мой взгляд, нуждается в дополнительной ономасиологической верификации. Компонентами структуры номинатемы и её глосс, указывающими на особенности формирования номинации, являются лексические маркеры, то есть элементы плана выражения глосс, которые указывают на признак, положенный в основу наименования, например: плетень «нечто сплетенное», чернила «те, что чернят», отбой «процесс отбивания» и т.д. Лексические маркеры, с одной стороны, отражают мотивационные отношения, которые формируют номинативную единицу, а с другой – конструируют ее внутреннюю форму. 160 И тот и другой аспекты функционирования лексических маркеров находятся в тесной взаимосвязи. Как писал А.А. Потебня, «в слове мы различаем: внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» [Потебня 1999, с. 156]. Само понятие «ближайшее этимологическое значение слова» трактуется ученым довольно широко. А.А. Потебня вкладывает в него не только семасиологическое представление об этимологии того или иного слова, но и ономасиологическое – о доминантном признаке номинации: в другом месте внутренняя форма определяется им уже как «отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» [Потебня 1988, с. 98]. Однако все же именно семасиологическая дефиниция понятия внутренней формы на долгие годы стала доминирующей в языкознании. Как отмечает Н.П. Тропина, «мотивированность, мотивация, внутренняя форма – эти понятия то отождествлялись, то разводились, то рассматривались как пересекающиеся разными исследователями в разных исследовательских парадигмах» [Тропина 2003, с. 74] (см. также: [Кияк 1989; Русанівський 1985; Селиванова 2002]). В моем понимании мотивация и внутренняя форма соотносятся как процесс и результат. Мотивированность же является признаком, атрибутом внутренней формы. Она выступает как звено, соединяющее мотивацию и внутреннюю форму. Внутренняя форма выступает как отражение мотивированности номинативной единицы, основанной на мотивации ее другой единицей. В основном проблема определения параметров мотивированности, мотивации и внутренней формы изучалась в семасиологическом аспекте в теории словообразования. Как и в случае с трактовкой полисемии, объем указанных понятий всецело зависел от того, как – широко или узко – трактует исследователь явление деривации. Можно, в связи с этим, различать две концепции мотивированности – широкую и узкую. 161 Согласно широкой концепции, представленной в [Мурзин 1984; Улуханов 1977] и др., любое новообразование, формально выводимое из другой единицы, считается мотивированным этой единицей, и, следовательно, находится с ней в словообразовательных (деривационных) отношениях. И.С. Улуханов, например, считал, что мотивированность должна быть определена как «отношение между двумя словами, обладающими следующими признаками: 1) оба слова имеют один и тот же корень; 2) значение одного из слов или полностью входит в значение другого, или полностью тождественно лексическому значению другого (выделено мной. – В.Т.)» [Улуханов 1977, с. 7]. Последний тезис полностью уничтожает различие между словообразованием и формообразованием, что, в свою очередь, приводит к нивелировке явлений новой номинации и заданного языковой системой модифицирования в пределах тождества старой номинации. Действительно, если строго следовать теории И.С. Улуханова, мы должны считать, что отношения между единицами стол – стола (тождественное лексическое значение, один корень) и стол – столоваться (разное лексическое значение, один корень) имеют абсолютно одинаковый статус – статус мотивации, а, следовательно, реализуют деривационные механизмы, с чем трудно согласиться. Очевидно, что первая пара является парой «модификантов» одной номинативной единицы – стол, а вторая объединяет разные самостоятельные номинатемы. В узкой концепции, представленной в [Гак 1977-1; Грамматика-80] и др., отношениями мотивированности объединяют взаимообусловленные, но все же разные номинативные единицы. Согласно ей, значение производного слова или вытекает из значения его частей /словообразовательной основы и форманта/ (морфологическая мотивация), или возникает вследствие переосмысления (семантическая мотивация) [Гак 1977-2, с. 34]. Но в любом случае между мотивирующей и мотивированной номинативными единицами должны существовать различия, не могущие трактоваться как различия в пределах семантического тождества. Недостатком узкой концепции является 162 только то, что ею не определены границы возможного модифицирования одной номинативной сущности, то есть не установлены параметры тождества номинации. В силу этого из зоны ее рассмотрения выпадают аналитические единицы (словосочетания и сочетания полнозначных слов со служебными) [Снитко 1990; Ушкова 2006]; трактовка семантической мотивации полностью стирает границы между семантическим модифицированием и собственно семантической деривацией и т.д. Как справедливо отмечала Е.А. Селиванова, как в широкой, так и в узкой концепциях, мотивация «анализировалась на грани словообразования и лексической семантики только на базе значения и формы языковых единиц» [Селиванова 2000, с. 153], то есть семасиологически. Еще более четко высказалась Л.К. Жаналина, по мнению которой мотивация здесь отождествляется только с выводимостью одной единицы из другой. Атрибуция статуса этих единиц конвенциональна, а отношения между мотивированной и мотивирующей единицей определяются как внутриязыковые, реляционные и не соотносятся с моделями номинации [Жаналина 1993, с. 34-35]. Итак, семасиологический подход к определению явления мотивации не учитывает того, какой статус в номинативной системе языка имеет та или иная единица, как она соотносима с представлением о тождестве номинации. На мой взгляд, семасиологический подход необходимо дополнить ономасиологическим подходом именно для того, чтобы описать явление мотивированности, мотивации с точки зрения тех механизмов, которые обеспечивают акт номинации, с точки зрения того, чем он является – формированием нового номинативного комплекса с присущим именно ему новым номинативным инвариантом или реализацией номинативного инварианта в его речевых модификациях. Это тем более важно, что «понятие “мотивация” (в лингвистическом смысле) <…> непосредственно связано с установлением природы названия, отражающим характер связи между именем вещи и самой вещью. Таким образом, это понятие изначально 163 связано с номинацией, с анализом формирования в языке обозначения разных фрагментов познаваемого человеком окружающего мира» [Медведева 1989, с. 86]. Ономасиологический подход к определению внутренней формы был предложен в свое время В. фон Гумбольдтом. Последний интерпретировал внутреннюю форму как ситуацию, когда «к самому акту обозначения понятия добавляется еще особая работа духа, переводящая понятие в определенную категорию мышления или речи, и полный смысл слова определяется одновременно понятийным выражением и упомянутым модифицирующим обозначением. Но оба эти элемента лежат в совершенно различных сферах. Обозначение понятия относится к области все более объективной практики языкового сознания. Перевод понятия в определенную категорию мышления есть новый акт языкового самосознания, посредством которого единичный случай, индивидуальное слово, соотносится со всей совокупностью возможных случаев в языке или речи» [Гумбольдт 1986, с. 118-119]. В такой трактовке «внутренняя форма – это поисковый образ языковой единицы в системе языка» [Демьянков 1989, с. 98]. Здесь следует оговориться, что не полное следование канонам ономасиологии, а стремление объединить семасиологический и ономасиологический подходы является доминантой данного исследования. Гомогенный ономасиологический подход – поиск связи «знак – концепт – реалия» – недостаточен для определения структурно-языковых характеристик номинации, а именно – для решения проблемы определения параметров внутриязыковой, структурной границы тождества-отдельности номинатемы. При ономасиологическом анализе мы можем только интерпретировать мотивацию как «желаемый результат отражения в лексической единице средствами языка определенного признака (признаков) денотата, входящего (входящих) в корпус признаков его лексического значения» [Кияк 1989, с. 103] без указания на то, какими языковыми средствами создается тождество номинатемы или осуществляется формирование ее отдельности. 164 С точки необходимо зрения различать ономасиолого-семасиологического два типа мотивации подхода (мотивированности) – внутреннюю, речевую, выступающую как фактор модифицирования единого номинативного инварианта – номинатемы в речи в её глоссах, и внешнюю, языковую, выступающую как фактор образования новых номинативных единиц. Внутреннюю мотивированность я определяю как мотивированность языковым номинативным инвариантом – номинатемой – её речевых модификаций. Можно согласиться с Т.Р. Кияком, что «в плане речи мы имеем дело с референтной мотивированностью. Речевая мотивированность имеет контекстуальный и нередко даже субъективный характер, поэтому ее исследование относится к кругу вопросов референции» [Кияк 1989, с. 101]. Абсолютно точно описал акт речевой мотивации Г.П. Мельников, утверждавший, что в нем «выбор языкового знака для заданного понятия мотивирован, но особым образом, через понятийные ассоциации актуального значения с опорным значением этого языкового знака» [Мельников 1969, с. 4]. Лексические маркеры в данном случае – это компоненты структуры плана выражения, указывающие на мотивацию глоссы номинатемой, реализацией которой она является. Минимальное количество лексических маркеров – один (корень – дом). Нельзя утверждать, что в этом случае глосса лишена внутренней формы. «Дело в том, – пишет Р.Г. Кияк, – что в языке не существует абсолютно немотивированных слов. Все они взаимосвязаны с соответствующим значением хотя бы до уровня общей лексико- семантической категории. Кроме того, лексическая единица мотивируется своими системными характеристиками» [Кияк 1988, с. 74]. Нужно сказать, что для внутренней мотивации различие корня и аффиксов не является актуальным – оно настроено на внешнюю мотивацию. Основным компонентом для глоссы является номинативный инвариант, носитель базового смысла. В некоторых случаях он может реализоваться в моделях, 165 имитирующих внешнюю мотивацию. Это, например, отмечается при так называемом словообразовательном варьировании (в моей терминологии – лексическом дублетном модифицировании), когда в качестве глосс одной номинатемы выступают единицы, различающиеся служебными аффиксами, но имеющие тождественное значение, например, лиса – лисица, варение – варка и т.п. Большинство исследователей считает их абсолютными синонимами – разными номинативными единицами. Ф.П. Филин утверждал, что «назначение словообразовательных морфем – создание новых лексикосемантических единиц. <...> При определенных (различных) обстоятельствах словообразовательные аффиксы как бы десемантизируются (варение – варка, диалектный – диалектальный, канонизировать – канонизовать и т. п.), но не выпадают из общей системы их употребления, не теряют своей словообразовательной функции. Следовательно, образования типа лиса – лисица, несмотря на их лексико-семантическое тождество и наличие общей коренной морфемы, принципиально невозможно приравнять к формам типа ноль – нуль, зал – зала и пр., нельзя считать вариантами одного и того же слова. Это самостоятельные, отдельные слова» [Филин 1963, с. 132-133]. Возможно, при чисто семасиологической трактовке такая верификация и может быть признана успешной. Однако с точки зрения ономасиологии формальное расхождение между лисой и лисицей абсолютно адекватно расхождению между сох и сохнул: оно не реализует номинативных различий, находится в границах формальной связанности и свободного модифицирования, что позволяет трактовать такие единицы именно как лексические дублеты одной номинатемы. В ряде исследований даже ученые, работавшие в пределах той же парадигмы, что и Ф.П. Филин, высказывали сомнения в возможности трактовки означенных единиц не как дублетов. Так, например, О.И. Блинова пишет, что «если даже функцию морфем признать критерием или одним из критериев разграничения разных слов и вариантов (в моей терминологии – дублетов. – В.Т.) одного и того же слова, то однокорневые образования с тождественным лексическим значением (лиса – 166 лисица, диалектный – диалектальный, канонизировать – канонизовать) следует считать вариантными, так как десемантизация аффиксальных морфем в подобных случаях сопровождается «десемантизацией» их словообразовательной функции: аффиксальные морфемы в подобных случаях участвуют в создании не новых слов (ср. лиса – лисий), а новых разновидностей слова, новых его лексических форм» [Блинова 2003, с. 119]. Напомним, что при речевой номинации роль аффиксов в мотивационных процессах нивелируется – они не могут в подавляющем большинстве случаев участвовать как средство в процессе актуального означивания. Роль факультативного маркера в этой ситуации исполняет зависимая лексема, уточняющая базовый смысл номинативного инварианта в аналитических лексико-семантических конструкциях. Именно такие случаи описывает Е.С. Снитко, рассматривая их, правда, в пределах представления о процессе формирования сложной номинативной единицы как о деривационном акте [Снитко 1990]. По моему же мнению, номинативный статус моновербальных и сложных глосс тождественен: на бок и на левый бок имеют одинаковую референцию во фразах Он повернулся на бок и он повернулся на левый бок с актуализацией одного из аспектов этой референции во втором случае. Эта «одинаковость» референции и позволяет считать данные глоссы манифестациями одной номинатемы и определить их как ее формально-семантические варианты. Внутренняя форма здесь имеет статус внутренней формы глоссы и складывается из базовой модификации номинатемы и вербального актуализатора ее номинативного значения. Таким образом, отношения между лексико-семантическими модификациями номинатемы могут быть определены как отношения: а) лексико-семантической идентичности; б) лексико-семантического варьирования, при котором значения глоссы находятся в тесной связи со значением фразы в целом. «Теснота» этой связи определяется невозможностью изменения значения слова без изменения смысла фразы в целом. Неслучайно здесь используется термин «варианты», 167 связываемый мной с ситуацией дополнительной дистрибуции, так как многозначность слова и, шире, номинатемы, «соответствует позиционной обусловленности каждого значения, поскольку то, что слово предстает в каком-то из своих значений, как раз и определяется лексико-семантической позицией слова (выделено мной. – В.Т.)» [Шмелев 1977, с. 72]. Например, во фразе «он проехал 2 остановки» слово остановка может иметь значение «место, где останавливаются маршрутные автобусы, троллейбусы и т.п.», создающее общий смысл предложения «он проехал два места, где останавливается автобус», то есть «пропустил два таких места»; и значение «расстояние между двумя местами, где останавливаются маршрутные автобусы, троллейбусы и т.д.», которое формирует общий смысл «он проехал на автобусе расстояние, равное расстоянию между двумя местами, где останавливается автобус»; в) лексической дублетности, когда глоссы, различающиеся аффиксами, используются в одинаковом значении в одинаковом окружении (волчица – волчиха); г) формально-семантического варьирования, когда актуализация тех или иных аспектов значения номинатемы осуществляется аналитически, в зависимом слове, например, стол, дубовый стол, стол у окна, черный стол при тождестве референции. Внешняя мотивированность выступает в виде деривационной мотивированности, то есть в виде мотивированности одной номинатемы другой. При этом следует говорить о семантической доминанте этого явления, поскольку новая номинация – это соотнесение нового инвариантного смысла с новой или старой формой. При создании новой формы действует правило: производной номинативной единицей является номинатема, «которая семантически (или синтаксически), а также формально выводится из другого слова (номинатемы. – В.Т.), точнее: слово (номинатема. – В.Т.), в значение и форму которого входят значение, а также форма (основа или ее часть) другого слова, называемого мотивирующим (базой)» [Gramatyka współczesnego języka 168 polskiego 1984, с. 307]. Внешняя мотивация – языковая, поэтому внутренняя форма выступает здесь как интегральный признак по отношению к речевому модифицированию номинатемы, поскольку все глоссы одного слова имеют одинаковую внутреннюю форму. В отношении между номинатемами внутренняя форма выступает как дифференциальный признак в общем ряду других дифференциальных признаков: глоссы разных номинатем различаются также и внутренней формой. В отношении «глосса – реальность» внутренняя форма мотивирована, причем не только реальностью (признак наименования реально наличествует в референте), но и языковой личностью, так как акт номинации осуществляется как выделение последней признака наименования. Внешняя мотивация реализуется в двух разновидностях, которые С. Ульман называет морфологической и семантической мотивацией [Ульман 1970, с. 250299]. Морфологическая мотивация подкрепляет собственно деривацию, когда доминантой процесса является конструирование новых номинативных единиц на базе существующих номинатем с помощью словообразовательных формантов, например бродяга – бродяжничать, кровопийца – пить кровь; В.Г. Гак называет лежащий в основе данной разновидности деривации тип мотивированности морфологическим, Т.Р. Кияк – формальным. Семантическая мотивация, в свою очередь, формируется на основе лексикализации, когда новые номинативные единицы образуются в результате номинатемы семантических семами, сдвигов, являющимися замены актуализированных онтологическими сем конструктами концепта, связанного с обозначенным глоссой референтом, например, скобка (артефакт) – скобка (знак препинания), разгар (процесс) – разгар (пик сезона) и т.п.; В.Г. Гак называет лежащий в основе лексикализации тип мотивированности семантическим, Т.Р. Кияк – интенсиональным. Общее, что объединяет два указанных типа языковой мотивации – это явление двойной референции, описанное Е.С. Кубряковой: «Свойство производного слова иметь и свое собственное, и заимствованное значение одновременно мы назовем свойством двойной референции: референции к 169 миру действительности, типичной для класса слов вообще, и референции к миру слов, типичной для вторичных единиц номинации. Простые слова референтны только к миру действительности, производные обращены к миру действительности и миру слов» [Кубрякова 1981, с. 10]. Различие состоит в том, как реализуется эта двойная референция в исследуемых типах языковой мотивации. При деривации она формализована и двукомпонентна. Референция к миру слов реализуется в производящей основе, представленной в деривате и указывающей производящую на внешнюю, номинатему, реляционную, обусловленность лексическую, её через первоначального инвариантного значения. Например, в номинатеме зачинщик референция к миру слов реализуется через выводимость её формы и значения из формы и значения номинатемы зачинать. Однако эти формы и значения не тождественны. К исходному комплексу «форма + значение производящей единицы» в производной номинатеме закономерно добавляется форма и значение словообразовательного форманта. Референция к миру действительности как раз и формируется за счет формантной верификации нового понятия. Схема номинации в этом случае имеет следующий вид: /производящая основа (форма) + значение производящего слова (содержание) → референция к миру слов/ + /формант + значение форманта → уточнение референции к миру слов/ → /производная единица (форма) + значение производного слова (содержание) → референция к действительности/. При лексикализации двойная референция формально однокомпонентна. В ее основе семантическое саморазвитие глосс, не подкрепленное добавочной семантикой внешних форм. Референция к миру слов здесь обусловлена мотивированностью семантики новой номинатемы семантикой номинатемы-источника, а референция к реальности – наличием в обозначаемом новой номинатемой референте онтологически базовых характеристик, отличных от тех, которые стали источником для его обозначения исходной номинатемой. Понятие лексикализации требует 170 особого уточнения, поскольку именно лексикализация является процессом, стирающим границы между речевой актуализацией глосс номинатемы и абсолютизацией такой актуализации на новом концептуальном уровне. Ономасиологический подход к явлению внешней мотивации имеет очень давнюю историю. Квинтэссенцией его стала теория М. Докулила [Dokulil 1962], который трактовал создание производного слова как подведение обозначаемого под одну из базовых категорий человеческого опыта. Им были выведено понятие «ономасиологическая структура», которое отражало процесс формирования новой номинации. Она состоит из «ономасиологического базиса – понятия, которое кладется в основу обозначения, и ономасиологического признака – понятия, которое так или иначе уточняет основное содержание обозначаемого, ограничивая его или конкретизируя или модифицируя основу называния» [Кубрякова 1977, с. 265]. При деривации (внешняя мотивация) на базисное значение указывает формант, а на признаковое – основа производящего слова. Например, для номинатемы водитель ономасиологическая модель имеет следующий вид: «профессия/агенс» «действие» (основа (формант [тель] – ономасиологический базис) – [води] – ономасиологический признак). За такой же моделью были созданы номинатеми учитель, писатель и т.п. Е.С. Кубрякова вводит в ономасиологическую структуру особую метаязыковую единицу – предикат [Кубрякова 1981; Кубрякова 2004-2], который связывает ономасиологический базис с ономасиологическим признаком. Не вызывает никакого сомнения наличие этого элемента в ономасиологических моделях производных номинатем при внешней номинации. Вследствие отсутствия ономасиологического базиса таких единиц в производящей единице, функция предиката и состоит в формировании связанности компонентов конечного наименования. Например, при формировании номинатемы белогвардеец необходимым есть уточнение соотношения базисного значения форманта («субъект») и признакового значения словосочетания («организация»). Такое соотношение 171 реализуется в предикате «который является участником». Таким образом, ономасиологическая модель здесь полностью совпадает из семасиологически выведенным словообразовательным перифразом («субъект, который является участником организации»). Ономасиологические модели описывались исключительно для единиц, которые возникли вследствие деривации. Я хочу обратить внимание на то, что ономасиологическую модель можно описать и для тех единиц, которые возникли вследствие лексикализации. При этом ономасиологическим базисом здесь будет уже архисема новой номинатемы, которая именно и указывает на концепт, лежащий в основе наименования, а ономасиологической признаком – тот семантический множитель, который выполняет функцию промежуточной цепочки при ее образовании и указывает на тот признак, который стал причиной переноса наименования. Объединяются базис и признак при помощи ономасиологического предиката. Например, ономасиологическая модель номинатемы плита «печь» имеет такой вид: «приспособление» (базис – печь), которое имеет (предикат) «определенную составную часть» (признак – «плита, которая нагревается»). Ономасиологическая модель номинатемы мощности «производственные объекты» состоит из ономасиологического базиса «совокупность предметов», предиката «которые имеют» и ономасиологической признака «определенную характеристику» («мощность»). Я предлагаю распространить зону употребления понятия «ономасиологическая структура» и на процессы внутренней мотивации, т.е. мотивации номинатемой ее глосс. С точки зрения ономасиологической структуры процессы речевой номинации формируются на основе исходного знания, которое составляет когнитивно-ономасиологическую базу, объединяющую участников коммуникативного акта, и нового знания, которое и является главной причиной номинации. Именно исходное знание и является базисом речевой номинации, а новое знание становится ее ономасиологической признаком. В этом случае под базисом понимается 172 семантический множитель архисемы инвариантного концепта номинатемы, а под признаком – тот семантический множитель, который актуализируется в зависимой глоссе. Например, употребление глоссы игла в упомянутом выше предложении Ваш ребенок взял иглу реализует ономасиологическую модель «приспособление» (ономасиологический базис – архисемное значение концепта «игла») + «статус» (ономасиологическая признак – семантический множитель, заполненный семным признаком «опасный»). В поливербальных глоссах семантический признак по обыкновению реализуется в зависимом компоненте словосочетания. Например, в глоссе красная рубашка реализуется ономасиологический базис «одежда» и признак «цвет». 4.2. Лексикализация Объем понятия «лексикализация» требует уточнения. Традиционно ею называют «превращение элемента языка (морфемы, словоформы) или сочетания элементов в отдельное знаменательное слово или в другую эквивалентную ему словарную единицу» [Лопатин 1990, с. 258]. Данное определение позволяет предположить существование следующих разновидностей лексикализации: 1) словоформа/глосса – синтетическая модификация номинатемы > номинатема со словесной доминантой, например: «Переувлажнение лесов – следствие так называемого малого ледникового периода (род. пад. мн. ч. от лес /глосса/)» (Санкт-Петербургские ведомости. – 13.02.08) – «5 раз произошло обрушение строительных лесов (род. пад. от леса /номинатема/)» (Санкт-Петербургские ведомости. – 05.02.08); 2) глосса – аналитическая модификация номинатемы > самостоятельная номинатема с доминантой словосочетанием, то есть коллокация, например: «Там он должен был играть роль (модификация номинатемы) Городничего» (НТН. – 01.02.08) – «Одному американскому военнопленному, выходцу из семьи известного политика, коммунисты устраивают “промывку мозгов” и превращают его в “спящего агента”, 173 призванного на американской земле играть роль (коллокация) инструмента коммунистического заговора против Америки» (Московский комсомолец. – 13.02.08). 3) словосочетание > слово, например: Вахрамеев А.В. Борьба социалистического содружества за разрядку международной напряженности» (словосочетание) – М., 1979. – «Это подчеркнула госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на конференции "Американосоветские отношения в период разрядки (слово) 1969-1976 гг."» (Известия. – 23.10.07). При первичном поверхностном рассмотрении указанных выше типов преобразований можно констатировать лишь то, что их объединение осуществлено по формальному признаку: имеется единица несловесного уровня (глосса/словоформа, словосочетание), которая трансформируется в единицу словесного уровня (лексема) или условно словесного (коллокация). Однако анализ статуса конечных элементов преобразовательной цепочки в целом в языке и по отношению к исходному элементу, а также анализ самих процессов преобразования показал, что в указанных выше случаях представлены все же разные с точки зрения ономасиологического статуса конечных единиц типы преобразования. Само собой разумеется, что эталоном в данной ситуации является первая модель (переход словоформа/глосса > слово). Действительно, если сущность лексикализации состоит в том, что некая несамостоятельная речевая единица, исполнявшая репрезентативную роль, меняет свой статус и становится способной самостоятельно уже как языковая сущность реализовывать свои номинативные потенции, то именно глосса, получившая статус базы для самостоятельной номинатемы, в полной мере отвечает данному требованию как единица, которая выполняла ранее речевую функцию, но в силу тех или иных причин преобразовалась в номинатему, то есть уже номинативную единицу языкового уровня, имеющую свой индивидуальный набор глосс. Вопрос состоит лишь в том, каков механизм 174 этого процесса. Определение сущности «эталонной лексикализации» – лексикализации глоссы – и позволит выяснить, могут ли остальные процессы рассматриваться с нею в одном ряду, или же в их основе – другие, схожие, но не тождественные механизмы. Я выделяю три способа лексикализации глоссы. Основным способом является семантическая лексикализация, когда преобразование глосс одной номинатемы, реализующих разные семантические модификации номинативного значения, в разные языковые номинативные единицы имеет в своей основе утрату «промежуточного звена» [Будагов 1974, с. 117-123] речевой номинации. В этом случае осуществляется семантическое саморазвитие глосс, не обусловленное их формальными, грамматическими или синтаксическими особенностями, имеющее своей причиной чистый перенос наименования, который и является в данном случае базой для механизма лексикализации. Как раз определение того, каким образом этот механизм действует, и даст возможность отграничить ситуации семантического модифицирования, формирующего отношения полисемии в пределах тождества номинатемы, от ситуаций семантической деривации, приводящей к распаду этого тождества. Можно предположить, что между этими явлениями, вопреки мнению сторонников широкого понимания процессов семантической деривации, нет изоморфности: механизм модифицирования в пределах тождества и механизм трансформации исходной семантики глоссы при формировании на ее базе новой номинатемы априори должны различаться. К сожалению, пока не разработаны четкие критерии для разграничения модифицирования и лексикализации, то есть для разграничения полисемии и омонимии. Принятая сейчас семасиологическая концепция семантической деривации лишь констатирует «отсутствие живых семантических связей» между омонимами. Единственным критерием и приемом в этом случае признается этимологический анализ. Как писал С.Д. Кацнельсон, при анализе омонимии и полисемии необходимо «различать этимологические, то есть 175 исторически снятые, и актуальные, действительно проявляющиеся в слове данной эпохи деривационные отношения» [Кацнельсон 1986, с. 50]. Однако, с одной стороны, как уже было показано в предыдущей главе, в сознании носителей языка актуальные отношения могут связывать и гомогенные, и гетерогенные омонимы, и даже абсолютно разные слова, а с другой стороны, вполне возможно не обнаружить актуальные семантические связи не только между омонимами, но и между разными семантическими модификациями одной номинатемы, что и позволяет воспринимать предложенную методику как квинтэссенцию субъективного метода в языкознании. На мой взгляд, разграничение полисемии и омонимии, то есть семантического модифицирования и семантической деривации (лексикализации), должно учитывать особенности механизма формирования новой номинации. Существуют две модели семантического модифицирования в пределах одной номинатемы: денотация, при которой в речи, кроме обозначения реалии, актуализируется какой-либо признак ее функционирования (кирпич «тяжелый», игла «опасный»), и коннотация, при которой осуществляется образное отождествление референтов по какому-либо актуализированному признаку номинативного инварианта (морж «животное» = купание в холодной воде = морж «человек / как бы животное»). Каждая из указанных моделей модифицирования может стать источником для лексикализации. Лексикализация на основе денотации реализует «метонимические» модели развития семантики, обусловленные абсолютизацией актуализированной семы как носителя самостоятельного онтологического смысла. При метонимии отсутствует момент образности – она настроена на смежность семантических актуальностей. Например, для того, чтобы на основе номинатемы плита «плоский прямоугольный кусок металла, камня или другого материала» возникла номинатема плита «кухонная печь», необходимо, чтобы семантическое развитие одной из глосс исходной номинатемы прошло следующий путь: 176 (1) «плоский прямоугольный кусок металла, камня или другого материала»; (2) «плоский нагретый прямоугольный кусок металла, камня или другого материала, на котором разогревается или готовится пища» (денотация с актуализацией семы «назначение»); (3) «кухонная печь, в которой пища готовится на плоском нагретом прямоугольном куске металла, камня или другого материала» («метонимический перенос с части на целое» / момент распада); (4) «любая кухонная печь» (абсолютизация переноса / полный распад). При этом нужно, чтобы значения 2 и 3 были поглощены обобщенным значением 4, то есть не могли бы выступать гарантом сохранения тождества номинатемы плита. Эти значения и выступают в качестве того самого «утраченного промежуточного звена», о котором писал Р.А. Будагов [Будагов 1974, с. 117-123]. Распад тождества номинатемы на базе коннотативной референции осуществляется путем номинативности, когда утраты один образности, референт замены реляционной отождествляется с другим, онтологической, когда обозначенный новый референт воспринимается уже самостоятельно. Например, номинатема скоба/скобка «железная дужка, полоска, изогнутая полукругом и служащая в качестве ручки у дверей, сундуков и т. п.» использовалась для обозначения знака препинания, фактурно схожего с обозначенным референтом. Первоначально его использование имело структуру коннотативного отождествления: «дверная ручка = форма = знак препинания / как бы ручка». Однако утрата образного тождества и актуализация онтологического значения привела к тому, что скобка «полукруглый знак препинания» уже не воспринимается через скобку «дверную ручку», что и формирует новую номинатему. Другим способом лексикализация, при лексикализации которой является осуществляется грамматическая синтаксически необусловленное преобразование грамматической формы или группы 177 грамматических форм слова в отдельную лексему. Чаще всего это связанно с лексикализацией форм множественного числа существительного и происходит при внедрении грамматических значений в сферу лексических значений, что еще раз подтверждает номинативного значения. «единственное число противопоставлении – По тезис мнению слитности А.В. Исаченко, множественное «невыраженной о число» расчлененности единого корреляция базируется – на выраженной расчлененности», что наиболее четко проявляется в случаях использования форм единственного числа при обозначении «реальной множественности», то есть в функции, идентичной функции форм множественного числа, например, в обороте «боярам брили бороду» при соответствующей конструкции «боярам брили бороды». Если во втором случае множественность предметов представлена формой множественного числа расчлененно, то в первом – формой единственного числа нерасчленённо» [Исаченко 1961, с. 37]. Однако небольшой семантический сдвиг к утрате расчлененности наименования делает форму множественного числа самостоятельной номинативной единицей с семантикой собирательности. Как считает Л.О. Новиков, источником для лексикализации форм множественного числа является ситуация, «когда грамматическая форма и грамматическое значение используются в «интересах» лексики, поскольку грамматические значения здесь выражают значения лексические» [Новиков 1963, с. 82]. Чтобы формы множественного числа лексикализовались в самостоятельную номинатему, необходимо, чтобы вступили в действие те же механизмы, что и в предыдущем типе лексикализации: главное условие – семантическое саморазвитие глосс, в котором движущим фактором является переход от «расчлененной множественности» наименования к его «нерасчлененной множественности», то есть грамматически обусловленное семантическое саморазвитие глосс. Так возникла, например, на базе номинатемы развод “результат действия по глаголу развести” номинатема разводы “узор”, для которой отмечается следующий путь лексикализации: 178 разводы (1) “результаты действия по глаголу развести”; (2) “разводы краски на чем-либо” (расчлененная множественность); (3) “разводы краски, которые составляют узор (этап формирования нерасчлененной множественности и установления эквивалентности с существительным узор)”; (4) “узор” (нерасчлененная множественность). При этом значения 2 и 3 поглощаются значением 4, то есть формируют «утраченное промежуточное звено», правда, уже с грамматической доминантой. Последним способом лексикализация, семантическое когда лексикализации источником варьирование глосс, является распада синтаксическая тождества обусловленное является расхождением их синтаксических позиций. Этот процесс отмечается в тех ситуациях, когда в конкретных условиях контекста глосса выполняет синтаксическую функцию, не являющуюся основной для того лексико-грамматического разряда, к которому она относится, существительного. В предрасположенности этой например, ситуации функцию обстоятельства «вследствие той лексической семантики определенных или для иной слов их основное значение может переходить, ослабляясь, в значение того пространственного, временного, логического отношения, отношения подобия и т. д., которое было лишь фоновым для него» [Тараненко 1989, с. 96]. Например, развитие наречия домой на базе древнерусской формы дательного падежа единственного числа существительного ДОМЪ (ДОМОВИ) связано с употреблением данной формы в древнерусском языке в обстоятельственной функции. Вымывание в данной позиции объектных сем из семантики глоссы и актуализация в качестве дифференциальных изначально периферийных реляционных сем места привело к синтаксически обусловленному семантическому саморазвитию глоссы, имеющему своим результатом формирование на ее базе наречной номинатемы. 179 К процессам лексикализации относится и распределение значений между формальными дублетами номинатемы. Правда, данный процесс следует, вероятно, считать не чисто лексикализационным, а скорее – социально-лексикализационным, поскольку в его основе лежит то, что в одной из социально-коммуникативных систем языка один из формальных дублетов, например, дублет клавиш номинатемы клавиш/клавиша «рычаг у клавишных инструментов; рычаг у некоторых механизмов» в языке техники, употребляется чаще, чем другой дублет, ассоциируясь в большинстве случаев с одним из семантических вариантов номинатемы («рычаг у некоторых механизмов»). Это приводит к «социально» обусловленной лексикализации формального дублета с одним из значений номинатемыисточника (см. описание таких процессов в [Кузнецова 1977, с. 109-110]). В дальнейшем лексикализированный дублет возвращается в ту языковую зону, где обе модификации номинатемы сохраняют статус формальных дублетов, и вытесняет формально тождественный ему дублет из структуры номинатемыисточника, что и приводит к возникновению разных номинатем. Однако в основе этого процесса все же лежит семантическое развитие номинатемыисточника и последующее преобразование лексико-семантических вариантов номинатемы в значения разных номинатем вследствие их закрепления за разными формальными дублетами слова-источника. Таким образом, процесс лексикализации характеризуется следующими признаками. Во-первых, при лексикализации осуществляется распад актуального тождества исходной номинативной единицы. В результате лексикализации на базе одной номинативной единицы возникают две или более. Во-вторых, в основе этого процесса лежит семантическое саморазвитие речевых реализаций исходной номинативной единицы, подкрепленное либо утратой промежуточного семантического звена, либо закреплением одного из значений номинатемы за группой глосс, являющихся формальными дублетами исходной единицы. 180 4.3. Номинатема с доминантой словосочетанием Приведенная в предыдущей главе структура номинатемы, как уже было сказано, настроена на доминантность слова в процессе номинации. Словосочетания и сочетания слов выполняют здесь вторичную функцию и выступают только в качестве синтагмных реализаций номинатемы наряду с ее моновербальными глоссами. Однако возможность рассмотрения слова, словосочетания и сочетания слов в одном ряду как равноправных представителей единой номинативной сущности – словесной номинатемы – в речи, при том, что один из этих представителей (слово-синтагма = глосса) релевантен доминантной языковой сущности (номинатеме), позволяет предположить, что каждая из оставшихся речевых единиц также может быть релевантной доминанте номинации, то есть может, при определенных условиях, выступать как базовая субстанция номинатемы. Иначе говоря, хотя бы теоретически идиоматизация того ли иного сочетания – аналитического варианта номинатемы с доминантой словом – может провоцировать распад тождества последней и создание номинатемы уже на базе сочетания слов. При этом уже сама многокомпонентная номинатема, то есть номинатема с доминантой – словосочетанием или сочетанием слов, стремится воплотиться в слове как в своем номинативном пределе. Процесс преобразования аналитической глоссы номинатемы со словесной доминантой в коллокацию, вернее, в номинатему с доминантой – словосочетанием трактуется мной как процесс ее лексикализации. Следует отметить, что именно идиоматизация является главным стимулирующим фактором для абсолютизации онтологических сем нового референта. Трудно в этом случае согласиться с В.Н. Телия, считавшей, что идиоматизация – «это процесс, в некотором смысле обратный образованию новых значений слов: он сходен, скорее, с явлением опрощения, а не с лексической номинацией» [Телия 1977, с. 153]. Я не против того, чтобы считать процесс лексикализации аналитической 181 лексико-семантической глоссы в коллокацию процессом сходным с опрощением. Действительно, в его основе – преобразование расчлененной денотации в новый единый семантический инвариант новой номинатемы. Однако этот процесс имеет явную номинативную природу – в результате его возникает новая номинация для нового класса референтов. Например, предложно-падежная форма (задание) на дом является уже самостоятельной номинатемой с доминантой – сочетанием слов, поскольку трансформирует свое пространственное значение в значение «для домашнего выполнения», не эквивалентное базовому значению номинатемы дом «строение». Идиоматизированное словосочетание заочное обучение обозначает не обучение «за очами, за глаза», что можно было бы предположить, опираясь только на внутреннюю форму этого комплекса, а «прохождение курса без постоянного слушания лекций, путём самостоятельного изучения предметов». Разрыв связи с прямой семантикой номинатемы обучение (здесь внутренней семной структуре исходного слова адекватными будут генерированные словосочетания хорошее обучение, быстрое обучение и т.п.) подтверждается стремлением указанной коллокации преобразоваться в универб заочка. В этом случае следует говорить о доминантной роли словосочетания в функционировании номинатемы заочное обучение. Во всех указанных ситуациях процесс формирования новой единицы номинативен – он создает для нее новый, присущий только ей «реестр» обозначаемых референтов. В предлагаемом разделе рассматриваются только номинативные свойства идиоматизированных словосочетаний, состоящих из знаменательных слов (о идиоматизмах, созданных на базе сочетаний знаменательных и служебных слов, см.: [Лучик 2000-Лучик 2003]). Для таких единиц достаточно распространено мнение о том, что «если мы не хотим отрицать реальных языковых фактов во имя метафизических определений и основанных на них теорий, мы должны <…> признать возможность существования стойких словосочетаний рядом со слитными (сложными) 182 словесными единицами как форм одного и того же слова» [Жирмунский 1961, с. 7]. Приведенные выше размышления показывают, однако, что как раз устойчивые словосочетания уже не являются формами слова, так как их семантика несводима к семантике главного компонента словосочетания: словосочетание птичий язык уже никак не связано с языком, а обозначает общее понятие «нечто непонятное», грудная жаба никакого отношения к жабе не имеет и т.д. А вот свободные словосочетания вполне очевидно относятся, как это было показано выше, к числу синтагмных разновидностей номинатем со словесной доминантой. Под глоссами номинатемы с доминантой-словосочетанием я понимаю все семантически тождественные единицы, которые отождествляются на уровне этого словосочетания. Доминантной единицей здесь становится так называемая коллокация, которую определяют как «лексико-семантический тип словосочетания, по своей внутренней семантической структуре стоящий между свободным и фразеологическим сочетанием» [Jackson 1995, с. 97]. Коллокации – это «факты, которые вычленяются рядом исследователей из общей массы относимых к фразеологическим, но отличаются от последних нулевой экспрессивностью и нулевой (в том числе и утраченной) метафоричностью. Это общеизвестные пары слов типа железная руда, магнитный железняк, грудная жаба» [Прокопович 1966, с. 52]. Эти сочетания «обнаруживают очень тесную спаянность компонентов и другие черты, сближающие их с фразеологическими единицами (выделено мной. – В.Т.)» [Прокопович 1966, с. 52]. Они не создаются, а воспроизводятся в речи, но не имеют той «образности», тех коннотативных обертонов, которыми характеризуются последние. Они явно настроены на реализацию собственно номинативной функции. Номинатема коллокативного типа имеет такие же речевые модификации, что и номинатема с доминантой – словом. Например, инвариантное концептуальное значение номинатемы с доминантой – словосочетанием реализуется в речи в таких же моделях денотации и 183 коннотации, что и инвариантное концептуальное значение номинатемы с доминантой – словом. При этом денотация может осуществляться и как синтетическое лексико-семантическое варьирование, например, Боже, ваш сын вступил в Красную актуализируется аналитическое сема Армию, где в «нечто глоссе Красную идеологически лексико-семантическое неприемлемое», варьирование с Армию и как формальным увеличением объема словосочетания, например, Легенда о том, что в этот день 1918 года была создана и одержала первую победу знаменитая Красная Армия является мифом, вымыслом (Православная Удмуртия. – 08.03.02), где ономасиологический признак «статус» актуализируется при помощи атрибута знаменитая. Коннотация же отмечается при переходе «словосочетание → фразеологизм», который, на первый взгляд, очень близок к тому, чтобы быть названным лексикализацией. Однако в силу того, что фразеологизм – это чаще всего «постоянное и повторяемое употребление свободного сочетания слов не в прямом, а в обобщенном, образнопереносном значении (выделено мной. – В.Т.)» [Шанский 1985, с. 92], мы можем говорить тут не об образовании новой номинативной единицы, что является отличительной чертой лексикализации, а только о реализации коннотативного образного, варианта номинатемы. базовой “переносного” Здесь вполне лексико-семантического очевиден изоморфизм функциональных признаков разных структурных типов номинатем – слова и коллокации, поскольку если мы признаем, что последняя все же «репрезентирует соединение некоторых отдельных значений, в результате которого образуется сложная номинативная единица (выделено мной. – В.Т.)» [Солнцев 1987, с. 134], то мы и должны рассматривать все случаи её реализации через универсалии реализаций номинативных единиц. Так, например, Р.А. Будагов, анализируя слово глубокий в пространственном /прямом/ (глубокий колодец) и образном /переносном, коннотативном/ (глубокий мыслитель) значении, утверждал: «Предположим, что перед нами два разных прилагательных, звучащих одинаково и не соприкасающихся по 184 своим значениям. Каждое из этих двух воображаемых слов сейчас же лишится того объёма, который свойственен одному слову глубокий в современном русском языке. Если переносное значение глубокий (глубокий мыслитель) перестанет восприниматься, в частности, на фоне его же пространственного осмысления (глубокий колодец), то потухнет и переносное значение, которое в живом естественном языке усиливается самим фактом взаимодействия разных значений» [Будагов 1974, с. 118]. Если в ситуации с приведенным выше употреблением прилагательного глубокий в разных значениях мы признаем эти значения вариантными реализациями одной номинативной единицы, то почему же в двух случаях употребления устойчивого словосочетания получить прописку – «он получил московскую прописку» /оформил документы на проживание в Москве/ и «Этот почин получил прописку в обществе» /получил право на существование/ – мы говорим о разных единицах – свободном словосочетании и фразеологическом обороте? Вполне очевидно, что в этом случае не отмечается самый главный атрибут лексикализации – распад актуального тождества исходной номинативной единицы и возникновение вследствие этого на ее базе двух и более самостоятельных языковых сущностей. Фразеологизм здесь может быть определен только как образный (коннотативный) словосочетания. лексико-семантический Образное значение живет вариант здесь эталонного только за счет осознаваемой носителями языка семантической связи с прямым значением, то есть находится в пределах тождества номинатемы-коллокации. Отметим, что теория фразеологии является одной из ключевых составляющих лингвистического мировоззрения. Однако она, как ни странно, больше напоминает мифологему, не подкрепленную достаточно вескими теоретическими предлагаются основаниями. различные И действительно, параметры определения разными учеными самого понятия фразеологизм. Существует, по крайней мере, четыре критерия его выделения. Во-первых, это идиоматичность и целостность значения как основной 185 признак фраземы. В данном случае фразеологизм – это «воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная <…> по своему значению, составу и структуре» [Шанский 1985, с. 20]. Во-вторых, часто идиоматичность дополняют образностью, и в этом случае фразеологизмом называют «постоянное и повторяемое употребление свободного сочетания слов не в прямом, а в обобщенном, образно-переносном значении» [Шанский 1985, с. 92]. И, в-третьих, В.М. Мокиенко считает основным признаком фразеологизмов экспрессивность и определяет их как «относительно устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные сочетания лексем, обладающие (как правило) целостными значениями» [Мокиенко 1989, с. 5]. Каким же образом реализуются указанные критерии фразеологичности в трех основных структурных типах фразеологизмов, которые некогда выделил В.В. Виноградов [Виноградов 1977] и которые в большинстве исследований и грамматик аксиоматически возводятся в разряд догматных конституентов фразеологической системы языка. Напомним, что к ним относятся фразеологические сращения типа быть не в своей тарелке, фразеологические единства типа брать в свои руки, и фразеологические сочетания типа затронуть чьи-нибудь интересы. Как это ни парадоксально, ни один из приведенных параметров фразеологичности не позволяет объединить в одну категорию упомянутые структурные типы фразем. Если говорить о идиоматичности, то она как принцип применяется здесь крайне непоследовательно. Во-первых, в классификации В.В. Виноградова остались без внимания коллокации, например, магнитный железняк, легкая атлетика и под. Их нельзя считать ни сращениями, поскольку вполне очевидна обусловленность их общей семантики семантикой составляющих компонентов, ни единствами, поскольку они не имеют образного значения, ни сочетаниями, поскольку ни один из составляющих их компонентов не является фразеологически связанным. Но в то же время они идиоматичны. Налицо парадокс – идиоматичное 186 словосочетание не относится к фразеологии. Во-вторых, идиоматичность в разных типах фразем имеет разную природу. Если в сращениях она является результатом утраты связи фразеологизма с продуцирующим словосочетанием, то в единствах как раз обусловлена наличием этой связи, а в сочетаниях выступает лишь как признак даже не семантики, а сочетаемости только одного компонента конструкции, чаще всего – зависимого. И, втретьих, идиоматичность, как показал И.Е. Аничков, является общим свойством всех сочетаний лексических единиц в языке: «Идиомы не случаются в языке спорадично, а заполняют язык сплошной массой, лучше сказать, составляют язык. Любой отрезок любого текста или живой речи состоит целиком из идиом» [Аничков 1997, с. 108]. Так, например, идиоматичными, то есть регулярно воспроизводимыми, и даже более частотными являются сочетания хороший друг, приятный человек, очаровательная женщина и подобные. Поэтому-то, используя принцип идиоматичности, следовало бы все словосочетания языка считать фразеологизмами, что абсолютно бессмысленно. Если говорить о целостности значения, то все словосочетания языка обладают этим свойством. Она, правда, в разных случаях имеет различную структуру. В одних случаях цельность характеризует значение всего словосочетания, что отмечается не только для сращений и единств, но и для коллокаций, в других представляет собой аналитическую интерпретацию семантики только главного слова, что характеризует фразеологические сочетания и свободные словосочетания. Нельзя считать объединяющим признаком и образность, так как она, в сущности, наличествует только у фразеологических единств. Вряд ли можно считать образным, например, значение идиом ничтоже сумняшася, и был таков, поскольку образ предполагает наличие эталонного (необразного) наименования, чего у указанных номинатем нет. Во фразеологических же сочетаниях типа закадычный друг, животрепещущая проблема, беспробудное пьянство образное значение либо определяет не все 187 словосочетание, а только его уточняющий компонент, либо вообще отсутствует. Экспрессивность же делает границы фразеологии размытыми, поскольку в языке наличествует огромная группа словосочетаний экспрессивного типа, которые никто никогда не считал фразеологизмами: восхитительная женщина, отвратительные разборки, грандиозное празднество и под. Можно, конечно, утверждать, что в одних случаях действуют одни принципы выделения фразеологизмов, а в других – другие. Однако я настаиваю на необходимости выведения именно единого признака или комплекса признаков определения фразеологизмов, которые должны быть равноприложимы к каждому факту реализации одной и той же сущности. Не может одно и то же явление для одной группы фактов иметь одну интерпретацию, а для другой – другую. В этом случае перед нами разные явления, которые объединяются под одним названием только по традиции. Конечно, существуют ситуации, когда фразеологизм сохраняет образность, но утрачивает семантическую связь с исходным словосочетанием. Таковы, например, фразеологические сращения типа бить баклуши, функционирующие только во фразеологическом варианте в связи с утратой языком базового словосочетания бить баклуши в значении «делать заготовки для ложек», или собаку съел, где семантическая связь с соответствующим свободным словосочетанием утрачена. Иногда образность является мотивирующим моментом порождения словосочетания, как, например, при порождении фразеологизмов золотые руки, мягкий голос и т.п. Однако такие случаи вполне резонно характеризовать через эквивалентные словесные категории: утрата значения (ср., например, утрату значения «зрелище» у слова позор); возникновение омонимов в результате распада полисемии; образование коннотативных слов (ручечка, чушь) и т.д. Анализ показал, что каждый с упомянутых «виноградовских» типов фразеологизмов не имеет самостоятельного языкового статуса. Я уже 188 говорил выше коннотативным о том, что фразеологические лексико-семантическим единства вариантом являются коллокативной номинатемы. Если говорить о фразеологических сочетаниях, то очевидно то, что они являются только аналитическими вариантами номинатем со структурно ограниченным в употреблении главным или зависимым компонентом: затронуть чувства – аналитическим вариантом номинатемы затронуть с актуализацией семного множителя «объект действия», беспробудное пьянство – номинатеми пьянство с актуализацией семного множителя «интенсивность». Иначе говоря, фразеологические сочетания имеют статус не самостоятельных языковых единиц, а речевых реализаций, т.е. глосс номинатем, разворачивающихся на базе слов. Процесс возникновения фразеологического сращения типа бить баклуши, скорее всего, является реализацией лексикализационной модели перераспределения сем, но уже на уровне коннотативного варианта коллокации. Потеря образного отождествления референтов приводит к закреплению за изначально коннотативным вариантом нового «прямого» значения. Например, устранение процесса «битья баклуш» приводит к тому, что отождествление референтов «бить заготовки для ложек» и «делать легкую работу» разрушается. Для коллокации бить баклуши значение «бездельничать», развившееся на базе последней семемы, становится прямым, а сама коллокация получает такой же статус, как и опрощенные номинатемы со словесной доминантой (мешок, парень и т.п.). Поэтому ее следует считать только колокацией, пусть и возникшей на базе другой, первичной коллокации, развившись на основе ее коннотативного лексикосемантического варианта. Таким образом, ни одна из единиц, традиционно обозначаемых термином фразеологический оборот, не представляет собой уникальной самостоятельной языковой сущности. Фразеологическое сочетание является аналитическим лексико-семантическим вариантом словесной номинатемы, фразеологическое единство – коннотативным 189 лексико-семантическим вариантом коллокативной номинатемы, а фразеологическое сращение – лексикализованной вторичной коллокативной номинатемой с опрощенной структурой. Номинатема с доминантой словосочетанием точно так же, как и номинатема со словесной доминантой, реализует отношения грамматической идентичности (я получил прописку – он получил прописку), дублетности (с грудной жабой – с грудною жабою) и вариативности (золотые руки – золотых рук), фонетической идентичности (заниматься легкой атлетикой – интересоваться легкой атлетикой), дублетности (сесть в калошу – сесть в галошу) и вариативности (магнитный железня[г] был найден – магнитный железня[к] обнаружен) и т.д. Покажем особенности формирования номинатем с доминантой – словосочетанием на примере номинатемы, вернее, совокупности номинатем сад. В Словаре русского языка С.И. Ожегова даются следующие значения, связываемые с этим звукокомплексом: Сад, -а, о саде, в саду, мн. -ы, -ов, м. 1. Участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами; сами растущие здесь деревья, растения. Фруктовый с. Цветущий с. Расцвели сады. Зимний с. (помещение в доме, здании, имитирующее сад, с живыми деревьями, растениями, цветами). 2. В некоторых названиях: учреждение, коллекционирующее, разводящее и изучающее растения, животных. Ботанический с. Зоологический с. 3. То же, что детский сад. С.-ясли. *Детский сад – воспитательное учреждение для детей дошкольного возраста. II уменьш. садик, -а, м. (к 1 знач.). Если отвлечься от явно этнографических наименований (например, сад камней), здесь можно выделить четыре базовых значения: 1. Сад – плодово-фруктовый; 2. Сад – ботанический; 3. Сад – зоологический; 4. Сад – детский. У С.И. Ожегова эти значения объединены в одну словарную статью, то есть определены как лексико-семантические варианты одного слова. В 190 данном случае объединение осуществлено на базе слота “garden”, который соответствует польскому ogròd и русскому огород («нечто огражденное»). Однако исконное значение русского сад мотивируется глаголом сажать («нечто посаженное»). Сопоставление современных значений и внутренней формы комплекса сад позволяет распределить указанные выше номинативные единицы по двум группам: а) группа «посаженное + ограниченное в пространстве» (совпадение внутренней формы и семантики) – фруктовый (плодовый) сад + ботанический сад; б) группа «ограниченное в пространстве» (различие внутренней формы и семантики) – зоологический сад + детский сад. Между компонентами привативности, включения: первой группы реализуются плодово-фруктовый компонент), по сути, является разновидностью (немаркированный компонент). Во второй сад отношения (маркированный ботанического сада группе отношения явно эквиполентные: детский сад (учреждение, огражденное, пространственно ограниченное для детей) – зоологический сад (учреждение, огражденное, пространственно ограниченное для животных). Однако данную эквиполентность следует определить как полевую, находящуюся вне пределов тождества номинатемы, поскольку для отождествления здесь не хватает хотя бы формального родового «объединителя». Можно было бы предположить, что его функции выполняет моновербальное сад, но семантически абсолютно адекватное употребление последнего отмечается только для первой группы значений при доминанте значения «плодовофруктовый сад»: Она – колыбель жизни, наполняющая Ваш сад девственной чистотой и величием. Употребление однословного наименования во всех остальных случаях является результатом эллипса в сторону главного слова, подтверждаемого тем, что вырванные из контекста (ситуативной атрибуции) употребления самостоятельного наименования сад для обозначения ситуаций 2-4 интерпретируются обычно как ситуация 1: Животные свободно ходили по 191 саду (при базовой номинации по зоологическому саду) – в таком употреблении интерпретируется как по плодово-фруктовому саду; В этом саду дети очень хорошо себя чувствовали (при базовой номинации в этом детском саду) – в таком употреблении интерпретируется как в этом плодово-фруктовом саду; В саду расцвёл мак (при базовой номинации в ботаническом саду) – в таком употреблении интерпретируется как в плодово-фруктовом саду. Иными словами, номинативная сущность последних номинаций изначально полностью реализуется только в словосочетаниях, которые в отличие от ситуации 1, уже воплощенной в самодостаточном слове сад, стремятся к слову как к своему пределу (аббревиатуры ботсад, зоосад, детсад). Поэтому-то данные словосочетания и могут быть определены не как аналитические лексико-семантические варианты номинатемы сад, создающиеся по моделям актуализации её инвариантного значения в зависимом слове, а как самодостаточные номинативные единицы. Наличие явной эпидигматической семантической связанности в ситуациях 1-2, с одной стороны, и её отсутствие в ситуациях 3 и 4 как между собой, так и по отношению к ситуации 1-2 – с другой, позволяют предположить семантическое тождество (лексико-семантическую вариативность) в пределах тождества номинатемы сад 1 «посаженное + огражденное» (ситуация 1-2) и семантическую отдельность номинатем зоологический сад 2 «огражденное» и детский сад 3 «огражденное» (ситуация 3-4). Иначе говоря, я констатирую, что: а) слово сад (1), словосочетание фруктовый (плодовый) сад (2) и словосочетание ботанический сад (3), а также эллипсоид сад (<ботанический сад) (4) и аббревиатура ботсад (5) являются по отношению друг к другу лексико-семантическими вариантами (1,2 – 3,4,5) или формальными дублетами (1-2; 3-4-5), то есть находятся в пределах тождества номинатемы сад 1; б) словосочетание зоологический сад, эллиптоид сад (<зоологический 192 сад), аббревиатура зоосад являются, в силу своей семантической идентичности, формальными дублетами одной номинативной единицы, то есть находятся в пределах тождества номинатемы зоологический сад или сад 2; в) словосочетание детский сад, эллиптоид сад (<детский сад), аббревиатура детсад (д/с) являются, по той же причине, формальными дублетами, то есть находятся в пределах тождества номинатемы детский сад или сад 3. Следует обратить внимание на особое свойство номинатем-коллокаций – их стремление воплотиться в слове как своем формальном дублете. Это стремление реализуется в нескольких разновидностях формальных словообразовательных процессов, часто имеющих универбализационную природу. 4.4. Понятие универбализации Представление об утрате формальной и семантической расчлененности наименования было введено в научный обиход под названием универбации А.В. Исаченко [Исаченко 1958, с. 339]. Исследователь обозначал этим термином следующие явления: 1) словосложения (рус. местожительство; ч. svetonázor); 2) сращения (рус. накануне; ч. pravděpodobny); 3) эллиптический пропуск одного из элементов комплексного наименования: а) эллипс означаемого члена, то есть субстантивация (рус. передовая; ч. krejčí); б) эллипс означающего члена (рус. [патефонная] пластинка; ч. [železná] dráha); 4) аффиксальную деривацию (ч. nástěnné noviny — nástěnka); 5) нулевую суффиксацию (рус. противогазовая маска — противогаз); 6) разные типы аббревиации (рус. медсестра; МГУ, ТЮЗ). В дальнейшем данный термин был специализирован только на одном типе преобразования словосочетания в слово – «способе образования слов на базе словосочетания, при котором в производное слово входит основа лишь одного из членов словосочетания, поэтому дериват (универб) по форме соотносится с одним 193 словом, а по смыслу – со всем мотивирующим словосочетанием (многотиражная газета многотиражка)» [Осипова 2004] (см. также: [Дьячок 2007; Осипова 1991]). По этой причине для родового обозначения процесса перехода словосочетания в слово стали использоваться другие термины: компрессия, конденсация, включение, импликация (см. обзор терминов в: [Петров 2004]). Следует сказать, что указанные наименования достаточно широки по объему и могут быть отнесены не только к образованию новых глосс (или номинатем), равных слову, но и к образованию многословных сокращенных сочетаний в пределах тождества номинатемы с доминантой словом. Как пишет Е.С. Снитко, «на базе одного исходного словосочетания в результате деривации (в моей терминологии – компрессии. – В.Т.) может возникать не только новая лексема, но и словосочетание», например: стаж работы по найму – стаж по найму, выступить в соревнованиях на первенство мира – выступить на первенство мира и т.п. [Снитко 1982, с. 85]. Эти ситуации в пределах моей концепции однозначно трактуются как ситуации дублетности аналитических лексико-семантических вариантов номинатем стаж и выступить, что подтверждается абсолютным тождеством значений развернутого и компрессированного словосочетаний. Для меня же наиболее важна ситуация преобразования словосочетания в слово, которая является результатом предельной компрессии (конденсации, включения, импликации): «Импликация имеет одно направление в своем движении – от большого количества компонентов к меньшему; пределом сокращения является отдельное слово» [Чепасова 1990, с. 56]. Для отграничения данного явления от всех других видов компрессии я предлагаю использовать термин универбализация, с одной стороны, указывающий на конечный статус конденсированной единицы (слово /verbum/ – глосса или номинатема), а с другой, отличающийся от удачного, но уже специализированного наименования универбация. Вопрос состоит в том, что же лежит в основе 194 механизма универбализации, и в связи с этим – все ли процессы преобразования словосочетания в слово являются ею. Традиционно словосочетаний процессы образования рассматривают словообразования – в новых слов трех разных пределах морфологического, морфолого-синтаксического [Шанский на базе способов лексико-синтаксического, 1968, с. 254-263]. К морфологическому способу обычно относят словосложение с аффиксацией, то есть «образование новых слов путем соединения в новом слове нескольких (двух и более) словарных единиц» [Немченко 1984, с. 116], например, хлебный железнодорожник завод и т.п., – и хлебозавод, железная аббревиацию, то есть дорога – образование сложносокращенных слов, например, высшее учебное заведение – вуз. К лексико-синтаксическому способу относят собственно словосложение, при котором осуществляется не осложненное аффиксацией стяжение компонентов словосочетаний в слово, например, с ума сшедший – сумасшедший, вечно зеленый – вечнозеленый [Ахманова 1957, с. 242], и образование сложносоединенных слов, например, школа-интернат, вагонресторан. К морфолого-синтаксическому способу относят словообразовательные процессы, в результате которых слово меняет свою частеречную принадлежность вследствие различного рода эллипсов, например, дежурный офицер – дежурный. Как уже говорилось выше, данная классификация не лишена целого ряда недостатков. Во-первых, многие процессы преобразования словосочетания в слово вовсе оказались за ее границами. Это универбация, когда «на смену существительные, словосочетаниям образованные <…> от приходят основ суффиксальные зависимого имени прилагательного» [Прокопович 1966, с. 57-58], например зачетная книжка – зачетка; телескопическое словосложение, когда осуществляется «накладывание», так сказать, «редуплицированных» частей компонентов словосочетания, например, халтурное турне – халтурне [Шевелева 2003] 195 и т.п. Во-вторых, я снова вынужден констатировать неопределенность и размытость основания для классификации – понятия «средство словообразования»: в одном случае в качестве средства выступает субстанция – аффикс, в другом – процесс – компрессия словосочетания, в третьем – результат – переход слова из одной части речи в другую. В этой ситуации целиком возможно неоправданное отнесение одного и того же явления к разным словообразовательным моделям. Так, например, эллипс в сторону зависимого слова (учительская комната – учительская) традиционно относят к морфолого-синтаксическому способу, а эллипс в сторону главного слова (высокая температура – температура) – к лексико-семантическому, хотя сущность этого процесса и в первом, и во втором случае идентична: идиоматизированное словосочетание заменяется одним из своих компонентов. Можно, конечно, утверждать, что в первом случае отмечается изменение частеречной принадлежности зависимого слова, а во втором – сохранение грамматической отнесенности главного компонента словосочетания. Однако следует учесть, что получившаяся в результате субстантивации лексема, хотя и отличается грамматически от своего словарного эквивалента (прилагательное – существительное), имеет все-таки ту же грамматическую отнесенность, что и эталонное словосочетание (субстантив). Это и позволяет рассматривать эллипс в сторону зависимого слова и эллипс в сторону главного слова как две разновидности одного процесса. Как уже говорилось выше, современное языкознание стремится объединить все указанные типы преобразований под одним термином – конденсация. Обычно выделяют две её разновидности [Москович 1969, с. 78]: 1) семантическую конденсацию, традиционно определяемую как «включение значения (план содержания) одного из компонентов сочетания слов (при редукции его плана выражения) в семантическую структуру другого компонента» [Кудрявцева 2004, с. 123] (см. также: [Мурясов 1989]), 196 например: девятиэтажный дом – девятиэтажка (универбация), первый секретарь – первый (эллипс в сторону зависимого слова), повышенное давление – давление (эллипс в сторону главного слова); 2) лексическую конденсацию, которая определяется как стяжение компонентов словосочетания в сложное слово, например: автоматическая кормушка – автокормушка (аббревиатура); с белой головой – белоголовый (бахуврихи); везде сущий – вездесущий (юкстапозит), возить бензин – бензовоз (дериват); копатель канав – канавокопатель (композит). Общая тенденция современного языкознания заключается в том, чтобы объявить указанные процессы деривационными, то есть приводящими к образованию новых номинативных единиц. Например, С.Д. Кацнельсон предлагал считать процессы преобразования словосочетаний в слова синтаксической разнообразные деривацией виды [Кацнельсон 1965, с. 108], конденсации/универбализации поскольку «образуются по определенным синтагматическим деривационным моделям» [Кудрявцева 2004, с. 105]. Более того, иногда высказывается мнение о том, что «содержание номинации всегда (выделено мной. – В.Т.) является конденсацией значения высказывания» [Гак словообразовательный 1977-1, акт с. 233]. определяется В силу как акт этого всякий свертывания синтаксического развернутого описания в номинативную единицу (см., например, у И.С. Торопцева: «За исключением звукоподражаний, всякому новому слову (всякому слову вообще) предшествовало описание – синтаксическая объективация» [Торопцев 1964, с. 12]). Модель акта деривации здесь получает такую трактовку: новое слово (номинатема) появляется не как результат простого прибавления форманта к производящей основе, а как результат «структурного преобразования одной формы номинации (словосочетания) в другую, синонимичную ей форму (в производное слово)» [Сахарный 1985, с. 9-10]. В этом случае, в принципе, 197 любое новое слово языка определяется как возникающее в результате конденсации, что и позволяет отождествить последнюю с деривацией. Предложенная трактовка абсолютно противоречит речевой практике. Если, например, промышленная для зона в ситуаций слово преобразования промзона, а словосочетания словосочетания группа продленного дня в слово продленка абсолютная тождественность значения подкрепляется возможностью свободной взаимозамены словосочетания и слова в одном и том же окружении, то для случаев образования, например, слов стол – столяр, глухой – глухарь, глядеть по верхам – верхогляд это абсолютно невозможно. Например, если во фразе Оппонентами городских властей в судебном процессе выступили бывший депутат Ленсовета Владимир Чернышев (противник уничтожения пригородных лесов и развития на их месте промышленных зон) и шестеро представителей движения ЗОВ (Коммерсантъ. – 23.07.07) заменить словосочетание промышленных зон на промзон, смысл фразы в целом не изменится, поскольку значение словосочетания промышленная зона абсолютно идентично значению слова промзона (развития на их месте промзон), причем такая замена мотивирована не простым поиском синонима, а стремлением «поддержать равновесомое единство формы – единство значения» [Мокиенко 1989, с. 99]. В то же время, найти словосочетания, при формальной связанности имеющие тождественное значение и дистрибуцию словам столяр, глухарь, верхогляд, не представляется возможным. Вряд ли возникновению номинатемы столяр предшествовало описательное наименование тот, кто делает столы, глухарь – тот, который глухой, верхогляд – тот, кто глядит по верхам. Указанные описания являются только рефлексией на слова, образованные как одноактный процесс аналогического словообразования (образования новых номинативных единиц), и могут использоваться либо в редких ситуациях интерпретации слова – так сказать, «амнезийной», когда осуществляется поиск наименования к тому или иному понятию, например: «а как ты думаешь, как 198 называется тот, кто в группе играет на музыкальном треугольнике? Треугольщик?» (http://nik-brun.livejournal.com), либо в ситуациях интерпретации внутренней формы, мотивации производного слова путем «словообразовательной перифразы». При этом лингвисты прямо указывают на чисто лингвистический статус последней, считая, что она – «своего рода формула словообразовательного (деривационного) толкования, словообразовательной семантизации производных слов» [Моисеев 1987, с. 30]. Как убедительно показала Н.В. Дьячок, это словообразовательное (деривационное) толкование абсолютно не адекватно словосочетанию, подвергшемуся универбализации: «Словообразовательная перифраза слова прогрессивка могла быть представлена следующим образом: то (род), что имеет отношение к прогрессивному (вид) (прогрессив-), напоминая перифразу мутационного словообразования, если бы не тот факт, что прогрессивка – это не все то, что относится к прогрессивному, а именно прогрессивная зарплата» [Дьячок 2007, с. 116]. В некоторых работах предпринимается попытка преобразовать универбализируемое словосочетание в перифразу, чтобы показать тождество этих явлений. Например, Н.Ф. Клименко интерпретирует словообразовательное значение слова золотошукач как той, хто шукач золота [Клименко 1984, с. 111], а великомученик как той, хто є великий мученик [Клименко 1984, с. 114]. Однако очевидным является то, что не указанные перифразы, а именно словосочетания шукач золота и великий мученик являются абсолютными синтагмными эквивалентами, дублетами указанных слов и могут свободно с ними взаимозаменяться в тексте. См., например: Тому наша робота нагадує діяльність шукачів золота — просіваємо масу піску, щоб роздобути одну, але дорогоцінну піщинку (Команда. – 12.03.04) и Тому наша робота нагадує діяльність золотошукачів – просіваємо масу піску, щоб роздобути одну, але дорогоцінну піщинку; Нагадаю відомі любовні невдачі нашого великого мученика долі (Вечірній Київ. – 10.11.07) и Нагадаю відомі любовні невдачі 199 нашого великомученика долі. Это становится еще более очевидным при сравнении слов данного типа с теми единицами, которые однозначно трактуются мной как деривационные композиты. Например, если сравнить ономасиологические модели лексем вольнослушатель (универбат от вольный слушатель) и легкоатлет (дериват от легкая атлетика), имеющих внешне сходную морфемную организацию (Основа Прилагательного + интерфикс + Существительное), можно обнаружить значительные расхождения в структуре представления в них знания о референтах. Так, для вольнослушателя возможны, если использовать методику Н.Ф. Клименко, две семантические интерпретации: «вольный слушатель» и «тот, кто является вольным слушателем», а для легкоатлет – только одна «тот, кто занимается легкой атлетикой». Но, во-первых, если в текстах вольнослушатель может быть свободно заменено на вольный слушатель (ср.: В том же году поступил вольнослушателем в институт имени И.Е. Репина в Санкт-Петербург (http://www.grozny- inform.ru/main.mhtml?part=12&PubID=3443) и В том же году поступил вольным слушателем в институт имени И.Е. Репина в Санкт-Петербург), то легкоатлет не имеет текстового эквивалента (невозможно, по крайней мере, в данном значении – *легкий атлет). Во-вторых, если интерпретация «тот, кто является вольным слушателем» устанавливает абсолютное тождество («является») между левым («тот, кто») и правым («вольным слушателем») компонентами формулы, то «тот, кто занимается легкой атлетикой» отмечает только наличие признака («занимается легкой атлетикой») у субъекта («тот, кто»). Таким образом, в первом случае семантика исходного характеризует словосочетания универбализационные и композита отношения тождественна между и указанными единицами, а во втором – взаимосвязанна и интерпретируется как перифрастическая, то есть констатирующая деривационную связь между источником и результатом. Впрочем, и сама Н.Ф. Клименко, косвенно подтверждая мою трактовку соотношения перифразы и значения исходного 200 словосочетания, пишет: «Для пояснения слов вівцеферма, конеферма достаточно развернуть их в словосочетания вівчарська ферма, кінська ферма» [Клименко 1984, с. 85], то есть указывает на абсолютную семантическую тождественность словосочетания и возникшего на его базе универбализационного слова. В силу вышесказанного следует согласиться с мнением Е.Н. Сидоренко, что универбализация – «это не словообразовательный прием и не словообразовательное средство языка, а выражение тенденции к устранению разногласия между единством значения и расчлененностью формы лексической единицы, которое использует разные словообразовательные приемы» [Сидоренко 1992, с. 44]. Это ситуация, когда слово, замещающее словосочетание, выступает в качестве его дублета в пределах тождества номинатемы. Вполне справедливы в этом случае слова Е.С. Кубряковой: «Каждый акт словообразования (в моей терминологии – деривации. – В.Т.) – акт номинации, но не каждый акт номинации – акт словообразования (деривации. – В.Т.) в буквальном смысле этого слова» [Кубрякова 1965, с. 23-24]. Процесс замены словосочетания словом здесь должен трактоваться не как деривация, не как формирование новой номинации, а как усовершенствование старой, как акт замены расчлененного наименования, утратившего статус аналитического лексико-семантического варианта номинатемы-слова номинатемой-словосочетанием, и ставшего самостоятельной универбализованным наименованием, наименованием, равным слову и являющимся дублетом (дублетной модификацией) указанного словосочетания в пределах тождества номинатемы. Без сомнения, дублетами полных наименований являются лексемы, возникшие в результате семантической конденсации-универбализации. Модель 1: (А+В)/(Х)/ → А/Х/. К данной модели относятся все случаи эллипса, когда представителем словосочетания (А+В), имеющего значение /Х/, становится один из его компонентов (А) с тем же значением /Х/. 201 Это может быть зависимое слово, например дежурный офицер (А+В) – дежурный (А), или главное слово, например высокая температура (А+В) – температура (А). Я не буду здесь описывать эллипсис словосочетания в слово – это тема других исследований. Отмечу только, что отсутствие в этом случае семантических изменений, свободная взаимозамена словосочетания и слова в одинаковых окружениях и формальная связанность этих единиц дают основание считать эллиптические модели моделями универбализации. Модель 2. (А+В)+С/(Х)/ → АС/Х/. В этом случае к словосочетанию (А+В), имеющему значение (Х), прибавляется формант С при опущении компонента В. Данное прибавление имеет, скорее, структурную значимость. Его следствием является возникновение не новой номинативной единицы (значение правого компонента формулы абсолютно идентично значению левого компонента), а вербального (словесного) эквивалента словосочетания. Например, к зависимому компоненту – маршрутное (А) такси (В) при опущении компонента (В) при опущении компонента (В) добавляется формант -/к/(а) (С), в результате чего возникает слово маршрутка (АС) со значением, абсолютно тождественным значению исходного словосочетания (Х). В данном случае перед нами классическая универбация. Нет никакого сомнения в том, что к моделям деривации указанную модель я отнести не могу – здесь нет того внешнего мотивационного отношения, которое характеризует последнюю, когда значение производного слова включает значение производящего как часть своей внутренней формы. Добавление словообразовательного форманта лишь имитирует процесс деривации. К универбализации относится и большое количество единиц, которые возникли вследствие лексической конденсации. В этом случае универбализация имеет своим результатом сложное слово. В противоположность деривации, которая имеет своим итогом продуцирование новых номинативных единиц с семантикой, отличной от семантики исходных словосочетаний (ср.: рубить мясо – мясорубка, лазить в воде – водолаз и т.п.), в языке отмечаются процессы, в результате которых 202 между словосочетанием и образованным на его базе композитом не возникает никаких семантических расхождений, например: артобстрел (<артиллерийский обстрел), черноволосый (<с черным волосами), шумопоглощение (<поглощение шума), двурукий (с двумя руками), горсовет (<городской совет), вышеупомянутый (<упомянутый выше). Абсолютно очевидно, что на базе словосочетания здесь возникает новое слово. Однако открытым остается вопрос о том, каков его статус как в системе языка в целом, так и относительно производящей единицы. Очень часто утверждают, что «между исходным словосочетанием и его конденсатом существуют отношения производности» [Снитко 1982, с. 88], т.е. внешней мотивированности. Однако если исходить из того, что последняя трактуется мной как отношение между двумя номинатемами, значение одной из которых (производной) формируется значением другой (производящей), но не совпадает с ним, я должен констатировать, что в упомянутых выше примерах между производящей и производной единицами вовсе не существует отношений внешней словообразовательной мотивации. Во-первых, значение слова здесь не «определяется через значение» словосочетание, а абсолютно совпадает с ним (не вызывает сомнения тождественность значений, например, словосочетаний заменитель кожи, печение хлеба, с одной стороны, и слов кожзаменитель, хлебопечение – с другой). Во-вторых, при трансформации подобного типа не происходит и грамматических изменений. Поскольку «подобно тому, как слова распределяются по частям речи, словосочетания по их стержневым словам обычно подразделяются на глагольные, именные, наречные и т.д.» [Прокопович 1966, с. 52], в композитной лексеме только осуществляется абсолютизация этого свойства словосочетания, перенесение грамматического содержания стержневого слова на новообразованный композит целиком. Например, субстантивность словосочетания филологический факультет реализуется в субстантивности аббревиатуры филфак, а атрибутивность 203 словосочетания с белой бородой – в атрибутивности бахуврихи белобородый. Исходя из вышесказанного, словосочетанием и его можно утверждать, что между словесным эквивалентом здесь реализуются словообразовательные, но не внешние, деривационные, а внутренние, межглоссовые мотивационные отношения. Получившаяся лексема является наряду со словосочетанием дублетом номинатемы, включающей в свой состав оба эти компонента. Само же преобразование словосочетания в слово должно быть определено не как деривация и не как лексикализация, предполагающая семантическое исходной номинатемы саморазвитие речевой и распад ее актуального реализации тождества, а как универбализация, которая характеризуется не изменением, а сохранением семантики словосочетания в получившемся слове. Композиты же, возникшие в результате такого преобразования, я называю универбализационными. Необходимо установить, какие сложные слова могут получить указанную атрибуцию, то есть определить объем понятия «универбализационный композит». Данный статус, без сомнения, имеет бóльшая часть аббревиатур – тех, которые возникли не в результате различного рода аналогических процессов, а как следствие синтаксической компрессии словосочетания. Как отмечает А.П. Шаповалова, «одни лингвисты считали, что сокращение является вариантом полной исходной формы слова или сокращаемого словосочетания. Другие полагают, что аббревиатура – это не вариант слова, а новое слово» [Шаповалова 2004, с. 9]. Вторая концепция наиболее распространена. Проведенный же мной анализ трансформаций сочетаний слов в аббревиатуры позволил предположить, что она вряд ли может быть признана правильной. По моему мнению, аббревиация в большинстве случаев – это не образование новых номинативных единиц, а простая замена одной речевой субстанции другою, созданной на основе предыдущей без изменения её номинативного статуса. Кстати, даже сторонники теории деривационной 204 природы аббревиации вынужденно констатируют, что сокращение выступает не как номинация, а «как один из способов концентрирования информации в целях повышения эффективности общения» [Сахибгареева 2005]. Другими словами, это преобразование базируется на состоянии функциональной эквивалентности исходного и конечного наименований и обусловлено потребностями не формирования новой, а совершенствования старой номинации. Такая трактовка позволяет считать аббревиатуры только формальными дублетами номинатем-коллокаций. Предпринимались, правда, попытки определить аббревиацию как разновидность морфологического словообразования и отождествить сокращенные элементы словосочетаний с морфемами. Д.И. Алексеев, например, считал, что «сложносокращенные слова, представляющие, по общему признанию, новый тип слов, состоят из морфем также нового типа (выделено мной. – В.Т.), которые нельзя в полной мере назвать ни корневыми, ни аффиксальными» [Алексеев 1966, с. 19]. Для подтверждения своего мнения ученый отмечал, что «отсечения лит-, гос-, обл-, хоз-, фак- и т.п. обладают достаточным фонемным составом, чтобы служить носителями морфемных значений (морфемная значимость трех-, двухфонемных корней в русском языке – дело обычное, ср.: рот, роза, ум, уж и пр.). Что касается семантического родства морфем литерат- – лит-, государств- – гос-, факультет – фак- и т.п. при знании говорящими законов аббревиации, <его определение> требует не больше усилий, чем в случаях, когда состав морфемы сильно изменен вследствие чередования звуков. Ср.: мох – мшистый, тереть – трет, жать – жнет и пр.» [Алексеев 1966, с. 15]. См. также у В.Н. Троицкого: «Что касается таких слов, как физкультура, откомхоз и т.п., то с течением времени (если уже не сейчас) начальные части таких слов превращаются в префиксы; в слове откомхоз, пожалуй, даже в настоящее время от- и ком- уже ощущаются именно как префиксы; то же, может быть, начальное физ- в слове физкультура» [Троицкий 1940, с. 294295]. 205 С таким мнением трудно согласиться. Как справедливо указывает И.Г. Милославский, «производное слово может передать весьма ограниченный круг номинативных значений, словосочетание (и слово композитного типа. – В.Т.) – практически неограниченный комплекс значений» [Милославский 1977, с. 53]. Так, например, «генеральша и жена генерала – синонимы, однако в словообразовательной структуре производного слова нашли отражение только семы “генерал” и “лицо женского пола”. Сема, обозначающая характер семейных отношений, в синтаксической структуре представлена слитно с семой “женский пол”, а в словообразовательной структуре не представлена вовсе» [Милославский 1977, с. 54]. В аббревиатуре же отражены все семы исходного словосочетания, и вряд ли возможна какая-либо иная интерпретация комплексов раб-, -фак (рабфак), об-, -ком (обком) и т.п., нежели интерпретация их как сокращенных дублетов корней (основ) компонентов исходных сочетаний слов рабочий факультет, областной комитет. Именно отсутствие собственного значения и явно отсылочная функция (ком отсылает к слову комитет, об – к слову областной и т.д.) и не позволяет отождествить сокращенные части аббревиатурных наименований со служебными морфемами. Впрочем, и сам Д.И. Алексеев в той же работе приходит к такому же выводу: «Все они воспринимаются как усеченные по своей структуре: госхоз, обком, уисполком, педсовет, натуроплата, пионерлагерь и т.д. При этом говорящие, подчиняясь аналогии, понимают пионерлагерь только как пионерский лагерь, а не лагерь пионеров, натуроплату – как натуральную оплату, а не как оплату натурой, кожизделия – как кожевенные изделия, а не как изделия из кожи» [Алексеев 1966, с. 19]. В отличие от производного вследствие действия морфологической деривации слова, которое «вместе со словообразовательным элементом <...> приобретает дополнительное значение (выделено мной. – В.Т.)», аббревиатура «теряет неморфемный элемент, но продолжает соотноситься с 206 тем же денотатом (выделено мной. – В.Т.)» [Каховская 1980, с. 9], что и не позволяет рассматривать ее в границах не только морфологического способа словообразования, но и деривации вообще. Некоторые исследователи относят аббревиацию к лексикализационным процессам. Однако создание аббревиатуры на основе сочетания слов характеризуется не изменением, а сохранением семантики последнего, что абсолютно не характерно для лексикализации. Правда, в отдельных работах говорится о том, что «аббревиатура создается сокращением материальных единиц производящего комплекса и уплотнением, конденсацией, но не сокращением его значения (выделено мной. – В.Т.)» [Каховская 1980, с. 4], то есть указывают на наличие каких-то семантических изменений при переходе от словосочетания к слову. Но даже тот же автор одновременно считает, что, «будучи новыми единицами в плане выражения, сокращенные слова в плане содержания сохраняют со словосочетанием (словом) генетическую связь, которая основана на общности референтного значения (выделено мной. – В.Т.) словообразовательной пары» [Каховская 1980, с. 5]. Замена коллокации словом не сопровождается конденсацией его значения, а наоборот – «конденсированность», монолитность семантики генерирующих коллокаций, которые, «хотя и состоят из нескольких слов, в плане номинации глобальны, так как значения целого не вытекает из значения компонентов» [Солнцев 1987, с. 134], являются основными факторами, мотивирующими их замену словом. Как пишет Л.К. Крайняк, «семантический синтез является одним из необходимых условий образования сложной лексемы. <…> Это – тот фактор, который дает толчок к преобразованию синтаксических единиц, вследствие чего теряются их синтаксические признаки, и сложное слово получает статус единицы лексической системы языка» [Крайняк 2001, с. 6]. При этом исходное словосочетание и аббревиатура очень часто в текстах существуют параллельно, интерпретируясь одно через другое, например: «Что такое КНУ? – Киевский национальный университет!», «Что такое зарплата? – Заработная плата». Это и подтверждает их полную 207 семантическую тождественность. Такого же мнения придерживается и Л.И. Рудницкая, которая отмечает: «Любая аббревиатура связана с тем словосочетанием, на базе которого она образовалась; она является вторичной по отношению к этому словосочетанию. Аббревиатура не обозначает какихлибо новых предметов, понятий, отличных от тех, которые обозначены полными словосочетаниями» [Рудницька 2007, с. 54-55]. Одной из разновидностей лексикализационных теорий является мнение о том, что «словообразовательная пара словосочетание – аббревиатура расширяет сферу синонимии» [Каховская 1980, с. 9]. Надо сказать, что, действительно, отношения дублетности и синонимии имеют схожую природу (тождество семантики), но различаются статусом единиц, которые противопоставляются в системе: дублеты являются речевыми реализациями одной номинатемы, синонимы – разных. На первый взгляд, именно последний тип отношений мы имеем, когда обращаемся к анализу пары «словосочетание – эквивалентная аббревиатура», так как словосочетание и слово, как было показано выше, априори считаются разными языковыми сущностями. Но предлагаемая мной концепция построена на убежденности в том, что словосочетание и слово потенциально могут быть реализациями одной номинатемы. Для меня различие типа номинативной субстанции недостаточно для того, чтобы считать, что словосочетание и слово уже по своей природе должны быть разными номинатемами. В силу того, что аббревиация происходит только как реализация желания заменить избыточную многочленную форму более адекватной ситуации означивания цельного референта словесной, в то время как синонимия является либо фактом случайного совпадения в значении разных номинативных единиц (бегемот – гиппопотам), либо все же существует как способ уточнения оттенков значения идентичного концепта (умный – разумный), я и склонен считать аббревиатуру только однословной коллокации. 208 модификацией, дублетом Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что образование сложносокращенных наименований не может быть интерпретировано ни как деривация, ни как лексикализация – между исходным словосочетанием и его вербальным эквивалентом нет не только никаких семантических, но и грамматических (аббревиатура сохраняет грамматическую отнесенность базового сочетания слов: например, военврач сохраняет субстантивную значимость сочетания слов военный врач) и синтаксических (ср.: он теперь военный врач и он теперь военврач, где аббревиатура и сочетание слов выступают в качестве части именного сказуемого) расхождений. Перед нами очевидно процесс универбализации, и аббревиатуры – «это только особый класс способов номинации, а не класс новых слов» [Рудницька 2007, с. 5455]. Одинаковый с аббревиатурами статус имеют и многие из тех единиц, которые обычно относят к разряду осново- и словосложений. Как отмечала Е.А. Дюжикова, идея «близости аббревиации и словосложения хотя и витала в воздухе, тем не менее, эти два способа никогда реально не сопоставлялись» [Дюжикова 1997, с. 4]. По мнению ученой, «аббревиатура как бы составляет <…> часть словосложения» [Дюжикова 1997, с. 3-4]. По моему же мнению, она является особой формальной разновидностью универбализации и отражает те же модели, которые используются при образовании универбализационных композитов, в которых не отмечается сокращения плана выражения компонентов исходного словосочетания. Например, абсолютно совпадают по модели образования такие единицы, как, с одной стороны, бортпроводник, образованная аббревиатурным способом (часть основы слова бортовой + слово проводник) от бортовой проводник (Бортпроводник должен знать: конструктивные особенности и расположение служебных, бытовых и общественных помещений на ВС разных классов; инструкции по предполетной и послеполетной работе бортового проводника» (Единый 1986), а с другой – вольнослушатель, образованная композитным, в видовом значении этого термина, способом 209 (основа слова вольный + интерфикс + слово слушатель) от вольный слушатель (Времени даром не терял и посещал как вольный слушатель Высшие сценарные курсы сценаристов и режиссеров (Газета по-киевски. – 24.07.07)); аббревиатура автовладелец (часть основы слова автомобиля + слово владелец) от владелец автомобиля (ср.: Предположим, владелец автомобиля, гуляя по магазинам, получил сообщение о нарушении охраняемого периметра и Это довольно серьезное событие в мире автоэлектроники, так как появление GSM-сигнализаторов однозначно изменит привычный взгляд на возможности автосигнализаций по дистанционному оповещению автовладельца (12 Вольт. – 2003. – № 3)) и словосложение землевладелец, (основа слова земля + интерфикс + слово владелец) от владелец земли (ср.: Это значит, что участок попадает в кадастр, только когда владелец земли обращается в органы Роснедвижимости с соответствующим заявлением (Просторы России. – 08.08.07) и По словам Винтоника, "это в настоящее время право каждого землевладельца или арендатора паев, которое им диктует экономическая целесообразность" (Деловая неделя. – 11.08.07)) и т.д. Различия здесь касаются только того, как представлены компоненты исходного словосочетания в получившемся сложном слове. При аббревиации они не совпадают по протяженности с основами исходных единиц, при композиции – совпадают. Следовательно, аббревиация и приведенные выше примеры композитопостроения (в традиционном смысле этого термина) различаются только качеством конструктов, но не механизмом процесса образования. Однако в этом разновидностях случае можно одинаковой говорить сущности, только то есть о о структурных структурных разновидностях композитной универбализации. Мной отмечаются ее следующие модели. Модель 3. (А+В)/(Х)/ → АВ/Х/. Это ситуация, когда происходит стяжение компонентов исходного словосочетания в слово без изменения их количества. Я выделяю две разновидности модели 3. 210 Во-первых, это прямая универбализация, когда исходное словосочетание структурно абсолютно релевантно образованному на его базе слову: в композите сохраняется порядок расположения компонентов словосочетания; при его оформлении не используются дополнительные структурные единицы. Модели прямой универбализации имеют юкстапозитную природу. Однако, как я уже отмечал выше, чистые юкстапозиты не являются словами – это словосочетание. Для того, чтобы они стали интерпретироваться как композиты, в их структуре должны произойти изменения, которые формируют их словный статус. В нашем случае таким изменением может быть только сокращение планов выражения всех или некоторых компонентов словосочетания. Прямая универбализация, итак, может существовать только как универбализация абревиационного типа, например, военкор (=военный корреспондент): Автор – великий кинорежиссер Александр Довженко, выступивший на этот раз военкором "Известий" – Зато она напечатала репортаж своего военного корреспондента Анатолия Софронова (Известия. – 13.11.07); метеослужба (=метеорологическая служба): Зато в этот период была организована правильная метеорологическая служба и налажено предсказание погоды для подлодок, которые в свою очередь давали ценные сведения метеослужбе о своих наблюдениях за погодой (Шталь 1936). Во-вторых, это универбализация метатезного типа, когда порядок расположения компонентов производящего словосочетания не изоморфен порядку расположения эквивалентных конструктов композита. Здесь отмечается чистая композиция, например, киноартист (=артист кино) (Вспоминает наш земляк, известный киноартист Сергей Астахов – Вспоминает другой известный воронежец, популярный артист кино Сергей Селин (Комсомольская правда. – 20.07.10)), и композиция, осложненная аббревиацией, например, здравотдел (=отдел здравоохранения) (Кого-то из них на всякий случай держало при себе военное командование, кого-то не отпускали областные здравотделы 211 и республиканские медицинские руководители – Отдел эвакогоспиталей областного отдела здравоохранения до сих пор не имеет главного хирурга (Коммерсантъ. – 21.06.10)), кожимит (=имитатор кожи) (Я был прав! Это даже не кожимит. Это так теперь делают (Эппель 2001) – Многие популярные эротические игрушки, включая сделанные из желеобразной резины и имитаторов кожи, производят из полихлорвинилов (http://www.rosbalt.ru/2006/02/15/243817.html)). Модель 4. (А+В)+С/(Х)/ → АВС/Х/. В этой модели к компонентам производящего словосочетания (А+В) прибавляются аффиксальные морфемы (С), которые имеют не семантическое, а структурное значение. Существуют два типа реализации этой модели. Первой разновидностью этой модели является универбализация компонентного типа, когда структура универбализационного композита количественно не релевантна структуре исходного словосочетания. В этом случае осуществляется добавление структурных компонентов при образовании композитов. Таким структурным компонентом, который прибавляется, по обыкновению, есть интерфикс, например, газоапаратура (=газовая аппаратура): Продажа, установка и ремонт газоаппаратуры, ремонт двигателей, инжекторов, генераторов. – Газовая аппаратура на легковые и грузовые автомобили (LO-GAZ, BRC, LOVATO и др.) (www.autoinfo.md/blurbs/list/21/2). Иногда образование слова на базе словосочетания сопровождается имитацией деривационного процесса, т.е. выступает в виде универбализации универбного типа. Отличие от композитной деривации здесь заключается в том, что словообразовательный формант (обычно – суффикс) не привносит в семантику нового слова нового значения. В украинском языке такая универбализация универбного типа в большинстве случаев отмечается при образовании бахуврихи т.е. «посесcивных сложных слов <…>, которые выражают владение предметом или свойством, обозначенными компонентами сложного слова» [Виноградов 1998, с. 469]. Например, 212 композит великодушный является абсолютно тождественным по значению фраземе великой души (см.: Настоящий учитель, великодушный человек, настоящая мать – это все из словаря мужества и мощи человеческого духа, несломленного и непокоренного (Новая газета. – 03.09.07). – Это был замечательнейший человек великой души и великолепный актер (Комсомольская правда. – 14.09.07)), хотя и имеет в своей структуре формант [ный]. Следует обратить внимание на одну особенность этого класса универбализационных композитов: единицы данного типа в очень большом количестве случаев возникают не как словесные интерпретации коллокаций, что характерно для абсолютного большинства универбатов, а как однословные реализации аналитических лексико-семантических вариантов номинатем с доминантой словом, которые выполняют в речи атрибутивную функцию. Неслучайно десятилетний, [Смирницкий поэтому великодушный 1956, бахуврихи считают с. 200]. Как типа низкорослый, неидиматизированными пишет М.Д. Степанова, неидиоматизированные композиты «обычно создаются в потоке речи так же, как любое свободное синтаксическое соединение, хотя и по другому образцу, при использовании других законов и средств» [Степанова 1959, с. 308]. Они нередко могут использоваться одновременно как эквивалент разных форм исходного словосочетания. Например, бахуврихи пятилетний в одних случаях является эквивалентом формы пяти лет, например, Один из детей, мальчик пяти лет, скончался в реанимации центральной районной больницы поселка Арти (Век. – 22.08.07). – Я несколько раз переспросила в кассах – можно ли смотреть фильм пятилетнему мальчику? (Век. – 26.07.07), а в других – формы в пять лет, например, Соглашение заключено на срок в пять лет (http://www.securitylab.ru/news/297112.php) – Недавно его переизбрали на новый пятилетний срок (Новая политика. – 22.08.07). Иногда при универбализации компонентного типа словесное оформление словосочетания осуществляется как замена парадигмы в пределах одного грамматического класса, например, при преобразовании 213 субстантивных словосочетаний место пребывания и место произрастания в существительные местообитание и местопроизрастание, когда стяжение словосочетания в слово осуществляется передачей находящемуся в постпозиции зависимому компоненту функции парадигмообразования, которую до этого выполнял главный компонент, с оформлением этой парадигмы по образцу русского второго склонения. Ср., например, Ответственность местообитаний за для уничтожение растений, так занесенных называемых в Красную критических книгу РФ, предусмотрена статьей 259 УК РФ. – На железной дороге начались плановые работы по вырубке кустарника и леса – в том числе и на месте обитания цветов (Российская газета. – 20.06.07); Целями и задачами программы является воспроизводство лесов Брянской области на лесосеках главного пользования и на неиспользуемых сельскохозяйственных землях, переданных в гослесфонд, ценными породами, соответствующими условиям местопроизрастания [http://www.regions.ru/news/1284794/]. – Причиной усыхания является только несоответствие условий места произрастания смереки? [Зеркало недели. – 15-21.09.07]. Второй разновидностью указанной модели является универбализация компонентно-метатезного типа, когда добавление структурного форманта сопровождается перестановкой конструктов, например, работорговля – торговля рабами (Наиболее массовым проявлением работорговли в истории был вывоз рабов из Африки. – В течение XVI—XVII веков торговля рабами составляла королевскую привилегию [http://ru.wikipedia.org]), нефтепродукты – продукты нефтеперегонки (Аналитики ожидают выхода в среду данных о снижении материальных запасов сырой нефти и нефтепродуктов. – Досталось, хотя и меньше, и северо-востоку США – самому большому рынку потребления продуктов нефтеперегонки страны [Новое русское слово. – 26.02.07]). Модель 5. (А+В+D) /(Х)/ → АВ/Х/ (-D). В этой модели констатируется ситуация эллипсу части образующей конструкции при универбализации. Так 214 же, как и в модели 4 последняя может здесь иметь вид универбализации компонентного типа. Но в этом случае это ситуации не добавления, а потери, эллипса. а) знаменательных единиц, например, завком (=заводской комитет профсоюзной организации): И для разнообразия – история о том, как в столице был разогнан завком колбасной фабрики (Советская Белоруссия. – 08.09.05) – Коллектив был создан по инициативе председателя заводского комитета профсоюзной организации А. Масленникова (Наше слово. – 11.07.07), студотряд строительство (=студенческий олимпийских объектов строительный в Сочи отряд): будут На отправлены студотряды [Аргументы и факты. – 29.10.07]. – Первыми, как оказалось, это сделали возрожденные студенческие строительные отряды [Московский комсомолец. – 30.10.07]; б) служебных единиц, например ООО (=общество с ограниченной ответственностью): Потом Николаевский судостроительный завод «Наваль» создает ООО «Буг Билдинг» (Зеркало недели. – 27.09.-4.10.07). – 27 сентября, предприниматели общества с ограниченной ответственностью "Промтоварный рынок "7-й километр" обратились к президенту Виктору Ющенко с просьбой защитить рынок от рейдерской атаки со стороны Одесского городского совета и исполнительной власти (Коммерсантъ. – 28.09.07), НДС (налог на добавленную стоимость): Предметом тяжб является налог на добавленную стоимость (НДС), который государство должно возместить обоим предприятиям (Коммерсантъ. – 26.09.07). Так же метатезного культтовары осуществляется типа, когда (=товары и потеря универбализация или компонентно- знаменательного, культурно-бытового назначения): например, Наиболее необходим подобный показ при торговле технически сложными изделиями (радио- и электротовары, фото- и культтовары). – Показ в витрине товаров культурно-бытового и спортивного назначения (Панкратов 1999), или служебного слова, например, радиопередача (=передача по радио): 215 Устанавливался полный партийный контроль за радио: за его кадрами, подбором авторов; вводились «обязательный и предварительный просмотр планов и программ всех радиопередач», «охрана микрофонов с тем, чтобы всякая передача по радио происходила только с ведома и согласия ответственного руководителя» (Жирков 2001), сопровождается перестановкой компонентов образующей конструкции. Последняя ситуация очень редка для русского языка. Модель 6. (А+В+D)+С/(Х)/ → АВС/Х/ (-D). Универбализация по этой модели предусматривает одновременную потерю компонента производящей конструкции и добавление структурного аффикса, в русском языке – суффикса или интерфикса. Так же, как и в предыдущей модели, отмечаются ситуации чистой универбализации компонентного типа. Обычно это бахуврихи с опущенным служебным компонентом производящей конструкции, например, белоснежный (=белый, как снег) с потерей глоссы как и добавлением интерфикса -о- и форманта [ный]: белый, как снег, белоснежный, снежная белизна... Недаром, когда хотят подчеркнуть безупречную чистоту белого цвета, его сравнивают со снегом (Волхов. – 25.12.02), одночастный (=из одной части) с потерей глоссы из и добавлением интерфикса -о- и форманту [ный]: Длина – 2040 мм (одночастная ножная секция) или 2070 мм (разделенная ножная секция). – Стол операционный 1650 гидравлический 4-х секционный, в комплекте с матрацем, ножная секция из одной части (Каталог фирмы Merivaara). В некоторых случаях универбализация сопровождается только изменением грамматической оформленности без добавления суффиксальных формантов, например, вислозадый (=с отвислым задом): На всякий случай, – словно невзначай обронила вислозадая сестра, - у нас приказано зарезервировать пятьдесят коек. – К концу недели мы обычно стараемся выписать больше больных и успокоить тех, кто не подлежит выписке, – косолапая медсестра с отвислым задом многозначительно (http://www.margenta.ru/prose/kontur.htm), 216 посмотрела белобокий на сторожа (=с белыми сторонами): Другим фактором благополучия белобоких птиц в Новосибирске служит множество открытых контейнеров (Вечерний Новосибирск. – 05.06.07). – Черный, гладкий, с белыми боками, Шел он, раздвигая лбом кусты (Асадов 2002). Так же, как и в предыдущей модели, мной отмечаются и ситуации универбализации компонентно-метатезного типа, когда перестановка конструктов сопровождается добавлением структурного форманту и потерей: а) знаменательного элемента, например, водопонижение (=понижение уровня воды) с потерей глоссы уровня и добавлением интерфикса -о-: Для этого необходимо разработать комплекс мер по понижению уровня воды в озере Смолино, в частности, предусмотреть специальный канал и систему водопонижения (http://www.mega-u.ru), братоубийца (=убийца своего (собственного) брата) с потерей глоссы (глосс) своего (собственного) и добавлением интерфикса -о-: Он исполнитель этой оперы с солидным стажем, начинал еще в партии Пеллеаса, написанной для низкого тенора, но последние годы исполняет самую отчаянную роль – его старшего брата Голо, отвергнутого супруга красавицы Мелизанды, который из-за ревности становится братоубийцей (Известия. – 22.06.07). – Убийца собственного брата проведет в местах лишения свободы 7 лет (http://www.radio.kaluga.net/index.htm?cont=long&id=1702&year=2005&today= 23&month=11). б) служебного слова, например, сахарно-белый (=белый, как сахар) с потерей глоссы как и добавлением интерфикса -о-: Тунис: песок белый, как сахар (Комсомольская правда. – 10.08.07]. – Длинные километры сахарнобелого песка, тёплое мелкое море, батуты и карусели на каждом шагу – достоинства можно перечислять бесконечно (Аргументы и факты. – 03.08.07]. Во всех словосочетанием указанных и словом выше моделях отсутствуют те между производящим отношения, которые характеризуют процесс лексикализации, – между ними нет семантических 217 расхождений. Отличие описанных явлений от процесса лексикализации, при видимой близости к ней, заключается в том, что при лексикализации реализуется переход «номинативная единица 1» → «номинативная единица 2», т.е. «номинатема 1» → «номинатема 2», а в рассмотренных мной моделях – «субстантная единица – глосса 1 (словосочетание)» → «субстантная единица – глосса 2 (слово)» при сохранении тождества номинатемы. Перед нами очевидный процесс универбализации, т.е. механической замены словосочетания эквивалентным словом без разрушения актуального тождества номинатемы вследствие семантического саморазвития единицыисточника, который и характеризует лексикализацию. 218 Глава 5. ФОРМЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НОМИНАТЕМЫ 5.1. О соотношении плана содержания и плана выражения глоссы Определение в качестве стержня тождества номинатемы её инвариантного значения и формальной связанности ее модификаций позволяет установить возможные формы её речевого модифицирования. Такие формы описываются по двум параметрам: 1) тип различий между глоссами; 2) тип модифицирования. Четыре формы модифицирования мной уже были описаны. Это формы речевого модифицирования семантическая идентичность; лексико-семантическая плана содержания глоссы: грамматико-семантическая вариативность; лексико- идентичность; грамматико-семантическая вариативность. Остальные формы модифицирования соотносятся с планом выражения глосс номинатемы. Поэтому важно определить, как связан план выражения с планом содержания, какое модифицирование плана выражения глосс детерминировано тождеством номинатемы. Обычно структура глоссы представляется в виде так называемого «треугольника Фреге», в котором выделяются фонетический ряд, сигнификат и денотат. На основе этого представления формируется ставшее уже классическим утверждение Ф. де Соссюра о том, что «означающее произвольно по отношению к означаемому, с которым у него в действительности нет никакой связи» [Соссюр 1977, с. 54]. Однако данный тезис, как это ни странно, противоречит святая святых теории Ф. де Соссюра – концепции системности языка и речи. Для многих лингвистов стало камнем преткновения отсутствие взаимной обусловленности между планом выражения и планом содержания глоссы, поскольку они как элементы системы также должны реализовывать все свойства последней. Это и стало причиной коррекции соссюровской теории условности языкового знака. 219 Как писал Ч.У. Моррис, «отношения между звучаниями не являются произвольными, а соответствуют отношениям понятий и тем самым вещей» [Моррис 2001, с. 63]. По мнению ученого, если с точки зрения внутреннего устройства знака он и произволен, то его появление в синтагме мотивировано семантической валентностью другого знака. Иными словами, связь между означаемым и означающим мотивирована, в первую очередь, окружением глоссы в речи. Например, значение «предмет мебели» глоссы стол мотивирует появление рядом с ней глосс, являющихся семными конкретизаторами её незаполненных семантических множителей, таких, например, как «форма» (круглый стол), «материал» (деревянный стол) и т.п. В.З. Панфилов называет это индуцированием отношений между означающими отношениями между означаемыми [Панфилов 1982, с. 58], которое «не затрагивает сферы «вертикальных» отношений между означаемым и означающим, характеризующихся условностью и отсутствием мотивации» [Гамкрелидзе 1972, с. 39]. Исследование обусловленность показало, и, так что сказать, не только синтагматическая прогнозируемость мотивирует непроизвольность языкового знака, но и то, что, как справедливо замечает Л.Г. Зубкова, «содержательной структурации слова (глоссы. – В.Т.) соответствует материальная его структурация, ограничивающая произвольность звуковой стороны слова и его связи со значением» [Зубкова 1986, с. 58]. Нет никакого сомнения в том, что связь между глоссой и реальностью (во всех аспектах существования реальности) имеет пространственно-временную мотивировку. Например, связь между глоссой писатель во фразе Писатель пишет и реальностью обусловлена существованием этой глоссы в современном (время) русском (пространство) языке. Для данного пространственно-временного пояса характерна такая атрибуция реальности в глоссе: пол (муж. род), субъектность (им. пад.), единственность (ед. ч.), лицо по действию («тот, кто пишет») и т.д. Такая связь между глоссой и реальностью закономерно отражается и в связи между 220 означающим и означаемым. Как пишет А.А. Уфимцева, «наличие в языке определенной системы грамматических классов и категорий слов, парадигматических группировок и синтаксических рядов, семиологических и семантико-синтаксических разрядов словесных знаков есть не что иное, как способ ограничения произвольности знаков и правила, упорядочивающие их реальное функционирование» [Уфимцева 1986, с. 22]. Таким образом, следует, на мой взгляд, согласиться с В.М. Алпатовым, утверждавшим, что «знак произволен с точки зрения именования внеязыковой действительности, но отношение между двумя сторонами знака и между знаками в системе никак не произвольно» [Алпатов 1998, с. 283]. Все атрибуты реальности, отраженные в знаке, находят свою реализацию в отношениях: а) план выражения – план содержания глоссы А’; б) глосса А’ – глосса А’’ /номинатемы А/; в) глосса А’ /слова А/ – глосса В’ /номинатемы В/ (в синтагме и парадигме); г) глосса – реальность. 5.2. Фонетическая структура глоссы и фонетическое модифицирование Речевая единица воспринимается, в первую очередь, как фонетический ряд. Это, собственно, «звучащая» материя, звукокомплекс, выполняющий перцептивную – фонетический ряд делает глоссу воспринимаемой – и сигнификативную – фонетический ряд отличает данную глоссу от других глосс лексемы (отношение «б») и от глосс других лексем (отношение «в») – функции. Отношение «а» в этом случае представляется наименее мотивированным, поскольку план выражения глоссы подвержен достаточно активному модифицированию (сравните ноль – нуль), не связанному с ее семантическим варьированием. Есть три параметра, обеспечивающих некоторую стабильность фонетического ряда: 1) модифицирование ограничено мнением языкового коллектива, пренебрежение которым ведет к непониманию между коммуникантами (нельзя сказать *наль вместо ноль); 221 2) модифицирование ограничено необходимостью сохранения функций маркеров, указывающих на те или иные аспекты плана содержания (см. ниже); нельзя, например, употребить форму волóс был тонок, потому что глосса волóс имеет маркер (ударение), указывающий на значение «род. пад. мн. ч.», а не «им. пад. ед. ч.»; 3) модифицирование ограничено сигнификативной функцией плана выражения, в основе которой присутствует «запрет» на «однозвучность»; следует сказать, что это ограничение не является самым строгим, поскольку в языке очень распространено явление формальной омонимии (ср.: пути – род., дат. и т.п.; пила /сущ. – глаг./ и т.п.). Фонетический ряд, включающий в себя разнообразные лексические и грамматические маркеры, в аспекте отношений «б» выполняет как интегральную (день им. – вин. пад.), так и дифференциальную (шкаф – шкап) функцию. Нужно сказать, что фонетический ряд глоссы может быть дискретным – как было показано выше, глосса может состоять не только из одного слова, но и из нескольких, например, на столе, смог бы, зеленый фургон, чемпион мира, размышлять о будущем. Обратим внимание на то, что отношения между глоссами на фонетическом уровне детерминируются чистой формой и никак не связаны с семантическим модифицированием номинатемы. Эти отношения чистого фонетического модифицирования могут быть трех типов. Во-первых, они могут иметь статус отношений фонетической идентичности, предполагающей отсутствие фонетических различий между глоссами, например, в случае употребления глосс номинатемы класс: класс [клас] не был переполнен – он вошел в класс [клас]. Во-вторых, они могут быть определены как вариантные отношения, когда разные фонетические модификации находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и не могут встречаться в одинаковых окружениях. Здесь явной есть зависимость звучания глоссы от звучания находящихся рядом в синтагме глосс других номинатем. Например, 222 фонетические варианты [мок] и [мог] номинатемы мочь зависят от качества первого звука единицы, следующей за ними в синтагме: он [мок] прийти вчера, где звучание [к] определено глухостью первого согласного звука слова прийти, и он [мог] бороться со злом, где звучание [г] определено звонкостью первого согласного слова бороться. Такие единицы я определяю как фонетические варианты номинатемы. Повторю, различия в звучании здесь не могут быть связаны с различием в значении. В-третьих, фонетическое модифицирование может иметь статус фонетической дублетности, когда различия в звучании глосс не связаны ни с различием семантики глосс, ни с различием их фонетической дистрибуции. Таковы, например, акцентные различия позвóнишь – позвонúшь, фонетические различия [г]ород – [γ]ород, фонологические различия ноль – нуль и т.д. Предпринималось множество попыток классификации таких единиц, традиционно называемых фонетическими (формальными) вариантами слова (номинатемы). О.С. Ахманова, А.И. Смирницкий и Р.П. Рогожникова предполагали, что эти единицы противопоставляются морфологическим вариантам и поэтому могут быть рассмотрены как гомогенная сущность [Ахманова 1957; Рогожникова 1966; Смирницкий 1956], Ф.П. Филин подразделяет формальные варианты (дублеты) на собственно фонетические и акцентологические [Филин 1963, с. 131], К.С. Горбачевич к последним добавляет еще и фонематические дублеты, с чем, в принципе, можно согласиться. По моему мнению, среди формальных дублетов следует выделить: 1) Фонетические дублеты, модифицирование которых не затрагивает фонемного состава глосс; среди фонетических дублетов выделяются: а. Собственно фонетические, различающиеся составом сегментных компонентов, например ко[г]да – ко[γ]да, умыла[с'] – умыла[с] и т.п. б. Акцентные, различающиеся местом ударения (суперсегментное различие), например úначе – инáче, нáбело – набелó и т.п. 223 2) Фонематические дублеты, модифицирование которых связано с семантически нерелевантным различием фонемного состава глосс, например тоннель – туннель, бобер – бобр и т.п. В связи с проблемой формальной дублетности особое значение приобретает проблема определения статуса в система языка так называемых простых аббревиатур, то есть слов, возникших в результате сокращения простых или сложных лексем, например заведующий > зав, специалист > спец; член-корреспондент > членкор, физкультура (<физическая культура) > физра (<физ-ра) и т.п., поскольку именно простая аббревиатура является минимально допустимой фонетической разновидностью слова. Рассматриваемое явление не получило в лингвистике однозначной трактовки. Единственное, что объединяет большинство исследователей, – это стремление определить простую аббревиацию как деривационный процесс. Расхождение отмечается только в вопросе о ее отнесении к тому или иному способу словообразования. Сейчас существует две точки зрения. В.О. Горпинич, выражая мнение одной части лингвистов, считает, что «в производных этого типа формант имеет все признаки нулевой суффиксации: 1) морфологическое явление усечения производящей основы; 2) нулевой суффикс с значением лица (зам, зав) и конкретных предметов (лаб, маг, рок); 3) нулевое окончание с грамматическим значением существительного мужского рода (2 скл.). Поэтому логичнее квалифицировать их как нулевую суффиксацию» [Горпинич, с. 118]. То же отмечается в [Рудницька 2007] и др. Если говорить о втором и третьем пунктах аргументации ученого, то я уже имел возможность высказаться по поводу сомнительности существования такого феномена, как «нулевой аффикс» [Теркулов 2004]. В лексемах типа ход, бег, раба и т.п. попросту нет словообразовательных аффиксов, и это является формальным признаком данной разновидности словообразования. Кстати, с тем, что там действительно нет аффикса, имплицитно соглашаются и те, кто основывает свои теоретические построения на признании существования нулевой суффиксации. Например, В.В. Лопатин утверждает, 224 что «в безаффиксных типах носителем словообразовательного значения является нулевой аффикс, то есть значимое отсутствие аффикса в основе (выделено мной. – В.Т.)» [Лопатин 1966, с. 79]. Позволю себе повторить тот вопрос, который уже звучал в одной из моих предыдущих статей: так все-таки, есть здесь аффикс, или же его здесь нет? (см. также: [Карпенко 2002, с. 333]). Однако мое отрицание существования таких явлений, как нулевые аффиксы, не отменяет необходимости высказать свое мнение об упомянутой выше концепции деривационной природы простой аббревиации как разновидности безаффиксного способа, к которому традиционно относят образование слов типа ход (<ходить), бег (<бегать), синь (<синий) и т.п. Нужно отметить, что усечение производящей основы для безаффиксного способа не является характеризующим признаком. По мнению Г. Марчанда, сущность его состоит «в образовании совершенно отличного слова без присоединения деривационного элемента» [Marchand 1960, с. 293-294]. Другими словами, не усечение основы, а образование слов «от общей основы без каких бы то ни было положительных (не нулевых) словообразовательных аффиксов и других специальных словопроизводительных средств (чередования, акцентные различия), но только соединением слов с той или другой определенной парадигмой (выделено мной. – В.Т.)» [Смирницкий 1955, с. 40], составляет сущность данной разновидности деривации. А.И. Смирницкий определяет ее как конверсию, эквивалентную процессу перехода слов из одной части речи в другую без использования словообразовательных аффиксов в английском языке. С этим можно согласиться: разница между англ. to run – the run и рус. бежать – бег состоит лишь в том, что аналитизму различия глагола и существительного (артикль, позиция в синтагме) в английского языке соответствует русский синтетизм этого противопоставления (парадигма словоизменения). Другими словами, различие между английской и русской конверсией обусловлено только различием грамматического строя. 225 английского и русского Парадигма словоизменения, как известно, указывает на принадлежность глосс слова к определенному грамматическому классу. Например, парадигма падежа и числа при стабильности значения рода указывает на его субстантивность, лица – на вербальность и т.д. Изменение парадигмы отражает изменение грамматического значения. Иначе говоря, обязательным условием при конверсии является различие между грамматическим значением производящего и производного слов, например: глагол – существительное (поджигать > поджог, обжигать > обжиг), прилагательное – существительное (синий > синь, толстый > толща), мужской род – женский род (рус. раб – раба, супруг – супруга) [Лопатин 1966, с. 81] и.т.д. При простой же аббревиации изменения каких-либо грамматических характеристик номинатемы не отмечаются. Например, нет никаких грамматико-семантических различий между спецом и специалистом, замом и заместителем, членом-корреспондентом и членкорром и т.д. В тех же случаях, когда формальное расхождение парадигм все же существует, оно не подкреплено никакими различиями в грамматической семантике членов аббревиационной пары и является лишь реакцией на изменение фонетического качества финали. Например, заведующий и зав различаются только тем, что первое относится к адъективному склонению, а второе – ко второму без каких-либо различий в грамматической семантике этих единиц, что обусловлено лишь тем, что сокращенная форма слова в результате аббревиации стала заканчиваться на твердый согласный. Вряд ли это может свидетельствовать в пользу того, что перед нами безаффиксное словопроизводство и словопроизводство вообще. Конверсия как словообразовательный процесс закономерно отражает отношения словообразовательной (внешней) мотивации. Я уже говорил об особенностях внешней мотивации в предыдущей главе. Напомню, что она предусматривает такую связь между двумя однокорневыми словами, когда значение одного из них «или а) определяется через значение другого <...>, или б) тождественно значению другого во всех своих компонентах, кроме 226 грамматического значения части речи» [Грамматика-80, с. 133]. Ни одно из этих условий не выдерживается при создании аббревиатур рассматриваемого типа. Например, слово псих может употребляться в одинаковых контекстах со словом психопат, причем с абсолютно идентичными лексическим и грамматическими значениями и в идентичной синтаксической функции: он вел себя как настоящий психопат («больной психопатией»; Им. пад., ед.ч., обст.). – он вел себя как настоящий псих («больной психопатией»; Им. пад., ед.ч., обст.). Именно отсутствие признаков словообразовательной мотивации (изменение лексического и/или грамматического значения при переходе от «производящего» к «производному») и не позволяет в данном случае рассматривать такие аббревиатуры в пределах морфологического (аффиксального) способа словообразования. Укажем, что неубедительно в этом отношении звучат слова Т.Р. Кияка: «В особый вариант семантикоморфологической мотивации мы выделяем аббревиатурные образования и <…> считаем, мотивируются что их сокращенные полной формой. варианты Условно слов или назовем выражений это явление опосредованной мотивацией» [Кияк 1989, с. 102]. О семантической мотивации здесь и речи быть не может – перед нами очевидная семантическая идентичность, а формальная мотивация в чистом виде, если о такой можно говорить, характеризует только процесс образования формальных дублетов номинатемы. Другая группа исследователей относит простые аббревиатуры к так называемому «фонетическому» словообразованию, при котором «новые слова могут создаваться путем изменения звукового состава словарных единиц, которые существуют в языке» [Немченко 1984, с. 117]. См., например, у М.М. Сегаля: «Аббревиация представляет собой один из видов словообразования, относящийся к фономорфологическому типу, поскольку изменение морфологического состава слова (прототипа) обусловливается изменением его фонетического комплекса, например omnibus > bus, doctor > doc и т.п.» [Сегаль 1962, с. 280]. Однако с этим утверждением также трудно 227 согласиться, поскольку фонетическое модифицирование, а именно как фонетическое модифицирование необходимо интерпретировать ситуации аббревиации исходного слова, не может быть самодостаточным источником распада семантического тождества слова уже потому, что фонемы «различают не содержание (семантику), а звучания слов» [Смирницкий 1960, с. 112]. Поэтому видоизменение формы является только фактором «искажения» звучания слова, но не возникновения на его базе новой номинатемы. «Совершенно неверно, механистично и поверхностно, – писал А.И. Смирницкий, – утверждение того, что будто бы замена [о] в слове стол на [у] дает слово стул: такая замена сама по себе является лишь искажением слова стол, собственно его звуковой оболочки, но не превращением одного слова в другое» [Смирницкий 1960, с. 112]. Для того, чтобы произошла трансформация одного из формальных дублетов слова в самостоятельную лексему, необходимо, чтобы за ним закрепилось новое значение, отличное от значения других дублетов, – явление довольно редкое, по крайней мере, для простых аббревиатур. Подводя итоги, приведу утверждение В.Н. Немченко о том, что сокращенные образования «представляют собой нечто промежуточное между самостоятельными производными словами и фонетическими вариантами (дублетами. – В.Т.) соотносительных производящих слов. Они заметно отличаются от соотносительных производящих, полных слов в стилистическом отношении, носят разговорный или просторечный характер, а в ряде случаев отличаются от последних своими грамматическими, морфологическими признаками. Однако по своим лексическим признакам они дублируют соотносительные с ними полные слова (выделено мной. – В.Т.)» [Немченко 1984, с. 132-133]. По моему же мнению, они не «представляют собой нечто промежуточное», а являются «фонетическими дублетами соотносительных производящих слов» в чистом виде. На это указывает уже то, что стилистическое расхождение или морфологическое варьирование без семантического расхождения не является достаточным 228 стимулом для распада тождества номинатемы. Более того, в науке устоялась абсолютно справедливая мысль о том, что стилистическая дифференциация при семантической идентичности есть выражением так называемой «характерологической функции вариантов (выделено мной. – В.Т.)» [Горбачевич 1978-2, с. 9], а не отдельных номинатем. Именно поэтому я и считаю, что аббревиатура, которая создана на базе простой или сложной номинатемы-слова, – это только формальный дублет данной номинатемы, потому что она имеет тождественные с ним лексическое значение, набор грамматических значений и синтаксических позиций, например: надо вызвать специалиста – надо вызвать спеца. Сама же аббревиация исходного слова обусловлена потребностью не в новой номинации, а экономией языковых средств. Итак, простые аббревиатуры, возникшие на базе простых и сложных слов, являются формальными дублетами полных наименований, и должны рассматриваться не как словообразовательные явления, а как выразители речевой комбинаторики номинатемы. 5.3. Грамматическая структура глоссы и грамматическое модифицирование Показателями грамматического значения в структуре глоссы являются грамматические маркеры, то есть компоненты формы глоссы, указывающие на комплекс ее грамматических значений. Определить, является ли тот или иной элемент фонетического ряда грамматическим маркером, можно только на основе сопоставления глосс. Так, например, маркерами глоссы вода являются: флексия [а] (сравните: вод[а] – вод[ой]), место ударения (сравните: водá – вóду), звук [^] (в[^]да – в[ó]ды), звук [д] (во[д]а – во[т]). Я отмечаю три типа отношений между глоссами, зависящих, с одной стороны, от того, как соотносится форма глоссы, включающая грамматические 229 маркеры, с ее грамматическими значениями, а с другой, какой тип модифицирования представлен в различающихся глоссах с точки зрения их грамматических сходств – различий. Наиболее простой является ситуация грамматической идентичности, основанная на тождестве грамматических показателей, значений и синтаксических функций глосс: «у Меркурия нет спутника (муж. р., ед.ч., род. п., дополнение)» – «у нее нет спутника (муж. р., ед.ч., род. п., дополнение)». Сложнее дублетности, существовать синтаксической определить то при есть структуру грамматического выполнении функции, отношений различия разными например, функции грамматической глосс, глоссами могущего идентичной дополнения у глосс номинатемы двери в обороте: «он стоял за дверями (дверьми)». Явлению грамматической дублетности (в традиционной терминологии – грамматической вариативности) посвящена огромная литература (см., например: [Горбачевич 1974; Граудина 2004; Ярцева 1957] и др.). Указанным термином чаще всего обозначают две ситуации. Во-первых, это модифицирование грамматических маркеров, не сигнализирующее о различии в грамматическом значении глосс, например, ясель – яслей, полотенцев – полотенец (модифицирование маркеров родительного падежа множественного числа существительных), быстрей – быстрее, сильней – сильнее (модифицирование маркеров сравнительной степени прилагательного), женой – женою (модифицирование маркеров творительного падежа единственного числа существительных), говорили о МОК – говорили о МОКе (модифицирование маркеров предложного падежа единственного числа существительных), промок – промокнул, сох – сохнул (модифицирование маркеров несовершенного вида глагола) и т.д. (см.: [Валгина 2001; Горбачевич 1978-1; Граудина 2004] и др.). Вполне очевидно, что в этом случае отношения дублетности (свободного модифицирования) представлены в абсолютно чистом виде: взаимная замена глосс не приводит к 230 изменению значения фразы в целом. Например, в предложении Даже в Интернете не появилось ни одного живого рассказа о посещениях семьей Ющенко мемориального комплекса “Дахау” глосса семьей может быть свободно заменена глоссой семьею без каких либо семантических изменений во фразе в целом. Во-вторых, к числу грамматических дублетов часто относят и глоссы, имеющие некоторые различия в актуализированном грамматическом значении. Широкую панораму таких случаев и их трактовок описала Т.В. Тукова [Тукова 2007]. Сюда относятся ситуации модифицирования родовой характеристики: зал – зала, манжет – манжета, мочала – мочало; формально закрепленного различения коннотативно-оценочных характеристик предмета: заяц – зайка, кошка – кошечка, мужик – мужичина; использования форм единственного числа вместо множественного, и наоборот: читатели ждут бестселлеров и читатель ждет бестселлеров и т.д. Пожалуй, только первый случай может рассматриваться как особая разновидность грамматического модифицирования, близкого к дублетности. В случае с использованием суффиксов коннотативного назначения мы имеем, скорее всего, дело с синтетической актуализацией в пределах денотации периферийных лексических, смыслоустанавливающих сем номинатемы, поэтому-то данные единицы должны быть рассмотрены в системе её лексико-семантических вариантов. Смешивание же числовых форм слова также отражает некоторые особенности денотации множественности), что (представление не позволяет о цельной трактовать их и расчлененной как глоссы с грамматической доминантой. Следует заметить, что возможность модифицирования рода при реализации глосс номинатемы обусловлена тем, что «для подавляющего числа русских существительных (неодушевленных. – В.Т.) принадлежность к мужскому, женскому или среднему роду никак не связана с содержанием», что и «не позволяет признать значение категории рода существительных 231 номинативным» [Милославский 1981, с. 44]. Поэтому для процесса номинации родовое значение глоссы не играет никакой роли, кроме структурной: по роду определяется тип склонения существительного. Эта номинативная индиферентность и создает возможность модифицирования родовой характеристики и родовых показателей. Однако эта черта, практически всегда присущая дублетам, является для них факультативной. В основе отнесения тех или иных единиц к указанному типу модифицирования, напомним, лежит все же принцип свободной взаимозамены в тождественных контекстах. Глоссы же, различающиеся родовым значением, такой характеристикой не обладают: глоссы женского рода могут встречаться только в окружении, настроенном на выражение женского рода, а глоссы мужского рода – только в окружении, настроенном на выражение мужского рода. Например, глосса георгин может употребиться только во фразе Георгин был посажен на плодородной земле, в которой глосса был посажен как самостоятельный компонент предикативного центра требует именно мужского рода от номинатемы георгин, а глосса георгина – только во фразе Георгина была посажена на плодородной земле, в которой глосса была посажена как самостоятельный компонент предикативного центра требует именно женского рода от номинатемы георгин. Конечно же, смысл фразы не изменился, однако структура – изменилась, что и позволяет считать случаи модифицирования родовой характеристики ситуациями структурно-грамматического варьирования. Под грамматическими вариантами понимаются разные формы одной и той же номинатемы, связанные отношениями дополнительной дистрибуции, которая имеет своим источником различие в синтаксических функциях глосс: «я еду в город» /обстоятельство места, вин. пад., ед.ч./» – «город был мал» /подлежащее, им. пад., ед.ч./. О семантической составляющей грамматического варьирования я говорил выше. Здесь речь пойдет о формальном подкреплении этого явления. При грамматическом варьировании грамматические маркеры обычно 232 выполняют дифференциальную функцию, функцию различения глосс. Правда, представление о главенствующей роли грамматических маркеров в определении грамматических характеристик глосс требует коррекции. Нередко абсолютизация этой роли приводит к неправильной трактовке грамматических явлений. Это подтверждает, например, критический анализ такого теоретического построения, как «нулевая флексия». Проблема «нулевой» флексии, на первый взгляд, проблемой для современного языкознания не является. Практически нет работ, в которых бы отрицалось существование данного феномена. При этом утверждается, что выделение нулевой флексии «становится возможным лишь в парадигме, в ряде материально выраженных аффиксов. <...> Если хат-а, хáт-и, хат-ою, хат-и имеет во всех формах, во всей парадигме флексию, то ее отсутствие в род. п. мн. ч. хат воспринимается как флексия” [Карпенко 2002, с. 326] (см. также у Г.П. Цыганенко: «морфема с нулевой формой выражения осмысливается благодаря сопоставлению её с формами, у которых имеются материально выраженные морфемы того же порядка» [Цыганенко 1999, с. 26]). Для большинства лингвистов вопрос состоит лишь в определении того, существуют ли еще какие-то «нулевые» морфемы, кроме флексии. Учеными предпринимались попытки расширить сферу употребления атрибута «нулевой», которые, кстати, также имели в своей основе «парадигматический» подход к определению тех или иных фактов языкаречи. В ряде работ, например, говорилось о нулевых словообразовательных суффиксах у отглагольных /бег-^-ø (<бежать), обнов-^-а (<обновить) и т.п./ и отадъективных /синь-^-ø (<синий), высь-^-ø (<высокий) и т.п./ существительных, о нулевых интерфиксах /Нов-ø-город-ø/ [см.: Земская 1964; Клименко 1998, с. 41; Лопатин 1966, с. 30 и т.д.], о нулевых грамматических суффиксах / болгар-^-ы (ср.: болгар-ин) и т.д. Достаточно мотивированно, в этой связи, мнение Ю.А. Карпенко, который считал, что «уж очень дискуссионными являются все другие (кроме суффиксов единственного числа мужского рода прошедшего времени глаголов типа 233 нес-ø, вез-ø и т.п. – В.Т.) нулевые суффиксы и интерфиксы. Думаю, что в языке их просто не существует (выделено мной. – В.Т.), так как правило единой парадигмы здесь не выдерживается» [Карпенко 2002, с. 333]. Я же считаю, что в языке вообще «просто не существует» никаких «нулевых» аффиксов. Выделение их представляет собой инерционный «агглютинативный» подход к языкам флективного типа, когда правило, действительно, являющееся обязательным для языков агглютинативного строя – «грамматическое значение требует обязательного наличия специализированного аффикса, указывающего на данное грамматическое значение» – автоматически переносится на те языки, которые имеют в своей структуре несколько иные закономерности выражения грамматического значения. Отмечу, что противоречие заключено уже в самом обозначении «нулевых» аффиксов, в которых атрибут «нулевой» по своему исконному значению абсолютно синонимичен атрибуту «отсутствующий». Другими словами, термин «нулевая флексия» по семантике составляющих компонентов абсолютно идентичен термину «отсутствующая флексия». Однако в этом случае невозможно определить, что же он обозначает – некую субстанцию или же отсутствие всякой субстанции? См., например, у О.С. Ахмановой: «Нулевая флексия (субстанция. – В.Т.) – отсутствие флексии (отсутствие грамматическую субстанции. значимость по – В.Т.), которое противопоставлению приобретает положительно выраженной флексии» [Ахманова 1966, с. 499]; у Ю.А. Карпенко: «Здесь, итак, флексией (субстанция. – В.Т.) является отсутствие флексии (отсутствие субстанции. – В.Т.)» [Карпенко 2002, с. 326]. Так все-таки, есть здесь флексия или же её здесь нет? Может быть, мы имеем дело с неправильной трактовкой явления, с упрощением теоретического осмысления языкового факта, с употреблением неудачного термина, не проясняющим, а наоборот – усложняющим восприятие некой языковой сущности? 234 Теория «нулевой флексии» противоречит уже самой природе знака, который, как известно, выступает как «материально-идеальное образование (выделено мной. – В.Т.), <...> репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности» [Уфимцева 1990, с. 167]. Флексия является знаком, правда, скорее, знаком-сигналом, знаком-маркером, указывающим на те или иные отношения, в которые вступает, с одной стороны, реалия, обозначенная глоссой, с другими реалиями мира, а с другой – сама глосса с другими глоссами в речевом потоке. Это предполагает, что план выражения флексии является элементом, указывающим на реальность, субституирующим её, причем эта способность к субституции и является сущностью знака. Если же у знака нет плана выражения, то отсутствует и способность к субституции, и, следовательно, отсутствует и сам знак. Вызывает возражения и сама методика выделения нулевых флексий, основанная на констатации необходимости заполнения парадигматических лакун. Во-первых, применяется она крайне непоследовательно. Согласно этой теории, необходимо было бы находить флексию и там, где её обычно не находят: у слов аналитических языков, например английского, где у существительных в форме единственного числа (например, boy) нужно было бы выделять нулевую флексию на основе противопоставления форме множественного числа (boys); в именительном падеже русских (и не только) личных местоимений 1-го и 2-го лица я, ты, мы, вы, где “наличие” «нулевой флексии» (при последовательном применении приведенной выше теории) «определяется» наличием материально выраженных флексий в формах косвенных падежей (мен-я, теб-я и т.п.), несмотря на супплетивность отношений между прямыми и косвенными формами, и т.д. Во-вторых, всегда существует опасность неправильного понимания парадигмы, неправильной ее интерпретации, что, на мой взгляд, и имеет место в «теории нулевых аффиксов». 235 Указанная теория основывается на убеждении, что флексия является основным средством выражения грамматического значения в русском языке. Действительно, если это «основное средство», то оно должно присутствовать во всех формах – «нулевая флексия» оправдана, по крайней мере, логически. Но так ли это? Действительно ли флексия – основное средство выражения грамматических значений в языках «флективного» строя? Есть множество оснований сомневаться в этом. Покажу это на примере имени существительного. Как известно, у существительных флексия указывает на три значения – падежа, числа (внутренняя парадигма) и рода (внешняя парадигма). Основной акцент в ее определении делается на категорию падежа, поскольку именно падежная парадигма признается эталоном словоизменительной модели. Установив, на самом ли деле в её основе лежит флективный принцип построения, мы сможем ответить на вопрос – какова роль флексии в структуре слова? Сейчас уже нет сомнений в том, что «на деле падеж и флексия не одно и то же» [Лукин 1991, с. 61]. Это подтверждается многими фактами функционирования языковой системы. Утверждение «флективного» характера русского падежа и «парадигматического» подхода к его определению «неизбежно приводит к мысли, что у разных существительных число падежей различно» [Милославский 1981, с. 72]. У некоторых существительных их 6 (шкаф, шкафа, шкáфу, шкафом, шкафе, шкафý); у некоторых – 5 (дом, дома, дому, домом, доме); у некоторых – 3 (мышь, мыши, мышью) и т.д. Можно, конечно, говорить об омонимии показателей. Однако большие сомнения эта омонимия вызывает, когда мы обращаемся к анализу так называемых несклоняемых существительных типа кофе, пальто и т.п. Мы не можем утверждать, что данные слова лишены падежа. Различие падежного значения явно просматривается в разных контекстах их употребления. Например, глосса кофе в контексте кофе был горячий явно употреблена в значении именительного падежа единственного числа, а в 236 контексте он выпил кофе – в значении винительного падежа единственного числа и т.д. То же самое можно сказать и о приведенных выше примерах изменяемых существительных. Например, падежное значение словоформы мыши определяется не через ее парадигматические противопоставления, а через определение её места в синтагме: нет мыши (род. пад. ед. ч.), думал о мыши (предл. пад. ед. ч.), приблизился к мыши (дат. пад. ед. ч.). Парадигматически-флективный подход обедняет систему русских падежей. Рассматривая традиционное школьное определение падежа через местоимения кто, что, а, в сущности, именно так сейчас и определяются падежные значения существительного, И.Г. Милославский утверждал, что «система русских падежей в действительности содержит столь большое количество членов, что даже совместное использование <...> двух этих местоимений, обладающих относительно большим количеством различных словоформ, не [Милославский позволяет 1981, с. 79]. открыть Что всех же существующих тогда говорить о падежей» флексиях? Показательны в этом смысле размышления А.И. Соболевского: «Сколько падежей? Ответ на этот вопрос не только труден, но и прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму имени, <...> мы должны будем сказать, что одни имена <...> имеют меньше падежей, чем другие, <...> и что число падежей неопределенно. Если же принять за основание грамматическое значение, <...> мы должны будем насчитывать большое количество падежей. <...> Тогда, например, форма хлеба в разных предложениях (я взял себе хлеба; мясо лучше хлеба; мягкость – свойство хлеба) будет представлять 3 падежа: partitivus, ablativus, possesivus» [Соболевский 2006, с. 52-53]. Что же здесь – опять «омонимия флексий»? С другой стороны, наличие двух разных флексий у глосс не гарантирует их отнесения к разным падежам. Например, можно сказать стакан чая и стакан чаю, двести грамм и двести граммов и т.д. При парадигматически-флективной интерпретации мы, строго следуя правилу, должны были бы говорить в этом случае о разных падежных формах. Однако 237 тождество семантики и, особенно, контекстов употребления глосс не позволяют нам этого сделать. Можно «Отношение, согласиться с складывающееся И.Г. Милославским, между подчиненной утверждавшим: (и не только подчиненной, но и подчиняющей. – В.Т.) падежной формой и подчиняющей (и не только подчиняющей, но и подчиненной. – В.Т.) её лексемой, создается не только за счет падежной формы (выделено мной. – В.Т.), но и за счет грамматических свойств подчиняющей (подчиненной. – В.Т.) лексемы, а также за счет лексических свойств обеих лексем» [Милославский 1981, с. 72]. Другими словами, основанием для выделения падежа, в первую очередь, является контекст, дистрибуция глоссы, причем как грамматико-синтаксическая, так и лексико-семантическая. Это та ситуация, когда «формальные свойства слова (в моей терминологии – глоссы. – В.Т.) не исчерпываются признаками, замкнутыми пределами слова (глоссы. – В.Т.) как такового (и его словоформами), в связи с чем они и могут быть обнаружены, когда слова (глоссы. – В.Т.) выступают как «синтаксические атомы» – строительные элементы высказывания и текста» [Кубрякова 2004-2, с. 216]. Первичным маркером грамматического значения падежа здесь становится позиция глоссы в синтагме, ее морфолого-синтаксическая и лексико-семантическая дистрибуция. Флексия в этом случае выступает лишь в качестве вторичного, «избыточного» маркера. Поэтому падежная парадигма должна быть определена не как парадигма флективных форм, а как парадигма контекстов, в которых употребляются глоссы, различающиеся падежным значением. Разумеется, в этой «контекстной» парадигме глоссы могут формально различаться, причем это формальное различие глосс является вторичным маркером, подкрепляющим, дублирующим различие контекстов. Но вряд ли можно считать это различие глосс узким флективным различием. Средством выражения грамматического значения в целом и падежного значения в частности, кроме флексии, может быть место ударения (вóлос – волóс), 238 чередование (день – дня) и т.д. Большую роль для выражения грамматического значения падежа имеют аналитические способы, в частности – способ служебных слов (ср.: в пути (предл. пад. ед. ч.) – без пути (род. пад. ед. ч.). Показательна в этом отношении фраза О.В. Лещака: «У носителей языка есть стереотип вычленения окончаний из словоформ, а не стереотип составления словоформ из морфем» [Лещак 1996, с. 337]. Носитель языка работает не со словоформой-глоссой с флексией, не создает словоформу при помощи флексии, а воссоздает глоссу, которая, по его мнению, ассоциирована с данным грамматическим значением. Однако, как это было показано выше, данная глосса может характеризоваться не только особой флексией, но и особым местом ударения, чередованием и т.д., она может быть связана с тем или иным предлогом. Для носителя языка важно не то, какая флексия есть в глоссе и есть ли она там вообще, а то, как эта глосса выглядит в целом и чем она отличается от других глосс того же слова. А это уже является основанием для утверждения, что различие между так называемыми падежными формами не в том, какого качества флексии в них употреблены, а в том, чем одна глосса отличается от другой. Это не атомарное противопоставление по какому-либо компоненту, а противопоставление целых единиц. Примерно к такому же выводу приходит и М.Ф. Лукин, утверждающий, что «форма слова – это все слово в совокупности составляющих его морфем и средств материального выражения его семантики и грамматического значения» [Лукин 1991, с. 61]. При таком подходе падежная парадигма представляет собой не парадигму флективных форм, не парадигму флексий, а парадигму употребляемых в разных контекстах глосс, которые могут различаться, но могут быть идентичными в плане выражения. Наличие или отсутствие у данных глосс флексий должно рассматриваться в одном ряду с наличием или отсутствием у них перемещения ударения, чередований и т.д. А для форм с «нулевыми аффиксами» маркером падежа является даже не факт отсутствия флексии, а чисто консонантная финаль. 239 Предлагаемый в этой работе подход к трактовке номинации как актуализации номинатем в глоссах приводит к идее, что падежная форма является не самостоятельной речевой номинативной единицей, а только вербализатором тех или иных слотов концепта, номинантом которого является главный компонент словосочетания. Уточнение этой гипотезы должно быть подтверждено когнитивным анализом предложения как базовой коммуникативной сущности. Я предполагаю, что противопоставление субстантных и гештальтных концептов, о котором говорилось в первой главе, реализуется и на коммуникативном уровне, уровне предложения, где они выступают уже не как номинативные, а как предикативные сущности. При этом базовым коммуникативным воплощением концепта является именно простое двусоставное предложение, поскольку «двусоставное простое предложение – основной структурно-семантический тип простого предложения, обладающий наиболее полным набором дифференциальных признаков» [Беловольская 2001, с. 28]. Отметим, что, как будет показано ниже, простое двусоставное предложение является основной формой коммуникативной предикации двух базовых типов лингвоконцептов – субстантных и гештальтных. Такой статус простого двусоставного (добавим – неосложненного) предложения позволяет считать, что в нем когнитивные сущности представлены в наиболее чистом виде. Это, в свою очередь, вселяет надежду в то, что исследование семантических ролей [Демьянков 2003, с. 196] падежей в данном типе предложений может способствовать установлению их сущностных характеристик и базовых моделей реализации в системе языка в целом. Простое двусоставное предложение может реализовывать либо семантику субстантного концепта, когда номинатема-сказуемое констатирует наличие у концепта, обозначенного номинатемой-подлежащим, той или иной характеристики (Сократ – мудрец), либо семантику гештальтного концепта, когда номинатема-подлежащее становится 240 обозначением концепта, провоцирующего возникновение ситуации, обозначенной глагольной гештальтной номинатемой-сказуемым. Остановлюсь только на гештальтных предложениях. Их анализ с точки зрения номинатемной теории показал необходимость внесения некоторых изменений в трактовку статуса падежа подлежащего, предложенную в свое время Ч. Филлмором. Ученый говорил «о допустимости трактовки подлежащего просто в качестве одного из дополнений глагола» [Филлмор 1981, с. 391]. Это мнение он основывал на убеждении, что очень часто подлежащее исполняет роль, более приемлемую для косвенных семантических падежей. И действительно, на первый взгляд, подлежащее часто повторяет те же значения, что и другие члены предложения. Например, во фразе Ключ открывает дверь глосса ключ имеет, по мнению Ч. Филлмора, значение инструменталиса, которое адекватно значению данной глоссы в предложении Дверь открывается ключом, а во фразе Дом строится рабочими глосса дом имеет значение фактитива (ср.: Рабочие строят дом) и т.д. Как известно, «интенционально глагол направлен на форму подлежащего, что позволяет ему выражать только агенс, т.е. действующее лицо или существо. Поскольку ключ не отвечает этим условиям, то это слово не может стоять в форме подлежащего» [Кацнельсон 1988, с. 111]. Однако такая трактовка предполагает только существование онтологического мира и абсолютно игнорирует то, что в мире, созданном языком, могут действовать иные закономерности. Справедливо замечание С. Кацнельсона по этому поводу: «В <…> примере Ключ открыл дверь постановка имени орудия на место действующего лица и, следовательно, отсутствие аргумента действующего лица является средством метафоризации имени орудия и его персонификации, совмещения в орудийном имени свойств как орудия, так и лица» [Кацнельсон 1988, с. 114]. Действительно, в реальности ключ всегда инструменталис. Однако в языке, в языковом мире, в мире, который формируется языком и существует как параллельная внеязыковому миру реальность, он вполне может становиться в одних 241 ситуациях агентивом, а в других – инструменталисом и другими падежніми сущностями, например, фактитивом (он вытачивает ключ на станке), дистрибутивом (он раздавал ключи налево и направо) и т.д. На мой взгляд, следует согласиться с Суитом, с которым спорил Ч. Филлмор и для которого «роль подлежащего была настолько ясна, что он провозгласил номинатив единственным падежом, «существительное». в котором Предложение он может стоять рассматривал собственно как некоторую предикацию о данном существительном, а всякий элемент предложения, похожий на существительное, но не являющийся подлежащим, – как своего рода производное наречие, образующее часть этой предикации» [Филлмор 1981, с. 377]. Языковая реальность в тех случаях, когда в предложении находится глагол, чаще всего производится гештальт-агентом, то есть аргументом, который исполняет роль создателя гештальтной ситуации. Позиция этого гештальт-агента – позиция подлежащего. Именно поэтому мы и можем назвать падеж подлежащего падежом гештальт-агента. Глагол, обозначающий действие (скрипт) или состояние (фрейм), не может быть абсолютным центром пропозиции, поскольку как во внеязыковой, так и в языковой реальности они являются чаще всего только функцией имени, функцией гештальт-агента. С точки зрения языка ключ вполне может быть признан не инструменталисом, гештальт-агентом. Для а субъектом, утверждения этого причиной ситуации, достаточно сравнить рассматриваемую фразу с инструменталисным употреблением номинатемы ключ: Иван Иванович открывает дверь ключом. В этом случае гештальт-агентом становится Иван Иванович, и фраза обретает явную номинативную непротиворечивость. Возникает вопрос, для чего же тогда реализовывать инструменталис в позиции подлежащего, если его очень легко можно реализовать в традиционной позиции косвенного дополнения творительного падежа? Вероятно, только для того, чтобы изменить его гештальтную роль и констатировать актуальность его существования в лингвальном мире в качестве создателя ситуации. 242 Как известно, в неосложненном двусоставном предложении выделяется группа подлежащего и группа сказуемого. При этом группа подлежащего представляет собой словосочетание (простое или сложное), формирующееся на базе подлежащего, а группа сказуемого – словосочетание (простое или сложное), формирующееся на базе сказуемого. Трактовка номинатемы как единицы, которая может быть репрезентирована в форме словосочетания, позволяет утверждать, что эти группы представляют собой аналитические реализации только двух номинатем. Иначе говоря, гештальтное предложение обычно репрезентирует в себе дихотомию «гештальт-агент» (создатель гештальтной ситуации, выраженный подлежащим) – «глагольный гештальтпредикат» (то есть, собственно, гештальтная ситуация). Например, в предложении Серебряный ключ открыл золотую дверь гештальт-агентом является глосса серебряный ключ номинатемы ключ, а гештальт-предикатом – глосса открыл золотую дверь номинатемы открыть. В связи с такой трактовкой возникает вопрос, каково же назначение остальных падежных единиц, кроме падежа гештальт-агента, в предложениях описываемого типа. Я согласен с В.З. Демьянковым в том, что падеж – это выражение когнитивной роли имени в синтаксической конструкции [Демьянков 2003]. Однако трактовка падежей концепта номинатемы либо как актуализаторов гештальт-агента целиком или в его компонентах, либо как актуализаторов компонентов глагольной номинатемы гештальт-предиката требует уточнения понятия семантической (когнитивной) роли. На мой взгляд, всякая ситуация актуализации концепта в глоссе реализуется по базовым ономасиологическим структурам. Моя гипотеза состоит в том, что падежное значение – это актуализированное значение номинатемы, которое имеет статус либо ономасиологического базиса предикативной конструкции, либо ономасиологического признака. Например, в предложении человек открыл дверь ключом номинатема человек имеет статус гештальт-агента – ономасиологического базиса с агентивным значением. Открыл дверь ключом – аналитической реализации глагольной 243 гештальтной номинатемы открыть, в которой имя дверь актуализирует гештальтный глагольный слот – ономасиологический признак «пациентив», а имя ключом – гештальтный глагольный слот – ономасиологический признак «инструменталис». Таким образом, падежное значение определяется мной как аргумент (базис или признак) ономасиологической структуры номинатемы. Итак, падежная система имени для гештальтного предложения в первую очередь выделяет, следовательно, номинативный падеж гештальтагента. В случаях реализации гештальт-агента в виде аналитической глоссы номинатемы по моделям управления в нем отмечаются приименные падежи – посессив (сестра мужа), атрибутив (коротышка с горбом) и прочие. При этом падеж гештальт-агента будет базисным, а приименные падежи – признаковыми. В аналитической форме гештальт-предиката все именные вербализаторы тех или иных слотов глагольной гештальтной номинатемы получают статус признаковых падежных реализаций. Я различаю два типа признаковых падежей. Во-первых, это приглагольные комплементарные падежи, которые указывают на объектную рамку предиката. Сюда, например, относятся бенефициантив, то есть падеж того, кто получает что-либо в результате действия (Мудрому дай голову) и др. (см. ниже). Во-вторых, это приглагольные прозекутивные падежи, характеризующие гештальт со стороны условий его существования, например, аллатив, обозначающий внешний конечный пункт траектории (стремиться к финишу), темпоратив (вернуться к утру) и прочие. Однако когнитивная роль не исчерпывает системы конституентов падежного комплекса. Эта роль имеет свое синтаксическое воплощение – синтаксическую позицию глоссы. Само объединение ономасиологического статуса и синтаксической позиции и формируют набор падежей. Приглагольным комплементарным падежам соответствует синтаксическая позиция дополнения, приглагольным прозекутивным – обстоятельства. Я 244 выделяю, например, падеж контрагентивного прямого дополнения: задерживать снег, падеж медиативного косвенного дополнения: лечить водкой, падеж дистрибутивного прямого дополнения: снабжать водой и т.д. В некоторых языках падеж имеет и формальное морфологическое воплощение – систему маркеров, формирующих падежную словоформу. Данный компонент падежной структуры не является обязательным – существуют языки, в которых он есть (русский, польский), и в которых его нет (английский, французский). Именно здесь для языков первого типа используются традиционные названия падежей. Но они асимметричны реальным ономасиологическим падежам. Традиционный, например, винительный падеж, по сути, не является падежом. Он лишь является падежной формой, с которой тот или иной падеж не столько отождествляется, сколько ассоциируется. Мы можем сказать, например, о водке в макрознаке он делает водку, не то, что он имеет значение и форму винительного падежа, а лишь то, что падеж финитивного (фактитивного) прямого дополнения выражается здесь особой винительной формой. Покажем модель описания падежа на примере комплементарных падежей русского языка. У меня нет здесь возможности, в силу ограниченности объема работы, дать полное описание разных точек зрения на реестр комплементарных падежей. Отмечу, что выделяемые мной падежи выводятся на основе классификаций, предложенных Ю.Д. Апресяном [Апресян 1974], В.В. Богдановым [Богданов 1977], В.Г. Гаком [Гак 1998], Г.А. Золотовой [Золотова 1988], Е.А. Селивановой [Селиванова 2000] и др. Отмечаются следующие базовые комплементарные падежи по их когнитивной роли в процессе актуализации семантики глагольного гештальтпредиката. 1. Фактитив. Данный падеж актуализирует объект, возникающий в результате действия. Можно предположить наличие двух разновидностей фактитива. Во-первых, это финитив, указывающий на объект, которого еще нет, и который только возникнет в результате определенного действия: я 245 варю мыло (преобразование: жир – мыло). Во-вторых, это трансгрессив, который актуализирует объект преобразования: я варю мясо. Трансгрессив указывает на объект, который уже есть, но который приобретает в результате воздействия на него новое качество (преобразование: сырое мясо – вареное мясо). Фактитив обычно реализуется в позиции прямого дополнения в винительной форме (прямое дополнение – винительная форма)19. 2. Патиентив – падеж, вербализующий объект, на который направлено действие. Здесь следует различать: а. собственно патиентив: я открываю дверь, (прямое дополнение – винительная форма). б. дистрибутив – падеж, указывающий на объект, подвергающийся распределению: мы сеем зерно (прямое дополнение – винительная форма). Часто может выражаться творительной формой в косвенном дополнении (я снабжаю провиантом). в. бенефициантив – падеж, вербализующий объект, в пользу которого совершается действие: я все это делаю для жены (косвенное дополнение – родительная аналитическая форма). г. контрагентив – падеж, указывающий на объект, против которого направлено действие: я лечусь от хандры (косвенное дополнение – родительная аналитическая форма). д. адрессатив – падеж, вербализующий объект, к которому направлено действие: я пишу письмо маме (косвенное дополнение – дательная форма). 3. Каузатив. Данный падеж обозначает объект, являющийся стимулом для гештальт-агента для создания гештальтной ситуации: я люблю жену (прямое дополнение – винительная форма). В указанном предложении «жена» является причиной состояния влюбленности гештальт-агента я. 4. Комитатив – падеж, вербализующий объект, выступающий в роли сопроводителя: ехал с друзьями (косвенное дополнение – творительная 19 В дальнейшем в скобках я буду указывать базовые средства воплощения падежа – позицию и форму. 246 аналитическая форма). 5. Медиатив – падеж, вербализующий объект, являющийся средством для выполнения действия. Различаются: а. инструменталис, указывающий на объект, являющийся орудием для выполнения действия: я рублю топором (косвенное дополнение – творительная форма); б. собственно медиатив, актуализирующий неинструментное средство: я лечусь водкой (косвенное дополнение – творительная форма); в. фабрикатив, указывающий на материал, из которого сделан, изготавливается предмет: дом сделан из камня (косвенное дополнение – родительная форма). 6. Дестинатив – падеж, определяющий назначение действия, например, я обеспечиваю её старость (прямое дополнение – винительная форма). 7. Коррелятив – падеж, определяющий соответствие/несоответствие объекта другому объекту, например, он делает все как калека (прямое дополнение – именительная форма). Таким образом, в гештальтном предложении выделяется базисный падеж глоссы номинатемы гештальт-агента, признаковые комплементарные и прозекутивные падежи гештальт-предиката. Дальнейшая работа должна иметь своей целью полное описание моделей и тактик реализации не только комплементарных, но и прозекутивных падежей. Кроме того, она должна проверить возможность распространения предложенных описаний на другие типы предложений. Важным является и определение роли приименных падежей как распространителей комплементарных и прозекутивных глосс. Итак, глосса, являясь речевым знаком, выступает одновременно и как знаковая ситуация, для которой маркирующим является не только отношение «маркер А – маркер Б», но и отношение «маркер А – отсутствие маркера, являющееся значимым». В этом случае замена понятия «глосса с нулевой флексией» понятием «глосса без флексии (консонантная финаль)» снимет многие противоречия в теории знака, идентично интерпретирует все типы 247 парадигм и отразит реальный статус флексии в слове. При этом она будет иметь и ярко выраженный методический эффект, потому что легче объяснить человеку, изучающему русский язык, что в словоформе конь нет флексии, чем доказывать ему, что в ней флексия все-таки есть, но она нулевая. В последнем случае, кстати, мы все равно, пользуясь приведенными выше определениями «нулевой» флексии («флексией является отсутствие флексии»), закономерно должны будем признать отсутствие флексии, но сделаем это, преодолев сложный путь через длинное и противоречивое описание мнимых языковых сущностей. Данная трактовка полностью распространима и на все остальные случаи употребления глосс без аффиксов. Например, форма нес отличается от форм несла, несли, несло не нулевыми флексией и суффиксом, а тем, что в её составе нет флексии и суффикса, отмечаемых в других родовых формах этого глагола, и так исторически сложилось, что именно данное различие стало значимым в противопоставлении указанных форм. Уточню мое представление о грамматических маркерах следующим образом. Во-первых, грамматические маркеры – это комплекс средств, создающих формальное отличие глоссы с одним грамматическим значением от глоссы с другим грамматическим значением. Однако этот комплекс является, по сути, комплексом, формирующим фонетический облик глоссы. В этом случае уже не просто грамматические маркеры мотивируют отношения между планом выражения и планом содержания, а весь фонетический облик, фонетический ряд глоссы грамматически значим. Правда, следует заметить, что он не всегда адекватно отражает, в силу своей избыточности, вторичности, реальное грамматическое значение, поскольку последнее является чаще всего не столько изолированным свойством глоссы, заложенным в нее онтологически, сколько отражением её функции в предложении. Поэтому, во-вторых, грамматическим маркером очень часто является позиция глоссы в синтагме. Следовательно, грамматические маркеры следует разделить на формальные (компоненты плана выражения глоссы) и 248 синтаксические (позиция в предложении). Актуализация формальных и/или синтаксических маркеров зависит от многих факторов – частеречной принадлежности глоссы, степени грамматической однозначности маркера и т.д. Для русского языка можно выделить две ситуации актуализации маркеров. В первой ситуации статус формальных маркеров очевиден и поэтому условно превалирует над статусом синтаксических маркеров, что, в первую очередь, отмечается для глаголов. Это обусловлено их особым местом в предложении: «Глагол имеет сложную семантическую структуру, в которой отображается свернутая синтаксическая структура, своего рода "макет" будущего предложения» [Рохлина 2006, с. 8] (см., также: [Арутюнова 1980, с. 225; Уфимцева 1980, с. 53, Шарандин 2001; Шарандин 2003]). Как писала А.А. Уфимцева, «в семантике глагольных лексем зафиксированы субъектные или объектные его связи, либо те и другие; поэтому глаголы можно условно назвать (по локализации их семантических связей) субъектными, объектными и двунаправленными субъектно-объектными и объектносубъектными» [Уфимцева 1972, с. 423]. Статус глагола, следовательно, контекстуально, синтагматически самодостаточен – он занимает позицию предиката. Эта позиция заложена в самой его семантике. Однако для выражения различных аспектов предикативности – субъектности, модальности, темпоральности – он вынужден использовать дополнительные средства, каковыми и являются грамматические маркеры. Например, в предложении Он мог бы об этом говорить форма мог бы указывает на модальность, в предложении Я могу об этом говорить форма могу – на первое лицо единственного числа. Другая ситуация определяется мной как явно синтагмная, когда определение значения глоссы невозможно без участия контекста. Вернее, синтагма, позиция глоссы в синтагме определяет её значение, что отмечается, например, для глосс мыши, снег и т.п. В некоторых случаях формально самодостаточными и однозначно трактующими грамматическую часть инвариантного значения, как это делают глагольные маркеры, являются и 249 грамматические формы глосс данного разряда, но уже не из-за их самодостаточности, а в силу сложившейся традиции. Так, например, значение глоссы жену будет однозначно трактоваться как значение винительного падежа, селом – творительного, потому что данные формы глосс не предполагают другой интерпретации. Однако эта однозначность не заложена в них онтологически – она результат однозначного совпадения контекста и формы при доминантной роли контекста, а не факта превалирования формы в процессе грамматического означивания. Таким образом, грамматические маркеры, различающие грамматические варианты, делятся на синтаксические (контекст – значение), морфологические (форма – значение), грамматические (контекст + форма – значение). Здесь следует особое внимание уделить такому явлению, как супплетивизм, которое обычно трактуется как «образование разных грамматических форм одного слова от разных основ» [Глинских 1999, с. 206]. Существует две трактовки статуса супплетивных форм. Первая, традиционная, широко представлена в работах лингвистов (см.: [Ахманова 1966, с. 463; Шанский 1981, с. 83; с. 297; Русский язык 1979; Русский язык 1997] и мн. другие) и определяет супплетивные единицы именно как формы одного слова: «Супплетивизм <...> – образование форм одного и того же слова от разных корней или основ, различия которых выходят за пределы чередований» [Ахманова 1966, с. 463]. Мое понимание номинатемы как единицы, объединяющей глоссы тождеством значения и внутренней мотивированностью формы, не позволяет мне согласиться с данной трактовкой. В ней уже не семантическое в формальном, а наоборот – формальное растворяется в семантическом. Однако отождествление единиц только на основе семантического невозможно, поскольку, как уже говорилось выше, форма и содержание функционируют в слове в диалектическом единстве и взаимообусловленности. Поэтому-то для меня предпочтительнее вторая трактовка данного явления, представленная в 250 [Будагов 1965; Мельчук 1972; Немченко 2001; Реформатский 1967; Филин 1963] и др. Как писал И.А. Мельчук, «утверждения типа: „формы таких-то лиц данного глагола образуются по способу супплетивизма“ – следует понимать так, что эти формы представляют собой отдельные единицы, супплетивные по отношению к некоторой исходной форме глагола; в подобных случаях целесообразнее было бы говорить “образуются супплетивно”, или, еще лучше, “являются супплетивными”. Что же касается теоретического аспекта, то супплетивизм должен быть решительно исключен из числа грамматических способов, как явление, лежащее в принципиально иной плоскости» [Мельчук 1972, с. 428–429]. Ученый предлагает квалифицировать супплетивные единицы как «супплетивную пару» [Мельчук 1972, сс. 397-399] (см. также: [Уфимцева 1972, сс. 417-418]), то есть разные слова (номинатемы), способные дополнять друг друга при решении грамматических задач. Именно так определяет сущность супплетивизма В.Н. Немченко: «Супплетивизм следовало бы рассматривать не как образование грамматических форм слов, а как способ или средство выражения грамматических (морфологических) значений» [Немченко 2001, с. 171]. Я согласен с этим мнением и вывожу супплетивные образования за пределы номинатемы. Итак, любой тип грамматических отношений между глоссами базируется на сходстве/различии трех компонентов грамматической структуры: грамматического показателя, грамматического значения и синтаксической функции. Например, отношения грамматической дублетности между глоссами женой/женою во фразе «он был с женой/женою» реализуется только как различие показателей тв.п. ед.ч. жен.р.; отношения грамматической вариативности между глоссами город/гoрoдá во фразах «город находится у реки» и «городá находятся у реки» реализуются как различие грамматического значения (ед.ч. – мн.ч.), соответствующее различию их грамматических показателей (флексий ø – а, места ударения, чередований [о] // [ъ], [ъ] // [Λ], [т] // [д]) при тождестве их синтаксической функции (подлежащее); 251 отношения грамматической вариативности между глоссами берег/берегу во фразах «берег был крут» и «мы шли к берегу» реализуются в различиях между ними по всем уровням грамматического сопоставления: они имеют разные грамматические показатели (отсутствие флексии – флексия у, место ударения, чередование [к] // [г]), грамматические значения (им. п. – дат. п.) и синтаксические функции (подлежащее – обстоятельство места). 252 Заключение Подведу некоторые итоги. 1. Рассмотрение концептов в предлагаемой работе осуществляется по пути определения их места в системе языка. Я предполагаю, что такой подход можно назвать лингвальной когнитологией или когнитивной лингвальной семиотикой. Соглашаясь с тем, что при помощи языка можно проникнуть вглубь сознания и установить составляющие знания и опыта человека, облеченные в форму концептов, я считаю, что именно посредничество языка подтверждает: концепты – это не столько отвлеченно, невербально существующие в сознании образования, сколько явления, имеющие лингвальную природу. Следовательно, необходимо определить их место в системе языка. 2. Лингвальная природа концептов позволяет предположить, что язык, стремясь обозначить реалии объективного, онтологического мира, организует свой мир событий, то есть речь идет о перформативном лингвальном бытии социума и субъекта. Существует три модели взаимопроникновения онтологического и лингвального мира, следовательно, существует три способа организации знаний в концептах. Во-первых, это ситуация, когда лингвальный мир стремится к относительно адекватному описанию онтологического мира, что формирует номинативные концепты – знания о внеположенном мире. Во-вторых, это ситуация, когда лингвальный мир стремится переформатировать онтологический мир по своим законам, прибегая к услугам перформативных тактик, манипулятивных тактик, нейролингвистического программирования. В этом случае формируются перформативные преобразовать концепты, мир. В в которых перформативных отражается концептах идея индивида реализуется не номинативное, стремящееся к адекватности онтологического и реального миров знание о связанном концептом объекте, а желаемое, настроенное только на внушение своей истинности коммуниканту, знание. В-третьих, это 253 ситуация, когда лингвальный мир является единственной реальностью – миром вымысла. В этой ситуации следует говорить о поэтических концептах, существующих только как лингвальное знание о вымышленном мире. Во всех случаях пользователь языка, пытаясь обозначить внеязыковую реальность, онтологический мир, в сущности, создает новую – лингвальную – действительность, которая подчиняется законам субъекта, стереотипам, являющимся отражением заложенных в языке моделей преобразования внеязыкового мира в языковой, преломленных через лингвальную компетенцию номинанта. 3. При таком подходе концепт становится не столько категорией мышления вообще, сколько категорией лингвального мышления, лингвального мира. Связанность его с именем в большинстве работ когнитологов только констатируется. Для меня же важно выяснить, каким образом концепт связан с именем, как он входит в его структуру. Определение параметров существования концепта и основной номинативной единицы языка должно учитывать различие языковой и речевой номинации как статико-динамических комплексов. Номинативная единица представляет собой языковую сущность, ориентированную на означивание референта своими речевыми модификациями, каждая из которых является реальным воплощением данного виртуального номинативного языкового образования. Явление языковой номинации, следовательно, существует одновременно и как формула границ процесса означивания, и как система потенциальных речевых номинативных знаков, а явление речевой номинации – как конкретная ситуация означивания и как используемая при этом конкретная единица – модификация языкового инварианта. 4. Традиционная лингвистика считает основной номинативной единицей языка слово. Однако многовековой опыт науки о языке показал, что понятие «слово» с трудом поддается дефиниции. Ученые вынуждены констатировать существование в языке явлений, к которым, например, относится достаточно большое количество композитов некоторых типов, не 254 подпадающих под его универсальное определение, явлений, находящихся на грани между словом и не-словом. Серьезным недостатком вербоцентрической концепции является еще и то, что слово в ней нельзя определить как общеязыковую универсалию, поскольку представление о нем в разных языках различно. 5. Причиной неудачности словоцентрических теорий является стремление ее сторонников найти субстантную основную номинативную сущность, дать ей субстантное определение и интерпретировать при ее помощи систему языка в целом. Однако даже анализ употребления слова показал, что в речи оно может выходить за пределы субстантной тождественности самому себе и быть реализовано в единицах, формально с ним не совпадающих – словосочетаниях, сочетаниях со служебными словами и т.д. Это позволяет мне предположить, что не в слове (и не в какой-либо другой субстантной ономасиологической единице) следует искать основную (минимальную) языковую единицу номинации. 6. По моему мнению, поиск такой единицы должен осуществляться на двух уровнях речевой деятельности. Во-первых, на уровне языковой номинации, где основная номинативная единица выступает, как показало мое исследование, в виде виртуального ономасиологического знака. В этом случае она представляет собой не субстанцию, а структуру, механизм, модель номинации. Во-вторых, материализуется, на приобретает уровне речевой субстантные номинации, характеристики где и она может выступать и в виде слова, и в виде словосочетания, и в виде любой другой единицы, настроенной на выполнение номинативной функции. 7. Такая номинативная единица как в своем речевом, так и в языковом воплощении существует в двух параметрах – в параметре тождества самой себе, который формируется отдельностью от всего другого. Если на уровне речи тождество-отдельность выступают как синтагматические, линейные тождество-отдельность, то для уровня языка они имеют статус системно-парадигматических тождества-отдельности, 255 основанных на комбинаторном объединении речевых номинаций в одну языковую единицу. 8. В основе тождества номинативной единицы лежит её языковое семантическое тождество, подкрепленное формальной связанностью её речевых модификаций. Семантическое тождество на уровне языка обеспечивается единым лексико-грамматико-семантическим инвариантным, концептуальным, сигнификативным номинативным значением, реализуемым в речи в своих денотативных и коннотативных частных лексикосемантических и грамматических модификациях. Формальная связанность (формальный инвариант) предполагает внутреннюю формальную взаимную мотивированность одной глоссы другою. В этом случае, признавая, что обнаруживаемое в речи речевое лексическое значение глоссы меньше по объему, чем концепт, я отмечаю то, что значения всех глосс одного и того же знака, с одной стороны, обусловлены концептом, а с другой – именно в силу вышесказанного позволяют в той или иной мере описать концепт, схваченным данным знаком. А это позволяет определить место концепта в структуре знака как место инвариантного, инфраструктурного значения, определяющго возможности референции, то есть обозначения данным знаком элементов онтологического мира (референтов), и коагуляции, то есть актуализации при референции тех или иных аспектов (слотов, сем) инвариантного концепта. 9. Коагуляции и референции осуществляются по тактикам денотации, то есть коммуникативно значимой актуализации тех или иных сем инварианта при референции, и коннотации, то есть замещения референта, основанного на его образном отождествлении с базовым референтом данной номинативной единицы. Такая трактовка расширяет зону модифицирования номинативной единицы, разворачиваемой в речи на базе слова, её надсловными модификациями – сочетаниями знаменательных слов со служебными и словосочетаниями разного типа, которые выступают, соответственно, как аналитические грамматические и лексико-семантические 256 модификации данной номинативной единицы. 10. На речевом уровне номинативную функцию, следовательно, выполняют слово, словосочетание, сочетание служебного и знаменательного слов, которые я называю речевыми глоссами языковой номинативной единицы. Это ставит под сомнение возможность ее обозначения терминами, указывающими на ее моновербальный характер (слово, лексема и т.п.), поскольку даже единицы, реализующие в речи слово, могут не совпадать с ним по протяженности. Кроме того, в речи могут реализоваться единицы, которые на уровне образованиями – инварианта отождествляются коллокациями, фраземами функционирования и реализации глубинно и с т.д. надсловными Модели их абсолютно тождественны моделям функционирования и реализации слова. Все это позволяет заменить термин моновербального типа для именования основной номинативной единицы языка на термин номинатема, который обозначает любую её языковую разновидность, объединяющую глоссы, связанные отношениями семантического тождества и формальной взаимообусловленности. 11. В отличие от слова, номинатема является целостной единицей, поскольку ее абсолютизации самостоятельной интегрирующий какого-либо сущности. характер из предполагает компонентов Не может ее быть невозможность структуры как «фонетической», «морфологической» и т.д. номинатемы. Она представляет собой модель номинации, которая закономерно должна учитывать все ее параметры. С другой стороны, номинатема является и языковой универсалией, хотя бы потому, что она имеет статус не субстантного образования, а языковой модели, тактики номинации, которая, скорее всего, абсолютно тождественна для всех языков мира. Различие касается именно субстантных речевых модификаций (глосс), которые в разных языках, действительно, будут разными. 12. Семантического тождества недостаточно для объединения глосс в одну номинатему, поскольку им обладают и самостоятельные, формально не 257 связанные синонимичные номинативные единицы. Обязательной для глосс является формальная связанность, реализуемая при формальном и семантическом модифицировании номинатемы в речи. Существует два параметра описания последнего. Во-первых, это «тип модифицирования», в основе определения которого лежит представление о дистрибуции речевых реализаций номинатемы. Сообразно разграничению тождественной, дополнительной дистрибуции и свободного модифицирования следует выделить отношения идентичности, то есть отсутствия различий между глоссами, вариативности, то есть употребления различных глосс в строго определенных окружениях, и дублетности, то есть возможности свободной взаимозамены глосс в одинаковых окружениях. Во-вторых, это «вид модифицирования», то есть реальное уровневое наполнение типа модифицирования. Для лексического уровня отмечаются лексико-семантическая идентичность, лексико-семантическая вариативность, лексическая дублетность и формально-семантическая вариативность. Для фонетического уровня – фонетическая идентичность, фонетическая вариативность и фонетическая дублетность. Для грамматического уровня – грамматическая идентичность, грамматическая дублетность и грамматическая вариативность. Следует сказать, что любая глосса в тексте реализует одновременно три вида модифицирования. Она может, например, вступать с другими глоссами номинатемы одновременно в отношения лексико-семантической вариативности, формальной дублетности и грамматической идентичности и т.д. 13. Нарушение семантического тождества номинатемы приводит к возникновению на ее базе новых номинативных единиц. Процессы, обеспечивающие явление внешней мотивации, то есть мотивации одной номинатемой другой, бывают двух типов: деривация, при которой значение одной номинатемы (производящей) входит как часть в значение другой (производной), новая семантика которой определяется суммой семантик 258 исходной единицы и словообразовательного форманта, и лексикализация, при которой новая номинативная единица формируется на базе исходной путем семантической переактуализации, перенесения семантического центра с актуализированных при речевой номинации (в первую очередь – коннотативного типа) сем исходной глоссы на онтологически доминантные семы обозначенного ею нового референта. 14. Лексикализация осуществляется по трем базовым моделям – собственно семантическая лексикализация, грамматическая лексикализация, когда семантическое перераспределение происходит под влиянием грамматического значения глоссы, и синтаксическая лексикализация, когда семантическое перераспределение обусловлено абсолютизацией значения синтаксической позиции глоссы. Маргинальной разновидностью лексикализации является распределение значений между фонетическими дублетами исходной номинатемы, имеющее в своей основе специализацию какого-либо из дублетов на реализацию одного из речевых значений исходной номинатемы. Таким образом, лексикализация характеризуется двумя признаками – она, во-первых, является процессом семантического саморазвития номинатемы, а во-вторых, имеет своим результатом распад ее тождества. 15. К лексикализационным процессам следует отнести не только семантическую абсолютизацию моновербальной глоссы номинатемы, но и семантическую абсолютизацию ее поливербальных реализаций – сочетаний знаменательного слова со служебным и свободных словосочетаний. Для нашего исследования значимы последние. Семантическая абсолютизация (автономизация) аналитических лексико-семантических вариантов номинатемы приводит к образованию номинатем-коллокаций, которые имеют те же структурные признаки, что и номинатемы, разворачивающиеся на базе слов – они могут реализоваться как в простых, так и аналитических модификациях всех типов и видов. Простой модификацией такой номинатемы будет являться собственно ее коллокативная субстанция. 259 Реализация её инвариантного значения осуществляется как по денотативной, так и по коннотативной модели. В последнем случае модификацией номинатемы является фразеологизм. 16. В отличие от номинатемы с основной словесной реализацией коллокация может быть реализована в ее словесной конденсированной модификации. При этом словесная единица выступает как дублет номинатемы, а процесс её образования определяется как универбализация, то есть словообразование в пределах тождества номинатемы. Отношения между коллокацией и ее вербальной разновидностью являются отношениями внутренней мотивации. Существуют две разновидности универбализации: эллиптическая, когда глосса-слово формально выводима из одного из компонентов исходной коллокации, и композитопостроение, когда словесный дублет представляет собой оформленную как слово комбинацию более чем одного компонента исходного словосочетания. 17. Внешней мотивации я противопоставляю мотивацию внутреннюю, под которой понимаю мотивацию номинатемой своих речевых реализаций. Одной из форм (мотивированности) реализации является отношений процесс внутренней мотивации универбализации, когда словосочетание преобразуется в слово, выступающее в качестве его дублета в пределах тождества номинатемы. Универбализация отмечается тогда, когда словосочетание и образованное на его базе слово имеют абсолютно тождественное значение (реализуют один и тот же концепт) и синтаксическую функцию. Процесс замены словосочетания словом здесь должен трактоваться не как деривация, не как формирование новой номинации, а как усовершенствование старой, как акт замены расчлененного наименования, утратившего статус аналитического лексико-семантического варианта номинатемы-слова номинатемой-словосочетанием, равным слову и являющимся и ставшего универбализованным дублетом (дублетной самостоятельной наименованием, модификацией) указанного словосочетания в пределах тождества номинатемы. Мною 260 обнаружено шесть моделей универбализации, которые и были описаны в соответствующем разделе. 18. Введение в обиход понятия номинатемы значимо для науки. Одной из возможных сфер его применения является практика машинного перевода. Ни для кого не секрет, что последняя, настроенная по традиции на номинативную абсолютизацию слова, не может быть признана успешной. Машинный словарь, представляющий собой реестр слов и их значений, может быть базой только для подстрочного пословного перевода. Однако подстрочный перевод никогда не имел ничего общего с реальным содержанием переводимого текста. Я считаю, что словоцентрическая трактовка номинации, доминирующая в лингвистике, является преградой как для непротиворечивого описания номинативных процессов, так и для прагматичной и успешной лексикографической практики. Успешность же теории заключается в возможности, во-первых, наиболее адекватно описать в словаре номинативные соответствия «знак – реалия», во-вторых, на основе этой адекватности соответствий, составить в-третьих, двуязычный использовать словарь данный словарь номинативных в практике машинного перевода. Именно к таким результатам может привести использование при создании словаря понятия «номинатема», которое настроено не на реестр словарных единиц, а на тактики, механизмы номинации. В пределах словарной статьи такого словаря должна быть реализована следующая информация: модели возможного модифицирования минимальных реализаций номинатемы, включающие тактики использования ее формальных, лексико-семантических и грамматико-семантических реализаций; модели возможного грамматикоаналитического возможных варьирования сочетаний базовой номинатемы, глоссы определяющие номинатемы со реестр служебными единицами; модели возможного лексико-аналитического варьирования номинатемы, указывающие на возможности актуализации в зависимой глоссе речевой аналитической номинативной 261 конструкции семантических множителей базовой номинативной единицы, модели универбализации. 19. Предлагаемая вниманию читателей работа закончена. Я, конечно же, понимаю, что она не ответила на многие вопросы лингвокогнитологии. Но я и не ставил перед собой цель одним махом решить все нерешенные проблемы. Что-то мне подсказывает, что эта книга еще не раз будет мною дополняться и переиздаваться. Важно другое, – мною предложен один из возможных путей развития лингвистики – путь когнитивной лингвальной семиотики. Насколько он интересен – судить не мне. Вот я и жду Вашего мнения, уважаемый читатель! 262 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Абаев В. И. О подаче омонимов в словаре / В. И. Абаев // Вопросы языкознания. – 1957. – № 3. – С. 31–43. 2. единицей Азнаурова Э. С. Стилистический аспект номинации словом как речи / Азнаурова Э. С. // Языковая номинация : Виды наименований. – М. : Наука, 1977. – С. 86-128. 3. Алексеев Д. И. Аббревиатуры как новый тип слов / Д. И. Алексеев // Развитие словообразования современного русского языка : сб. научн. работ. – М. : Наука, 1966. – С. 13-37. 4. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурологический аспект когнитивной семантики / Н. Ф. Алефиренко // Русистика : сб. научн. тр. – М.-К., 2002. – № 2. – С. 16-22. 5. Алпатов В. М. О двух подходах к выделению основных единиц языка / В. М. Алпатов // Вопросы языкознания. – 1982. – № 6. – С. 66-74. 6. Алпатов В. М. История лингвистических учений : учебн. пособие [для студ. высш. уч. завед.] / В. М. Алпатов. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 368 с. 7. Аничков И. Е. Идиоматика и семантика / И. Е. Аничков // Вопросы языкознания. – 1992. – № 5. – С. 140-148. 8. Аничков И. Е. Труды по языкознанию / И. Е. Аничков. – СПб. : Наука, Санкт-Петербургское отд-ние, 1997. – 511 с. – (АН РФ, Ин-т языкознания) 9. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1974. – 367 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 10. Арсеньева М. Г. О тождестве слова / М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева, А. П. Хазанович // Научные доклады высшей школы: филологические науки. – 1965. – № 2. – С. 59-68. 11. Арутюнова Н. Д. Специфика 263 языкового знака в связи с закономерностями развития языка / Н. Д. Арутюнова // Общее языкознание : формы существования языка / [отв. ред. Б. А. Серебренников]. – М. : Наука, 1970. – С. 169-196. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 12. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения / Н. Д. Арутюнова // Аспекты семантических исследований : сб. научн. тр. – М. : Наука, 1980. – С. 156-249. 13. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / О. С. Ахманова. – М. : Учпедгиз, 1957. – 296 с. 14. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 606 с. 15. Аюпова Е. И. К вопросу о тождестве слова / Е. И. Аюпова // II Международные Бодуэновские чтения : Казанская лингвистическая школа : традиции и современность : труды и материалы : В 2 т. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2003. – Т. 1.– С. 118-120. 16. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. унта 1996. – 104 с. – (Воронежский гос. ун-т). 17. Баскаков А. Н. Словосочетания в современном турецком языке / А. Н. Баскаков. – М. : Наука, 1974. – 184 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 18. Бадмацыренова Н. Б. фразеологических единиц Анализ в монгольских моделей образования языках (сравнительно- типологическое исследование) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. : 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (монгольский язык)» / Н. Б. Бадмацыренова. – Элиста, 2006. – 23 с. 19. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; [пер. с фр. К. А. Долинина]. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с. 20. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики : исследования разных лет / Бахтин М. М. – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с. 264 21. Беловольская Л. А. Синтаксис словосочетания и простого предложения / Л. А. Беловольская. – Таганрог, 2001. – 55 с. 22. Белый В. В. К вопросу о словосочетании / В. В. Белый // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1960. – № 4. – С. 108-117. 23. Беляевская Е. Г. Когнитивные основания изучения семантики слова / Е. Г. Беляевская // Структуры представления знаний в языке : сб. научн. тр. – М. : ИНИОН РАН, 1994. – С. 87-110. 24. Белый В. В. К вопросу о словосочетании / В. В. Белый // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1960. – № 4. – С. 108-117. 25. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [пер. с франц. Ю. Н. Караулова и др.]. – М. : Прогресс, 1974. – 447 с. 26. Блинова О. И. О тождестве слова в диалектном языке / О. И. Блинова // Вестник Амурского университета. – 2003. – № 3. – С. 117126. 27. Блумфильд Л. Ряд постулатов для науки о языке / Л. Блумфильд // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XIX веков в очерках и извлечениях : в 2-х тт. – М. : Учпедгиз, 1960. – Т. 2. – С. 144-152. 28. Блумфильд Л. Язык / Л. Блумфильд ; [пер. с англ. Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат]. – М. : Прогресс, 1968. – 608 с. 29. Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В. В. Богданов. − Л, 1977. − 204 с. 30. Богословская З. М. Диалектная вариантология : лексикологический и лексикографический аспекты : автореф. дисс. на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / З. М. Богословская – Томск, 2006. – 39 с. 31. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию : в 2-х т. / И. А. Бодуэн де Куртенэ – М. : Наука, 1963. – Т. 1-2. 32. Болдырев Н. Н. О функционально-семиологическом подходе к анализу языковых единиц / Н. Н. Болдырев // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. – Тамбов, 1998. – Ч. 1. – С. 265 3-4. 33. Болдырев Н. Н. Концептуальные структуры и языковые значения / Н. Н. Болдырев // Филология и культура : материалы международной конференции 12-14 мая 1999 г. – Тамбов, 1999. – С. 62-69. 34. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской филологии / Н. Н. Болдырев. – Тамбов : Изд-во Тамб. ун-та, 2000. – 123 с. 35. Болдырев Н. Н. Концепт и значение слова / Н. Н. Болдырев // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : научное издание. – Воронеж, 2001. – С. 25-36. 36. Бондаренко В. С. Предлоги в современном русском языке : учебн. пособие [для студ. высш. уч. завед.] / В. С. Бондаренко. – М. : Учпедгиз, 1961. – 243 с. 37. Бровко А. С. О синтаксическом статусе слова как единицы языка / А. С. Бровко // Вісник Запорізького національного університету. – 2002. – № 1 : Філологічні науки. – Режим доступу до журналу : http://www.zsu.zp.ua/herald/articles/1932.pdf – Заголовок з екрану. 38. Будагов Р. А. Введение в науку о языке : учебн. пособие [для студ. филологич. фак-тов ун-тов] / Р. А. Будагов. – 2-е изд. – М. : Наука, 1965. – 492 с. 39. Будагов Р. А. Закон многозначности слова // Человек и его язык : статьи / Р. А. Будагов – М. : Изд-во МГУ, 1974. – С. 117-123. 40. Будаев Э.В. Методологические грани политической метафорологии / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов // Полит. лингвистика / Урал. гос. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 21. – С. 22-31. 41. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии : пособие [для учителей] / Л. Л. Буланин. – М. : Просвещение, 1976. – 208 с. 42. Булыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей / Т. В. Булыгина. – М. : Наука, 1977. – 287 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 43. Быкова О. Н. Языковое манипулирование 266 / Быкова О. Н. // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. – КрасноярскАчинск, 1999. – С. 120–140. 44. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке : учебн. пособие [для студ. вузов] / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2001. – 304 с. 45. Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / Ж. Вандриес ; [пер. с франц. П. С. Кузнецова]. – 3-е изд. – М. : УРСС, 2004. – 408 с. 46. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика : учебн. пособие [для лингвистов] / Л. М. Васильев. – М. : Высшая школа, 1990. – 176 с. 47. Вахек Й. Лингвистический словарь пражской школы / Й. Вахек ; [пер. с фр., нем., англ. и чеш. И. А. Мельчука и В. В. Санникова] – М. : Прогресс, 1964. – 359 с. 48. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая ; [пер. с англ. М. А. Кронгауз]. – М. : Русские словари, 1997. – 411 с. 49. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; [пер. с англ. А.Д. Шмелева ; под ред. Т.В. Булыгиной]. – М. : Языки русской культуры, 1999. – I-XII, 780 с. 50. Вейсгербер Л. Й. Родной язык и формирование духа / Л. Й. Вейсгербер. – М., 1993. 51. Венжинович Н. Ф. Концептуальна й мовна картини світу як похідні етнічних менталітетів / Н. Ф. Венжинович // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Вип. 14. – С. 8-12. 52. Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы / А. А. Ветров. – М. : Политиздат, 1968. – 264 с. – (Серия : Над чем работают и о чем спорят философы). 53. Виноградов В. А. Лингвистический Словосложение энциклопедический / В. словарь. А. – Виноградов М.: // Советская энциклопедия, 1990. – С. 469. 54. Виноградов В. А. Краткий словарь лингвистических терминов / 267 Васильева Н. В., Виноградов В. А., Шахнарович А. М. – М. : Рус. яз., 1995. – 176 с. 55. Виноградов В. В. О формах слова / В. В. Виноградов // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – 1944. – Том 3, Вып. 1. – С. 31-44. 56. Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины / В. В. Виноградов // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ : секция филологических наук. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1946. – С. 45-69. 57. Виноградов В. В. Русский язык : Грамматическое учение о слове / В. В. Виноградов. – М.-Л. : Учпедгиз, 1947. – 784 с. 58. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике / В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1975. – 560 с. 59. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М., 1977. – С. 140-161. 60. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн ; [пер. с нем. Добронравова И. и Лахути Д. ; общ. ред. и предисл. Асмуса В. Ф.] – М. : Наука, 2009. – 133 с. 61. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с. – (АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні). 62. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1988. – 256 с. 63. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64-72. 64. Воркачев С. Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных линвоконцептов / С. Г. Воркачев. – Волгоград : Парадигма, 2005. – 214 с. 65. Воркачёв С.Г. Постулаты лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев. // 268 Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – Вып 1. – С. 10–13. 66. Воркачёв С.Г. Введение / С. Г. Воркачев // Лингвокультурный концепт : типология и области бытования / [под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева]. – Волгоград : ВолГУ, 2007. – С. 5-7. 67. Воркачёв С.Г. Наполнение концептосферы / С. Г. Воркачев // Лингвокультурный концепт : типология и области бытования / [под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева]. – Волгоград : ВолГУ, 2007. – С. 8-93. 68. Воробьева Э. А. К вопросу о классификации языковых вариантов / Э. А. Воробьева // Сборник научн. тр. Северо-Кавказского государственного технического университета : Серия «Гуманитарные науки». – 2005. – № 1 (13). – Режим доступа к журн. : http://www.ncstu.ru. 69. Всеволодова М. В. Предлог как грамматическая категория : проблемы дефиниции, типология, морфологические и синтаксические характеристики / М. В. Всеволодова // Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип. 9. – С. 8-15. 70. Всеволодова М. В. Материалы к словарю «Предлоги и средства предложного типа в русском языке. Функциональная грамматика реального употребления / М. В. Всеволодова, Е. Н. Виноградова, Е. В. Клобуков. – Вып. 1. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 462 с. – (Московский гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова). 71. Гак В.Г. О семантической организации повествовательного текста / В. Г. Гак // Лингвистика текста. – М., 1976. – С. 5-14. 72. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация : общие вопросы. – М. : Наука, 1977. – С. 230-293. 73. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология : На материале французского и русского языков / В. Г. Гак. – М. : Международные отношения, 1977. – 264 с. 74. Гак В. Г. Лингвистические словари и экстралингвистическая информация / В. Г. Гак // Вопросы языкознания. – № 2. – 1987. – С. 3-16. 269 75. Гак В.Г. К проблеме синтаксической семантики // Языковые преобразования / В. Г. Гак. – М., 1998. – С.264-271. 76. Гамкрелидзе Т. В. К проблеме произвольности языкового знака Т. В. Гамкрелидзе // Вопросы языкознания. – 1972. – № 6. – С. 33-39. 77. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б.М. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с. 78. Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем. Н. Г. Дебольского]. – СПБ. : Наука, 1997. – 800 с. 79. Георгиев Вл. Езикознание / Вл. Георгиев, Ив. Дуриданов. – София : Наука и изкуство, 1972. – 336 с. 80. Глинских Г. В. Введение в языкознание : учебн. пособие [для студ. вузов] / Г. В. Глинских, О. В. Петрова. – Н. Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1999. – 251 с. 81. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Г. Глисон ; [пер. с англ. В. А. Звегинцева]. – М. : Прогресс, 1959. – 486 с. 82. Годер Н. М. О логической структуре понятия, выраженного словосочетанием / Н. М. Годер // Логико-грамматические очерки : сб. научн. трудов. – М. : Высшая школа, 1961. – С. 49-58. 83. Горбачевич К. С. Зоны вариативности слов и нормы русского литературного языка / К. С. Горбачевич // Вопросы языкознания. – 1974. – № 5. – С. 77-86. 84. Горбачевич К. С. Варианты слова на разных языковых уровнях / К. С. Горбачевич // Восточнославянское и общее языкознание : сб. научн. трудов. – М. : Наука, 1978. – С. 245-250. 85. Горбачевич К. С. Вариативность слова и языковая норма / К. С. Горбачевич. – Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1978. – 237 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 86. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : навч. посібник [для студ. філол. спец. вищих закл. 270 освіти] / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 208 с. 87. Грамматика русского языка : в 2-х тт. / [под ред. В. В. Виноградова]. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 2. – 440 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 88. Граудина Л. К. Грамматическая правильность русской речи : стилистический словарь вариантов / Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.– М. : АСТ ; Астрель, 2004. – 555 с. 89. Губанова В. А. Некоторые вопросы глагольной полисемии / В. А. Губанова // Актуальные вопросы глагольной полисемии : сб. научн. трудов. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 1969. – С. 40-53. 90. Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт ; [пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 398 с. 91. Гухман М. М. Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетаний частного и полного слова / М. М. Гухман // Вопросы грамматического строя : сб. научн. трудов. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – С. 322-361. 92. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт системного описания / В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 248 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 93. Даниленко В. П. Ономасиологическое направление в истории грамматики / В. П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1988. – № 3. – С. 108-131. 94. Дегтярев В. И. Основы общей грамматики / В. И. Дегтярев – Ростов : Изд-во Ростовского университета, 1973. – 256 с. – (Ростовский гос. ун-т.). 95. Демьянков В. З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ / В. З. Демьянков. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 172 с. – (Московский гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова). 96. Демьянков В. 3. Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование / В. З. Демьянков. – М. : МГУ, 1994. – 206 с. – (Московский 271 гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова). 97. Демьянков В. З. Семантические роли и образы языка / В. З. Демьянков. – М., 2003. – 271 с. 98. Дмитриева О. А. Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков) : дисс … кандидата филол. наук : 10.02.20 / Дмитриева Ольга Александровна. – Волгоград, 1997. – 202 с. 99. Дьячок Н. В. К вопросу о разграничении понятий «словообразовательная перифраза», «словообразовательное значение» и «базовое словосочетание» для номинатем типа «словосочетание + универб» / Н. В. Дьячок // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : Научно-методический сборник. – Вып. XV, ч. 1. – 2007. – С. 111-118. 100. Дюжикова Е. А. Аббревиация сравнительно со словосложением : Структура и семантика (На материале современного английского языка) : дисс. … доктора филол. наук : 10.02.04. / Дюжикова Екатерина Андреевна. – М., 1997. – 340 с. 101. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ : типы фреймов / С. А. Жаботинская // Вісник Черкаського ун-ту : Серія "Філологічні науки". – Черкаси, 1999. – Вип. 11. – С. 12-25. 102. Жаналина Л. К. Номинация и словообразовательные отношения : Спецкурс / Л. К. Жаналина. – Алматы, 1993. – 49 с. 103. Жирмунский В. М. О границах слова / В. М. Жирмунский // Вопросы языкознания. – 1961. – № 3. – С. 3-21. 104. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису : навч. посібник [для студ внз] / А. П. Загнітко. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2003. – Ч. 1. – 228 с. 105. Загнітко А. П. Прийменники у структурі тексту : первинні і вторинні вияви / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 120-131. 106. Загнітко А. П. Синтагматика прийменників зі значенням мети / 272 А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 131-142. 107. Загнітко А. П. Теоретичні аспекти семантичної типології прийменників / А. П. Загнітко // Филология в пространстве культуры : К 75летию Е. С. Отина. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С. 113-121. 108. Залевская А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – С. 36-44. 109. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст : Избранные труды / А. А. Залевская. – М. : Гнозис, 2005. – 543 с. 110. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение / А. А. Зализняк. – М. : Наука, 1967. – 369 с. – (АН СССР, Ин-т русского языка). 111. Зализняк А. А. О понимании термина падеж в лингвистических описаниях / А. А. Зализняк // Проблемы грамматического моделирования : сб. научн. трудов. – М. : Наука, 1973. – С. 53-88. 112. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка / А. А. Зализняк. – М. : Русский язык, 1977. – 880 с. 113. Зализняк Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии : проект «Каталога семантических переходов» / Анна Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001. – № 2. – С. 13-25. 114. Звегинцев В. А. Семасиология / В. А. Звегинцев. – М. : Изд-во МГУ, 1957. – 322 с. – (Московский гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова). 115. Земская Е. А. Интерфиксация в современном русском словообразовании / Е. А. Земская // Развитие грамматики и лексики современного русского языка : сб. научн. трудов. – М. : Наука, 1964. – С. 3662. 116. Земская Е. А. Современный русский язык : словообразование : учебн. [пособие для студентов пед. ин-тов] / Е. А. Земская. – М. : Просвещение, 1973. – 304 с. 117. Земская Е. А. Проблема регулярности 273 в языкознании / Е. А. Земская // Деривация и история языка : международная научная конференция : тезисы докладов. – Пермь : Изд-во Пермского университета, 1985. – С. 4-5. 118. Зенков Г. С. Введение в языкознание : учебн. пособие [для студентов дистанционного обучения КГНУ] / Г. С. Зенков, И. А. Сапожникова. – Бишкек : ИИМОП КГНУ, 1998. – 218 с. 119. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1973. – 350 с. – (АН СССР, Ин-т русского языка). 120. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1982. – 368 с. – (АН СССР, Ин-т русского языка). 121. Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1988. – 440 с. – (АН СССР, Ин-т русского языка). 122. Зубкова Л. Г. О соотношении звучания и значения слова в системе языка (К проблеме произвольности языкового знака) / Л. Г. Зубкова // Вопросы языкознания. – № 5. – 1986. – С. 55-66. 123. Зусман В. Т. Зусман В. Т.// Концепт Межкультурная в культурологическом коммуникация : сб. научн. аспекте / трудов. – Н. Новгород : Изд-во НГУ, 2001. – С. 38-53. 124. Исаченко А. В. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков / А. В. Исаченко // Slavia. – 1958. – Roč. 27. – Seš. 3. – S. 349-350. 125. Исаченко А. В. О грамматическом значении / А. В. Исаченко // Вопросы языкознания – 1961. – № 1. – С. 28-43. 126. Искусственный интеллект машинного перевода : Интервью с профессором Г. Г. Белоноговым // Chip. – 2002. – № 5. – С. 142-145. 127. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке / В. И. Карасик // Языковая личность : культурные концепты : 274 сб. научн. трудов. – Волгоград-Архангельск, 1996. – С. 3-16. 128. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : сб. науч. трудов. – Воронеж : ВГУ, 2001. – С. 7580. 129. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с. 130. Карасик В. И. Языковые ключи / В. И. Карасик. – Волгоград : Парадигма, 2007. – 520 с. 131. Карпенко Ю. О. Проблема нульових афіксів у слов’янських мовах / Ю. О. Карпенко // Восточноукраинский лингвистический сборник : сб. научн. трудов. – Донецк : Донеччина, 2002. – Вып. 8. – С. 326-334. 132. Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики / В. Б. Касевич. – М. : Наука, 1977. – 183 с. : ил., сх., табл. 133. Касевич В. Б. Связанные словосочетания / В. Б. Касевич // Востоковедение : филологические исследования. – Вып. 9. – Л. : Наука, 1984. – С. 49–57. 134. Каховская Л. Ф. Аббревиация как способ словообразования : автореф. дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Л. Ф. Каховская. – Минск, 1980. – 22 с. 135. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение / С. Д. Кацнельсон. – М.-Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1965. – 112 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 136. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. – 216 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 137. Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание / С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – 189 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 138. Кацнельсон С. Д. Заметки о падежной теории Ч. Филлмора / 275 С. Д. Кацнельсон // Вопросы языкознания. – 1988. – № 1. – С. 110-117. 139. Керимов Э. А. Лингвистическая литература о проблеме русского слогоделения / Э. А. Керимов., Х. М. Тагиева // Язык и литература. – Баку, 2003. – № 4. – Режим доступа к журн. : http://yazikiliteratura.boom.ru/linq4.htm. 140. Кияк Т. Р. Мотивированность лексических единиц / Т. Р. Кияк. – Львов : Изд-во ЛГУ, 1988. – 163 с. : сх. – (Львовский гос. ун-т.). 141. Кияк Т. Р. О видах мотивированности лексических единиц / Т. Р. Кияк // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1. – С. 98-107. 142. Клакхон К. К. М. Зеркало для человека : введение в антропологию / Клайд Кей Мейбен Клакхон. – Санкт-Петербург : Евразия, 1998. – 352 с. : обложка с цв. илл. 143. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1984. – 252 с. : табл., сх. – (НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні). 144. Клименко Н. Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська. – К., 1998. – 161 с. : табл. – (НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні). 145. Кобрин Р. Ю. Еще раз о словосочетании / Р. Ю. Кобрин, К. Я. Авербух // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1979. – № 5. – С. 86-90. 146. Коваль А. Н. О субстантивации и прономинализации в свете данных языка с многоклассной системой / А. Н. Коваль // Вопросы языкознания. – 1987. – № 2. – С. 96-108. 147. Коваль Л. М. Інформативно недостатні слова української мови : семантика, функції : автореф. дис. на здоб наук. ступеня кандидата філол. наук / спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. М. Коваль. – К., 2004. – 23 с. 148. Колесов В. В. Реализм и номинализм : определения и классификации / В. В. Колесов // Русские философы о языке и познании. – Вып. 1. – Красноярск : КГУ, 1999. – 64 с. – Режим доступа: http://katrinaz.fromru.com/lib/kolesovrealizm.htm 276 149. Колесов В. В. Философия русского слова / В. В. Колесов. – СПб. : ЮНА, 2002. – 446 с. 150. Колесов В. В. Язык и ментальность / В. В. Колесов // Русистика и современность. – Т.1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – СПб., 2005. – С. 12-16. 151. Колшанский Г. В. Г. В. Колшанский // Категория Вопросы семантики в синтаксисе Романо-германской / филологии : синтаксическая семантика : научн. труды МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1977. – Вып. 122. – С. 5-11. 152. Колшанский Г. В. О языковом механизме порождения текста / Г. В. Колшанский // Вопросы языкознания. – 1983. – № 3. – С. 44-51. 153. Конюшкевич М. И. Предлог как синтаксемообразующий формант и структура синтаксемы / М. И. Конюшкевич // Лінгвістичні студії : зб. наук. Праць. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – № 14. – С. 73-79. 154. Котелова Н. З. Значение слова и его сочетаемость / Н. З. Котелова. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1975. – 164 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 155. Кочерга Г. Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові / Кочерга Ганна // Вісник Львівського університету : серія філологія. – 2004. – Вип. 34, Ч. І. – С. 88-94. 156. Крайняк Л. К. Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові : семантико-когнітивний аспект : автореф. дис. на здоб наук. ступеня кандидата філол. наук / спец. 10.02.04 «Германські мови» / Л. К. Крайняк. – К., 2001. – 19 с. 157. Красавский Н.А. Немецкие инвективы: опыт лингвогендерологического описания / Красавский Н.А. // Концептосфера и языковая картина мира / Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово : Кемеровский полиграфический комбинат, 2006. – С. 21-26. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 9). 158. Красиков В. И. Концепты 277 в функции философских основоположений / В. И. Красиков // Язык. Этнос. Картина мира / Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово 2003. – С. 10-16. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 1). 159. Красухин К. Г. О загадке слова (слово как узел лингвофилософских проблем) / К. Г. Красухин // АРХЭ : ежегодник культурологического семинара. – М., 1996. – Вып. 2. – С. 382-386. 160. Кресан О. Я. Функції композитної ономасіологічної структури в англомовній художній прозі : автореф. дис. на здоб наук. ступеня кандидата філол. наук / спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. Я. Кресан. – Одеса, 2001. – 20 с. 161. Кротевич Е. В. О связях слов : навч. посібник [для студентів фылологічних факультетів вузів] / Е. В. Кротевич. – Львів : Вид-во Львівського державного університету, 1959. – 265 с. 162. Крысенко Т. В. Коннотация как часть прагматического значения слова / Т. В. Крысенко // Русская филология : украинский вестник : республиканский научно-методический журнал. – Харьков, 2005. – № 3. – С. 25-27. 163. Кубрякова Е. С. Что такое словообразование? / Е. С. Кубрякова. – М. : Высшая школа, 1965. – 80 с. 164. Кубрякова Е. С. О формах движения в языке и определении понятия языковых изменений / Е. С. Кубрякова // Общее языкознание : формы существования языка / [отв. ред. Б. А. Серебренников]. – М. : Наука, 1970. – С. 205-210. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 165. Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1974. – № 5. – С. 64-76. 166. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование / Е. С. Кубрякова // Языковая номинация : виды наименований. – М. : Наука, 1977. – С. 222-304. 167. Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1978. – 115 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 278 168. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1981. – 199 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 169. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1986. – 158 с. : ил. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 170. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 144-238. 171. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под общей редакцией. Е.С. Кубряковой. – М. : Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с. 172. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики / Е. С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 6-17. 173. Кубрякова Е. С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 555 с., [1] л. портр. – (Язык. Семиотика. Культура). 174. Кудрявцева Л. А. Моделирование динамики словарного состава языка / Л. А. Кудрявцева. – К. : ИПЦ «Киевский университет», 2004. – 208 с. – (Киевский нац. ун-т.). 175. Кузнецов П. С. Опыт формального определения слова / П. С. Кузнецов // Вопросы языкознания. – 1964. – № 5. – С. 75-77. 176. Кузнецова О. Д. О принципах лексикализации в русских говорах / О. Д. Кузнецова // Вопросы языкознания. – 1977. – № 1. – С. 109-114. 177. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка : учебн. пособие [для филол. фак. ун-тов] / Э. В. Кузнецова. – М. : Высшая школа, 1982. – 152 с. 279 178. Курилович Е. Р. Заметки о значении слова // Очерки по лингвистике : статьи / Курилович Ежи. – М. : Издательство иностранной литературы, 1962. – С. 237–250. 179. Кучеренко І. А. Лексичне значення прийменника / І. А. Кучеренко // Мовознавство. – 1973. – № 3. – С. 12-23. 180. Ларин Б. А. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов) // История русского языка и общее языкознание : статьи / Ларин Борис Александрович. – М. : Просвещение, 1977. – С. 125-149. 181. Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 512 с. 182. Левковская К. А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала / К. А. Левковская. – М. : Высшая школа, 1962. – 296 с. 183. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 287 с. 184. Лещак О. В. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики : учебн. пособие [для студ. філол. фак-тов] / О. В. Лещак. – Тернополь : Підручники & посібники, 1996. – 445 с. 185. Лингвистический энциклопедический словарь / [глав. ред. В. И. Ярцева]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. – (ЛЭС 1990). 186. Лингвокультурный концепт : типология и области бытования / [под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева]. – Волгоград : ВолГУ, 2007. – 400 с. 187. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская словесность : от теории словесности к структуре текста : антология. – М. : Academia, 1997. – С. 280-287. 188. Ломтев Т. П. Основы синтаксиса современного русского языка : [учебн. пособие] / Т. П. Ломтев. – М. : Учпедгиз, 1958. – 166 с. 189. Лопатин В. В. Нулевая суффиксация в системе русского словообразования / В. В. Лопатин // Вопросы языкознания. – 1966. – № 1. – С. 280 76-82. 190. Лопатин В. В. Лексикализация / В. В. Лопатин // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 258. 191. Лосев А. Ф. Философия имени / А. Ф. Лосев. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. – 269 с. 192. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике / Ю. М. Лотман // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М., 1994. – С. 11-246. 193. Лукин М. Ф. Единство содержания и формы в категории падежа / М. Ф. Лукин // Русское языкознание : сб. научн. трудов. – К. : Лыбидь, 1991. – Вып. 22. – С. 59-65. 194. Луценко Н. А. Введение в лингвистику слова / Н. А. Луценко. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2003. – 141 с. – (Горлівський держ. пед. ін-т іноземн. мов). 195. Луценко Н. А. Грамматические категории в системе и узусе (глагол и имя) / Н. А. Луценко. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2003. – 202 с. – Библиогр. : с. 184-200. 196. Лучик А. А. Відображення еквівалентів слова в базових словниках української мови / А. А. Лучик// Бібліотечний вісник. – 2000. – № 3. – С. 3538. 197. Лучик А. А. Еквіваленти слова в українській і російській мовах : автореф. дис. на здоб наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова”; 10.02.02 „Російська мова” А. А. Лучик / . – Київ, 2001. – 34 с. 198. Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / А. А. Лучик. – К. : Довіра, 2003. – 495с. – (НАН України; Український мовно-інформаційний фонд). 199. Лучик А. А. Семантика прислівникових еквівалентів слова української і російської мов / А. А. Лучик. – К. : Довіра, 2001. – 218 с. 200. Лыков А. Г. Слово и предложение как 281 единицы языка / А. Г. Лыков // Современная лингвистика : теория и практика : сб. научн. трудов. – Краснодар, 2002. – Часть 1. – С. 84-89. 201. Лыков А. Г. Слово как смежная единица языка / А. Г. Лыков // Единицы разных уровней в языке и речи : межвузовский сборник. – Краснодар, 1976. – Часть 3. – С. 41-49. 202. Макаев Э. А. Понятие давления системы и иерархия языковых единиц / Э. А. Макаев // Вопросы языкознания. – 1962. – № 6. – С. 47-53. 203. Максим’юк О. В. Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення : автореф. дис. на здоб наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / О. В. Максим'юк. – Чернівці, 2006. – 22 с. 204. Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии / Л. В. Малаховский. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1990. – 240 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 205. Малкина Н. М. О принципах классификации сложных образований типа «существительное + существительное» (на материале современного французского языка) / Н. М. Малкина // Известия Воронежского гос. пед. инта. – 1963. – Т. 43. – С. 44-59. 206. Манаенко Г. Н. Соотношение «Концепт – понятие – значение»: коммуникативный аспект / Г. Н. Манаенко // Изменяющаяся Россия и славянский мир: новое в концептуальных исследованиях: сборник статей / отв. ред. М. В. Пименова. – Севастополь : Рибэст, 2009. – С. 37-44. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 11). 207. Марков В. М. О семантическом способе образования слов / В. М. Марков // Русское семантическое словообразование. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 1984. – С. 3-21. 208. Марков В. М. Избранные работы по русскому языку / В. М. Марков. – Казань : ДАС, 2001. – 275 с. 209. Мартине А. Основы общей лингвистики / А. Мартине // Новое в лингвистике.– М. : Прогресс, 1963. – Вып. 3. – С. 347-566. 210. Маслов Ю. С. Введение в 282 языкознание : учебник [для филологических специальностей вузов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – 272 с. 211. Маслова, В.А. Лингвокультурология: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / В.А. Маслова. – М., 2001. 212. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : [учебное пособие] / В. А. Маслова. – Минск: ТетраСистем, 2004. – 256 с. 213. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику: [учебное пособие] / В.А. Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 296 с. 214. Медведева Л. М. Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова / Л. М. Медведева // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1. – С. 86-97. 215. Мельников Г. П. Типы мотивированности языковых знаков/ Г. П. Мельников // Материалы семинара по проблемам мотивированности языкового знака. – Л. : Наука, 1969. – С. 3-6. 216. Мельчук И. А. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность» / И. А. Мельчук // Вопросы языкознания. – 1960. – № 4. – С. 73-80. 217. Мельчук И. А. Морфологический анализ при машинном переводе (преимущественно на материале русского языка) / И. А. Мельчук // Проблемы кибернетики : сб. научн. трудов. – М., 1961, – Вып. 6. – С. 207-276. 218. Мельчук И. А. О супплетивизме / И. А. Мельчук // Проблемы структурной лингвистики : 1971 – М. : Наука, 1972. – С. 396-438. 219. Мецлер А. А. Прагматика коммуникативных единиц / А. А. Мецлер. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 103 с. 220. Милославский И. Г. Синтез словосочетания и производного слова / И. Г. Милославский // Вопросы языкознания. – 1977. – № 5. – С. 53-61. 221. Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка / И. Г. Милославский. – М. : Просвещение, 1981. – 254 с. 222. Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский ; [пер. с англ. О. Н. Гринбаума]. – М. : Энергия, 1979. – 151 с. 223. Моисеев А. И. Некоторые вопросы теории словосочетания / 283 А. И. Моисеев // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1977. – № 2. – С. 54-60. 224. Моисеев А. И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке : учебн. пособие [для студ. филол. фак-тов вузов] / А. И. Моисеев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. – 207 с. 225. Мокиенко В. М. Славянская фразеология : учебн. пособие [для студ. филол. фак-тов вузов] / В. М. Мокиенко. – М. : Высшая школа, 1989. – 287 с. 226. Молошная Т. Н. Субстантивные словосочетания в славянских языках / Т. Н. Молошная. – М. : Наука, 1975. – 240 с. : табл. – (АН СССР, Инт славяноведения и балканистики). 227. Моррис Ч. У. Основания теории знаков / Моррис Ч. У // Семиотика : [антология / сост. Ю. С. Степанов]. – М. : Акад. Проект, 2001. – С. 45-97. 228. Москальская О. И. Вариантность и дифференциация в лексике литературного немецкого языка / О. И. Москальская // Норма и социальная дифференциация языка : доклады симпозиума. – М., 1969. – С. 57-68. 229. Москович В. А. Статистика и семантика / В. А. Москович. – М. : Наука, 1969. – 304 с. : черт. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 230. Мурзин Л. Н. Основы дериватологии / Л. Н. Мурзин. – Пермь : Изд-во Пермского гос. ун-та, 1984. – 56 с. – (Пермский гос. ун-т). 231. Мурясов Р. З. Словообразование и теория номинации / Р. З. Мурясов // Вопросы языкознания. – № 2. – 1989. – С. 39-53. 232. Науменко Ю. М. Ритмо-вокалическая структура русского и арабского слова в лингводидактическом аспекте : автореф. дис. на соискание учен. степени кандидата филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Ю. М. Науменко. – М., 2003. – 16 с. 233. Нелюба А. М. Осново- і словоскладання в контексті словотвірної номінації / А. М. Нелюба : Режим 284 доступу – http://www- philology.univer.kharkov.ua/Nauka_files/naukovi_konferencii/naukovi_konferenci i.files/dopovidi/neluba.htm. – Заголовок с экрана. 234. Немченко В. Н. Современный русский язык. Словообразование : пособие [для филолог. спец. ун-тов] / В. Н. Немченко. – М. : Высшая школа, 1984. – 255 с. 235. Немченко В. Н. Супплетивизм как грамматическое явление (понятие и термины) / В. Н. Немченко // Вестник Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского : серия филология. – 2001. – № 1 (2). – С. 163-173. 236. Никитевич В. М. Основы номинативной деривации / В. М. Никитевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 158 с. 237. Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании / В. М. Никитин. – Владимир : Изд-во ВГУ, 1974. – 160 с. – (Владимирский гос. ун-т). 238. Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика): учебн. пособие [для пед. вузов] / В. М. Никитин. – М. : Высшая школа, 1983. – 127 с. 239. Никитин М. В. О тождествах с когнитивных позиций / В. М. Никитин // Англистика в XXI веке : научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2001 г. : материалы. – Режим доступа : http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_01/43.htm. – Заголовок с экрана. 240. Новиков Л. А. Лексикализация форм числа существительных в русском языке (к вопросу о формах слова) / Л. А. Новиков // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1963. – № 1. – С. 77-90. 241. Новиков Л. А. Семантика русского языка : учебн. пособие [для университетов] / Л. А. Новиков. – М. : Высшая школа, 1982. – 272 с. 242. Образное политологическое мышление образование. // М., Социально-гуманитарное 2004. Режим и доступа : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/70066. 243. Общее языкознание : формы существования языка / [отв. ред. 285 Б. А. Серебренников]. – М. : Наука, 1970. – 604 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 244. Образное мышление // Социально-гуманитарное и политологическое образование. – М. : РУДН, 2004. – Режим доступа : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/70066. – Заголовок с экрана. 245. Осипова Л. И. Суффиксальные универбы с непредметной семантикой в русском языке / Л. И. Осипова // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1991. – № 5. – 61-69. 246. Осипова Л. И. Суффиксальная универбация как продуктивный способ образования новых слов в русской разговорной речи / Л. И. Осипова // Русский язык : исторические судьбы и современность : II междунар. конгресс исследователей русского языка, 18-21 марта 2004 г. : тезисы докл. – Режим доступа : http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=12514. – Заголовок с экрана. 247. Остин Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XVII : теория речевых актов. – М., 1986. – С. 22-131. 248. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Е. В. Падучева. – М. : Наука, 1985. – 271 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 249. Панов М. В. О слове как единице языка / М. В. Панов // Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. – М., 1956. – т. 51. – С. 128-167. 250. Панов М. В. Русская фонетика / М. В. Панов. – М. : Просвещение, 1967. – 438 с. : ил. – Библиогр. : с. 415-436. 251. Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания / В. З. Панфилов. – М. : Наука, 1982. – 357 с. 252. Пахалина Т. Н. Вариантность / Т. Н. Пахалина // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 80-81. 253. Петерсон М. Н. Русский язык : [пособие для преподавателей] / 286 М. Н. Петерсон. – М.; Л. : Госиздат, 1925. – 123 с. 254. Петров А. В. Отфразеологическая деривация сквозь призму базовых понятий словообразования / А. В. Петров // Восточноукраинский лингвистический сборник : сб. научн. трудов. – Донецк : Донеччина, 2004. – Вип. 9. – С. 242-264. 255. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – М. : Учпедгиз, 1956. – 511 с. 256. Пешковский А. М. В чем, наконец, сущность формальной грамматики // Избранные труды / Пешковский Александр Матвеевич. – М. : Учпедгиз, 1959. – С. 74-100. 257. Пиаже Ж. Генетический аспект языка и мышления / Пиаже Ж. // Психолингвистика. – М., 1984. – С. 334-335. 258. Пигалев А. И. Культурология : Учебник для вузов / А. И. Пигалев . – Волгоград : Либрис (Изд-во Волгогр. ун-та), 1999 . – 419 с. 259. Пименова М. В. Концепты внутреннего мира (русско-английские соответствия): дис. … докт. филол. наук / М. В. Пименова. – С-Петербург, 2001. – 497 с. 260. Пименова М. В. О типовых структурных элементах концептов внутреннего мира (на примере концепта душа) / М. В. Пименова // Язык. Этнос. Картина мира : сб. научных трудов / Отв. ред. М. В. Пименова. – Кемерово : Комплекс «Графика», 2003. – С. 28-39. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 1). 261. Пименова М. В. Душа и дух: особенности концептуализации / М. В. Пименова. – Кемерово : ИПК “Графика”, 2004. – 386 с. – (Серия “Концептуальные исследования”. Вып. 3). 262. Пименова М. В. Введение в концептуальные исследования: учеб. пособие / М. В. Пименова, О. Н. Кондратьева; изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово : КемГУ, 2009. – 160 с. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 5). 263. Покровский М. М. Семантические 287 исследования в области древних языков / М. М. Покровский. – М., 1896. – 123 с. 264. Пономарева М. Н. К вопросу о разграничении омонимии и полисемии / М. Н. Пономарева // Разноуровневые черты языковых и речевых явлений : межвуз. сб. научн. трудов. – Выпуск XII. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2006. – С. 163–167. 265. Попова З. Д. Лексическая система языка : [учебн. пособие] / З. Д. Попова, И. А. Стернин.– Воронеж, Изд-во ВГУ, 1984. – 145 с. 266. Попова З. Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, Изд-во ВГУ, 1999. – 186 с. 267. Попова 3. Д. «Слабые места» публикаций по когнитивной лингвистике (к проблеме унификации и стабилизации лингвокогнитивной терминологии) / Попова З. Д., Стернин И. А. // Язык. Этнос. Картина мира / Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово 2003. – С. 16-23. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 1). 268. Попова З. Д. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку / Попова З. Д., Стернин И. А. // Антология концептов. – Волгоград : Парадигма, 2005. – Т.1. – С. 7-10. 269. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика в современной науке о языке / Попова З. Д., Стернин И. А. // Ментальность и язык : коллективная монография / Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2006. – С. 3-15. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 7). 270. Постникова С. В. К вопросу о референциально-прагматической природе языковых знаков / С. В. Постникова // Вестник Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского : Серия Филология. – 2001. – № 1 (2). – С. 202-207. 271. Постовалова В.И. Лингвокультурология в свете антропоцентрической парадигмы / В.И. Постовалова // Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 23-25. 272. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : Просвещение, 1958. – Т. I-II. 288 273. Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1988. – 623 с. 274. Потебня А. А. Полное собрание трудов : мысль и язык / А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 1999. – 300 с. 275. Прокопович Н. Н. Словосочетание в современном русском литературном языке / Н. Н. Прокопович. – М. : Просвещение, 1966. – 400 с. 276. Реформатский А. А. Введение в языковедение : учебник [для вузов] / А. А. Реформатский. – М. : Просвещение, 1967. – 542 с. 277. Рогожникова Р. П. Варианты слова в русском языке / Р. П. Рогожникова. – М. : Просвещение, 1966. – 116 с. 278. Рогожникова Р. П. Об эквивалентах слова в русском языке / Р. П. Рогожникова // Вопросы языкознания. – 1977. – № 5. – С. 110-117. 279. Росс Эшби У. Ведение в кибернетику / Уильям Росс Эшби ; [пер. с англ. Лахути Д. Г.] – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1959. – 432 с. 280. Рохлина Л. А. Вербиальная объективация и репрезентация логикомыслительной категории локальности (на материале русского и французского языков) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Л. А. Рохлина. – Ульяновск, 2006. – 21 с. 281. Руделев В. Г. Слово / В. Г. Руделев // Лингвистика : взаимодействие концепций и парадигм : межведомственная научно-теорет. конф. : материалы. – Харьков, 1991. – Вып. 1, Ч. 1. – С. 70-72. 282. Рудницька Л. І. Абревіатури як особливий клас засобів номінації в сучасній українські мові / Л. І. Рудницька // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках : 3 международная конференция : материалы. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – С. 54-56. 283. Русанівський В. М. Поняття семантичного і стилістичного інваріанта / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 1981. – № 3. – С. 9-20. 284. Русанівський В. М. Вчення О. Потебні про внутрішню форму / В. М. Русанівський // Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки : зб. наук. праць. – Харків, 1985. – С. 3-6. 289 285. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1988. – 240 с. – (АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні). 286. Русская грамматика : в 2-х т. / [гл. ред. Н. Ю. Шведова]. – М. : Наука, 1980. – Т.1. – 784 с. 287. Русский язык : энциклопедия / [гл. ред. Ф. П. Филин]. – М. : Советская энциклопедия, 1979. – 431 с. 288. Русский язык : энциклопедия / [гл. ред. Ю. Н. Караулов]. – 2-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия ; Дрофа, 1997. – 703 с. 289. Сайтаева Т. И. Языковая природа социальных стереотипов : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Сайтаева Татьяна Ильинична. – Ижевск, 2006. – 147 с. 290. Сахарный Л. В. Словообразование как синтаксический процесс / Л. В. Сахарный // Проблемы структуры слова и предложения : сб. науч. трудов. – Пермь : Изд-во ПГУ, 1974. – С. 27-37. 291. Сахарный Л. В. Психолингвистические аспекты теории словообразования / Л. В. Сахарный. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 97 с. – (Ленинградский гос. ун-т). 292. Сахибгареева Л. Ф. Проблема аббревиации в разноструктурных языках : деривационно-номинативные аспекты / Л. Ф. Сахибгареева, Т. М. Гарипов // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – Режим доступа : http://iz.bspu.ru/index.php?in=vestnik/saxib.html. – Заголовок с экрана. 293. Сегаль М. М. Аббревиатуры в современном английском языке / М. М. Сегаль // Вопросы английской филологии : сб. научн. трудов. – Л. : Изд-во ЛГПИ, 1962. – С. 216-288. 294. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О. О. Селіванова. – К.-Черкаси : Брама, 2004. – 276 с. 295. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. 290 – К. : Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с. 296. Селіванова О. О. Складне слово : мовні моделі світу (основи зіставної композитології російської та української мов) / О. О. Селіванова. – Черкаси : Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 1996. – 299 с. 297. Семенюк Н. Н. Некоторые вопросы изучения вариантности / Н. Н. Семенюк // Вопросы языкознания. – 1965. – № 1. – С. 48-55. 298. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии [Текст] / Э. Сепир; Пер. с англ. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 656 с. 299. Сергеева Г. Н. Лексикализованные предложно-падежные словоформы как одна из структурных разновидностей эквивалентов слова / Г. Н. Сергеева // Лингвистический вестник Сибири : сб. науч. трудов. – Красноярск : Изд-во КрасГУ, 2000. – Вып. 2. – С. 60-67. 300. Сидоренко Е. Н. Лингвистика ономатологических единиц как одно из направлений развития языкознания в XXI веке / Е. Н. Сидоренко // Зб. лінгв. праць : до 60-річчя проф. О. А. Колеснікова. – Ізмаїл, 2000. – С. 72-79. 301. Сидоренко Е. Н. Ономатологические единицы в современном русском языке : типология, структура, грамматические особенности / Сидоренко Е. Н., Гирская Т. Б., Пономаренко Е. А. // Русская филология : украинский вестник. – № 1-2 (18). – Харьков, 2001. – С. 11-14. 302. Сидоренко Е. Н. Морфология современного русского языка (части речи и контаминанты) : [учебн. пособие для студентов-филологов] : в 2-х ч. / Е. Н. Сидоренко. – Симферополь : Еліньо, 2003. – Ч. 2. – 165 с. 303. Сидоренко Е. Н. От понятийных категорий – к языковым смыслам и средствам их выражения / Е. Н. Сидоренко // На терені юридичної та філологічної наук : зб. наук. праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності проф. Прадіда Ю. Ф. – Сімферополь : Еліньо, 2006. – С. 272-277. 304. Сидоренко О. М. Про поняття універбізаціі в сучасному слов'янському мовознавстві / О. М. Сидоренко // Мовознавство. – 1992. – 291 № 4. – С. 42-47. 305. Ситянина Н. В. Структурно-семантическое исследование наименований объектов и явлений природы в современном английском языке : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситянина Наталия Викторовна. – Санкт-Петербург, 2003. – 146 306. Смирницкий А. И. К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова) / А. И. Смирницкий // Вопросы теории и история языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – С. 15-37. 307. Смирницкий А. И. К вопросу о слове (Проблема тождества слова) / А. И. Смирницкий // Труды ин-та языкознания АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 4. – С. 3-50. 308. Смирницкий А. И. Лексическое и грамматическое в слове / А. И. Смирницкий // Вопросы грамматического строя : сб. научн. трудов. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – С. 11-53. 309. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка : учебн. пособие [для студентов вузов] / А. И. Смирницкий – М. : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1956. – 364 с. – (Библиотечка филолога). 310. Смирницкий А. И. Значение слова и его семантика / А. И. Смирницкий // Вопросы языкознания. – 1960. – № 3. – С. 112-116. 311. Смирницкий А. И. Образования типа stone wall, speech sound в английском языке / А. И. Смирницкий, О. С. Ахманова // Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – Вып. II. – С. 99-103. 312. Смирницкий А. И. Так называемая конверсия и чередования звуков в английском языке / А. И. Смирницкий // Иностр. яз. в школе. – 1953. – № 5. – С. 20–31. 313. Снитко Е. С. Деривация и ее виды в русском языке / Е. С. Снитко // Русское языкознание. – 1982. – Вып. 4. – С. 84-89. 314. Снитко Е. С. Внутренняя форма в процессах номинации (на материале русского языка) : автореф. дис. … докт. филол. наук / 292 Е. С. Снитко. – Киев, 1990. – 35 с. 315. Соболевский А. И. Труды по истории русского языка : в 2-ух т. / А. И. Соболевский. – М. : Языки славянских культур, 2006 – .– Т. 2 : Статьи и рецензии. – 688 с. 316. Современный русский язык : [учебн. пособие для вузов/ сост. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю.] : в 3 ч. – М. : Просвещение, 1981– .– Ч. З : Синтаксис. Пунктуация. – 271 с. 317. Современный русский литературный язык : учебник [для вузов] / [под ред. П. А. Леканта]. – М. : Высшая школа, 1982. – 399 с. 318. Соколовская Ж. П. Проблема многозначности в лингвистической концепции А. А. Потебни / Ж. П. Соколовская // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1989. – № 2. – С. 46-51. 319. Солнцев А. В. Виды номинативных единиц / А. В. Солнцев // Вопросы языкознания. – 1987. – № 2.– С. 133-137. 320. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование (к проблеме онтологии языка) : автореф. дис. … докт. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / В. М. Солнцев. – М., 1970. – 36 с. 321. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / В. М. Солнцев. – М. : Наука, 1977. – 344 с. – (АН СССР, Ин-т востоковедения). 322. Солодуб Ю. П. докоммуникативного Типология уровня значений (функциональный языковых аспект единиц анализа) / Ю. П. Солодуб // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1988. – № 5. – С. 37-46. 323. Сорокин Ю. А. Две дискуссионные реплики по поводу когнитивного «бума» / Сорокин Ю. А. // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста. – Волгоград, 2003. – Ч. 1. – С. 283-294. 324. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики ; [пер. с фр. А. А. Холодовича] // Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. – М. : Прогресс, 1977. – С. 30-269. 293 325. Степанов Ю. С. Основы языкознания : [для студ. филол. фак-тов пед. ин-тов] / Ю. С. Степанов. – М. : Просвещение, 1966. – 272 с. 326. Степанов Ю. С. Семиотическая структура языка (три функции и три формальных аппарата языка) / Ю. С. Степанов // Известия АН СССР : серия лит. и яз. – 1973. – № 4. – С. 340-355. 327. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания : учебн. пособие. [для студ. филол. фак-тов пед. ин-тов] / Ю. С. Степанов. – М. : Просвещение, 1975. – 271 с. 328. Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры. опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Школа "Языки русской культуры", 1997. – С. 40-76. 329. Степанова М. Д. К вопросу о синтаксической природе словосложения / М. Д. Степанова // Ученые записки 1 МГПИИЯ. – М., 1959. – т. 19. – С. 305-341. 330. Степанова М. Д. Вопросы лексико-семантического тождества (на материале современного немецкого языка) / М. Д. Степанова // Вопросы языкознания. – 1967. – № 2. – С. 89-97. 331. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова / И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1976. – 156 с. 332. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи / И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1985. – 171 с. 333. Стернин И. А. Национальная специфика мышления и проблема лакунарности / И. А. Стернин // Связи языковых единиц в системе и реализации : сб. научн. тр. – Тамбов : Изд-во Тамбовского государственного университета, 1998. – С. 22-31. 334. Стішов О. А. Відфраземні деривати-неологізми в сучасній українській мові / О. А. Стішов // Мовознавство. – 1990. – № 2. – С. 64-66. 335. Столярова Л. П. Базовый словарь лингвистических терминов / Столярова Л. П., Пристайко Т. С., Попко Л. П. – Киев : Изд-во гос. академии руководящих кадров культуры и искусств, 2003. – 192 с. 294 336. Стукало І. Проблема варіантності у мовознавстві / Стукало Ірина // Вісник Львівського нац. ун-ту : Серія Філологія. – Львів, 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 24-31. 337. Суняйкина С. Д. Поэтические варианты слов в немецком языке / С. Д. Суняйкина // Бодуэновские чтения : Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика : междунар. науч. конф., 11-13 дек. 2001 г. : труды и материалы : В 2-ух т. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2001. – Т. 2. – С. 121-123. 338. Тазетдинова Р. Р. Языковой концепт как базовый термин лингвокультурологии / Р. Р. Тазетдинова // Межкультурный диалог на евразийском пространстве : международная научная конференция, Уфа, Башкирский государственный университет, 30 сентября – 2 октября 2002 г. : материалы. – С. 1-3. – Режим доступа : http://www.bashedu.ru/evrazia/f_s/f_tazetdinova.rtf. – Заголовок с экрана. 339. Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах / А. А. Тараненко. – К. : Наукова думка, 1989. – 254 с. – (АН УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни). 340. Телия В. Н. Что такое фразеология? / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1966. – 87 с. – Библиогр. в пристр. сносках. 341. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды / В. Н. Телия // Языковая номинация : виды наименований : сб. научн. тр. – М. : Наука, 1977. – С. 129-221. 342. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 343. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Теньер Люсьен ; [пер. с фр. И. М. Богуславського]. – М. : Прогресс, 1988. – 653 с. 344. Теркулов В. И. Этимологические дублеты латино-романского происхождения в русском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Теркулов Вячеслав Исаевич. – Донецк, 1994. – 202 с. 345. Теркулов В. І. Лексикалізація як спосіб словотвору (на матеріалі 295 російської та української мов) / В. І. Теркулов // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Донецьк : Лебідь, 2002. – Вип. 1. – С. 37-48. 346. Теркулов В. И. Структура лексемы как система межглоссовых отношений / В. И. Теркулов // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методический сборник.– Славянск : СГПУ, 2003. – Вып. XI. – Часть 1. – С. 98-104. 347. Теркулов В. И. О понятии «номинатема» / В. И. Теркулов // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2004. – Вип. 4. – С. 45-52. 348. Теркулов В. И. О средствах выражения падежного значения (к проблеме “нулевой” флексии) / В. И. Теркулов // Филологические исследования : сб. научн. трудов. – Донецк : Юго-восток, 2004. – Вып. 6. – С. 262-271. 349. Теркулов В. И. О разграничении процессов лексикализации и вербализации / В. И. Теркулов // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методический сборник. – Вып. XII. : Ч. I. – Славянск : СГПУ, 2005. 350. Теркулов В. И. номинатем / Особенности В. И. Теркулов // Вісник заимствования композитов- Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : філологічні науки : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – № 15 (95). – Ч. 1. – С. 72-78. 351. Теркулов В. И. В. И. Теркулов // Еще Вісник раз об Луганського основной единице національного языка / педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : філологічні науки : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 11 (106). – С. 127-137. 352. Теркулов В. И. Слово и номинатема : опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка: монография / В. И. Теркулов. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2007. – 240 с. 353. Теркулов В. И. Ономасиологический падеж / В. И. Теркулов // Язык и ментальность : [сборник статей] / Отв. ред. М. В. Пименова. – СПб., 296 2010. – С. 103-111. – (Серия «Славянский мир». Вып. 5). 354. Теркулов В. И. Ономасиологичкая типология универбализационных композитов / В. И. Теркулов // Концептуальные исследования в современной лингвистике : [сборник статей] / Отв. ред. М. В. Пименова. – СПб.-Горловка, 2010. – С. 85-93. – (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 12). 355. Теркулов В. И. Сотворение мира в стихотворениях В. Хлебникова [Текст] / В. И. Теркулов // Концептуальные исследования в современной лингвистике: [сборник статей] / Отв. ред. М. В. Пименова. – СПб.-Горловка, 2010. – С. 536-545. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 12). 356. Тер-Минасова С. Г. Можно ли опровергнуть учение о словосочетании / С. Г. Тер-Минасова, Н. Б. Гвишиани // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1977. – № 2. – С. 61-67. 357. Тимофеев В. П. Исходная (словарная) форма слова в русском языке : учебн. пособие [для студ. пед. ин-тов] / В. П. Тимофеев.– Свердловск : Изд-во Свердловского пединститута, 1971. – 185 с. 358. Торопцев И. С. Лексическая мотивированность (на материале русского литературного языка) / И. С. Торопцев // Ученые записки Орловского педагогического института. – Орел, 1964. – Т. 22. – С. 21-27. 359. Троицкий В. Н. Основные принципы словообразования / В. Н. Троицкий // Уч. зап. первого Ленинградского гос. пед. ин-та иностр. языков. – Ленинград, 1940. – Т. 14. – С. 290-302. 360. Тропина Н. П. Семантическая деривация : мультпарадигмальное исследование / Н. П. Тропина. – Херсон : Изд-во ХГУ, 2003. – 336 с. 361. Тропіна Н. П. Семантична деривація в сучасній російській мові : автореф. дис. на здоб наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.02 „Російська мова” / Н. П. Тропіна. – Київ, 2004. – 36 с. 362. Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Н. С. Трубецкой ; [пер. с нем. А. А. Холодовича]. – М. : Изд-во иностр. лит., 1960. – 372 с. 363. Трубецкой Н. С. Отношение между определяемым, определением 297 и определенностью // Избранные труды по филологии / Н. С. Трубецкой. – М., 1987. – С. 37-43. 364. Тукова Т. В. Антиномия кода и текста в современном русском языке / Т. В. Тукова // Восточноукраинский лингвистический сборник : сб. научн. трудов. – Донецк, 2004. – Вып. 9. – С. 346-358. 365. Тукова Т. В. Морфологическая вариативность как языковая проблема / Т. В. Тукова // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – № 15. – С. 204-209. 366. Турыгина Л. А. Моделирование языковых структур средствами вычислительной техники : учебн. пособие [для студ. филол. фак-тов вузов] / Л. А. Турыгина. – М. : Высшая школа, 1988. – 176 c. 367. Тышлер И. С. О проблемах омонимии в английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / И. С. Тышлер. – М., 1966. – 20 с. 368. Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И. С. Улуханов. – М. : Наука 1977. – 256 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 369. Ульман С. Семантические универсалии / Ульман Стефан // Новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1970. – Вып. 5. – С. 250-299. 370. Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б. Л. Уорф // Новое в лингвистике. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. – Вып. 1. – С. 135-169. 371. Уфимцева А. А. Структурная организация лексики и ее единиц / А. А. Уфимцева // Общее языкознание : внутренняя структура языка. – М. : Наука, 1972. – С. 394-454. 372. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1974. – 206 с. 373. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная, нейтральная) / А. А. Уфимцева // Языковая номинация : виды наименований. – М. : Наука, 1977. – С. 5-85. 298 374. Уфимцева А. А. Семантика слова / А. А. Уфимцева // Аспекты семантических исследований : сб. науч. трудов. – М. : Наука, 1980. – С. 5-80. 375. Уфимцева А. А. Лексическое значение : принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1986. – 240 с. 376. Ушкова Н. В. Аналитическая репрезентация концепта в языке : автореф. дис. … докт. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Н. В. Ушкова. – Тамбов, 2006. – 44 с. 377. Федоров В. В. В чем необходимость поэта? / В. В. Федоров// Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк, 2006. – Вып. 10. – С. 480-487. 378. Федорова М. В. О типах номинации в русском языке / М. В. Федорова // Вопросы языкознания. – 1979. – № 3. – С. 132-137. 379. Филин Ф. П. О слове и вариантах слова / Ф. П. Филин // Морфологическая структура слова в языках различных типов : сб. научн. трудов. – М.-Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1963. – С. 131-140. 380. Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1981. – Вып. X. – С. 369-495. 381. Форменко Ю. В. Является ли словосочетание единицей языка? / Ю. В. Форменко // Научные доклады высшей школы : филологические науки. – 1975. – № 6. – С. 60-65. 382. Франчук В. Ю. Структурно-семантичні особливості деяких складних прикметників / Франчук В. Ю. // Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов : наук. зб. – К., 1965. – С. 108 – 121. 383. Фрей А. Соссюр против Соссюра? Статьи разных лет / Фрей Анри ; [пер. с фр. Мазо В. Д.]. – М. : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Женевская лингвистическая школа). 384. Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления / М.Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с. 385. Цыганенко Г. П. Русский язык. Морфемика. Словообразование. 299 Этимология : учебн. пособие [для студентов филологических специальностей вузов] / Г. П. Цыганенко. – Донецк : КИТИС, 1999. – 316 с. 386. Чепасова А. М. Импликация и ее следствия во фразеологии / А. М. Чепасова // Проблема тождества фразеологических единиц : сб. научн. трудов. – Челябинск, 1990. – С. 45-56. 387. Черемухина Т. К. К проблеме сопоставления языковой и речевой номинаций : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.05 «Романские языки» / Т. К. Черемухина. – М., 1980. – 24 с. 388. Чуєшкова О. В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) : автореф. дис. на здоб наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / О. В. Чуєшкова. – Харків, 2003. – 18 с. 389. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию : учебн. пособие [для студ. пед. ин- тов по спец. "Русский язык и литература"] / Н. М. Шанский. – М. : Изд-во МГУ, 1968. – 310 с. 390. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка : учебн. пособие [для студ. пед. ин- тов по спец. «Русский язык и литература»] / Н. М. Шанский. – М. : Просвещение, 1972. – 327 с. 391. Шанский Н. М. Современный русский язык : учебн. пособие [для студ. пед. ин- тов по спец. "Русский язык и литература"] : в 3 частях / Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов. – 2-е изд. – Ч. 2. Словообразование. Морфология.– М. : Просвещение. 1981. – 270 с. 392. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка : учебн. пособие [для студ. пед. ин- тов по спец. "Русский язык и литература"] / Н. М. Шанский. – М. : Высшая школа, 1985. – 160 с. 393. Шаповалова А. П. Опыт построения общей теории аббревиации (На материале французских сокращенных лексических единиц) : дис. ... докт. филол. наук : 10.02.19 / Шаповалова Александра Петровна. – Ростов н/Д, 2004. – 421 c. 394. Шарандин А. Л. Системная категоризация русского глагола : 300 [учебное пособие] / Шарандин А. Л. – Тамбов, 2001. – 208 с. 395. Шарандин А. Л. Глагол в истории отечественного языкознания : к вопросу о месте глагола в системе частей речи русского языка / Шарандин А. Л. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2003. – 123 с. 396. Шведова Н. Ю. Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий / Н. Ю. Шведова, А. С. Белоусова. – М. : Изд-во Института русского языка им. В. В. Виноградова, 1995. – 120 с. 397. Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими пространства / Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 176 с. 398. Шевелева А. Н. Структура и семантика телескопических производных с точки зрения когнитивной лингвистики (На материале современного английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / А. Н. Шевелева. – С-Пб., 2003. – 23 c. 399. Шигапова С. М. К трактовке понятия синтаксического варианта в плане решения дихотомии “инвариант-вариант” / С. М. Шигапова // Вестник АмГУ. – 1999. – № 4. – Режим доступа к журналу : http://www.amursu.ru/vestnik/4/ 400. Шигапова С. М. Вариантность слова и проблема типологии вариантов / С. М. Шигапова // Вестник АмГУ. – 2000. – № 3. – Режим доступа к журналу : http://www.amursu.ru/vestnik/3/ 401. Шмелёв Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1973. – 278 с. – (АН СССР, Ин-т языкознания). 402. Шмелев Д. Н. Современный русский язык : Лексикология : учебн. пособие. [для студ. пед. ин- тов по спец. "Русский язык и литература"]. – М. : Просвещение, 1977. – 253 с. 403. Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие / Л. В. Щерба. – Т. I (с приложением текстов). – СПб., 1915. – I–XXII+194+54 стр. 404. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. – 301 М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1957. – 188 с. 405. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Л. : Наука, 1974. 406. Эйнштейн А. Влияние Максвелла на развитие представлений о физической реальности // Собрание научных трудов / А. Эйнштейн. – М., Пг., 1923. – Т.1. – С. 78-89. 407. Эмирова А. М. Избранные научные работы / А. М. Эмирова. – Симферополь : КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2008. – 366 с. 408. Языковая номинация : общие вопросы / Под ред. А. А. Уфимцевой, Б. Л. Серебреникова. – М. : Наука, 1977. – 360 с. 409. Ярмашевич М. А. Номинативная способность аббревиатур / М. А. Ярмашевич // Language and Literature. – Вып. 16. – Режим доступа к журналу : http://frgf.utmn.ru/journal/No16/journal.htm 410. Ярцева В. Н. Диахроническое изучение системы языка / В. Н. Ярцева // Тезисы докладов на открытом расширенном заседании ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – С. 16-20. 411. Bybee J. Morphology : A study of the relation between meaning and form / J. Bybee. – Amsterdam : Benjamins, 1985. – 234 p. 412. Dokulil M. Tvoreni slov v ceštine. I. Teorie odvozováni slov / M. Dokulil. – Praha : CAV, 1962. – 263 s. 413. Gramatyka współczesnego języka polskiego : morfologia / [red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wrуbla]. – Warszawa : PWN, 1984. – 312 s. 414. Jackson H. Words and their Meaning / H. Jackson. – London and New York : Longman, 1995. – 279 p. 415. Jespersen O. Monosyllabism in English / O. Jespersen // Proc. of Brit. Acad. – London, 1928. – Vol. 14. – P. 344–368. 416. Marchand H. The categories and types of present-day English 302 worm-formation / H. Marchand. – Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1960. – 360 p. 417. Nida E. A. Componential analysis of meaning / E. A. Nida. – The Hague-Paris, Mouton, 1975. – 272 p. 418. Pustejovsky J. Lexical Semantics : the Problem of Polysemy / J. Pustejovsky, B. Boguraev. – Oxford : Language Arts & Disciplines – 1996 – 214 p. 419. Ravin Y. Polysemy : theoretical and Computational Approaches / Y. Ravin, C. Leacock. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 227 p. 420. Schank R. C. Dynamic Memory / R. C. Schank. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1982. – 234 p. 421. Schank R. C. Reading and Understanding : Teaching from the Perspective of Artificial Intelligence / R. C. Schank. – Hillsdale, N.Y. : Lawrence Erlbaum Ass., 1982. – 196 p. 303 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА а) Словари и энциклопедии 1. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов : [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – 20-е изд., стереотип. – М. : Русский язык, 1988. – 750 с. – (Ожегов 1988). б) Книги, статьи, документы, инструкции 2. Асадов Э. Лирика / Э. Асадов. – М. : АСТ, 2002. – 464 с. : ил. 3. Вахрамеев А. В. Борьба социалистического содружества за разрядку международной напряженности / Вахрамеев А. В. – М., 1979. – 68 с. 4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих : выпуск 53. Эксплуатация и летные испытания летательных аппаратов (воздушных судов). – М. : ЕТКС, 1986. – 36 с. 5. Жирков Г. В. История цензуры в России XIX-XX вв / Г. В. Жирков. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 368 с. 6. Каталог фирмы «Merivaara». – Режим доступа : http://www.medalnet.ru. 7. Пушкин А. С. Евгений Онегин : [роман в стихах, критика] / А. С. Пушкин. – М. : ЭКСМО, 2005. – 384 с. 8. Рекламная деятельность / [Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Серегина Т. К., Шахурин В. Г.]. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» 1999. – 364 с. 9. Шталь А. Развитие методов операций подводных лодок в войну 1914–1918 гг. на основных морских театрах / Шталь А. – М. : Воениздат НКО СССР, 1936. – 327 с. 10. Эппель А. Шампиньон моей жизни : [рассказы] / А. Эппель. – СПб. : Symposium, 2001. – 495 с. в) Периодические издания 11. 12 Вольт. 12. Аргументы и факты. 13. Век. 14. Вечерний Новосибирск. 304 15. Вечерний Харьков. 16. Вечірній Київ. 17. Волхов. 18. Газета по-киевски. 19. Деловая неделя. 20. Заполярная правда. 21. Зеркало недели. 22. Известия. 23. Итоги. 24. Команда. 25. Коммерсантъ. 26. Компьютерра. 27. Комсомольская правда. 28. Московский комсомолец. 29. Наше слово. 30. Новая газета. 31. Новая политика. 32. Новое русское слово. 33. Орловская искра. 34. Православная Удмуртия. 35. Просторы России. 36. Рабочая газета. 37. Российская газета. 38. Санкт-Петербургские ведомости. 39. Сегодня. 40. Сегодняшняя газета. 41. Снабжение и сбыт. 42. Советская Белоруссия. 43. Твой день. 44. Футбол. 305 г) Интернет-ресурсы интернет-энциклопедия. – 45. Википедия : Режим доступа : http ://ru.wikipedia.org. 46. Грозный-информ : новости Чеченской республики. – Режим доступа : http ://www.grozny-inform.ru. 47. Живой журнал : портал. – Режим доступа : http ://livejournal.com. 48. Курилка : интернет-форум. – Режим доступа : – Режим доступа : – Режим доступа : http ://kurilka.citforum.ru. 49. Персональная страница А. Недосекина. http ://sedok.narod.ru. 50. Росбалт : информационное агентство. http ://www.rosbalt.ru. 51. Autoinfo : портал. – Режим доступа : http://www.autoinfo.md. 52. Mega-u.ru : информационное агентство. – Режим доступа : http://www.mega-u.ru сайт 53. Off-социальный М. Пушкиной. – Режим доступа : – Режим доступа : – Режим доступа : http ://www.margenta.ru. 54. Regnum : информационное агентство. http ://www.regnum.ru. 55. Radio.kaluga.net : официальный сайт. http://www.radio.kaluga.net 56. Securitylab : Сайт. – режим доступа : http ://www.securitylab.ru. д) Теле- и радиопрограммы 57. Новости / НТН 306