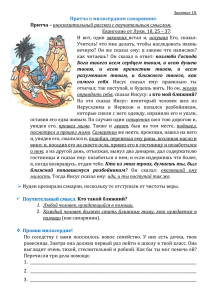DOC, 2.3 МБ
advertisement
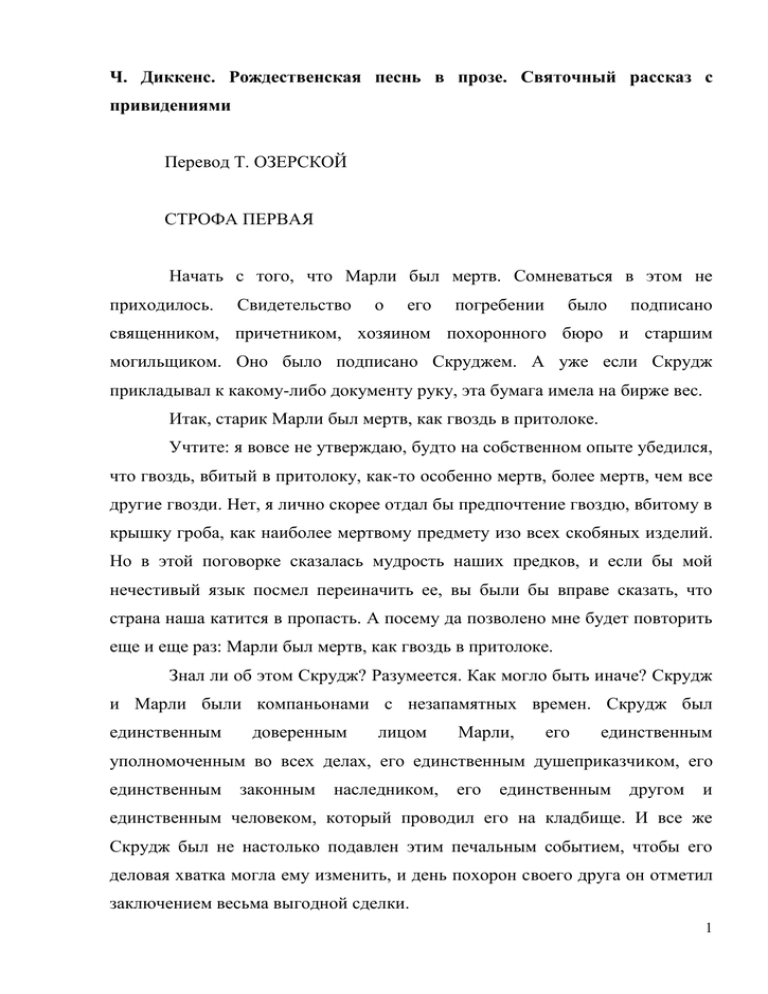
Ч. Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями Перевод Т. ОЗЕРСКОЙ СТРОФА ПЕРВАЯ Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки. 1 Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель - поразить и без того расстроенное воображение сына. Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда - Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично. Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий - он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. 2 Жара или стужа на дворе - Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем - они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: "Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?" Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: "Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом". А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко. И вот однажды - и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все , и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана - такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. 3 Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику. Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, - казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу. - С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! - раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж - не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. - Вздор! - проворчал Скрудж. - Чепуха! Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели - прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар. - Это святки - чепуха, дядюшка? - переспросил племянник. - Верно, я вас не понял! - Слыхали! - сказал Скрудж. - Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? - В таком случае, - весело отозвался племянник, - по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? 4 На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое "вздор" и присовокупил еще "чепуха!". - Не ворчите, дядюшка, - сказал племянник. - А что мне прикажешь делать. - возразил Скрудж, - ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, - негодующе продолжал Скрудж, - я бы такого олуха, который бегает и кричит: "Веселые святки! Веселые святки!" - сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста *. - Дядюшка! - взмолился племянник. - Племянник! - отрезал дядюшка. - Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему. - Справлять! - воскликнул племянник. - Так вы же их никак не справляете! - Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет! - Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, - отвечал племянник. - Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни - дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, - даже в неимущих и обездоленных, - таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает 5 идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество! Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру... - Эй, вы! - сказал Скрудж. - Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, - обратился он к племяннику, вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте. - Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек. - Да почему же? - вскричал племянник. - Почему? - А почему ты женился? - спросил Скрудж. - Влюбился, вот почему. - Влюбился! - проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде "веселых святок". - Ну, честь имею! - Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу? - Честь имею! - повторил Скрудж. - Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями? - Честь имею! - сказал Скрудж. - Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка. - Честь имею! - сказал Скрудж. 6 - И счастливого Нового года! - Честь имею! - повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие. - Вот еще один умалишенный! - пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. - Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же - толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать! А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу. - Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? - спросил один из них, сверившись с каким-то списком. - Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли? - Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, - отвечал Скрудж. - Он умер в сочельник, ровно семь лет назад . - В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы. И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово "щедрость", Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги. - В эти праздничные дни, мистер Скрудж, - продолжал посетитель, беря с конторки перо, - более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой. - Разве у нас нет острогов? - спросил Скрудж. 7 - Острогов? Сколько угодно, - отвечал посетитель, кладя обратно перо. - А работные дома? - продолжал Скрудж. - Они действуют попрежнему? - К сожалению, по-прежнему. Хотя, - заметил посетитель, - я был бы рад сообщить, что их прикрыли. - Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе? - Ни то, ни другое не отменено. - А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся. - Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, - возразил посетитель, - мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени? - Никакой. - Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени? - Я хочу, чтобы меня оставили в покое, - отрезал Скрудж. - Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, - вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда. - Не все это могут, а иные и не хотят - скорее умрут. - Если они предпочитают умирать, тем лучше, - сказал Скрудж. - Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует. - Это должно бы вас интересовать. 8 - Меня все это совершенно не касается, - сказал Скрудж. - Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены! Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении. Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги - бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, 9 уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину. Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан * вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка! Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна: Да пошлет вам радость бог. Пусть ничто вас не печалит... Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза. Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу. - Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? - спросил Скрудж. - Если только это вполне удобно, сэр. - Это совсем неудобно, - сказал Скрудж, - и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли? Клерк выдавил некоторое подобие улыбки. - Однако, - продолжал Скрудж, - вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром. Клерк заметил, что это бывает один раз в году. 10 - Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, - произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. - Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше. Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать - дабы воздать дань сочельнику - по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун - играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье. И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что 11 Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того - излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме 12 винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: "Тьфу ты, пропасть!", Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями - к стене, дверцами - к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак. Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно - лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом - никого, под диваном - никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) - на полочке в очаге. Под кроватью - никого, в шкафу никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный 13 вид, - тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру - запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еле теплился - мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, - словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет - лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка *, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли - так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, во зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. - Чепуха! - проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством 14 неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еЛе заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, - все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. - Все равно вздор! - молвил Скрудж. - Не верю я в привидения. Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: "Я узнаю его! Это - Дух Марли!" - и снова померкло. Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих, замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. 15 Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам. - Что это значит? - произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. - Что вам от меня надобно? - Очень многое. - Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. - Кто вы такой? - Спроси лучше, кем я был? - Кем же вы были в таком случае? - спросил Скрудж, повысив голос. Для привидения вы слишком приве... разборчивы. - Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур. - При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли. - Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? - спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа. - Могу. - Так сядьте. Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело. - Ты не веришь в меня, - заметил призрак. - Нет, не верю, - сказал Скрудж. - Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую? - Не знаю. 16 - Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам? - Потому что любой пустяк воздействует на них, - сказал Скрудж. Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю! Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, - нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. - Видите вы эту зубочистку? - спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменнонеподвижный взгляд призрака. - Вижу, - промолвило привидение. - Да вы же не смотрите на нее, - сказал Скрудж. - Не смотрю, но вижу, - был ответ. - Так вот, - молвил Скрудж. - Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор! При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной 17 платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. - Пощади! - взмолился он. - Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня! - Суетный ум! - отвечал призрак. - Веришь ты теперь в меня или нет? - Верю, - воскликнул Скрудж. - Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне? - Душа, заключенная в каждом человеке, - возразил призрак, - должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и - о, горе мне! - взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы - себе и другим на радость. И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. - Ты в цепях? - пролепетал Скрудж, дрожа. - Скажи мне - почему? - Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, - отвечал призрак. - Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе? Скруджа все сильнее пробирала дрожь. - Быть может, - продолжал призрак, - тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь! Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел. - Джейкоб! - взмолился он. - Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб! 18 - Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! - отвечал призрак. Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы - слышишь ли ты меня! - никогда не блуждал за стенами этой норы - нашей меняльной лавки, - и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь. Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз. - Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, - почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж. - Не спеша! - фыркнул призрак. - Семь лет как ты мертвец, - размышлял Скрудж. - И все время в пути! - Все время, - повторил призрак. - И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести. - И быстро ты передвигаешься? - поинтересовался Скрудж. - На крыльях ветра, - отвечал призрак. - За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, - сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. - О раб своих пороков и страстей! - вскричало привидение. - Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, 19 творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал! - Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, - пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе. - Дела! - вскричал призрак, снова заламывая руки. - Забота о ближнем - вот что должно было стать моим делом. Общественное благо - вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией - это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол. - В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, промолвило привидение. - О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. У Скруджа уже зуб на зуб не попадал - он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение. - Внемли мне! - вскричал призрак. - Мое время истекает. - Я внемлю, - сказал Скрудж, - но пожалей меня. Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще! - Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению, - я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем. Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот. - И, поверь мне, это была не легкая часть моего искуса, - продолжал призрак. - И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя 20 еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя. - Ты всегда был мне другом, - сказал- Скрудж. - Благодарю тебя. - Тебя посетят, - продолжал призрак, - еще три Духа. Теперь и у Скруджа отвисла челюсть. - Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? - спросил он упавшим голосом. - В этом. - Тогда... тогда, может, лучше не надо, - сказал Скрудж. - Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, - сказал призрак. - Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Пополуночи. - А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? - робко спросил Скрудж. - Чтобы уж поскорее с этим покончить? - Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего - на третьи сутки в полночь, с последнем ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня. Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто. Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился. 21 Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, ведь он сам ее запер, - и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать "чепуха!", но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на 22 него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый. СТРОФА ВТОРАЯ Первый из трех Духов Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак - зрение у него было острое, как у хорька, - и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался. К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь... - и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь! Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз. - Что такое? Быть того не может! - произнес Скрудж. - Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень? Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно - никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были 23 возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: "...спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...", не имела бы ровно никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал. Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: "Сон это или явь?" - снова вставал перед ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака - когда часы пробьют час, к нему явится езде один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым. Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар. - Динь-дон! - Четверть первого, - принялся отсчитывать Скрудж. - Динь-дон! - Половина первого! - сказал Скрудж. - Динь-дон! - Без четверти час, - сказал Скрудж. 24 - Динь-дон! - Час ночи! - воскликнул Скрудж, торжествуя. - И все! И никого нет! Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкий, заунывный звон - ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнат), и чья-то невидимая рука откинула полог кровати. Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, в Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель. Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги - обнаженные так же, как и руки, поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх в освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться. 25 Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид. - Кто вы, сэр? - спросил Скрудж. - Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано? - Да, это я. Голос Духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом. - Кто вы или что вы такое? - спросил Скрудж. - Я - Святочный Дух Прошлых Лет. - Каких прошлых? Очень давних? - осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику. - Нет, на твоей памяти. Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак. - Как! - вскричал Дух. - Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты - один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза! 26 Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему. - Забота о твоем благе, - ответствовал Дух. Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам, - вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал: - О твоем спасении, в таком случае. Берегись! С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. - Встань! И следуй за мной! Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище - много ниже нуля, что он одет очень легко - халат, колпак и ночные туфли, - а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние. - Я простой смертный, - взмолился Скрудж, - я могу упасть. - Дай мне коснуться твоей груди, - сказал Дух, кладя руку ему на сердце. - Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия. С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак и туман. - Был холодный, ясный, зимний день, и снег устилал землю. - Боже милостивый! - воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. - Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой! Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, 27 и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. - Твои губы дрожат, - сказал Дух. - А что это катится у тебя по щеке? Скрудж срывающимся голосом, - вещь для него совеем необычная, пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше. - Узнаешь ли ты эту дорогу? - спросил Дух. - Узнаю ли я? - с жаром воскликнул Скрудж. - Да я бы прошел по неЙ с закрытыми глазами. - Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! - заметил Дух. - Идем дальше. Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью. - Все это лишь тени тех, кто жил когда-то, - сказал Дух. - И они не подозревают о нашем присутствии. Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок? - А школа еще не совсем опустела, - сказал Дух. - Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек. 28 Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул. Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме. Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашеные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо и звук капели из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине - все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника - погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, 29 с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами. - Да это же Али Баба! - не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. Это мой дорогой, старый, честный Али Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон * - вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, - разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами! Вон он - стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе! То-то были бы поражены все коммерсанты Лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом! - А вот и попугай! - восклицал Скрудж. - Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! "Бедный Робин Крузо, - сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. - Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?" Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало - это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница - мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! - И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: - Бедный, бедный мальчуган! - снова заплакал. - Как бы я хотел... - пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: - Нет, теперь уж поздно. - А чего бы ты хотел? - спросил его Дух. 30 - Да ничего, - отвечал Скрудж. - Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все. Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал: - Поглядим на другое рождество. При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь. Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем. - Я приехала за тобой, дорогой братец! - говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. - Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой! - Домой, малютка Фэн? - переспросил мальчик. - Ну, да! - воскликнуло дитя, сияя от счастья. - Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, - взяла и попросила его еще раз, 31 чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: "Да, пускай приедет", и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, - продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, - и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться! - Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! - воскликнул мальчик. Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую: - Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! - И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик "того самого", на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если "то самое", чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений. - Хрупкое создание! - сказал Дух. - Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце. 32 - О да! - вскричал Скрудж. - Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, боже упаси! - Она умерла уже замужней женщиной, - сказал Дух. - И помнится, после нее остались дети. - Один сын, - поправил Скрудж. - Верно, - сказал Дух. - Твой племянник. Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул: - Да. Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание. - Еще бы! - воскликнул Скрудж. - Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение! Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул: - Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек! Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, - и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом: - Эй, вы! Эбинизер! Дик! 33 И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым "человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика. - Да ведь это Дик Уилкинс! - сказал Скрудж, обращаясь к Духу. Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан. - Бросай работу, ребята! - сказал Физзиуиг. - На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра рождество, Эбинизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни! - крикнул он, хлопая в ладоши. - Живо, живо! Марш! Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три - они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть - поставили ставни на место; семь, восемь, девять - задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша как призовые скакуны у финиша. - Ого-го-го-го! - закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. - Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер! Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг - цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным 34 братом - булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата - молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку - служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим,- кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой,- словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс - все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой - на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала - и вСЯКИЙ раз раньше, чем следовало,- пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал: - Славно сплясали! - И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть. А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный 35 контраданс "Сэр Роджер Каверли" и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все - лихие танцоры, все - такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток! Но будь их хоть, пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар - старый Физзиуиг и тут бы не сплошал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу - она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено,- и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками - да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам,- и тут же сразу стал как вкопанный. Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил 36 он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко. - Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности,- заметил Дух. - Немного? - удивился Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал: - Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу - всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал? - Да не в этом суть, - возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. - Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд - легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, - все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. - Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся. - Что же ты умолк? - спросил его Дух. - Так, ничего, - отвечал Скрудж. - Ну а все-таки, - настаивал Дух. - Пустое, - сказал Скрудж, - пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все. Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом. - Мое время истекает, - заметил Дух. - Поспеши! Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого 37 себя. Но теперь он был уже значительно старше - в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком. Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния. - Ах, все это так мало значит для тебя теперь, - говорила она тихо. Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться. - Что это за божество, которое вытеснило тебя? - спросил Скрудж. - Деньги. - Нет справедливости на земле! - молвил Скрудж. - Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово - на словах, во всяком случае, осуждает погоню за богатством. - Ты слишком трепещешь перед мнением света, - кротко укорила она его. - Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком! - Ну и что же? - возразил он. - Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось. Она покачала головой. - Разве не так? - Наша помолвка - дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным. 38 - Я был мальчишкой, - нетерпеливо отвечал он. - Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, - возразила она. - А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу. - Разве я когда-нибудь просил об этом? - На словах - нет. Никогда. - А каким же еще способом? - Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, - сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, - если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет! Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил: - Это только ты так думаешь. - Видит бог, я была бы рада думать иначе! - отвечала она. - Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это - ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован Корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле - во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то. Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него: 39 - Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! - С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда. - Дух! - вскричал Скрудж. - Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня! - Ты увидишь еще одну тень Прошлого, - сказал Дух. - Ни единой, - крикнул Скрудж. - Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего! Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше. Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку - так они были похожи, - но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении *, где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее. Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти 40 косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки - господи, спаси нас и помилуй! - бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость. Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых - бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену. Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка - с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье - оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления - с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, - и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, 41 что один за другим все ребятишки, - а вместе с ними и шумные изъявления их чувств, - были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились. Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет! - Бэлл, - сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, - а я видел сегодня твоего старинного приятеля. - Кого же это? - Угадай! - Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. - Мистера Скруджа? - Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя одинодинешенек. Один, как перст, на всем белом свете. - Дух! - произнес Скрудж надломленным голосом. - Уведи меня отсюда. - Я ведь говорил тебе, что все это - тени минувшего, - отвечал Дух. Так оно было, и не моя в том вина. - Уведи меня! - взмолился Скрудж. - Я не могу это вынести. Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. - Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня! 42 Борясь с Духом, - если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, - Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову. Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном. СТРОФА ТРЕТЬЯ Второй, из трех Духов Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Пополуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа. 43 Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все - от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков - от грудных младенцев до носорогов - не могло бы его теперь удивить. Однако будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать - ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всегонавсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же - как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, - итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то 44 незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался. Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь. - Войди! - крикнул Скруджу Призрак. - Войди, и будем знакомы, старина! Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, Суровый, старик, и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака. - Я Дух Нынешних Святок, - сказал Призрак. - Взгляни на меня! Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темнозеленый балахон, или мантию, отороченную белым мехом. Одеяние это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких 45 искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на которых сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все - и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука, - все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у Духа висели старинные ножны, но - пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной. - Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! - воскликнул Дух. - Никогда, - отвечал Скрудж. - Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я - самый младший? Я хочу сказать - с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? - продолжал допрашивать Призрак. - Как будто нет, - сказал Скрудж. - Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух? - Свыше тысячи восьмисот, - отвечал Дух. - Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить! - пробормотал Скрудж. Святочный Дух встал. - Дух, - сказал Скрудж смиренно. - Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу. - Коснись моей мантии. Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче. Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем - все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и 46 ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная, - счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины. На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного - лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна - и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом - и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело, - так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист. А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком - куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка, - и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее - если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты *, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и 47 блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы *. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешенные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов - коричневых, чуть подернутых пушком, - чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, - даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка. А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! * И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы - такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! 48 И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях - их плетеные корзинки только трещали, - и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, - невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках *. Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни *. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков и к ним тотчас возвращалось благодушие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день рождества. И верно, еще бы не стыдно! В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты 49 тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь. - Чем это ты на них покропил? - спросил Скрудж Духа. - Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям? - Да, особенный. - А ко всякому ли обеду он подойдет? - К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно - к обеду бедняка. - Почему к обеду бедняка особенно? - Потому что там он нужней всего. - Дух, - сказал Скрудж после минутного раздумья, - дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям. - Я? - вскричал Дух. - Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели * - а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так? - Я этого хочу? - повторил Дух. - Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, - сказал Скрудж. - А это то же самое. - Я хлопочу? - снова возмутился Дух. - Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни, - сказал Скрудж. - Тут, на вашей грешной земле, - сказал Дух, - есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас. 50 Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они, попрежнему невидимые, перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия. И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка - того самого, что работал у Скруджа в конторе, - направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать "бобиков", сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки. Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете - всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! - и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчит, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына, и прямого наследника) полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Крэтчитов - младший сын и 51 младшая дочка - и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчита, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку. - Куда это запропастился ваш бесценный папенька? - вопросила миссис Крэтчит. - И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое рождество она не запаздывала так. - Марта здесь, маменька, - произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. - Марта здесь, маменька! - закричали младшие Крэтчиты. - Ура! А какой у нас будет гусь, Марта! - Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали. - Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу, - отвечала девушка. - А сегодня все утро прибирались. - Ладно! Слава богу, что пришла наконец! - сказала миссис Крэтчит. Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся. - Нет, нет! Папенька идет! - запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. - Спрячься, Марта! Спрячься! Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства - щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим 52 держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. - А где же наша Марта? - вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам. - Она не придет, - объявила миссис Крэтчит. - Не придет? - повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом! - Не придет к нам на первый день рождества? Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню - послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг. - А как вел себя наш Малютка Тим? - осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой. - Это не ребенок, а чистое золото, - отвечал Боб. - Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается - просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими. Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее. Боб не успел больше ничего сказать - раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно, думал, что им еще может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все 53 это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии. Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в уголку, рядом с собой, а Крэтчиты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед. Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул: - Ура! Нет, не бывало еще на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде 54 микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей. А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову! Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это - от мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка! Ну, конечно, - несут пудинг! И вот появляется миссис Крэтчит - раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, - таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку. О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за все время их брака миссис Крэтчит еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство - хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек. 55 Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Зятем все семейство собралось у камелька "в кружок", как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой. Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил: - Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех господь! И все хором повторили его слова. - Да осенит нас господь своею милостью! - промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли. Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что ктото может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя. - Дух, - сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. - Скажи мне, Малютка Тим будет жить? - Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, - отвечал Дух. И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет. - Нет, нет! - вскричал Скрудж. - О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его! - Если Будущее не внесет в это изменений, - повторил Дух, - дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения! 56 Услыхав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью. - Человек! - сказал Дух, - Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто - умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли! Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя. - За здоровье мистера Скруджа! - сказал Боб. - Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника. - Скажешь тоже - не справить! - вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув. - Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы! - Моя дорогая! - укорил ее Боб. - При детях! В такой день! - Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж, - заявила миссис Крэтчит. - И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга! - Моя дорогая, - кротко отвечал Боб. - Сегодня рождество. - Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, сказала миссис Крэтчит. - Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить! Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним - ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. 57 Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень. Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко, - если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтитедьнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по скольку часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как намедни она видела одну графиню и одного лорда и лорд был "этакий невысокий, ну совсем как наш Питер". При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех вкруговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно. Конечно, все это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, - насчет одежды у них вообще было небогато, - башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно 58 засветились, ибо Дух окропил их на прощанье маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности - от Малютки Тима. Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки! Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали угля в камин. И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в, гости, громко рассмеялся, когда Дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что ктонибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию. И вдруг - а Дух хоть бы словом об этом предупредил - Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. 59 Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода - вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватал глаз, мороз, - и не росло ничего кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи. - Где мы? - спросил Скрудж. - Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, отвечал Дух. - Но и они не чуждаются меня. Смотри! В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно - по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завываньем над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал. Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом... Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал - оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю. В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его 60 подножье, а буревестники (не порождение ли они ветра, как водоросли порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом. Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибоя. И вот уже Дух устремился вперед, над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока - вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, - не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала - к дозорному на носу, от дозорного - к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, - спящий или бодрствующий, добрый или злой, - нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день. И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама Смерть, - каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, 61 заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника! - Ха-ха-ха! - заливался племянник Скруджа. - Ха-ха-ха! Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством. Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев - и тоже хохотали во все горло: - Ха-ха-ха-ха-ха! - Он сказал, что святки - это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! кричал племянник Скруджа. - И ведь всерьез сказал, ей-богу! - Да как ему не совестно, Фред! - с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью. Племянница Скруджа была очень хороша собой, - на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивленный взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать - тоже. 62 - Он забавный старый чудак, - сказал племянник Скруджа. - Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья. - Он ведь очень богат, Фред, - заметила племянница. - По крайней мере ты всегда мне это говорил. - Да что с того, моя дорогая, - сказал племянник. - Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что... ха-ха-ха!., что он может когданибудь осчастливить своими деньгами нас. - Терпеть я его не могу! - заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства. - Ну, а по мне он ничего, - сказал племянник. - Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам - всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого. - А я полагаю, что вовсе не плохого, - возразила племянница, и все поддержали ее, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться. - Что ж, рад это слышать, - промолвил племянник Скруджа. - А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер? Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина - это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком предмете. При этих словах сестра племянницы - не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, - залилась краской. - Ну же, Фред, продолжай, - потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. - Вечно он начнет рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек! 63 Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все, как один, последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом. - Я хотел только заметить, - сказал племянник Скруджа, - что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: "Как поживаете, дядюшка Скрудж?" Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов - с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера. Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил вкруговую бутылку вина. Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и при том без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы 64 увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святок, и теперь, когда Скрудж услыхал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы. Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз - на пятках. По-моему, они были в сговоре - он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, - да только какой бы дурак ему поверил! - и тотчас устремился бы в другом направлении - за пухлой сестрицей. - Это нечестно! - восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шелковыми юбками, перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут - когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, - вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно 65 было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой. Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в "Любишь не любишь" - так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре "Как, Когда, Где" и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все - и молод и стар - принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почемулибо необходимым прикидываться тупицей. Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешения побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно. - Они затеяли новую игру! - молил Скрудж. - Ну хоть полчасика, Дух! Только полчасика! Игра называлась "Да и Нет". Племянник Скруджа должен был задать какой-нибудь предмет, а остальные - угадать, что он задумал. По условиям 66 игры он мог отвечать на все вопросы только "да" или "нет". Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, - ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула. - Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знак! - Ну что? - закричал Фред. - Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж! Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос: "Это медведь?" - следовало ответить не "нет", а "да", так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине. - Ну, мы так потешились насчет старика, - сказал племянник, - что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа! - За дядюшку Скруджа! - закричали все. - Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого рождества и счастливого Нового года! - указал племянник. - Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа! А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей 67 о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе - и они окрылялись новой надеждой; к беднякам - и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты - всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, - всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия. Долго длилась эта ночь, если то была всею одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели. - Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? - спросил его тут Скрудж. - Моя жизнь на этой планете быстротечна, - отвечал Дух. - И сегодня ночью ей придет конец. - Сегодня ночью? - вскричал Скрудж. - Сегодня в полночь. Чу! Срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого. 68 - Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, - сказал Скрудж, пристально глядя на мантию Духа. - Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды - птичья лапа? - Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях, последовал печальный ответ Духа. - Взгляни! Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей несчастные, заморенные, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию. - О Человек, взгляни на них! - воскликнул Дух. - Взгляни же, взгляни на них! Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца. Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей лжи. - Это твои дети. Дух? - вот и все, что он нашел в себе силы произнести. - Они - порождение Человека, - отвечал Дух, опуская глаза на детей. Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их 69 породил. Имя мальчика - Невежество. Имя девочки - Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано "Гибель" и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта. Что ж, отрицай это! - вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца! - Разве нет им помощи, нет пристанища? - воскликнул Скрудж. - Разве нет у нас тюрем? - спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа. - Разве нет у нас работных домов? В это мгновение часы пробили полночь. Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу. СТРОФА ЧЕТВЕРТАЯ Последний из Духов Дух приближался - безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру - видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака. 70 Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас - больше ничего. - Дух Будущих Святок, не ты ли почтил меня своим посещением? спросил, наконец, Скрудж. Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. - Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? - продолжал свои вопросы Скрудж. - Не так ли, Дух? Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил. Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя. Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор Призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы. - Дух Будущих Святок! - воскликнул Скрудж. - Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь? Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед. 71 - Веди меня! - сказал Скрудж. - Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна - я знаю это. Веди же меня, Призрак! Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой. Они вступили в город - вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города - на Бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки, словом, все было, как всегда, - знакомая Скруджу картина. Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору. - Нет, - сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. - Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер. - Когда же это случилось? - спросил кто-то. - Да как будто прошедшей ночью. - А что с ним было? - спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. - Мне казалось, он всех переживет. - А бог его знает, - промолвил первый и зевнул. - Что же он сделал со своими деньгами? - спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка. - Не слыхал, не знаю, - отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул. - Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Этото уж я знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом. 72 - Похоже, пышных похорон не будет, - продолжал человек с подбородком. - Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример? - Что ж, если будут поминки, я не прочь, - отозвался джентльмен с наростом на носу. - За такой труд не грех и покормить. Снова смех. - Я, видать, бескорыстнее всех вас, - сказал человек с подбородком, так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа. Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему. Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения. - Добрый день, - сказал один. - Добрый день, - отвечал другой. - Слыхали? - сказал первый. - Он попал-таки, наконец, черту в лапы. - Да, слыхал, - отвечал другой. - Каков мороз! - Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках? - Нет, нет. Мало у меня без того забот! Мое почтение! Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали н разошлись. Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в 73 словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки. Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение - совершенно изменить свой образ жизни - осуществилось. Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор, - как ему почудилось, пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах. Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьем, пьяный, отталкивающий в своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой. 74 В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник, довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения. Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом. - Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой! воскликнула та, что опередила остальных. - Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика - третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь сошлись, видал? - Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать, - отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. - Проходите в гостиную. Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, 75 верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха! Здесь все одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проводите в гостиную! Гостиной называлась часть комнаты, за тряпичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот. Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее. - Ну, в чем дело? Чего это вы уставились на меня, миссис Дилбер? сказала она. - Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел. - Что верно, то верно, - сказала прачка. - И никто не умел так, как он. - А коли так, чего же ты стоишь и таращишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет. - Да уж, верно, нет! - сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. - Уж это так. - Вот и ладно! - вскричала поденщица. - И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне. - И в самом деле, - смеясь, поддакнула миссис Дилбер. - Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости-сохранности, когда он отдаст богу душу, - продолжала поденщица, почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так - одинодинешенек. - Истинная правда! - сказала миссис Дилбер. - Это ему наказание за грехи. - Эх, жалко, наказали-то мы его мало, - отвечала та. - Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте 76 слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь - первая покажу свое добро. И этих не боюсь - пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо. Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука - вот, в сущности, и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и видя, что больше ждать нечего, подвел итог. - Вот сколько вы получите, - сказал старьевщик, - и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьем. Кто следующий? Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене. - Дамам я всегда переплачиваю, - сказал старикашка. - Это моя слабость. Таким-то манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны. - А теперь развяжите мой узел, Джо, - сказана поденщица. Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи. - Что это такое? - спросил старьевщик. - Никак полог? - Ну да, - со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. Полог от кровати. 77 - Да неужто ты сняла всю эту штуку - всю, как есть, вместе с кольцами, - когда он еще лежал там? - Само собой, сняла, - отвечала женщина. - А что такого? - Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал, - заметил старьевщик. - И ты его наживешь. - Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит, - невозмутимо отвечала женщина. - Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром. - Это его одеяло? - спросил старьевщик. - А чье же еще? - отвечала женщина. - Теперь небось и без одеяла не простудится! - А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? - спросил старик и, бросив разбирать веши, поднял глаза на женщину. - Не бойся, - отвечала та. - Не так уж приятно было возиться с ним, а когда б он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Эй, смотри, глаза не прогляди. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, тут не только что дырочки - ни одной обтрепанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы зря и пропала. - Как это пропала? - спросил старьевщик. - Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили, - со смехом отвечала женщина. - Не знаю, какой дурак это сделал, ну а я взяла да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже все равно не станет, во что ни обряди. Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа. 78 - Ха-ха-ха! - рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу - каждому его долю. - Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. Ха-ха-ха! - Дух! - промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. - Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому... Боже милостивый, Это еще что? Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком. В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми - покоился мертвец. Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край - только пальцем пошевелить, - и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню - так же бессилен, как и освободиться от Призрака, стоящего за его спиной. О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, 79 кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах, - но эта рука была щедра, честна и надежна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь, как добрые его деяния - семена жизни вечной - восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил! Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили! Вот он лежит в темном пустом доме, и нет на всем свете человека ни мужчины, ни женщины, ни ребенка - никого, кто мог бы сказать: "Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем". Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать. - Дух! - сказал он. - Мне страшно. Верь мне - даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда! Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати. - Я понимаю тебя, - сказал Скрудж. - И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах! И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд. - Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, - вне себя от муки вскричал Скрудж, - покажи мне ее, Дух, молю тебя! 80 Черный плащ Призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми. Мать, видимо, кого то ждала - с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость. Он сел за стол - обед уже давно ждал его у камина, - и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство. - Скажи только - хорошие или дурные? - спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь. - Дурные, - последовал ответ. - Мы разорены? - Нет, Кэрелайн, есть еще надежда. - Да ведь это, если он смягчится! - недоумевающе ответила она. Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно. - Смягчиться уже не в его власти, - отвечал муж. - Он умер. Если внешность его жены не была обманчива, - то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нем, но все же таково было первое движение ее сердца. - Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к нему и получить отсрочку на неделю, помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы 81 отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжко болен. Более того - он умирал! - Кому же должны мы теперь выплачивать долг? - Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн! Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом - вот что показал Дух Скруджу. - Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть, - взмолился Скрудж, - или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами. И Дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидали мать и детей, сидевших у очага. Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты, сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы! - И взяв дитя, поставил его посреди них!* Где Скрудж еще раньше слыхал эти слова не в грезах, а наяву? А сейчас их, верно, прочел вслух Питер - в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал? Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой. - От черного глаза ломит, - сказала она. 82 От черного? !Ах, бедный, бедный, Малютка Тим! - Вот уже и полегчало, - сказала миссис Крэтчит. - Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома. - Давно пора, - сказал Питер, захлопывая книгу. - Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда. Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул. - А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече. - Да, и я помню! - вскричал Питер. - Я часто видел. - И я видел! - воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили. - Да ведь он был как перышко! - продолжала мать, низко склонившись над шитьем. - А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам! Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе - без него он бы продрог до костей, бедняга! - вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, как бы говоря: "Не печалься, папа! Не надо!" Боб весело болтал с ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат все куда раньше воскресенья, заметил он. - Воскресенья? - А ты был там сегодня, Роберт? - спросила жена. - Да, моя дорогая, - отвечал Боб. - И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! - внезапно вскричал Боб. - Маленький мой! Крошка моя! 83 Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой. Он поднялся наверх - в ярко и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями остролиста. Возле постели ребенка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кроватки... Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погруженный в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворенный, покорившийся неизбежности. Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего одинединственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, - ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб, - стал участливо расспрашивать, что его так огорчило. - Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал, - сказал Боб. - Ну, я тут же все ему и рассказал. "От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит, - сказал он. - И вам и вашей доброй супруге". Кстати, откуда он это-то мог узнать, не понимаю. - Что "это", мой дорогой? - Да вот - что ты добрая супруга, - отвечал Боб. - Кто ж этого не знает! - вскричал Питер. - Правильно, сынок, - сказал Боб. - Все знают, думается мне. "От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, - сказал он. - Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес", - сказал он и дал мне свою визитную карточку! - И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь, - продолжал Боб, - Дело в том, что он был так добр, - вот что замечательно! Ну, прямо, будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами. - По всему видно, что это добрая душа, - заметила миссис Крэтчят. 84 - А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! - отвечал Боб. Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни мое слово. - Ты слышишь, Питер! - сказала миссис Крэтчит. - А тогда, - воскликнула одна из девочек, - Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом. - Отвяжись, - ухмыльнулся Питер. - Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая, - сказал Боб. - Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье. - Никогда, отец! - воскликнули все в один голос. - И я знаю, - продолжал Боб, - знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться - ведь это значило бы действительно забыть его! - Никогда, никогда, отец! - снова последовал дружный ответ. - Я счастлив, когда слышу это, - сказал Боб. - Я очень счастлив. Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней - и обе старшие дочки, а за ними - и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая господня искра! - Дух, - сказал Скрудж. - Что-то говорит мне, что час нашего расставанья близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо - откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели? Дух Будущих Святок снова повлек его дальше и, как показалось Скруджу, перенес в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка - их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привел в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух все продолжал увлекать его 85 дальше, как бы к некоей твердо намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного. - В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, - сказал Скрудж, - находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вон она. Покажи же мне, что ждет меня впереди! Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении. - Этот дом здесь! - воскликнул Скрудж. - Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух? Неумолимый перст не дрогнул. Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора - только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака все также указывала куда-то вдаль. Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая - куда же он сам-то мог подеваться? - последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам. Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чье имя предстоит ему, наконец, узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное - могила к могиле, - сжатое со всех сторон домами, заросшее сорной травой - жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко! Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре. - Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, - сказал Скрудж, - ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть? 86 Но Дух все также безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился. - Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу, - произнес Скрудж. - Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас? Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен. Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом Призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя: ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ. - Так это был я - тот, кого видели мы на смертном одре? - возопил он, стоя на коленях. Рука Призрака указала на него и снова на могилу. - Нет, нет, Дух! О нет! Рука оставалась неподвижной. - Дух! - вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. - Выслушай меня' Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это если нет для меня спасения! В первый раз за все время рука Призрака чуть приметно дрогнула. - Добрый Дух, - продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле. - Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована. Благостная рука затрепетала. - Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не 87 затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты! И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя. Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати. СТРОФА ПЯТАЯ Заключение Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог еще изменить свою судьбу. - Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим! - повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. - И память о трех Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях! Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить Духа. - Он здесь! - кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди. - Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь... и я здесь... и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут! 88 Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав, и ногу не в ту штанину, словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей. - Сам не знаю, что со мной творится! - вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. - Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля! Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись. - Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! - воскликнул он и снова забегал по комнате. - А вот через эту дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли! А в этом углу сидел Дух Нынешних Святок! А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха! Ничего не скажешь это был превосходный смех, смех, что надо, особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха. - Какой же сегодня день, какое число? - вопросил Скрудж. - Не знаю, как долго пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше - быть младенцем. Гоп-ляля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля! Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-дили-дили! Дилидили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно! Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо! Прозрачный свежий воздух! Веселый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно! 89 - Какой нынче день? - свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам. - ЧЕГО? - в неописуемом изумлении спросил мальчишка. - Какой у нас нынче день, милый мальчуган? - повторил Скрудж. - Нынче? - снова изумился мальчишка. - Да ведь нынче РОЖДЕСТВО! "Рождество! - подумал Скрудж. - Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется". - Послушай, милый мальчик! - Эге? - отозвался мальчишка. - Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу? спросил Скрудж. - Ну как не знать! - отвечал тот. - Какой умный ребенок! - восхитился Скрудж. - Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную? - Самую большую, с меня ростом? - Какой поразительный ребенок! - воскликнул Скрудж. - Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, постреленок ты этакий! - Она и сейчас там висит, - сообщил мальчишка. - Висит? - сказал Скрудж. - Так сбегай купи ее. - Пошел ты! - буркнул мальчишка. - Нет, нет, я не шучу, - заверил его Скрудж. - Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны! Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. 90 - Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! - пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. - То-то он будет голову ломать - кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру * никогда бы не придумать такой штуки, - послать индюшку Бобу! Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, - отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. - Я буду любить его до конца дней моих! - вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. - А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником! Ну и индюшка же это была - всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах - они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки. - Ну нет, вам ее не дотащить до Кемден-Тауна, - сказал Скрудж. Придется нанять кэб. Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам. Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен. Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ - совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с Духом Нынешних Святок, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого 91 встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему: - Доброе утро, сэр! С праздником вас! И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин - тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил: - Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. - Приветствую вас, дорогой сэр, - сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. - Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр! - Мистер Скрудж? - Совершенно верно, - отвечал Скрудж. - Это имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... - Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. - Господи помилуй! - вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. - Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите? - Ни в коей мере, - сказал Скрудж. - И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение? - Дорогой сэр! - сказал тот, пожимая ему руку. - Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр... - Прошу вас, ни слова больше, - прервал его Скрудж. - Доставьте мне удовольствие - зайдите меня проведать. Очень вас прошу. 92 - С радостью! - вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. - Благодарю вас, - сказал Скрудж. - Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам бог здоровья! Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когданибудь, что самая обычная прогулка - да и вообще что бы то ни было - может сделать его таким счастливым! А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника. Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. - Дома хозяин? - спросил он девушку, открывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка! - Дома, сэр. - А где он, моя прелесть? -спросил Скрудж. - В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу. - Благодарю. Ваш хозяин меня знает, - сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. - Я пройду сам, моя дорогая. Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте. - Фред! - позвал Скрудж. Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать. - С нами крестная сила! - вскричал Фред. - Кто это? 93 - Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред? Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе. Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом. И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик. Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов. - А вот и вы! - проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. - Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня? - Прошу прощения, сэр, - сказал Боб. - Я в самом деле немного опоздал! - Ах, вот как! Вы опоздали? - подхватил Скрудж. - О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр. 94 - Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр, - жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. - Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться. - Ну вот, что я вам скажу, приятель, - промолвил Скрудж. - Больше я этого не потерплю, а посему... - Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. - А посему, продолжал Скрудж, - я намерен прибавить вам жалования! Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку. - Поздравляю вас с праздником, Боб, - сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме. - И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля да разжечь пожарче огонь. И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином, и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания - смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир, - всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, - слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно. 95 Больше он уже никогда не водил компании с духами, - в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, - и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь бог своею милостью! 96 А. Алексин. Чехарда Алексин А.Г. Избранное: В 2-х т. М.: Мол.гвардия, 1989. Том 1, с. 431-471. 1 -- Я хочу, чтобы ты не повторял в жизни моих ошибок! -- часто говорит мама. Но чтобы не повторять ее ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. И мама мне регулярно об этом рассказывает. Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. Я знаю, что мама "погибла для большого искусства". Зато в "малом искусстве" она проявила себя замечательно! "Малым искусством" я называю самодеятельность. Папа спорит со мной. -- Нет больших ролей и нет маленьких! Так утверждал Станиславский. И ты не можешь к нему не прислушиваться, -- сказал как-то папа. -- В Москве рядом с Большим театром находится Малый. Но он так называется вовсе не потому, что хуже Большого. -- Но ведь мама сама говорит, что погибла для большого искусства, -возразил я. 97 -- Она имеет право так говорить, а ты нет. Искусство -- это искусство. И талант -- это талант! Папа считает, что почти все люди на свете талантливы. В той или иной степени... Все, кроме него. Но особенно талантлива мама! С годами я понял, что в "малом искусстве" можно проявить себя гораздо полнее и ярче, чем в большом. Ну, например, профессиональные драматические артисты -- это артисты, и все. Мама же успела проявить себя и в драматическом кружке, и в хоровом, и даже в литературном. Иногда, после самодеятельного концерта, мама спрашивает отца, что ему больше всего понравилось. Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. Все песни он исполняет на один и тот же мотив. У нас дома никогда и ничего не запирают на ключ. Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы. "Мама в ролях" -- написано на одной обложке. "Мама поет" -- написано на другой. "Мама -- в поэзии" -написано на третьей. Мы довольно часто переезжаем из города в город. Потому что папа -строитель, он "наращивает мощности" разных заводов. Мы приезжаем, наращиваем 98 и едем дальше... Но прежде чем перебраться на новое место, папа обязательно узнает, есть ли там клуб или Дом культуры. Когда выясняется, что есть, он говорит: -- Можем ехать!... Переезжать с места на место -- нелегкое дело. Но мама делает вид, что это очень приятно. -- Видишь, там есть хоровой коллектив, -- сказала она однажды папе. -А я так давно не пою! -- Кто виноват, что я умею делать только то, что я делаю? -извинился отец. -- Путешествовать гораздо лучше, чем сидеть на одном месте! -сказала мама. -- Об этом пишут в стихах и поют в песнях. И хоть папа прекрасно знал, что мама успокаивает его, он поверил стихам и песням. Вот уже около трех с половиной лет мы живем в большом городе, где папа наращивает мощности металлургического завода. Прежде чем переехать, он, как всегда, навел справки насчет Дома культуры. Выяснил, что при нем активно работают все кружки, какие только существуют на свете. И что "детская работа" там тоже прекрасно налажена. 99 -- Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку и приобщился к миру прекрасного слишком поздно, -- сказала мне мама. -- Пора!... Что ты предпочитаешь: пение или танцы? Я выбрал пение. Через несколько дней после приезда мама повела меня в Дом культуры строителей. Предварительно мы узнали, что дирижирует хором "замечательный педагог", которого зовут Виктором Макаровичем. В большой комнате, на дверях которой было написано "Малый зал", мы увидели девочку. Положив на черную-пречерную крышку рояля ноты, она что-то тихонько мурлыкала. -- Где найти руководителя хора? -- спросила мама. Девочка захлопнула ноты, и я прочел на обложке: "Иоганн Себастьян Бах". -- Они поют Баха! -- успела шепнуть мне мама. И спросила: -- Где найти Виктора Макаровича? Вы нам не подскажете? Девочку, которая общалась с Бахом, мама назвала на "вы". -- Он в коридоре, -- ответила девочка. -- Идемте... Я вас провожу. Мы вышли в коридор, увешанный фотографиями. На стенах пели, плясали, изображали купцов из пьесы Островского. Мама оглядывала Дом культуры так, как, наверное, опытный морской волк, 100 повидавший на своем веку много разных кораблей, осматривает новое судно, на котором ему придется поплавать. Я чувствовал, что мама боролась с собой. Ей не хотелось ничему удивляться, потому что опытные морские волки не удивляются. Но в то же время она хотела заразить меня своей любовью к самодеятельному искусству и потому время от времени "похлопывала" Дом культуры строителей по плечу: -- Интересно... Это они молодцы! Неплохо придумали. Девочка с Бахом под мышкой завернула за угол. Там была как бы окраина коридора, заканчивавшаяся двумя туалетными комнатами. -- Вон он, -- сказала девочка. -- Прыгает!... Худощавый, седой человек перепрыгнул через одного мальчишку, пригнувшего спину, и сел на спину второму. Тот поднялся, а человек пригнулся и встал на его место. -- Что это... он делает? -- спросила мама. -- Играет в чехарду, -- объяснила девочка. И, прижав к себе Иоганна Себастьяна, ушла. Мы подошли к невысокому пожилому человеку, через которого в этот момент перепрыгивали. Лицо у него было такое, будто он занимался своим самым любимым делом. 101 -- Простите, пожалуйста. Вы... Виктор Макарович? -- неуверенно спросила мама. Все еще пригнувшись, он взглянул на нее снизу вверх. -- Да, это я. У нас тут... разминка. -- Я понимаю, -- сказала мама, будто все знакомые ей дирижеры любили играть в чехарду. -- Мой сын хотел бы записаться к вам в хор. -- Прекрасно! -- воскликнул Виктор Макарович, точно я был знаменитым певцом и он давно уже ждал моего появления. Потом, приняв нормальную позу, он спросил: -- Как тебя зовут? -- Миша Кутусов... -- Прекрасно! -- воскликнул Виктор Макарович. И вдруг как-то смутился, стал заправлять в брюки рубашку, которая вылезла оттуда, когда он прыгал. Мы с мамой оглянулись -- и увидели строгую женщину, с очень правильными, как сказала мама, чертами лица. Я представил себе эти черты в тяжелой музейной раме с дощечкой внизу: "Она когда-то была красавицей". Есть лица, которые совсем не напоминают о своем прошлом. А это все время напоминало... -- Не пора ли нам начинать? -- спросила женщина. И я сразу понял, что она тоже дирижирует -- всем хором или одним только 102 Виктором Макаровичем. Точно я в первый момент определить не сумел. Почувствовав это, Виктор Макарович сообщил: -- Наш аккомпаниатор и дирижер -- Маргарита Васильевна. -- Второй дирижер, -- пояснила она. Словно хотела сказать: "Не нужно преувеличивать мои звания, потому что не в званиях дело!" -- А вот Миша хочет записаться в наш хор, -- сказал Виктор Макарович. В отличие от него Маргарита Васильевна не воскликнула, что это прекрасно. Она удивленно спросила: -- Сейчас?! В часы репетиций? -- Но ведь нам же нетрудно его послушать? Остальные пусть еще отдохнут. -- Ну, если вы так считаете... Маргарита Васильевна повернулась и пошла к Малому залу. Виктор Макарович догнал ее и стал на ходу не то извиняться, не то чтото доказывать. При этом он тайком, у нее за спиной, несколько раз махнул нам: дескать, не отставайте! Мы вошли в Малый зал. -- Возьми себя в руки, -- шепнула мама. И мне показалось, что я потерял голос. Маргарита Васильевна села за рояль, который блестел как черное зеркало. 103 В его крышке я увидел свое лицо и лицо Виктора Макаровича. Мама стояла чуть-чуть в стороне, подчеркивая этим, что она меня только сопровождает. Я подумал, что рояль в таком блестящем порядке потому, что за ним следит Маргарита Васильевна, у которой все было в порядке: и руки, и платье, и волосы. -- Значит, ты у нас -- Миша? -- сказал Виктор Макарович. -- Миша Кутусов. -- Прекрасно! Почти Кутузов!... Я и сам не раз думал, что фамилия наша когда-то была Кутузовы, но папа или какой-нибудь его предок (такой же, как он!) из скромности изменил пятую букву. -- Спой что-нибудь, Миша, -- предложил Виктор Макарович. Мама еще дома предупредила, что я должен буду повторять за руководителем хора разные музыкальные фразы. Но он попросил меня спеть. -- Он у нас так часто поет! -- сообщила мама. Хотя в действительности у нас дома пела только она. -- А что ты любишь петь больше всего? -- спросил Виктор Макарович. -- Больше всего? -- повторила мама. -- Из классики? Или из современного? Он поет и то и другое. 104 Накануне мы отрепетировали любимую мамину песню "Аист" и песенку мальчиков из "Пиковой дамы". -- Спой что-нибудь из Чайковского, -- предложила мне мама таким тоном, словно мне ничего не стоило спеть что-нибудь и из Шуберта, и из Мусоргского, и из Римского-Корсакова. -- Ну, вот хотя бы из "Пиковой дамы"! Песенку мальчиков... Маргарита Васильевна, казалось, только и ждала этой фразы: она сразу ударила по клавишам. Я запел... И тут же остановился. -- Лучше про аиста, -- предложил я. Маргарита Васильевна, не дав мне опомниться, сразу же заиграла. У меня хватило духу на первый куплет. -- Может быть, лучше без аккомпанемента? -- точно извиняясь перед Маргаритой Васильевной, предложил дирижер хора. -- Как вам будет угодно, -- сказала она. Я понял, что без аккомпанемента мой голос будет совсем уж беззащитным и одиноким. Со страху я громко, будто конферансье, объявил: -- Визе! Детская песенка из оперы "Кармен"! Мы разучивали ее на уроке пения в школе. -- Правильно! -- воскликнул Виктор Макарович. -- Оперу "Кармен" написал 105 Жорж Визе. -- И, обратившись к Маргарите Васильевне, добавил: -Он любит музыку! Она негромко хлопнула крышкой рояля: поставила точку. -- Мы с вами никогда не обманываем детей, Виктор Макарович. У мальчика нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма! "Весь в отца!" -- сказал я себе. Повернувшись к маме, Маргарита Васильевна повторила: -- Ни голоса и ни слуха! Но от этого не умирают. Мама взяла меня под руку и гордо выпрямилась. -- Не волнуйтесь, пожалуйста, -- поспешил успокоить ее Виктор Макарович. -- Голос у него, безусловно, есть... -- Голос и слух есть у каждого человека. Кроме, конечно, глухонемых! -объяснила Маргарита Васильевна. Мама опять выпрямилась. Виктор Макарович остановил ее: кажется, ему не хотелось со мной расставаться. -- А ну-ка, произнеси еще раз: "Визе!" И так далее... Я произнес. Виктор Макарович победоносно взглянул на свою помощницу: -- Слыхали?! А вы говорите: "Нет голоса". Нам ведь нужен ведущий программу -- мальчик с открытым и приятным лицом! Мама застегнула мою куртку на все пуговицы. 106 -- Вы согласны, чтобы он стал ведущим? -- спросил Виктор Макарович. -- Ведущим? Согласна, -- ответила мама. Сама она на следующий день записалась в литературный кружок, поскольку в тот период сочиняла стихи. 2 По профессии мама бухгалтер. И не простой бухгалтер, а главный! Слово "бухгалтер" маме не нравится, и она называет себя "финансистом". -- Мама -- талантливый финансист! -- говорит папа. Очень давно, еще до моего появления на свет, кто-то сказал о маме: "Финансы поют романсы". Мы переезжали с места на место, и это длинное прозвище загадочным образом следовало за нами. Словно кто-то сообщал о нем по радио или по телефону. -- Ты понимаешь, -- объяснил мне отец, -- мама талантлива во всем, за что бы она ни бралась. Абсолютно во всем! Это -- одаренная натура. Такие натуры типичны для Руси... Ну, вспомни хотя бы Шаляпина или Бородина. Один по воскресеньям сочинял музыку, а другой между делом великолепно рисовал. Для них это тоже было как бы самодеятельностью! 107 Отец говорит тихо. Он считает себя не вправе повышать голос. От этого слова его кажутся очень продуманными и убедительными. Когда человек кричит, я всегда думаю, что голос неточно передает его мысли и чувства: наверное, мешает волнение. О маминых талантах отец говорит почти шепотом, будто раскрывает какую-то священную тайну. Мама действительно, как я уже говорил, и своей бухгалтерией руководит, и поет, и сочиняет стихи... Она умеет чинить телефон и дверной замок, если они ломаются. Есть у мамы еще одна удивительная особенность. Она помнит имена, отчества и фамилии всех сослуживцев, с которыми когда-либо работала, всех наших дальних и близких родственников. Она помнит все важные даты в жизни этих людей: когда родились, когда поженились... Эти даты записаны у мамы в особом блокноте, в который она почти никогда не заглядывает. -- Уникальная память! -- тихо восхищается папа. И всех этих людей мама поздравляет с разными торжествами. Перед Новым годом, к примеру, мама до глубокой ночи просиживает над горой 108 поздравительных открыток. Ей отвечают. Правда, не все... Но и тем, кто не отвечает, мама продолжает писать. -- Не подумай только, что это бухгалтерская дотошность, -объяснил мне отец. -- Они живут в ее сердце... А не просто в памяти. Понимаешь? У папы есть другая особенность: он любит восторгаться людьми. А в некоторых просто влюбляется. На строительстве металлургического завода папа влюбился в Лукьянова. Это -- заместитель начальника стройки. -- Одаренная натура. Творческая личность! -- говорил отец. У отца тоже есть прозвище: "Тайный советник". Его придумала мама. И только она его так называет. С отцом и правда часто советуются -- главным образом одаренные личности и творческие натуры. Лукьянов же советовался то с отцом, то с мамой. -- Ты заметил: он здоровается только с тем, кто ему на этот раз нужен? -- спросила как-то у отца мама. Так как я не был нужен Лукьянову никогда, он со мной вообще не здоровался. -- Представь себе масштаб его забот! -- тихо воскликнул отец. -Просто нет времени на лишнее слово, на лишнюю фразу. 109 -- Он хоть раз спросил, как ты себя чувствуешь? Лично моим здоровьем он не интересовался ни разу. -- У него нет времени на этикет. Но если бы мы заболели, он бы помог. Не сомневаюсь. -- А почему он не приходит к нам в гости? -- спросил я. Мне было интересно посмотреть на Лукьянова. -- В наш век телефон все чаще заменяет живое человеческое общение, -объяснила мне мама. -- В сутках всего двадцать четыре часа... И в этом Лукьянов не виноват, -- возразил отец. -- Нет времени? -- задумчиво произнесла мама. -- Это правда... На нем держится стройка! -- Ну, почему же? -- не согласился отец. -- У нас много одаренных людей. -- Он назвал несколько имен и фамилий. И, обратившись к маме, добавил. -- А ты сама? Ни одно правительство не может обойтись без министра финансов! Мама как будто не услышала последней фразы. -- Лукьянов -- голова! -- сказала она. -- На лету схватывает. -- При этом он советуется, звонит... И всегда смотрит вперед! -согласился отец. 110 Действительно, разговаривая по телефону с Лукьяновым, папа и мама то и дело повторяли. -- Вы правы: это -- пройденный этап. Надо смотреть в будущее! Лукьянов даже приснился мне однажды с подзорной трубой в руках: он разглядывал, что делается... там, впереди. Я не влюбляюсь в людей так часто, как папа. Но одного человека я любил уже больше трех лет. Это был дирижер нашего хора Виктор Макарович. Взрослые люди утверждают, что трудно объяснить, за что именно любишь человека. Но я бы, мне кажется, мог объяснить... Во-первых, он раньше всех заметил, что у меня открытое и приятное лицо. Во-вторых, он умел показывать фокусы, играть не только в чехарду, но вообще во все игры. И обязательно побеждал! Директора Дома культуры, которого мы прозвали Дирдомом, он обыгрывал на бильярде. Дирдом очень нервничал и объяснял свои поражения тем, что на нем "вся культура". "Если бы Лукьянов проиграл Виктору Макаровичу, -- подумал я, -он бы, наверное, сказал, что "на нем вся стройка". Неплохо устроились!." Я продул Виктору Макаровичу несколько партий в настольный теннис. После 111 чего мне сообщили, что в обыкновенный теннис он играет гораздо лучше, чем в настольный... Когда Виктор Макарович обыграл в шахматы девочку из младшей группы нашего хора, я услышал, как Маргарита Васильевна сказала: -- Ну, ей-то вы могли бы и проиграть! -- Зачем унижать ее? -- ответил Виктор Макарович. И, испугавшись, что Маргарита Васильевна обидится, стал объяснять. -- Вы же сами говорите, что детей следует уважать... И нельзя обманывать! С маленькими участниками нашего хора он любил играть в прятки. И они никогда не могли его отыскать. -- У меня и фамилия-то для игр подходящая: Караваев! -- говорил он. -Каравай, каравай! Кого хочешь, выбирай. Только одну игру Виктор Макарович отверг прямо у меня на глазах. Он не захотел играть в поддавки. -- Это какая-то антиигра! -- сказал он. -- Победа состоит в поражении... Стремиться к тому, чтобы тебя уничтожили? Не понимаю. У него на многое были свои особые взгляды. Вот, например, ему не нравилось слово "конферансье". Слово "ведущий" казалось ему нескромным. И он прозвал меня "объявлялой". "Объявляла" -- так меня все и звали. 112 -- Ты как бы разведчик, -- объяснил мне Виктор Макарович. -Первый начинаешь общение с залом. Твой голос звучит еще до того, как я взмахну рукой, до того, как зазвучит музыка. Ты должен зарядить людей вниманием, интересом. Это очень ответственно! Ты как бы наша обложка. А обложка в книге -- не последнее дело. Можно даже сказать, первое: с нее все начинается. Надо не просто произносить фамилии композиторов и названия песен, а голосом своим выражать отношение и к сочинителю, и к его музыке... А чтобы иметь свое отношение, ты должен знать! В общем, я сидел на всех репетициях. Виктор Макарович репетировал без пиджака. Он то и дело засовывал рубашку в брюки, как тогда, после игры в чехарду. -- Вы -- хор! -- напоминал он ребятам -- А что является синонимом слова "хор"? Кол-лек-тив! Я так считаю... Маргарита Васильевна, вы согласны со мной? Она никогда не отвечала на эти его вопросы. Но он упорно продолжал задавать их. -- Никто не может жить на сцене как бы сам по себе. И в то же время 113 каждый должен себя ощущать солистом. В том смысле, что нельзя прятаться за спины впереди стоящих. И за их голоса! В смысле чувства ответственности... каждый из вас солист! Вы согласны, Маргарита Васильевна? Она склоняла голову, почти что укладывала ее на подставку для нот, которую, как я узнал, называют "пюпитром", беззвучно бродила пальцами по клавишам. Одним словом, всем своим видом показывала, что вопросы его ни к чему. Особенно он переживал, когда нужно было петь без сопровождения, то есть без аккомпанемента Маргариты Васильевны. Такое пение называется красивым иностранным словом "а капелла". Тут уж он десять раз извинялся: -- Простите, пожалуйста, Маргарита Васильевна... Мы сейчас споем "а капелла". Чтобы вы отдохнули немного. Простите, пожалуйста... Мне казалось, что он побаивается ее. "Не может же он ее до такой степени уважать?! -- думал я. -- Побаивается, наверное... Есть за что! Ведь это она обнаружила, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!" Маргарита Васильевна называла нас по фамилиям. А Виктор Макарович -- по именам, хотя это было рискованно: одних только Сереж в хоре, было, пять или 114 шесть. Виктор Макарович поворачивал голову в сторону того, к кому обращался. Но мне казалось, что и без этого один Сережа отличал бы себя от другого: к каждому Виктор Макарович относился по-особому. Например, в хоре было целых три Миши, но МИшенькой он называл только меня. Не знаю почему... Может быть, потому, что только один я в хоре не пел -- и он своей нежностью хотел как-то скрасить этот мой недостаток. И отчитывал он меня только наедине. -- Ты исходи не из звучания фамилий, а из характера произведений. Ведь если тебя послушать, получается, что самый прекрасный композитор на земле -Орландо Лассо. Он сочинил очень колоритную песню "Эхо". Не спорю... Но ты объявляешь его прямо-таки с упоением. А почему? Потому что красиво звучит: Ор-лан-до Ла-с-со! А фамилию "Бородин" произносишь так, между прочим. Почему? Может быть, потому, что у нас в хоре поет Люда Бородина? Стало быть, никакой экзотики? Это, если... не заглядывать вглубь. Запомни: имя творца создают его произведения. Вы согласны, Маргарита Васильевна? Прости... Ее же здесь нет. Запомни... твои интонации должны незаметно, как бы исподволь 115 давать характеристику произведения. Этаким полунамеком... Нельзя же абсолютно одинаково объявлять фугу Баха, и прелюдию Генделя, и "Песнь о лесах" Шостаковича, и "Мелодию" Рубинштейна. Но чтобы чувствовать, чем они отличаются друг от друга, ты должен знать! И я продолжал сидеть на всех репетициях. Мама считала, что хоть я и не пою, но присутствие на репетициях меня "музыкально развивает". Она была права. Кроме "Орландо Лассо", "пюпитр" и "а капелла", я узнал много других очень красивых слов. Ну, например, "сольфеджио". Оказалось, что это название урока, на котором все ребята поют но нотам. Я даже подумал, что не мешало бы и школьные уроки называть такими же прекрасными словами: приятней было бы ходить в школу! У нас в шкафу, на самом почетном месте, висит мамино "концертное" платье. В нем мама выходит на сцену, чтобы читать стихи или петь. Платье время от времени перешивается, потому что оно должно, как говорит мама, "шагать в ногу с модой". Теперь рядом с концертным платьем, как бы рука об руку с ним, в шкафу висела и моя концертная форма: синие брюки и голубая куртка с золотой лирой на боковом кармане. 116 Вообще все в моей жизни стало более праздничным! Соседи, встречая меня, спрашивали, когда будет следующий концерт. Наиболее интеллигентные учителя, вызывая к доске, узнавали, не устал ли я накануне от репетиции. Если я не знал урока, то говорил, что устал. И меня отпускали на место... А после выступлений нашего хора по телевидению мне просто не давали прохода. Самые красивые девочки в школе, увидев меня, начинали ни с того ни с сего хохотать. Это было приятно. Все три с лишним года меня сопровождали аплодисменты и ослепляли прожектора! И хотя Виктор Макарович предупреждал: "Это аплодируют Шостаковичу и лишь на пять процентов нам с вами!", мне вполне хватало и этих пяти процентов. Виктор Макарович просил, чтобы я, "не поднимая голос до люстры", висевшей под потолком, называл его со сцены просто дирижером -без слова "главный": тогда они с Маргаритой Васильевной оказались бы "рядом". С этим я не мог согласиться. Но и просьбу его надо было выполнить... хотя бы частично. Я объявлял, что выступает хор "под управлением Караваева". Мне хотелось быть под его управлением. 117 После репетиций и после концертов я все время вертелся неподалеку от Виктора Макаровича, чтобы он заметил меня и спросил. -- Что, Мишенька, пойдем домой вместе? Его никто не провожал в Дом культуры и никто не встречал. Он жил один. На той же улице, что и мы. Я думаю, у него просто не хватило времени завести свою семью и своих детей, потому что утром он репетировал с младшей группой хора, днем со средней, а вечером -- со старшей. Или наоборот... Так было всю жизнь. Значит, из-за нас, из-за наших песен он жил на свете один. По Малому залу Виктор Макарович носился бодро и молодо. Когда же мы возвращались домой, он слегка прихрамывал, часто останавливался и просил меня не торопиться. А говорил он все время о будущих программах и о том, что Маргарита Васильевна всех нас очень любит, но из педагогических целей не хочет этого проявлять. И о том, что я, выходя на сцену, не должен делать вид, будто преподношу залу какой-то подарок. Это уж по ходу концерта должно выясниться: преподнесли мы подарок или нет. Он тоже, как и Лукьянов, все время смотрел 118 вперед... В последнее время там, впереди, замаячили два отчетных концерта -один для юных граждан нашего города, а другой для взрослых. Думая об этих концертах, Виктор Макарович так волновался, что даже на улице заправлял рубашку в штаны. 3 Мама и папа не признают политики невмешательства. Поэтому, если мама задерживается на работе, папа сходит с ума: -- Наверно, она опять вступила в борьбу с хулиганами! Стараясь успокоить отца, я вспоминаю, что у мамы в этот день занятия литературного кружка, которых на самом-то деле нет. А если отец задерживается, мама восклицает: -- Опять помогает какому-нибудь новоявленному Эдисону! Когда папа наконец возвращается домой, мама говорит примерно так: -- Нельзя столько времени уделять чужим дарованиям. Собственное увянет! -- Не может увянуть то, чего нет, -- отвечает отец. -- Помогать другим -- это тоже талант! -- возражает мама. -- Но не самый рентабельный для семьи. Мама часто употребляет привычные для нее бухгалтерские словечки. 119 -- А сама-то ты разве не вмешиваешься, когда нужна помощь? Причем в гораздо более рискованных ситуациях. Хотя ты, женщина, могла бы пройти мимо... -- Чему ты учишь меня?! -- возмущается мама. Они часто уговаривают друг друга "не вмешиваться". Во время таких разговоров то и дело звучат фразы: "А ты сам? А ты сама?! Ты бы не уважал меня, если бы... Ты бы не уважала меня..." И оба продолжают бороться с "политикой невмешательства". Иногда по вечерам у нас во дворе раздавались звуки музыки. Это играл Володька по прозвищу Мандолина. Он жил в соседнем подъезде. Отец и мама сразу же оказывались у окна: она -- потому что обожала самодеятельность, а он -- потому что не мог пройти мимо чужих дарований. -- Будущий виртуоз! -- сказала однажды мама. -- Почему будущий? -- возразил отец. Но многие жильцы встречали Володькину игру без восхищения. Особенно потому, что вокруг Мандолины всегда собиралась толпа. -- Концентрируется шпана! -- услышали мы с папой. -- Почему, если много ребят собирается в школе, то это -- класс или отряд, а если во дворе, то это шпана? -- спросил папа. И пожал плечами: -До чего изменяет память! Детство свое и то забывают. 120 Сосед, который сказал о шпане, очень любил обращаться за помощью к газетам и журналам. -- Всюду пишут о праве человека на тишину! -- Ну, если для вас музыка и шум -- это одно и то же. -- Он уже мать свою уложил в больницу, этот ваш музыкант! -- Как он мог уложить? -- Вы сначала узнайте, а потом уже заступайтесь! Кивнув в сторону Мандолины, отец сказал мне: -- Надо бы переместить его на другую сценическую площадку! Но при чем тут больница? Не понимаю. Через несколько дней я опять возвращался из Дома культуры вместе с Виктором Макаровичем. И рассказал ему про Мандолину. -- По мнению папы, гибнет талант, -- сказал я. Виктор Макарович ничего не откладывал в долгий ящик. -- Надо послушать. Приведи его завтра. Если это хорошо, определим его в струнный оркестр. -- Он не пойдет... Я уже предлагал. -- Отказался? Почему?! -- Не знаю... Он вообще парень неразговорчивый. -- Неразговорчивый? Это прекрасное качество. А где он живет? -- Рядом с нами. В соседнем подъезде. -- Ну, если Магомет не идет к горе... Мандолины не было дома. Но если бы даже он был, все равно в первый 121 момент его бы никто не заметил. Потому что в коридоре разыгралась сцена, которую невозможно было предвидеть. Абсолютно лысый человек, у которого из-за отсутствия волос щеки, и подбородок, и лоб, и затылок -- все сливалось во что-то одинаково круглое, голое и доброе, открыв нам дверь, нервно поправил очки и воскликнул: -- Виктор Макарович?! А Виктор Макарович поспешно заправил рубашку в штаны и воскликнул: -- Неужели... Димуля?! Войдя в комнату, Димуля сразу стал что-то смахивать со стола, что-то накрывать, что-то прятать... Но Виктор Макарович не обращал на беспорядок никакого внимания. Он подбежал к стене и впился глазами в фотографию, которая висела на ней. -- Это я! -- сказал Виктор Макарович. И указал пальцем на спину, изображенную на переднем плане. В углу фотографии стояла дата... И хоть прошло, как я быстро высчитал, тридцать лет, спина у Виктора Макаровича была такая же, как и теперь: подвижная, вся устремленная вперед, навстречу хору, который на фотографии 122 пел. -- А это -- Дима и Римма! -- сказал Виктор Макарович. И ткнул пальцем в солистов, стоявших с раскрытыми ртами впереди хора. В одном из них я сразу узнал Димулю. Черный вихор не делал его лицо менее беззащитным и добрым. -- Дима и Римма... Римма и Дима! -- мечтательно произнес Виктор Макарович. -- Имена рифмовались... И пели дуэтом! -- Она в больнице, -- растерянно и грустно сказал Димуля. -- Вот у нас с Володькой тут и творится... Он продолжал что-то запихивать в ящик, что-то прятать под скатерть. Виктор Макарович резко повернулся и уставился на Димулю: -- Вы что... поженились? -- Семнадцать лет назад. -- И мне об этом не сообщили? И не зашли ни единого раза?! А ведь были любимчиками! Маргарита Васильевна обвиняла меня в предвзятости: "Нельзя отделять детей от детей!" -- Поэтому мы и стеснялись, -- растерянно объяснил Димуля. -Вы же предсказывали нам музыкальное будущее. А мы ничего этого... не оправдали. Я вообще с десятилеткой остался. А Римма кончила техникум. К тому же торговый... Сейчас Римма в больнице. 123 -- Разве я вас за голоса ваши любил? -- задумчиво произнес Виктор Макарович. -- Дима и Римма... Значит, навсегда срифмовались? Сохранили дуэт! Я очень рад... Он вдруг встрепенулся: -- Ты сказал, Римма в больнице? А что такое? -- Сердце у нее... Всю жизнь сердце. -- Да, да... Я помню. Она болела ангинами. Я все боялся за ее голос! -- Рожать ей нельзя было. А она родила. -- Мандолину? -- неожиданно спросил я. Виктор Макарович взглянул на меня с изумлением. -- Это прозвище нашего сына, -- объяснил Димуля. И успокоил меня: -Ничего, ничего... Ты его знаешь? -- Его весь дом знает, -- сказал я. -- Но не весь дом его любит... Димуля огорченно развел руками. -- Кто-то сказал: "Человек, который всем нравится, вызывает у меня подозрение!" -- успокоил его Виктор Макарович. -- По-моему, неплохой мальчик... Как ты считаешь? -- обратился ко мне Димуля. -- Будущий виртуоз! -- уверенно сказал я. -- И до сих пор мы с ним незнакомы? -- Виктор Макарович с укором взглянул на Диму и Римму, которые на фотографии пели под его управлением. -Забыли меня. Совсем, значит, забыли... Димулины руки прижались к груди. 124 -- Мы?! Римма все время приводит вас в пример. И сыну и мне. Ая привожу вас в пример ей и сыну. -- Представляю, как ваш сын меня ненавидит! -- Вас?! Да мы воспитываем его "по Виктору Макаровичу". Так Римма недавно сказала. -- И какой результат? -- Учится плохо. -- Вот те на! -- А в остальном я доволен. Добрый... Играет на мандолине. Мы его с младенчества музыке обучаем. Сами, домашними средствами... Ведь вы нам внушили, что музыка -- радость, а иногда и спасение. Виктор Макарович снова обратился к фотографии, висевшей на стене: -- Но почему же не привели его? -- Стыдились... В дневнике -- тройка на тройке. С математикой очень не ладит. -- Я с ней тоже не ладил, -- сказал Виктор Макарович. -- И я с ней не лажу! -- с гордостью сообщил я. -- Ты, оказывается, нас слушаешь? -- спохватился Виктор Макарович. -Музыкант -- это призвание. Он может, в конце концов, позволить себе... А "объявляла" должен успевать по всем дисциплинам. -- Мы ведь знаем, что с тройками в Дом культуры не полагается... -125 грустно сказал Димуля. -- Всегда говорят: "Сначала -- отметки, а потом уж кружки!" -- Может быть и наоборот... Не при Мишеньке будь сказано! -возразил Виктор Макарович. -- Мы сходили к директору Дома. Так, для очистки совести... -- К Дирдому? -- воскликнул я. -- У него такое прозвище? -- почему-то обрадовался Димуля. -- Он нам решительно отказал. -- На каком основании? -- спросил Виктор Макарович. -- Мы, говорит, должны думать о репутации Дома культуры. О его лице! -- Тут бы вы ко мне и зашли! -- Постыдились мы... Подошли к Малому залу, в щелочку поглядели. Все как прежде... И Маргарита Васильевна за роялем. Римма заплакала -и пошли домой. -- Как же так? Как же так? -- допытывался Виктор Макарович у фотографии на стене. -- А через три дня Римма в больницу слегла. И это тоже на Володьку списали. -- Кто списал? -- Так получилось... Он двойку за контрольную по алгебре получил. Ну, 126 Римма покричала на него. Как полагается... А слышимость у нас в доме прекрасная! Сосед один за стеной живет... -- Знаю его, -- вставил я. -- Он на следующий день утром сказал: "Таких, как ваш сын, в газетах трудными детьми называют". А вечером с Риммой приступ случился... Не из-за Володьки, конечно. Но приписали ему! Он с сумками по двору идет, а ему вслед: "Сперва уложил, а теперь беспокоится!" Если что-нибудь случается, говорят: "Из компании Мандолины!" Разве он может отвечать за всех... которые вокруг него собираются? Как-то обидно... Когда мы вышли на улицу, Виктор Макарович попросил меня проводить его. Но разговаривал он по дороге с самим собой. Часто останавливался, тер икры ног. Даже присаживался на скамейки. И продолжал рассуждать: -- Удивительно! Постыдились... Будто я их в певцы готовил. Люди хорошие получились -- и замечательно! Получились хорошие люди? -- Получились, -- ответил я. Но он задал вопрос самому себе и на мой ответ не обратил никакого внимания. -- Человек с тройками не должен петь! Надо же до такого додуматься... Не справился с алгеброй -- бросай мандолину. Где тут логика? 127 -- Нету логики, -- тихо ответил я. -- И почему все думают, что я готовлю певцов? Гриша Дубовцев стал начальником конструкторского бюро, заслуженным деятелем науки. А сообщает об этом так, будто извиняется, что стал заслуженным деятелем, а не заслуженным артистом республики. Хотя один из моих учеников все-таки и в заслуженные артисты пробился... Горжусь! Виктор Макарович остановился и воскликнул: -- Прекрасно, Мишенька! Я знаю, что надо делать. -- Что? -- спросил я. -- Мы выпустим Володю в наших отчетных концертах. Пусть это будет сюрпризом! -- Для Дирдома? -- И для него тоже! Представь себе... "Дунайские волны"! Или, допустим, гурилевский "Колокольчик"... Исполняют мандолина и хор... Великолепно! Ведь тембр мандолины, Мишенька близок к детскому голосу. Особенно в среднем регистре. Та-ак... -- Виктор Макарович ничего не откладывал в долгий ящик... -- Вернемся обратно! И сообщим... -- Я могу сам зайти. -- Нет, я должен сделать официальное приглашение! Мы побежали обратно. 128 4 Трудно было определить, кто готовится к отчетным концертам -я или мама. Мама вслух произносила фамилии композиторов и названия песен, стараясь подсказать мне, как они должны прозвучать со сцены. Она заставляла меня по вечерам пить валерьяновый чай, чтобы я хорошо спал и вообще привел в порядок свою нервную систему. -- Ни один годовой бухгалтерский отчет не стоил мне такого напряжения, как отчеты вашего хора! -- говорила мама. И тоже пила этот чай. О предстоящих концертах мама регулярно напоминала всем нашим знакомым. И если оказывалось, что кто-то болен или уезжает в командировку, она очень расстраивалась. Возле телефона лежал разделенный надвое красной чертой лист бумаги. В одной графе значилось -- "Дети", в другой -- "Взрослые". Мама записывала имена всех, кого следовало пригласить на утренник и на вечерний концерт. -- Подведем баланс! -- заявляла она. -- Практически я включила всех! А через минуту она бежала дополнять список новыми именами. Из-за этого 129 маме приходилось то и дело обращаться к администратору Дома культуры, который распределял пригласительные билеты. Собираясь наполовину заполнить зал своими знакомыми, мама тем не менее предупреждала: -- Не повторяй моих ошибок: не смотри в нашу сторону. И вообще не вспоминай о том, что мы тебя слушаем. Сразу же возникнут натянутость и неестественность. А это практически все сводит на нет! Поверь моему опыту... Мама часто перенимает у людей, которые ей нравятся, их любимые словечки и выражения. "Практически" -- это было слово Лукьянова. Еще он любил говорить -- "пройденный этап" и короткое слово "дело". Я никогда не видел Лукьянова, но мне казалось, что я узнал бы его, даже встретив где-то на улице. Особенно если б это было поблизости от управления строительством, где Лукьянов работал. Я бы сразу понял, что это он: солидный, стремительный, никогда не оглядывающийся назад. И его манера говорить, его любимые выражения тоже были мне хорошо известны, потому что у мамы есть еще одна интересная особенность: разговаривая, она иногда 130 повторяет последние фразы своего собеседника. Ну, например, обсуждая с Лукьяновым по телефону разные финансовые вопросы, она задумчиво повторяла его последние мысли: "Значит, вы считаете, что это практически пройденный этап?", "Для пользы дела мы должны считать это пройденным этапом? Вы так считаете?..." Повторяя за собеседником его последние слова, мама как бы обдумывает, верны они или нет, может ли она согласиться или должна возразить. С Лукьяновым мама порою вступала в решительный спор. И чем больше горячилась, тем чаще употребляла его словечки: "Практически вы не правы! Если думать о пользе дела, мы должны..." Споры иногда заканчивались и маминой победой. Но она не ликовала по этому поводу: она уважала Лукьянова. -- Ну что ты волнуешься? -- сказал я маме в день первого отчетного концерта, на который были приглашены дети. -- Ведь я всегонавсего объявляю... -- Всего-навсего объявляешь? -- повторила мама. -- Нет уж! На этих концертах ты должен доказать всем и самому себе, что ты вовсе не 131 "объявляла", что ты -- артист! Наверно, из-за того, что я должен был это доказать, мама и испытывала такое большое нервное напряжение. -- Особое внимание обрати на пересказ содержания песен, которые вы исполняете на иностранных языках, -- предупредила мама. -- Мы должны почувствовать, что с твоей помощью путешествуем по земному шару... Путешествовать наша семья привыкла! А папа волновался за Мандолину: -- Если будет провал... -- Виктор Макарович тоже за него беспокоится, -- сказал я. -Вы садитесь, пожалуйста, рядом с Димулей! -- Ты бы узнал все-таки его имя и отчество. Нам с мамой не очень удобно... Ведь мы с ним не пели в хоре! Чтобы Володька недолго мучился, Виктор Макарович выпустил его в начале программы. "Дунайские волны" были нашим четвертым номером. Я громко назвал Володьку "Владимиром" и "солистом". Он вышел, сел, склонился над своей мандолиной, как над ребенком... И словно бы стал баюкать ее. Как только я вернулся за кулисы, на меня налетел Дирдом. Каким образом 132 он успел за две минуты добраться из ложи до меня -- до сих пор понять не могу. Вид у Дирдома был такой, будто он только что выпил стакан рыбьего жира. -- Ему... -- он указал на Виктора Макаровича, который, казалось, плыл в этот момент по Дунаю, -- ему я не могу сейчас высказать... Но у тебя же в руках программа, которая утверждена! Где тут "Дунайские волны"? Покажи мне... -- Это идет сверх программы, -- объяснил я. -- А кто это "сверх" утвердил? -- Мандолина -- одаренная личность! -- сказал я. -- Послушайте, как он играет... -- Есть правила приема в хор! Есть утвержденный порядок! Я объяснил это его родителям. А они, значит, с черного хода? У Дирдома была манера долго втолковывать людям то, что они уже давно поняли. Он продолжал объяснять мне, что правила на свете для всех одни, что не может быть исключений... Проверил, не вписано ли в программу еще что-нибудь такое, чего он не слышал. -- У нас во дворе... -- начал я. -- Здесь не двор! -- вскрикнул Дирдом. 133 И тут "Дунайские волны" кончились. Как Володька играл, я, к сожалению, не услышал. Но важней для меня было другое... -- Послушайте! -- снова воскликнул я. Я знал, что ребята из нашей школы сейчас будут кричать "бис!" и скандировать. Об этом мы твердо договорились. Они начали кричать... И даже слишком громко. Некоторые стучали ногами, о чем уговора не было. -- Триумф! -- сказал я. Но Дирдом испарился. Он не хотел быть свидетелем нашей победы. Володька заиграл снова... На "бис" в первом отделении исполнялись только "Дунайские волны". А Виктору Макаровичу Дирдом ничего не сказал о Мандолине. Ни слова... "Значит, мы действительно победили!..." -ликовал я. Но главным в тот день было не это... 5 Главным было то, что я услышал от Виктора Макаровича, когда мы возвращались домой. Он очень устал. Останавливался чаще, чем всегда, и дольше, чем всегда, растирал икры ног. 134 Мы шли и молчали... Потому что все восторги по поводу концерта я успел высказать ему еще в Доме культуры. Когда мы уже подходили к дому Виктора Макаровича, он вдруг печально сказал: -- Я счастлив. -- Да! Мы сегодня рванули! -- Не в этом дело. Я слышал, как Димуля звонил в больницу жене. Ее не позвали. Тогда он попросил сестру передать, что Володю вызывали на "бис". Я счастлив... -- Он помолчал. И добавил: -- Но как этот Мандолина похож на Димулю! Когда он первый раз пришел на репетицию, мне показалось, что я помолодел лет на тридцать. Вот сейчас, думал я, появится Римма в красном галстуке, встанет рядом -- и они запоют! -- Голова такая же круглая, -- согласился я. -- Только с волосами и без очков. А Дирдом, говорил, что его лицо нам не подходит. Он считает наши дневники нашими лицами! -- Пушкин тоже не мог овладеть математикой, -- сказал Виктор Макарович. -- И что же, если бы Пушкин поступал к нам в литературный кружок... -- Дирдом бы его не принял! Потому что его лицо могло бы испортить лицо Дома культуры... 135 -- И мое лицо может испортить. А верней, мои ноги, -- с печальной улыбкой сказал Виктор Макарович. -- Поэтому я сегодня дирижировал вашим хором последний раз. Виктор Макарович умел показывать фокусы и любил розыгрыши... Я посмотрел на него с недоверием. -- В последний раз, -- повторил он. -- Как... последний?! -- Был консилиум, -- продолжал он. -- Это грозный совет докторов! И самое страшное, когда он выносит решение единогласно. Неизлечимая болезнь ног... -- Отчего это? -- Говорят, от курения. Но я никогда не курил. Говорят, от неподвижного образа жизни. Но я всю жизнь двигался. А теперь... Долго ходить нельзя, долго стоять нельзя. Дирижировать можно сидя... -- Ну и что же? -- воскликнул я. -- Ну и что же?! Это будет отличать вас от всех остальных. Вы сидите, а они перед вами стоят! Учитель, когда разговаривает с учеником, тоже сидит, а ученик перед ним стоит. -- Но Дирдом считает, что сидячий дирижер пионерского хора -это для его Дома культуры не подойдет. И думаю, в данном случае можно с ним 136 согласиться. Я и так невысок... А если сяду на стул, меня и вовсе не будет видно. Так что приходи теперь ко мне домой... Времени будет много -- в шахматишки сыграем. -- Но ведь вы можете выздороветь! -- Добрый мой мальчик... -- сказал Виктор Макарович. -- Ведь есть же какие-то средства? -- Меньше стоять, не перегружать свои ноги... Перехожу на "сидячие игры". Пора уже: я ведь вошел в пенсионный возраст. "Вбежал!" -- захотелось мне поправить его. Потому что он всегда порывисто двигался. -- Как же... теперь? -- спросил я. -- Будете "под управлением" Маргариты Васильевны. Она вас знает и любит. -- Маргариты Васильевны?! Но ведь она тоже... немолодая. -- Разве это заметно? -- медленно и с удивлением спросил он. Я ничего не ответил. -- Пусть она, как дирижер, проявит себя прямо на следующем отчетном концерте! В присутствии общественности и ваших родителей. Чтоб они были спокойны. -- Через неделю? -- А что же тянуть? "Нет! Лучше он -- сидящий, чем она -- стоящая!" -- твердо решил я в ту минуту. 137 Мои родители были потрясены этой новостью не меньше, чем я. -- Он не должен уйти: он же талант! -- тихо воскликнул папа. -- Неужели ничего нельзя придумать? -- сказала мама. И выпрямилась. Когда она произносит эту фразу, мы с отцом сразу начинаем верить, что выход найдется. Безвыходных ситуаций мама не признает. -- Я буду думать... -- произнесла она. -- Очень прошу тебя, -- сказал я. -- Надо доказать, что без него ваш хор петь не сможет! -- решительно заявила мама. Эта фраза натолкнула меня на неожиданную и смелую мысль. "Да, мы докажем, что без него петь невозможно! -- решил я. -- Пусть мама ищет свой выход из положения. Но и я не буду сидеть сложа руки!" План, который родился у меня в голове, я открыл участникам средней группы нашего хора. Средней группа была не по качеству, а по возрасту: в нее входили ребята, которые учились в четвертых, пятых и шестых классах. С представителями этого возраста договориться мне было легче всего. Младшие могли мой план не понять, а старшие -- не принять. Средняя группа, как я и предполагал, поняла меня сразу! Хотя план был рискованный и опасный... 138 Мама как-то сказала, что ребята в моем возрасте очень смелы, потому что у них нет опыта и они еще не успели набить себе шишек. Мама очень хочет, чтобы я учитывал ее опыт, ее ошибки. Но я все больше убеждаюсь в том, что на ее шишках мне трудно будет чему-нибудь научиться. "И вообще, -рассуждал я, -- не очень-то получится благородно, если один будет набивать себе синяки, а другой на этих синяках, на чужом, значит, горе будет учиться!" И вот наступило то самое воскресенье. Взрослые собрались в фойе Дома культуры задолго до начала концерта... Родители и родственники наших хористов были очень возбуждены. Некоторые мамы целовались и неизвестно с чем поздравляли друг друга. Пришли и бывшие участники нашего хора. Среди них, как успел сообщить Дирдом, были и такие, которые очень многого в жизни достигли! Ну, например, заслуженный артист республики, о котором однажды упоминал Виктор Макарович... Фамилия его была Наливин. Эту фамилию знали все в нашем городе. И поэтому, когда Дирдом привел Наливина за кулисы, все очень переполошились. Только Маргарита Васильевна встретила Наливина хмуро. Он торжественно, 139 раскинув руки, поплыл ей навстречу. Но она увернулась, еле слышно пробормотав: -- Здравствуйте, Женя. И после этого внятно произнесла: -- Уже был первый звонок! Она, должно быть, боялась, что Наливин отвлечет нас от предстоящего выступления. "Хочет проявить себя!" -- подумал я о Маргарите Васильевне. Наливин был рыхлым, бесформенным. И было странно, что от его массивного тела отрывался и как бы журчал в воздухе тонкий женский голос. Когда он первый раз открыл рот, я даже вздрогнул и огляделся: мне показалось, что говорил кто-то другой. -- А где же наш бесценный Виктор Макарович? -- спросил Наливин. И развел руки в стороны, готовясь обнять его. -- Он, вероятно, в зале, -- скороговоркой сообщил Дирдом. -Сегодня будет дирижировать Маргарита Васильевна. -- Значит, мы с ним в антракте увидимся? -- зажурчал голос Наливина. -Боюсь только, он опять будет журить меня, как в те невозвратные годы. -Певец обмерил взглядом свою фигуру. -- Молодых влюбленных мне играть уже трудно: за кресло не спрячешься, с балкона не спрыгнешь! 140 Он снова обмерил себя осуждающим взглядом. Я заметил, что есть люди, которые в шутку торопятся сказать о своих недостатках, опасаясь, что другие сделают это всерьез. Наливин обращался сразу ко всему нашему хору. Он делал это очень легко: привык делиться своими переживаниями с огромным залом театра оперы и балета! -- Напоминаю: уже был второй звонок! -- деловито проходя мимо, произнесла Маргарита Васильевна. -- Но третий мы можем и оттянуть. Все в нашей власти! -ответил ей вдогонку Дирдом. -- Ни в коем случае!... -- испуганно зажурчал Наливин. -- Из-за меня?! Если Виктор Макарович узнает... Что же он не пришел за кулисы? -- В антракте увидитесь. В моем кабинете, -- услужливой скороговоркой пообещал Дирдом. Виктор Макарович сидел в девятом или десятом ряду. Я думаю, он хотел показать всем, что хор справится с программой без всякого воздействия с его стороны. Но я решил доказать нечто совершенно противоположное! Я вышел на сцену и, стараясь, чтобы лицо мое было как можно более открытым и приятным, сообщил, что концерт начинается, что дирижировать будет 141 Маргарита Васильевна. Объявил название первой песни и фамилии ее авторов. Маргарита Васильевна взмахнула руками и как бы дала сигнал: "На старт! Внимание... Марш!" Младшая и старшая группы рванулись вперед. А средняя немного замешкалась на старте и вступила не вовремя. Зато в другом месте она, будто испугавшись и стремясь наверстать упущенное, начала чуть-чуть раньше, чем полагалось... Я наблюдал за всем этим из-за кулис. Но Маргариту Васильевну я старался не замечать, чтобы не подпустить к себе чувство жалости. Мой план начал осуществляться! Потом я объявил второй номер. И опять вернулся на свой наблюдательный пункт. На этот раз все началось благополучно. Средняя группа не отставала... Хоровое многоголосье разливалось по залу. Но когда Маргарита Васильевна дала знак к окончанию песни, средняя группа, внимательно смотревшая на нее, этого знака не заметила и продолжала тянуть... У песни как бы образовался хвост. Когда я вернулся на свой наблюдательный пункт в третий раз, там уже был 142 Виктор Макарович... Он опирался на палку, которую я увидел впервые, и, казалось, стал еще ниже ростом. -- Неужели я ничему не научил вас за все эти годы? -- напряженно произнес он. -- Вы-то нас научили! Но вот без вас... Он перебил меня: -- В одной стране, мне рассказывали, есть такая традиция... Главного врача больницы обязательно отправляют в длительную командировку. И если без него все идет как при нем, он возвращается на прежнее место. А если хоть что-нибудь ухудшается, его переводят в рядовые врачи. В ординаторы... Прекрасный обычай! -- Что вы хотите сказать? -- Я должен буду публично принести извинения залу, вашим родителям... Маргарите Васильевне... Тут уж я перебил его: -- Ни за что! Я не пущу вас! Третья песня подходила к концу... Я знал, что средняя группа готовила Маргарите Васильевне новый сюрприз. -- Одну минуточку!... -- сказал я Виктору Макаровичу. И принял такую позу, чтобы средняя группа обратила на меня внимание. Но она готовилась... И на меня не глядела. 143 В следующее мгновение Виктор Макарович побледнел. И еще тяжелее оперся на палку, потому что на сцене успешно продолжал воплощаться мой замысел. Я не знал, как поступить... Но, вероятно, мама права, когда отрицает безвыходные ситуации. Я вдруг придумал! Третья песня уже закончилась. А я на сцене не появлялся... Я быстро царапал карандашом на газетном клочке: "Ребята! Кончайте!" Когда я вышел на сцену, кто-то захлопал. Вероятно, нервы не выдержали долгого ожидания. Может быть, это были мои родители?... -- Уже поступают заявки... с мест! -- объявил я так громко, как никогда еще не объявлял ни одного номера. -- Я передаю эту просьбу хору. Она, конечно, будет исполнена! На последних словах я сделал особое ударение. И передал записку... Но не Маргарите Васильевне, как полагалось, а своему однокласснику Лешке, который был моим главным союзником в средней группе. Вернувшись за кулисы, я сказал Виктору Макаровичу: -- Теперь все будет в порядке. Не поверив мне, он стал внимательно слушать и шевелить губами: весь наш репертуар он знал наизусть. Я тоже прислушивался... Особенно к средней 144 группе. Хотя можно было уже не волноваться: просьба друга была для Лешки законом! -- Что это значит? -- спросил Виктор Макарович. Мама просит меня не повторять в жизни ее ошибок, Я и не повторял... Я вообще не был уверен, ошибкой ли был мой план. Просто я не мог допустить, чтобы Виктор Макарович... И шепотом все объяснил ему. -- Значит, это ты сделал? -- медленно произнес он. -- Мой добрый мальчик? -- Мы не хотели расставаться с вами! В этот момент кончилась песня. Я вышел на сцену с лицом, которое, думаю, было не таким открытым и приятным, как обычно. А когда вернулся за кулисы, Виктора Макаровича уже не было. В антракте я помчался искать его. Но меня все время задерживали рукопожатия и похвалы. Почти все называли меня "молодцом". Но у каждого это звучало по-своему... "Ты -- молодец!" -- восклицал один. "Ну, сегодня ты был молодцом!" -- похлопывал меня по плечу второй. "Молодец-то ты молодец, но впереди еще целое отделение!" -- предупреждал третий -- Вам с Мандолиной, мне кажется, было трудней всего: вы оба 145 солировали, -- сказал папа. -- И делали это вполне талантливо. -- Только не повторяй моей ошибки: не выкладывайся до конца на первой дистанции! -- предупредила мама. -- Ведь именно в конце второго отделения ты будешь пересказывать содержание зарубежных песен! Прошу тебя: постарайся оттенить специфику каждой страны... -- Прижав мое ухо к своим губам, мама спросила: -- А что это там происходило... вначале? -- Ничего не заметил! -- ответил я. -- Значит, Маргарита Васильевна была права: у тебя не все благополучно со слухом и чувством ритма. В фойе, в буфете и в зрительном зале Виктора Макаровича я не нашел... Зато я встретил Димулю. Он вытирал платком свою добрую круглую голову и что-то искал. -- Как бы мне позвонить... Римме? -- спросил он. -- Телефон у директора! -- Прошлый раз я звонил оттуда. Но сейчас там... -- Автомат внизу, возле кассы! -- перебил я. Потому что в эту минуту вспомнил, что Дирдом обещал Наливину встречу с Виктором Макаровичем у себя в кабинете. Я помчался туда. Наливина еще не было. Виктор Макарович, Маргарита Васильевна и Дирдом 146 стояли посреди кабинета. Мужчины нервничали, а Маргарита Васильевна только поправляла огромный пучок на затылке. -- Зайди, Миша, зайди, -- позвал Виктор Макарович, когда я приоткрыл дверь. Кажется, впервые он не назвал меня Мишенькой. Дирдом тоже, мне показалось, с нетерпением поджидал меня. -- Я убежден, что это безобразие вначале... произошло не случайно! -сказал Дирдом. -- Это была попытка сорвать наш отчет. Ничего подобного раньше, до появления вашей... или вашего Мандолины не было! Говорят, он родную мать уложил в больницу. А теперь уложит наш хор! -- Володя тут ни при чем. Во всем виноват я... Дирдом опять как бы проглотил стакан рыбьего жира: -- Ты? Маргарита Васильевна так же неторопливо, как она приводила в порядок свой огромный пучок на затылке, произнесла: -- Зачем... чтобы кто-то брал на себя вину? Все было естественно: ребята не привыкли ко мне. Они волновались. Я хотел возразить. Но Виктор Макарович удержал меня за руку. В эту минуту из приемной донесся журчащий голос Наливина: -- Дирекция у себя? Диодом сразу же запил рыбий жир стаканом сладкого морса. Прямо с порога Наливин обрушился на худенького Виктора Макаровича, 147 накрыл его собой. -- Фотографа бы сюда! Фотографа!... -- сладким голосом воскликнул Дирдом. Потом Наливин стал обнимать меня, потом Дирдома. Когда с объятиями было покончено, я заметил, что мы, мужчины, остались одни: Маргарита Васильевна незаметно ушла. -- Десятилетия промчались, как миг, -- разводил руками Наливин. -- И вот сегодня меня вернули в невозвратную пору детства. Только уже вот такого... -- Он опять окинул себя критическим взглядом, опережая в этом смысле Виктора Макаровича. -- Поверьте, учитель, это не на почве переедания, а от неправильного обмена веществ! За болезнь ведь не судят... -- Победителей вообще судить не положено, -- сказал Виктор Макарович. -- Я счастлив, что ты -- знаменитый и заслуженно заслуженный! -- Но это и вами заслужено! -- ответил Наливин. -- Ведь это вы у меня обнаружили... -- Он погладил себя по горлу. -- Если б не вы!... Вы первый услышали мою увертюру. Мою прелюдию... А сейчас уже опускается занавес. -- Ты сошел с ума! -- весело воскликнул Виктор Макарович. -Карузо тоже был полным! А Джильи? 148 -- Врачи советуют перейти на концерты. Или на педагогическую работу. -- И у тебя тоже... врачи? -- Что день грядущий мне готовит? -- пропел Наливин. Дирдом зааплодировал. -- Ну, голос твой абсолютно здоров! -- обрадовался Виктор Макарович -- Увы... Извечный конфликт между формой и содержанием. Хотя у вас никакого конфликта не происходит: вы -- в образцовой форме. -Он с добродушной завистью оглядел худенького Виктора Макаровича. -Общение с ними не дает вам стареть! -- Наливин ткнул пальцем в мою сторону. - А мне бы сейчас петь басом! Или, в крайнем случае, баритоном... -- Оглядев себя, он вновь зажурчал: -- Вас, учитель, сегодня не хватало на сцене! -Дирдом стал усиленно копаться в бумагах. -- Кстати, где наша бестрепетная Маргарита Васильевна? -- Наливин оглядел кабинет. -- Она не виновата, -- твердо сказал я. Виктор Макарович опять удержал меня за руку. -- Я всегда восхищался, учитель, что вы столько лет... среди этого бушующего океана! -- Наливин указал на меня. -- Я бы и дня не выдержал. -- Как же ты собираешься переходить на педагогическую работу? 149 -- Буду учить вокалу. Только вокалу... А ваше призвание -- весь их мир! -- Наливин опять ткнул в меня пухлым пальцем. Дирдом совсем зарылся в бумаги. "Есть люди, которые воспринимают чужой успех как большое личное горе!" -- как-то сказала мама. Не знаю, был ли Дирдом таким человеком, но авторитет и успехи Виктора Макаровича его раздражали. Я давно уж заметил. -- И вдруг сегодня вы покинули пост, -- продолжал Наливин. -Почему? -- Ноги, Женечка... Все тот же неправильный обмен, который производит время: обмен здоровья на нездоровье!... И мне тоже придется поискать новое место в жизни. -- Оно только здесь, в этом Доме! -- уверенно заявил Наливин. -Среди них! -- В который уж раз он ткнул в меня пальцем. -- Без вас Дом культуры утратит первое слово в своем имени: он перестанет быть домом. По крайней мере, для них! Тут я захлопал. -- Маргарита Васильевна по образованию дирижер. И педагог по призванию, -- четко проговорил Виктор Макарович. -- Я в какой-то степени преграждал ей 150 путь... Теперь она быстро найдет с ними общий язык! -- Он тоже указал на меня. Я напоминал самому себе экспонат, который принесли на урок или на лекцию. -- У нее есть этот талант, -- уверенно закончил Виктор Макарович -- А у меня нет! -- признался Наливин. -- Но она не будет играть с ними в чехарду, показывать фокусы... Помните, как я через вас перепрыгивал? 6 Часа через полтора мы с Виктором Макаровичем, как всегда не торопясь, возвращались домой. Мои родители не сочли возможным разлучить нас в такой вечер и ушли после концерта с Димулей и Мандолиной. -- Мы хотели, чтобы все было, как прежде, -- объяснял я по дороге Виктору Макаровичу. -- Чтобы вы остались главным дирижером -сидящим или стоящим... Мы только этого и хотели! -- Во-первых, есть средства, которые могут убить благородную цель... -медленно произнес Виктор Макарович. -- Это ты запомни на всю свою жизнь. Чтобы когда-нибудь тебе не сказали, что "благими намерениями дорога в ад 151 вымощена". А во-вторых... -- Он так понизил голос, что я еле расслышал: -Во-вторых, я любил Маргариту Васильевну. -- Ее?! -- Я остановился от неожиданности. -- Наверно... давнымдавно? Когда вы еще молодым были? -- Неважно, когда это было. Важно, что было. -- И прошло? -- Прошло -- не значит кануло, Мишенька. Это во-первых. А вовторых... Что-то я сегодня все раскладываю по полочкам. Видимо, потому, что ты задаешь слишком много вопросов. И все-таки я осмелился прошептать: -- А почему вы на ней... не женились? -- Это сделали до меня. -- А она... вас?... -- Она любила со мной работать. И, если говорить словами Дирдома, не думала о своем собственном творческом лице. Теперь наконец... Это в какой-то степени было моим долгом. -- Может быть, вы уходите из-за этого?! -- Из-за "неправильного обмена"... Но нет худа без добра, как говорят. Пойми: она была в моей жизни целой эпохой. Ты скажешь: прошлой эпохой. Но прошлое и забытое -- разные вещи. Вообще помнить всегда лучше, чем забывать, 152 Мишенька. Плохое иногда еще можно вычеркнуть. Но хорошее... -Он помолчал, потер ногу. -- Тот, кто не помнит вчерашнего, тот и сегодняшнее забудет... А на самом деле позавчера и послезавтра в жизни неразделимы! Виктор Макарович заметно устал. Но, мне показалось, не оттого, что у него были больные ноги, а от своих мыслей. Мы с ним присели. -- Если из книги, Мишенька, выбрасывать прочитанные страницы и главы, вся книга рассыплется. Впрочем, вернемся к Дому культуры... -сказал он. А сам вернулся к Маргарите Васильевне: -- Сколько черновой работы она брала на себя! А лавры в основном доставались хору и мне. Говорят, что в один из самых страшных кругов ада... того самого, дорога к которому вымощена твоими рухнувшими намерениями, попадают "предатели своих благодетелей". То есть люди, не помнящие добра... Не будем принадлежать к их числу, Мишенька! -- Не будем!... Я вот вас никогда не забуду! -- Спасибо тебе... Память может продлить человеческую жизнь. Ты понимаешь? Даже угасающую или давно угасшую... Мы помолчали. Потом я сказал: -- А моя мама помнит все даты в жизни наших родственников и знакомых. И всех поздравляет. Я даже смеюсь над ней. 153 -- А что тут смешного? -- Все и всех помнить?... Это надо иметь такой склад! -- Я постучал пальцем по голове. -- Память -- не склад и не хранилище, -- возразил Виктор Макарович. -Это -- святилище... Прости за громкое слово. Мы еще помолчали. -- Хорошо, что Дирдом ничего об этом не знает, -- сказал я. -- А то бы он не назначил Маргариту Васильевну дирижером... с таким удовольствием. -- Может быть. -- А детей у вас никогда не было? -- спросил я. -- Я всю жизнь был таким многодетным отцом в нашем Доме культуры, что построить свой собственный дом... не успел как-то. А Маргарита Васильевна заплакала, когда узнала, что я должен уйти. -- Заплакала? Она?! Не представляю себе. -- Тем дороже для меня это событие! Мы поднялись со скамейки и пошли дальше. -- Но вот кто мне поможет отыскать... как говорится, новое место в жизни? -- ни к кому не обращаясь, сказал Виктор Макарович. Как раз одна из замечательных особенностей моей мамы состоит в умении 154 отыскивать то, чего другие найти уже не надеются: достать какоенибудь редчайшее лекарство, или принести друзьям книгу, изданную лет сорок назад, или разыскать боярские костюмы для самодеятельного спектакля, хотя спектакли про бояр в городе вообще никогда не шли. Она может починить пробки вечером, когда уже все приготовились сидеть в темноте, потому что у монтера рабочий день кончился. -- Я нашла выход из положения! -- через несколько дней сообщила мама. Мы с папой притихли. -- Я вспомнила, что в Доме культуры "Горизонт" был детский ансамбль. В него входили и хор, и хореографическая труппа, и струнный оркестр. А в ансамбле, кроме дирижеров, балетмейстеров и прочих, был еще и художественный руководитель. Он все объединял. Вы помните? Мы с папой не помнили этого, потому что мама увлекалась в ту пору драматическим кружком и никакие другие самодеятельные коллективы нас тогда не интересовали. Альбом "Мама в ролях" относился как раз к тому времени. -- Так вот... мы с Лукьяновым придумали, как учредить эту должность в 155 нашем Доме культуры! Дирдом уже знает. Потому что должен подготовить кое-какие бумаги. Я и имя ансамблю придумала: "Взвейтесь кострами!..." Лукьянов одобрил. Конечно, не в имени дело. Надо пробить штатную единицу! Я объяснила Лукьянову, что это нужно "для дела". Он быстро изучил вопрос и сказал, что "практически это возможно". Художественный руководитель ансамбля "Взвейтесь кострами!...". Звучит, а? Ну-ка, Миша, выйди и объяви! Я вышел на середину комнаты, сделал свое лицо открытым и приятным и произнес. -- Начинаем концерт ансамбля "Взвейтесь кострами!...". Художественный руководитель -- Виктор Макарович Караваев! Дирижер -- Маргарита Васильевна... -- Все равно прозвучало очень эффектно, -- сказала мама. -- Да, Лукьянов у нас -- голова! Сразу вошел в контакт с профсоюзами. Все поставил на деловую основу. Я думаю, дней через пятнадцать наш проект осуществится. -- Я был уверен, что мама отыщет выход, -- сказал отец. -- Если надо помочь, для нее не существует непреодолимых джунглей и лабиринтов! Когда маме удается в очередной раз "починить пробки" (так у нас дома 156 называются все мамины действия, связанные с починкой, помощью и розысками), отец выглядит именинником. Он бывает счастлив и оттого, что мама что-то исправила, кому-то помогла, но главным образом, мне кажется, оттого, что мама опять проявила себя одаренной натурой, чем он так гордился. -- Только не повторяй моей обычной ошибки: не рассказывай об этом Виктору Макаровичу раньше времени, -- продолжала мама. -- Ты знаешь, что я суеверна! -- А мне кажется, надо ему сказать, -- возразил папа. -- Пусть знает, что кто-то волнуется за него, хлопочет. Сам этот факт будет ему приятен. Для него важны не только результаты наших усилий, но и наши намерения. Он понимает, что результаты могут от нас не зависеть... -- Говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена! -- сказал я. -- Это когда благие намерения осуществляются не благими средствами, -ответил отец. -- Как раз это и было... -- Когда? -- удивился отец. Я не ответил на его вопрос. Вместо этого я воскликнул: -- Сейчас же надо сообщить Виктору Макаровичу! Чтобы он не страдал ни 157 одного лишнего часа. Мама с Лукьяновым своего добьются. Я абсолютно уверен! -- И я, -- сказал папа. Виктора Макаровича дома не оказалось. К двери была приколота записка: "Я у Димули". Значит, он ждал кого-то... Не кого-то, а только меня! Потому что только я знал, что Димулю зовут Димулей. Я ринулся обратно к своему дому. Ведь Димуля, Римма и Мандолина жили в соседнем подъезде. Дверь мне открыл Володька. Он не упал в обморок от радости, что увидел меня. Он посмотрел так, будто я приходил к нему каждый день в это самое время. У меня же вид был, наверно, такой торжественный, я так горел нетерпением поскорей рассказать всем мамину новость, что Володька спросил: -- Что с тобой? -- Ничего... Сейчас узнаешь! -- Проходи, -- сказал он. -- Есть хочешь? -- И пошел на кухню. -- Куда ты?! -- воскликнул я. -- Сначала послушай... -- Подожди немного. У меня пригорит... Мандолина был хозяйственным парнем. Перед первым отчетным концертом он очень волновался, конечно, но все же заметил, что у Лешки из средней группы на куртке оторвана пуговица. 158 -- Хочешь, пришью? -- спросил он. -- А нитки с иголкой? -- Найдутся. Оказалось, у Маргариты Васильевны действительно есть и то и другое. -- А пуговица? -- спросил Лешка. -- От заднего кармана брюк оторвем. Там никто не увидит. Он оторвал и пришил. Когда я сообщил об этом маме, она сказала: -- Значит, в будущей своей семье он будет играть те же две роли, которые я исполняю в нашей. -- Какие две? -- спросил я. -- Мужчины и женщины! Володька не любил восклицаний и суеты. Когда в день концерта его вызвали на "бис", он вышел так, будто ребята из нашей школы не надрывались и не выходили из себя от восторга. Казалось, он был наедине со своей мандолиной. Сел, снова склонился над ней, как над ребенком, и во второй раз заиграл "Дунайские волны". Я, конечно, не сказал ему о том, что наша школа выполняла данное мне обещание. Он бы этого не простил... Мне хотелось, чтобы в момент, когда я буду объявлять свою новость, все были в сборе. Поэтому я подождал в коридоре, пока Володька не появился с 159 огромной кастрюлей в руках. -- Будем есть суп, -- сказал он. -- Есть хочешь? -- Сейчас вам будет не до еды. Не до супа! -- сказал я. -- Вот если бы было шампанское!... Володька взглянул на меня с недоумением. Мы вошли в комнату... Виктор Макарович и Димуля на диване играли в шахматы. -- Мишенька! -- воскликнул Виктор Макарович. -- Как раз я выигрываю. -- Хоть бы раз мне удалось не проиграть... -- с досадой, поглаживая свою круглую голову, сказал Димуля. -- Сегодня мы все победили! -- сказал я. -- Кого? -- спросил Виктор Макарович. -- И ваш консилиум... И Дирдома! -- Что ты имеешь в виду? -- Будет создан ансамбль "Взвейтесь кострами!...". А у ансамбля будет художественный руководитель. Догадайтесь кто? На фотографии мы видим сейчас его спину! -- Все уставились на фотографию. А я продолжал: -Художественный руководитель не должен сидеть и не должен стоять -- он должен только руководить! Володька поставил кастрюлю на стол так тяжело, что я понял: моя новость произвела на него впечатление. 160 -- Осталось только выбить штатную единицу. Ее выбивают Лукьянов и моя мама. Так что можно не сомневаться! Все молчали. -- А Маргарита Васильевна будет дирижировать... -- сказал я. И тут понял, что поговорка "Как гора с плеч" очень точная. Виктор Макарович встал, распрямился. -- Если так... -- сказал он. -- Если так... И заходил по комнате. А я ходил за ним и объяснял, что если Лукьянов и мама за что-нибудь берутся, можно быть абсолютно спокойным. -- Как это хорошо! Как хорошо!... -- повторял Димуля.-- Значит, и Володя останется... А то директор говорит: "Когда исправишь тройки по математике, тогда и будешь играть..." А если он их никогда не исправит? -- Не в этом дело, -- пробурчал Мандолина. -- Я твой отец... Я за тебя радуюсь... Надо Римме позвонить. Рассказать... Он поднялся с дивана. -- Суп остынет, -- остановил его Мандолина. -- Хозяйственный он у тебя! -- похвалил Виктор Макарович. Ему хотелось говорить людям приятное. -- Если быть объективным... -- начал Димуля. Володька сразу отправился за чем-то на кухню. -- Очень заботливый! -- повторил Виктор Макарович. 161 -- Мать часто в больнице. Так что приходится... -- А вот пусть Римма... -- начал я. И приостановился. --... Григорьевна, -- подсказал мне Димуля. -- Пусть Римма Григорьевна расскажет этому вашему соседу... Сама пусть расскажет! Тогда все во дворе... -- Она говорила. А он в ответ: "Что же еще мать может сказать о своем сыне!" Даже вспомнил какую-то старую притчу. В ней сын, стараясь доказать одной жестокой девчонке свою любовь, вырывает у матери из груди сердце. Бежит с ним, спотыкается, падает... А сердце спрашивает: "Мой сын, не больно ли тебе?" -- До чего же люди иногда умеют видеть в других только то, что хотят видеть! -- сказал Виктор Макарович. -- И статьи тянут себе на помощь, и старые притчи... -- Я думаю, они просто не любят музыку. Мандолина их раздражает... Не Володька, а инструмент, -- застенчиво согласился Димуля. Он махнул рукой и ушел в коридор звонить по телефону. Володька тут же вернулся. И разлил суп по тарелкам. Когда человек волнуется, у него нет аппетита... Мандолине было неудобно напоминать нам, что суп остынет. А мы с 162 Виктором Макаровичем стояли и смотрели на фотографию, на которой Дима и Римма пели. -- Почти для всех них это было вроде игры... -- неожиданно сказал Виктор Макарович. -- Но я всегда думал: человек, который любит песни, не может быть злым человеком. Это для меня было главным... Давайте-ка и мы устроим игру! Поскольку все хорошо, что хорошо кончается. Вот сейчас Димуля вернется, и тогда... Димуля вернулся и сказал, что дежурная медсестра уже направилась к Римме в палату с радостным сообщением. -- Я предлагаю устроить концерт, -- сказал Виктор Макарович -- И чтобы каждый исполнял привычную для него роль. Ты, Мишенька, объявишь. Я буду дирижировать. Димуля по старой памяти будет петь, а Володя -играть на мандолине... -- Он обратился к Володьке и его отцу: -- Вы ведь наверняка исполняли что-нибудь вместе? -- Было... -- сознался Димуля. -- Мы с Риммочкой в два голоса, а Володя аккомпанировал. Но так... для себя. -- Что же вы пели? -- Вспоминали репертуар нашего хора. Ну, вот гурилевский "Колокольчик", 163 к примеру... -- Прекрасно! Володя, бери мандолину! -- Володька взял. -Мишенька, на авансцену! Второй раз в этот день мне предлагали вести себя дома, как на концерте. "Доставлять радость одному человеку или целому залу -- большой разницы нет. Была бы, Мишенька, радость... -- объяснил мне как-то Виктор Макарович. -- Настоящий артист никогда не откажется выступать из-за того, что нет полного сбора. Даже если пришло всего насколько зрителей, он выйдет на сцену. Они же не виноваты!" Передо мной были три зрителя и одновременно -- три участника. Я сделал свое лицо еще более приятным и открытым, чем это было сегодня дома. И объявил: -- Композитор Гурилев... "Колокольчик"! Виктор Макарович по-настоящему, как на концерте, взмахнул руками. Володька склонился над мандолиной и стал баюкать ее. Димуля запел застенчивым, нежным голосом: Однозвучно гремит колокольчик, И дорога пылится слегка... 164 Я переводил взгляд с фотографии на Димулю. Я люблю с помощью фотографий наблюдать, как с годами меняются лица людей. Но выражение лиц с годами почти не меняется. По крайней мере у Димули характер остался тем же... 7 После того как мне стало ясно, что Виктор Макарович никуда не уйдет, я полюбил Маргариту Васильевну. А она, мне кажется, полюбила меня. Потому что знала, что это моя мама вспомнила про Дом культуры "Горизонт", где был детский ансамбль и художественный руководитель. Раньше я не очень хорошо представлял себе, как Маргарита Васильевна разговаривает на обычные человеческие темы. В моем присутствии она произносила лишь те фразы, которые имели непосредственное отношение к репетициям или концертам. "Мы можем начинать, Виктор Макарович?", "Ты, Миша, произносишь фамилию Мусоргский так, будто это твой товарищ по школе. Никакого благоговения... С гениями так обращаться нельзя!" И вдруг она изредка начала улыбаться, чего я раньше почти никогда не видел. А один раз даже потрепала меня за волосы. Я наклонил голову, чтобы ей 165 удобнее было трепать. Такое я получал удовольствие! -- А ловко ты это придумал -- сорвать мой дебют! -- сказала она. -Значит, ты любишь Виктора Макаровича? -- Мы все его любим, -- ответил я и пристально на нее посмотрел. - А? Разве не так?... Но она опять стала, как говорится, непроницаемой. ... В тот день у нас была репетиция концерта "Перелистаем страницы опер!...". Эту программу придумала Маргарита Васильевна. Наши ребята становились то крепостными девушками из "Евгения Онегина", то охотниками из оперы "Волшебный стрелок", то свитой грузинского князя из "Демона", то казаками из "Тихого Дона"... Все эти песни наш хор исполнял и раньше, при Викторе Макаровиче. Но Маргарита Васильевна объединила их все в отдельную программу. И сочинила пояснительный текст, который я должен был произносить. Маргарита Васильевна объясняла нам, что нет, по ее мнению, профессии "певец", а есть профессия "артист". Только артист обладает даром перевоплощения, которым все участники нашего хора обязательно должны обладать. 166 -- Бывают не артисты, а исполнители арий. Вы не должны брать с них пример, -- убеждала нас Маргарита Васильевна. С тех пор как Виктор Макарович ушел из хора, она все время ссылалась на него, цитировала то, что он говорил тридцать лет назад, и двадцать лет назад, и совсем недавно. -- Представьте себе, что нас слушает Виктор Макарович! -- восклицала она. Ребята представляли себе это, и Маргарита Васильевна хвалила их: -- Вот так... Совсем другое дело. Вы чувствуете? "Должно быть, раньше она просто не хотела отвлекать наше внимание от Виктора Макаровича, -- думал я. -- И поэтому вела себя незаметно. Выходит, он действительно чуть-чуть преграждал ей дорогу?" Особое внимание Маргарита Васильевна уделяла средней группе. Она даже высказала мнение, что Лешка может иногда запевать. -- Вот видишь, -- сказал я Лешке. -- Как хорошо, что вы не вовремя вступали на отчетном концерте!... -- Сознаться, что ли? -- ответил мне Лешка. -- Я уже сознался. Так что запевай абсолютно спокойно! У нас с Маргаритой Васильевной было хорошее настроение: мы ждали художественного руководителя. 167 Маргарита Васильевна требовала, чтобы программа на репетиции выглядела точно так же, как на концерте. Поэтому я выходил на авансцену, объявлял номера и произносил объяснительный текст. Когда я объявил "Ноченьку" из оперы Рубинштейна "Демон" и сказал все, что нужно было, о поэме Лермонтова, которая "легла в основу", в Малом зале появился Дирдом. -- Я пришел, чтобы сообщить вам наиприятнейшее известие! -начал он. Испугался, что мы не поняли, и пояснил: -- Если перефразировать реплику Городничего из комедии "Ревизор". -- Потом он гордо оглядел нас всех: -Только что я подписал приказ о создании ансамбля "Взвейтесь кострами!...". Он органично включит в себя вас, всю нашу хореографию и оркестр. -- Ура! -- крикнул я. Меня поддержала средняя группа. -- Вы на репетиции, -- произнесла Маргарита Васильевна, взглянув на меня. -- Продолжайте работать, -- сказал Дирдом. И удалился. -- Маргарита Васильевна, разрешите мне выйти, -- сказал я. -- Но ведь репетиция не окончена. -- Я должен выйти. Простите, пожалуйста... Она сделала вид, что очень удивлена. Я вышел из Малого зала и помчался по коридору. Внизу, возле кассы, был 168 автомат... Я должен был сообщить Виктору Макаровичу о том, что мы победили! Пробегая мимо доски приказов, я притормозил, остановился... В центре доски висел новенький приказ по Дому культуры. Он сообщал о том, что создается пионерский ансамбль "Взвейтесь кострами!...". А во втором пункте было написано: "Художественным руководителем утвердить Евгения Аркадьевича Наливина, заслуженного артиста республики". -- Ты что, уснул? -- спросила меня уборщица, подметавшая коридор Я десятый или двадцатый раз перечитывал второй пункт приказа. Нельзя сказать, что я не верил своим глазам... Я не верил тому, что это кто-то мог написать, кто-то напечатать на машинке и вывесить в коридоре. "Как же так? -- спрашивал я себя. -- Как же так?!" Я без разрешения вошел в кабинет. Дирдом разглядывал афиши, висевшие на стене. -- Художественным руководителем должен был быть Виктор Макарович... -сказал я -- Это ведь было решено! -- Кем решено? -- спокойно спросил Дирдом. -- Об этом все знали. И мама и я... -- Вы с мамой? -- рассмеялся Дирдом. -- Вы назначили художественного руководителя? Исходя из чего?... -- Виктор Макарович всю свою жизнь... Он сорок лет... 169 -- Стаж работы -- это еще не все, -- ответил Дирдом. -- Исходить надо из интересов Дома культуры. Заслуженный артист, всему городу известный певец приходит к детям! Руководит нашим ансамблем!... Неужели ты не понимаешь, как это прекрасно? Для афиши, для лица нашего Дома, для зрителей... -- Это невозможно, -- сказал я -- То есть как... невозможно? В коридоре висит приказ. -- А Наливин? Неужели он согласился?! -- Я ему объяснил. И он понял. В отличие от тебя... Искусство жестокая вещь. -- Это вы -- жестокая вещь! -- сказал я. Дирдом испугался. Наверно, у меня было такое лицо... Он ничего не ответил, не выгнал меня из комнаты. -- Но ведь Наливин сказал, что не хочет работать с детьми. Я сам слышал. -- Он пошутил. Кто же не любит детей? Ты пойми... Виктор Макарович -это пройденный этап. Будущее -- за Наливиным! -- Потому что он -- заслуженный?... -- Заслуженно заслуженный! Как сказал Виктор Макарович, которого я уважаю не меньше, чем ты. К тому же и молодой! Или, как говорят, перспективный. На таком имени наш "костер" взовьется гораздо выше и ярче. 170 Очень довольный последней фразой, Дирдом как бы опять проглотил стакан сладкого морса и заулыбался. -- Но Наливин собирался идти туда, где учат... вокалу. Я сам слышал. -- На наше счастье, там не оказалось вакантного места! -- А Лукьянов? -- Откуда ты знаешь Лукьянова? -- Дирдом внимательно взглянул на меня. -- И он согласился? -- Он всегда исходит из интересов дела. А откуда ты его знаешь? Мне казалось, что ждать нельзя, что дорога каждая минута. Как будто речь шла о спасении тяжелобольного. "Надо разыскать маму и папу! Немедленно!..." -- решил я. И выбежал из кабинета. Бухгалтерия находилась на втором этаже управления строительством, а отец работал на третьем. Но я не только поэтому решил сперва побежать к маме. Просто я знал, что она-то уж не растеряется и найдет выход из положения. И потом... в трудные минуты мама всегда умеет взять себя в руки. "Собраться", как говорит отец. "Этого не может быть! -- рассуждал я сам с собой по дороге. -Мама придумала все это ради того, чтобы Виктор Макарович... не уходил, не 171 расставался с нами. Разве сможет Наливин?... Но он согласился! А Виктор Макарович обнаружил у него голос... Наливин сам говорил. Называл учителем... Он, должно быть, не знает, что в ад попадают "предатели своих благодетелей". Люди, не помнящие добра... Но не в этом дело! Надо исправить... Пока Виктор Макарович не узнал!" Нужен был пропуск. Я стал звонить снизу... Но телефон бухгалтерии, конечно, был занят. И вдруг я увидел маму. Она шла как ни в чем не бывало, держа в руках пачку бумаг. -- Что случилось? -- спросила она, заранее беря себя в руки. -- Вывесили приказ! Его Дирдом написал... Художественным руководителем будет Наливин! -- Что? Что?! -- Наливин... Он согласился! Дирдом ему объяснил, что это хорошо для афиши. А Виктора Макаровича... мы обманули. -- Не повторяй моей обычной ошибки. Не паникуй раньше времени! На самом деле мама никогда не впадает в панику. Просто в последнее время она все чаще стала приписывать себе то, чего я, по ее мнению, не 172 должен был делать. Маме кажется, что до меня быстрее дойдет, если я буду знать, что она испытала эти ошибки на себе самой и сама убедилась в их ужасных последствиях. -- Надо идти к Лукьянову, -- сказала мама. -- У него совещание. Но это неважно. Пойдем... Ты скажешь свое мнение от имени хора! -- И папу захватим. -- Он разволнуется. А впрочем... Отец переводил взгляд с мамы на меня, будто спрашивал: "Правда ли это?..." -- А Лукьянов разве не знал? -- уже вслух спросил папа. -- Ты не говорила ему о Викторе Макаровиче? -- Говорила... Но не акцентировала на этом. Я знаю Лукьянова. У него свои принципы. Ставку надо было выбивать не ради определенного человека, тем более пенсионного возраста, а ради дела. Но ведь другой кандидатуры и не было! -- Идем к нему! -- решительно заявил отец. И пошел впереди, хотя обычно в таких случаях нас за собой ведет мама. У Лукьянова шло совещание. -- Я загляну... -- сказал папа. Секретарша защитилась от него обеими руками: 173 -- Ну, это уж на вашу ответственность! Через минуту Лукьянов вышел в приемную. Как я и предполагал, он был напряженным, стремительным. Лицо его было не просто приятным и открытым, как у меня на концертах, но еще и красивым. И мужественным. -- Что такое? -- не здороваясь, спросил он. -- Надо вам рассказать... -- начала мама. -- Это срочно? -- Да! -- сказал я. Он взглянул на меня с удивлением, но даже не спросил, кто я такой. -- Давайте! Он распахнул дверь, которая была напротив его кабинета. -- В чем дело? -- Речь идет о художественном руководителе ансамбля, -- сказала мама. -- Этот вопрос решен положительно. -- В том-то и дело, что нет! -- Как нет? Единица утверждена. -- Но персональное назначение... неверное, -- продолжала мама. -Утвержден не Виктор Макарович, а другой человек. -- Ну, в такие детали я вникать не могу... Тут произошло неожиданное: папа повысил голос: -- Нет, вы прекрасно знаете, что любой проект, любая машина состоит из 174 деталей. И вы постоянно вникаете... Но и художественное произведение, и человеческая жизнь -- все, все состоит из деталей! -- Директор Дома сообщил мне вчера, что Виктор Макарович сам решил отдохнуть. Что ему врачи запретили... -- Дебет с кредитом явно не сходятся! Он обманул вас, -- сказала мама. Отец передвинул письменный прибор на столе. -- Тот же самый директор Дома сказал, что Виктор Макарович - уже "пройденный этап". Это ваше любимое выражение. Но человек не может быть пройденным этапом! -- Отец решительно вернул письменный прибор на прежнее место. -- И вообще я должен сказать... Что значит "пройденный этап"? Наша с вами жизнь покоится на "пройденных этапах". Как на фундаменте! Не надо быть строителем, чтобы знать, что без фундамента здание рухнет. Недавно я слышал что-то очень похожее. Но Виктор Макарович говорил о книге, а отец -- о фундаменте. Потому что был инженером. Лукьянов папу не узнавал. -- А я считал вас чересчур деликатным человеком. Это мне нравится! Отца многие считают чересчур деликатным. "Ты немного недопонимаешь", -- говорит мне папа в тех случаях, когда я 175 вообще ничего не понимаю. Например, если он помогает мне решать математические задачки. "Вот видишь, как у тебя все получилось!" -говорит он. А на самом деле все получилось не у меня, а у него. "Это не совсем так", -- говорит папа, когда что-нибудь совсем уж не так. Он умеет подсказать, вроде бы не подсказывая. Так бывает и с моими задачками, и со звонками Лукьянова. -- Вот видите, как вы отлично придумали! -- говорит он Лукьянову по телефону. -- Это же ты придумал, -- возражает мама, когда папа вешает трубку. -- Он и без меня все это знал. -- Знал бы, так не звонил!. И возражает папа людям так, что кажется, он просто дополняет их собственные мысли. А тут он почти кричал. И на кого? На Лукьянова!... -- Разве можно не ценить людей, которые уже сыграли свою роль, выполнили, так сказать, свою функцию? -- продолжал папа. -- Так, простите, и мать с отцом недолго вычеркнуть из памяти. Они ведь тоже выполнили свои функции: родили нас, подняли на ноги. Оглянуться назад -- вовсе не значит 176 отступить! (Лукьянов продолжал не узнавать его.) А Виктор Макарович мог бы еще долгие годы исполнять свою роль. Назвать его "пройденным этапом"?! -- Это не я назвал, а директор Дома культуры. Лукьянов оправдывался перед отцом! -- Виктора Макаровича я давно знаю, -- сказал он, -- очень давно! Я пел у него в хоре. -- Вы... пели? -- переспросила мама. -- Недолго. Певцом я не стал. Так что практически это не имело значения -- Это не могло не иметь значения. -- сказал папа. -- Не надо делать вид, что мы появились на свет такими же, какие мы с вами сейчас. Все имело значение! Мы часто слышим "Никто не забыт и ничто не забыто!" Разве это должно относиться только к военным подвигам? По-моему, ко всему доброму, что делают люди... Я это давно вам хотел сказать. -- Вот и сказали, -- ответил Лукьянов. -- Но как же, если вы пели... можно было не позвонить Виктору Макаровичу? Не проверить?... -- спросил отец. -- Вы знаете, какие сейчас напряженные дни! -- ответил Лукьянов. -- У меня на календаре... там, в кабинете, записано: "Позвонить Караваеву". Хотел 177 узнать о здоровье. В таком вот плане. Потому что директор Дома меня заверил... -- Лукьянов зашагал по комнате. -- Давно я не видел Виктора Макаровича. Должно быть, лет двадцать. В Дом культуры хожу главным образом на совещания. Времени нет. К сожалению... -- Лукьянов остановился. -- А он-то что же, не мог о себе напомнить? -- Неудобно, наверно... напоминать, -- сказала мама. -- У меня тоже одна голова! И в ней иногда не хватает места... -- Сердце в этом смысле гораздо вместительней, -- уверенно сказал папа. -- Да, понимаю. -- Лукьянов сел за стол, на котором стояли разноцветные телефоны. Он уже не был таким напряженным, стремительным. И хотя в кабинете у него шло совещание, он как будто не торопился. -- Нехорошо получилось... -- Дирдом во всем виноват! -- сказал я. -- Кто? -- Директор... -- Дирдом? -- Лукьянов громко захохотал. -- Это мне нравится! Очень подходит... Я думаю, еще не поздно переиграть! Лукьянов нажал на кнопку. Вошла секретарша, и он сказал, чтобы она соединила его с Дирдомом. Я думал, что Лукьянов будет кричать на Дирдома, стучать по столу. Но он 178 не кричал. Не поздоровавшись, он тихо и четко произнес: -- Вы ввели меня в заблуждение. Виктор Макарович мог остаться! (Дирдом что-то ответил.) Консилиум? (Дирдом опять что-то сказал.) Сейчас у меня нет времени. Потом я вникну во все детали. А пока отмените приказ... То есть как поздно? Дирдом что-то объяснял. Ничего больше не сказав ему, Лукьянов повесил трубку. -- В сегодняшней вечерней газете будет заметка: "Из театра -в самодеятельность. Заслуженный артист приходит к детям!" Или чтото в этом роде, -- сообщил он. И взглянул на часы. -- Уже пять... Газета печатается. -- Виктор Макарович говорил: "Я счастливый человек: никогда не расстаюсь с детством!" Теперь, значит, придется расстаться... -сказала мама -- Ни о коем случае! -- Лукьянов поднялся. -- Мы найдем другое место! -- Другого места для него быть не может, -- сказала мама. -- А не вернуть ли его на прежнюю должность? -- Дирижером? Там ведь Маргарита Васильевна... -- осмелился возразить я. -- Она вернется на свое прежнее место. 179 -- Виктор Макарович не согласится. -- Почему? -- Я вам не могу... объяснить. Лукьянов почему-то поверил мне. -- Надо пораскинуть мозгами! -- По примеру отца он чуть не смахнул на пол письменный прибор. И обратился к маме: -- Вы зайдите ко мне завтра по этому вопросу. -- Потом обратился к отцу: -- А вы зайдите сегодня. По поводу третьего цеха... Надо пораскинуть мозгами! Он ушел к себе в кабинет, так и не поинтересовавшись, кто я такой. Может быть, он догадался? -- И все-таки я люблю его, -- сказал папа. -- Он -- голова. -- А душа? -- тихо спросила мама. -- И душа есть. Только ей некогда себя проявлять... 8 Когда я вечером пришел к Виктору Макаровичу, он уже все знал. -- Откуда? -- спросил я. -- Мне позвонил Петя Лукьянов. Своих бывших учеников он называл так же, как называл раньше, когда они были детьми. -- Но почему же вы не сказали нам, что Лукьянов пел у вас в хоре?! -- Он сам об этом никогда не вспоминал... Я думал, что эта страница биографии ему почему-либо неприятна. 180 -- Неприятна? Ничего подобного! Просто он не стал певцом. Значит, практически это для него не имело значения! -- Он был очень способным мальчиком. Не у меня... А потом. Побеждал на математических олимпиадах. Я на него не сержусь. -- А на этого певца? -- На Женю Наливина? -- Виктор Макарович помолчал. -- В ошибках учеников, вероятно, и учителя виноваты. -- Ну уж нет! -- возмутился я. -- Только он виноват. Только он! И еще Дирдом... -- Хорошо, что Маргарита Васильевна дирижирует хором, -неожиданно сказал Виктор Макарович. -- Она все сбережет... Я уверен. -- Сбережет! Она сбережет, -- закричал я. -- А с этим художественным руководством... Лукьянов сказал: "Нехорошо получилось". Он хотел все абсолютно переиграть. Но опоздал... -- Это было бы невозможно, -- сказал Виктор Макарович. -- Почему? -- Ну, во-первых, Женя Наливин мой ученик. А во-вторых, победа за чужой счет... это почти поражение. -- Он подошел к окну. Мне показалось, для того, чтобы скрыть от меня лицо. -- Кажется, пора подводить итоги... -- Ни за что! -- закричал я. -- Ни за что... Лукьянов с мамой еще такое 181 придумают! А вы пока отдохните... Вот если бы мне предложили сейчас отдохнуть, я был бы счастливейшим человеком! А помните, вы сочинили две песни? Они ведь имели такой успех! Еще сочините... А мама напишет текст. Она сейчас как раз в литературном кружке! -- Добрый ты мой "объявляла", -- сказал он, не отрываясь от окна. 182 Г. Уэллс. Дверь в стене Глава 1 Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про "дверь в стене". Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа. Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной. - Он мистифицировал меня! - воскликнул я. - Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал. Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, 183 обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным. Пусть судит сам читатель! Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека - случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось: - У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться, продолжал он, немного помолчав, - я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление. Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходятся говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. - Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент. - Так вот... - И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казалась ему глупыми, скучными и пустыми. Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. "Внезапно заметила она, - он теряет всякий интерес к 184 окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним..." Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать. Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой "двери в стене", о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса. Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае для него, эта "дверь в стене" была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям. Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет. Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. - Я увидел перед собой, - говорил он, - ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены... Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На 185 чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца. По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, "совсем как взрослый", поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семивосьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слитком строгим надзором гувернантки. Его отец - суровый, поглощенный своими делами адвокат - уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить. Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти. Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону. 186 Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь. Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, помальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери. Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь. Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада. - В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно... Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ. - Видишь ли, - сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. - Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: 187 подошла, ласково, потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далек"" простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: "Вот и ты!" - потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку, это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди 188 красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби. Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь. Он умолк. - Продолжай, - сказал я. - Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей - все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей - некоторых я помню очень ясно, Других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд - все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то... Он на секунду задумался. - Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу. 189 Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти - это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. "Возвращайся к нам! - вслед кричали они. - Возвращайся скорей!" Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения. Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью. Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением. - Продолжай, - сказал я, - мне понятно. - Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и 190 шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. - А дальше! - воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой. - Дальше! - настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: "Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!" Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда? Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине. - О, как мучительно было возвращение! - прошептал он. - Ну, а дальше? - сказал я, помолчав минуту-другую. - Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой. 191 Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: "Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?" Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... М-да! Разумеется, за этим последовал суровый допрос, - мне пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, гувернанткой. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез. К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: "Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!" Как часто мне снился этот сад во сне! Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю. 192 Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении. - А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? - спросил я. - Нет, - отвечал Уоллес, - не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже? - Ну еще бы! - В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли? Глава 2 Уоллес посмотрел на меня - лицо его осветилось улыбкой. - Ты когда-нибудь играл со мной в "северо-западный проход"?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой. Это была такая игра, продолжал он, в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать "северо-западный проход" в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какойнибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к 193 своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. "Обязательно пройду", - сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад. Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном? Он замолчал. - Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли... в голове вертелась лишь одна мысль: поспать вовремя в школу, - ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу... Подумай, я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а? Он задумчиво посмотрел на меня. - Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. 194 Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первым плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями. Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было чтото вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька... Мы еще звали его Пройда... - Гопкинс, - подсказал я. - Бот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему. Ну а он взял да выдал мою тайну. На следующий день, во время перемены, меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его? И Карнеби и Морли Рейнольдс. Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе... 195 Удивительное создание - ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу - Кроушоустаршего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом. Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре. - Я сделал вид, что не слышу, - продолжал он. - Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда каких-нибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ - истинная правда. В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец. вместо того чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной 'шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери... - Ты хочешь сказать?.. - Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже, когда я ходил один, мне также не 196 удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу. - Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи? - Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь. Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, я плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться, - об этой чудесной позабытой игре... Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках. Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку. Глава 3 Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил: - Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, 197 безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы. - Да, сэр? - сказал любезно кучер. - Э-э, послушайте! - воскликнул я. - Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте! Мы проехали дальше... Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене. "Если бы я остановил извозчика, - размышлял я, - то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру". Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь - дверь моей карьеры. Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло. - Да, - произнес он, вздохнув. - Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, во в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для 198 меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званный обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования... Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. "Как странно, - сказал я себе, - а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа". И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь, - ведь для этого пришлось бы сделать каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен... Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я 199 думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... я видел его еще три раза. - Как, сад? - Нет, дверь. И не вошел. Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска. - Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе. 200 В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики, - несомненно, это была она! "Бог мой!" - воскликнул я. "Что случилось?" - спросил Хотчкинс. "Ничего!" - ответил я. Момент был упущен. - Я принес большую жертву, - сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента. - Так и надо! - бросил он на бегу. Но разве я мог тогда поступить иначе? Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее "прости". Момент был опять-таки крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер. Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом. Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю. В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса. Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был 201 прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хайстрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь... Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера - низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши. Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. "Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?" - спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так. и не ответил на этот вопрос. "Они подумают, что я сошел с ума, - размышлял я. Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля..." Это перетянуло чашу весов, В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне. - И вот я сижу здесь. Да, здесь, - тихо сказал он. - Я упустил эту возможность. Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло... - Откуда ты это знаешь? - Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что таксе успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился. 202 При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне: - Вот он, мой успех! Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате, за последние два месяца - да, уже добрых десять недель - я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад... Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине. Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ ВосточноКенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес. Я, как в тумане, теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. 203 Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело - как бы это сказать? - какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери. как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось? 204 Э. Т. А. Гофман. Фалунские рудники (новелла из цикла «Серапионовы братья») Однажды в светлый июльский день все высыпало население Гетеборга на рейд. Богатый корабль Ост-Индской компании счастливо вернулся из дальнего плавания и, бросив якорь в гавани, весело распустил по светлой лазури вымпела и шведские флаги. Сотни лодок и челноков, наполненные матросами, с торжеством носились по голубым волнам Готаэльфа, а пушки Мастуггеторга приветствовали гостей разносившимся далеко по морю громовым залпом. Распорядители Ост-Индской компании расхаживали по набережной и, высчитывая с довольными лицами ожидаемую богатую прибыль, радовались успеху смелого предприятия, расширявшегося с каждым годом и делавшего их родной Гетеборг все более и более местом процветающей торговли. Жители поэтому с удовольствием смотрели на предприимчивых распорядителей и радовались вместе с ними, так как их выгода была тесно связана с благосостоянием всего города. Экипаж прибывшего корабля числом до ста пятидесяти человек высадился на множестве лодок, нарочно для того приготовленных, и немедленно отправился в полном составе на генснинг - имя, которым называется особый праздник, даваемый в подобных обстоятельствах в честь прибывших матросов и продолжающийся иногда несколько дней. Праздничная процессия открывалась музыкантами в оригинальных пестрых костюмах, весело наигрывающих на скрипках, флейтах, гобоях и барабанах, между тем как прочая компания распевала веселые песни. Матросы шли попарно, куртки и шляпы у некоторых были украшены бантами из разноцветных лент; в руках одни держали развевающиеся флаги, другие радостно прыгали и плясали; веселый шум далеко разносился по воздуху. 205 Процессия прошла через верфи Гаагского форштадта, где в особой и предместья гостинице был и достигла приготовлен соответствующий обстоятельствам пир. Эль полился потоками; бочонок опоражнивался за бочонком; скоро, как это заведено возвращающихся из у моряков, дальнего плавания, явились на пир разряженные девушки; начались танцы, а с тем вместе и самый праздник разгорался с каждой минутой все веселее и веселее. Только один из всего корабельного экипажа, красивый молодой человек лет не более двадцати, по-видимому, не разделял общего веселья и, удалившись незаметно из залы, сел с грустным лицом на скамью, стоявшую возле ворот. Несколько матросов подошли к нему, и один сказал, засмеявшись: - Элис Фребем! Элис Фребем! Ты, кажется, опять разыгрываешь печального дурака и портишь веселье неуместной хандрой. Знаешь что, если ты так убегаешь от нашего генснинга, то убирайся лучше и с корабля! Из тебя, как вижу, никогда не выйдет настоящего моряка. Мужество, правда, в тебе есть, и в опасности ты не трусишь, но выпить не умеешь совсем. Ты больше любишь беречь дукаты в кармане, чем угощать ими береговых крыс. Выпей, товарищ! А не то пусть сам морской дьявол сломает тебе шею! Элис Фребем быстро вскочил со скамьи, взглянул на говорившего сверкнувшим взглядом и, схватив наполненный до краев большой стакан вина, осушил его залпом. - Видишь, Ионс, - сказал он, - и я умею пить, не хуже вас, а каков я моряк, пусть решает капитан; теперь же советую тебе укоротить язык и убираться подобру-поздорову. Ваше сумасбродное веселье мне противно, а зачем я сижу здесь, тебе нет дела. - Ну, ну, - проворчал Ионс, - ведь ты, я знаю, меланхолик от рожденья, а они всегда хандрят и ворчат, ничего не смысля в веселой жизни моряков. 206 Погоди, впрочем, я тебе пришлю кое-кого, кто заставит тебя встать с этой проклятой скамьи, на которой ты сидишь из одного упрямства. Несколько минут спустя красивая девушка вышла из дверей гостиницы и села возле угрюмого Элиса, снова опустившегося в тяжелом раздумьи на свою скамью. По платью и вообще по всем манерам девушки можно было ясно видеть, что она против воли предалась разгульной жизни, не успевшей еще наложить печати своего разрушительного влияния на ее милое, приятное личико. Не нахальное выражение вызывающей вольности, а, напротив, тихая грусть сквозила во взгляде ее темных глаз. - Элис! Вы совсем не хотите принять участие в весельи ваших товарищей? Неужели вы не рады тому, что успели благополучно вернуться в ваше отечество, счастливо избежав опасности утонуть? Так спросила девушка тихим голосом, обнимая молодого человека одною рукой! Элис Фребем очнулся будто от глубокого сна, посмотрел девушке в глаза и, взяв ее руку, прижал к своей груди; видно было, что ее милые черты произвели на него впечатление. - Ах, - сказал он, наконец, как бы о чем-то раздумывая. - Тут дело не о весельи и не о радости! Мне просто не по душе эти буйные забавы моих товарищей. Поди веселись с ними, если это тебе нравится, и оставь печального Элиса Фребема сидеть здесь одного, а не то он своей хандрой испортит и твое веселье. Постой, впрочем, ты мне нравишься, и я хочу, чтоб ты меня помянула добром, когда я опять уйду в море. С этими словами он вынул из кармана пару золотых монет, снял с шеи прекрасный индийский платок и подал их девушке. Но у нее навернулись при этом на глазах слезы; она встала и, положив деньги на скамью, сказала: - Сберегите ваши золотые, мне их не надо, но ваш прекрасный платок я возьму и буду носить в память о вас. Вы, наверно, уже не найдете меня более, когда будете через несколько лет справлять новый генснинг! 207 Сказав эти слова, она быстро убежала, не оглядываясь, назад в гостиницу, закрывая обеими руками лицо. А Элис Фребем опять забылся в своей грустной думе, и только когда новый взрыв веселья пирующих с особенной силой донесся до его слуха, он, как бы очнувшись, тоскливо сказал: - О, зачем не похоронили меня в морской глубине, когда нет человека в мире, с которым бы мог разделять я мое счастье! Вдруг глухой, суровый голос раздался возле него: - Ты, молодой человек, должно быть, испытал очень большое несчастье, если желаешь смерти теперь, когда жизнь твоя только что начинается. Элис оглянулся, и увидел старого рудокопа, который стоял, прислонясь спиной к стене дома гостиницы, с сложенными на груди руками, и смотрел на него проницательным взглядом. Вглядевшись в старика, Элис почувствовал какое-то странное впечатление, точно после долгого одиночества встретил знакомое и приветливое лицо. Оправясь от этого первого впечатления, он рассказал ему, что лишился отца, служившего штурманом, и погибшего во время той самой бури, от которой он спасся чудесным образом. Оба его брата, бывшие солдатами, убиты на войне, которую он мог и у него осталась одна престарелая мать, полностью содержать, благодаря хорошему вознаграждению, получаемому им при каждом плавании. Привыкнув к морю еще с детства, он решился всю жизнь быть моряком, тем более, что счастливый случай дал ему возможность поступить на службу в компанию. В этой поездке выгоды оказались более, чем когда-либо прежде, так что каждый матрос, кроме положенного жалованья, получил еще порядочную денежную награду. Веселый и радостный, с деньгами в карманах, поспешил он к домику, где жила его мать, но, увы! - увидел в его окнах чужие лица, а одна молодая женщина, отворившая ему дверь, и 208 которой он сказал свое имя, холодно объявила, что мать его уже три месяца как умерла и что ничтожная сумма денег, оставшаяся после уплаты похоронных издержек, передана в городскую ратушу, где он и может ее получить . Эта смерть окончательно растерзала его сердце и, покинутый всем светом, он остался теперь, как беспомощный пловец, выброшенный на уединенный, пустой утес. Далее он говорил, что самый выбор жизни моряка кажется ему непростительной ошибкой, особенно, когда он подумает, что из-за этого его бедная мать должна была умереть на чужих руках, лишенная всяческого попечения. Эта мысль его терзает постоянно, и он не может себе простить, зачем ушел в море, вместо того, чтобы остаться лелеять и покоить добрую мать. Товарищи насильно увлекли его на генснинг, хотя, впрочем, он сам думал, что напускная веселость и крепкие напитки заглушат хотя немного грызущую его скорбь, но праздник, напротив, довел его до того, что, казалось, в нем готовы были лопнуть все жилы, и он серьезно испугался мысли истечь кровью. - Э, полно! - сказал старый рудокоп. - Скоро ты опять уйдешь в море и там живо забудешь свою тоску. Старые люди должны же наконец умирать, а твоя мать, как ты сам сказал, вела в бедности не очень сладкую жизнь. - Ах! - возразил Элис. - Вот это-то, что никто не хочет верить моему горю, называя меня даже безумцем, более всего и делает мне жизнь несносной. Идти в море я не могу; самая мысль о том мне противна. Прежде бывало у меня прыгало сердце от радости, при виде корабля, когда, распустив, как крылья, свои паруса, он летел по плещущим, как чудная музыка, волнам, а ветер свистел и шумел между снастями. Весело сиделось мне тогда с товарищами на палубе, и часто, стоя темной ночью на вахте, мечтал я о возвращении на родину, к моей доброй матери и думал, как обрадуется она возвращению своего Элиса! Вот тогда мог бы я веселиться на генснинге, отдав матери заработанные деньги, шелковые платки и много 209 других привезенных из дальней стороны гостинцев! Как бывало тогда блестели радостью ее глаза, как весело всплескивала она руками, как торопилась хозяйничать, чтобы угостить своего сыночка хорошим элем, нарочно для него припасенным! А как потом вечером садился я с ней и начинал рассказывать о людях, которых встречал, их нравах, обычаях, и вообще о всех виденных мною во время далекого странствия чудесах! А она, бывало, слушая с любопытством, заводила сама речь о путешествиях моего отца на дальний север, рассказывала мне славные сказки про моряков, которые я уже сотни раз слышал и все-таки не мог довольно наслушаться! Ах, кто возвратит мне эту минувшую радость? Никто, и море менее всего! Что стану я делать среди товарищей? Они будут надо мною только смеяться! И откуда взять мне охоты к труду, который теперь кажется мне только погоней за пустяками! - С удовольствием слушаю я тебя, молодой человек, - сказал старик, и вот уже около двух часов с радостью наблюдаю за тобой. Все, что ты мне говорил, доказывает, что ты добрый, честный малый, а таким небо никогда не отказывает в дарах своей благодати. Но скажу тебе, ты напрасно сделался моряком. Пристала ли такая дикая, непостоянная жизнь тебе, меланхолику от природы (что ты меланхолик, вижу я по чертам твоего лица и вообще по всей наружности). Хорошо бы ты сделал, если бы бросил это занятие! Но я знаю, ты не захочешь сидеть сложа руки, а потому последуй, Элис Фребем, моему совету: сделайся рудокопом . Ты молод, силен, предприимчив, сначала будешь ты простым работником, потом помощником, потом штейгером, чем дальше - тем выше, а там, с заработанными монетами в кармане, вступишь сам в товарищество и получишь собственный пай. Говорю тебе, Элис Фребем, послушай моего совета, сделайся рудокопом. Элис почти испугался слов старика. - Как, - воскликнул он, - что ты мне советуешь? Покинуть прекрасную землю, проститься с ясным солнцем, которое нас холит и 210 радует? Спуститься вниз, в страшную глубь земли, рыться как крот, отыскивая металлы и руды, для того, чтобы добыть жалкий заработок? - Вот, - сердито воскликнул старик, - мнение толпы! Она презирает то, в чем ровно ничего не смыслит. Жалкий заработок? Как будто вся эта суетливая, мучительная возня на поверхности земли, которую вы называете торговлей, лучше и благороднее прекрасного ремесла рудокопа, чей обогащенный познаниями ум и неутомимое прилежание проникают в места, куда природа скрыла свои неисчерпаемые сокровища. Ты говоришь о жалкой выгоде рудокопа, Элис Фребем? Так знай же, что в ремесле его скрыта более, чем простая выгода. Роясь, как крот, чей слепой инстинкт перерезывает землю во всех направлениях, работая при бледном свете рудничных ламп, рудокоп укрепляет свой глаз и может неподвижных каменных дойти до такого просветления, что в глыбах ему, иной раз, представляются отраженными вечные истины того, что скрыто от нас там, далеко, за облаками! Ты ничего не понимаешь в рудничном деле, Элис Фребем, и я тебе о нем расскажу. С этими словами старик сел на скамью возле Элиса и начал объяснять ему первые основы горного искусства, стараясь как можно лучше рассказать все незнакомому с этим делом молодому человеку. Он начал с рассказа о Фалунских рудниках, где, по его словам, работал с самых первых лет молодости; описал вид тамошних знаменитых наружных рудников, с их черными отвесными скалами, говорил о неисчерпаемых рудных богатствах, о прекрасных минералах; речь его лилась с каждым словом живее, и все ярче и ярче загорался проницательный взгляд; подземные ходы описывал он, как аллеи волшебного сада; камни оживали от его слов; ископаемые животные начинали шевелиться; пирозмалиты и альмандины загорались дивным огнем; горные хрустали сияли и просвечивали всевозможными красками радуги. 211 Элис слушал с увлечением; живая речь старика, описывавшего чудеса подземного мира такими яркими красками, как будто бы он сам находился посреди них, охватила все его существо; грудь его волновалась; ему казалось, что он уже как будто сам стоит, вместе со стариком, в подземной глубине и чувствует, что никогда не увидит более светлого солнца. Все, что тот ни говорил, казалось ему как будто давно знакомым, точно все эти волшебные чудеса уже с детства носились перед его глазами в неясных, туманных видениях. - Я рассказал тебе, Элис Фребем, - так кончил старик, - о том прекрасном деле, к которому ты предназначен самой судьбой. Подумай об этом и поступи, как тебе посоветует твой собственный здравый смысл. С этими словами он быстро встал со скамьи и исчез в ночной темноте, прежде чем Элис успел сказать ему слово. Казалось, сам след старика пропал в одно мгновенье. Между тем все утихло и в гостинице. Старый эль и другие крепкие напитки одолели пирующих. Некоторые из матросов разошлись попарно с девчонками, прочие лежали, кто на полу, кто на лавках, и громко храпели. Элис, который не мог возвратиться в свой дом, нанял для ночлега небольшую комнатку. Едва успел он улечься, усталый, в постель, как сон в то же мгновение простер над ним свои крылья. Ему снилось, что он плывет под полными парусами на прекрасном корабле среди тихого, как зеркало, моря, но под небом, покрытым грядою темных, грозных облаков. Вглядываясь пристальнее в поверхность воды, он увидел, однако, что это была не вода, а, напротив, твердая, прозрачная, сверкающая поверхность, на которую едва он успел взглянуть, как корабль вдруг исчез, точно растворившись в этой кристальной массе, а сам Элис очутился стоящим на светлой хрустальной поверхности. Взглянув наверх, он увидел, что принятый им сначала за облака свод состоял не из облаков, а из нависших сверкающих каменных масс. 212 Увлекаемый точно волшебной силой , Элис сделал несколько шагов по этой прозрачной поверхности, но тут вдруг все зарябило у него в глазах, и из глубины, точно закрутившиеся волны, вдруг поднялись чудные цветы и деревья, сверкавшие металлическим блеском листьев, переливавшиеся всеми цветами радуги. Дно было так прозрачно, что Элис ясно различал корни этих цветов и деревьев, а под ними, вглядываясь еще пристальнее, увидел множество прелестных улыбающихся женских фигур, державшихся друг за друга белыми, сияющими руками. Он видел, что деревья и цветы вырастали из их сердец, и когда они улыбались, то звонкие переливы их смеха отдавались под нависшим сводом звуками чудной, музыки, а металлические цветы и деревья росли все выше чарующей и выше, сплетаясь ветвями. Какое-то странное чувство счастья и вместе с тем боли охватило его сердце; жажда любви, страсти, бурных желаний вдруг закипела в его душе. "Туда, к вам, к вам!" - воскликнул он и как безумный бросился с простертыми руками в глубину кристального моря . Оно раздалось от его падения, и он поплыл в пучине какого-то легкого, мерцавшего эфира. "А ну, Элис Фребем! Как тебе эта красота?" - вдруг раздался возле него сильный, грубый голос. Элис оглянулся и увидел возле себя старого рудокопа, но чем пристальнее он в него вглядывался, тем более замечал, что фигура его все росла, росла и наконец достигла гигантских размеров, точно из раскаленного металла вылитая статуя . Элис с ужасом отшатнулся, но тут вдруг будто молния сверкнула в глубине и внезапно озарила исполинский образ величавой женщины. Элис почувствовал, что восторг, охвативший все его существо, достиг последних пределов, какие только может выдержать человеческая грудь. Старик крепко его схватил и воскликнул: "Берегись, Элис Фребем! Это царица! Еще есть время вернуться тебе наверх!" Элис невольно поднял глаза, и ему показалось, что ночные звезды сияли сквозь трещины свода. Нежный голос, где-то вдали, с отчаянной 213 тоской, произнес его имя; он узнал голос матери; ему показалось, даже, что мелькнул ее образ там в высоте, но это была не мать, а прелестная молодая женщина, простиравшая к нему руки. - Наверх, наверх! - воскликнул он старику. - Я принадлежу еще этому миру, его светлым небесам. - Берегись! - мрачно произнес старик. - Берегись, Элис Фребем! Ты должен остаться верен царице, которой предался телом и душой! Но едва Элис взглянул еще раз на образ поразившей его, величественной женщины, как вдруг почувствовал, что кровь стынет в его жилах, а он сам превращается в холодный блестящий камень. Ужас сковал его душу, и, сделав неимоверное усилие, он очнулся от этого колдовского сна , хотя оставленное им впечатление еще долго волновало все его существо. "Что мудреного, - старался успокоить себя Элис, - что мне пригрезились такие странные рассказывал мне о чудесах вещи? подземного Старый рудокоп так много мира, что у меня совсем закружилась голова, и я пришел в возбужденное состояние. Мне кажется, что я сплю до сих пор. Но нет, нет! Это просто болезненное настроение. Скорее на воздух. Свежий морской ветерок исцелит меня сразу?" Он встал и побежал в гавань, где уже возобновилось празднование генснинга. Но напрасно старался он примкнуть к общему веселью. Мысли путались в его голове; какое-то странное чувство, какието неизъяснимые желания, в которых он не мог сам дать себе отчета, наполняли все его существо. То мысль об умершей матери мелькала в его голове, то опять хотелось ему встретить милую девушку, с которой он так дружелюбно разговаривал накануне. То вдруг пугался он мысли, что вместо девушки выйдет из дверей гостиницы старый рудокоп, перед которым он, сам не зная почему, чувствовал какой-то инстинктивный страх. А между тем ему очень хотелось еще раз послушать замечательные рассказы старика о подземном мире. 214 Терзаемый тяжелыми мыслями, Элис задумчиво устремил глаза в море. Но и тут образы странного сна продолжали его преследовать. Ему казалось, что плывущие корабли исчезали в кристальной влаге, а темные, нависшие над горизонтом облака, сгущаясь все более и более, превращались опять в тяжелый, каменный свод. Он точно заснул снова, и опять чудилось ему, что он видит образ величавой женщины, и вновь, со страшной силой охватывал его поток прекрасных, неизъяснимых стремлений. Требование товарищей, чтобы он присоединился к их процессии, прервало этот бред наяву. Но тут ему уже совершенно ясно послышался голос, говоривший: - Что ты здесь делаешь? Вперед, вперед, в Фалунские рудники, твоя отчизна там! Там осуществится твой чудный сон! Вперед, в Фалун! Три дня бродил Элис как помешанный по улицам Гетеборга, постоянно преследуемый видениями из своего сна и какими-то странными, незнакомыми голосами. На четвертый день он остановился в воротах, на дороге в Гефле. Высокий человек вышел из ворот и быстро пошел по дороге. Элису показалось, что это был старый рудокоп, и он, точно увлекаемый какой-то неодолимой силой, побежал ему вдогонку. Но напрасны были его усилия; рудокоп уходил все вперед. Элис знал, что та же дорога ведет в Фалун, и это обстоятельство действовало на него неожиданно успокоительным образом. Ему стало ясно, что в словах старика был голос судьбы, возвестившей ему его дальнейшее предназначение. И действительно, Элис с удивлением заметил, что каждый раз, как он сомневался на счет того или другого поворота дороги, старик вдруг, точно каким-то волшебством, внезапно выходил то из оврага, то из-за куста, то из-за дикого камня и, направясь по той дороге, какой следовало идти, быстро исчезал, не оглянувшись ни разу. Наконец, после нескольких дней тяжелого пути, Элис разглядел вдали два больших озера, и между ними густые облака белого дыма. Чем выше 215 взбирался он на гору, по которой шла дорога, тем явственнее вырезывались на фоне дыма две высокие башни и множество черных, закопченных крыш. Исполинская фигура старика остановилась перед ним, указала ему рукой на облака дыма и исчезла за нависшей скалой. - Это Фалун! - воскликнул Элис. - Фалун, цель моего странствия! И он был прав; несколько догнавших его рудокопов подтвердили, что город, лежавший между двумя озерами, был действительно Фалун и что сам он взбирался теперь на Гуффрисберг, или гору, в которой был наружный выход Фалунских горных работ. Элис Фребем весело шел вперед, но едва адская лощина рудника открылась перед его глазами, ему показалось, что кровь застыла в его жилах; так ужасен был вид этого мрачного, дикого разрушения. Наружный выход Фалунских горных работ, простирающийся на тысячу двести футов длины, шестьсот ширины и сто восемьдесят глубины, хорошо известен. Черные скалы окружают его со всех сторон, сначала отвесно, а затем суживаются в глубине, как исполинская воронка . На боковых сторонах чернеют, то здесь, то там, мрачные зевы старых, оставленных шахт, с толстыми срубами, сделанными наподобие блиндажей из огромных, сложенных бревен. Ни одно деревцо, ни одна травка не растут на этой бесплодной, образовавшейся из обсыпавшихся камней почве. Одни черные массы скал, напоминающие причудливыми очертаниями фигуры странных животных и исполинских людей, высятся Внизу, точно дикие развалины, над этой ужасной громоздятся бездной. груды обвалившихся камней, шлаков, обожженной руды. Одуряющий серный дым постоянно несется из глубины, точно адская кухня, отравляя всякую растительность. Можно подумать, что Данте именно здесь спускался в ад, чтобы увидеть подземный мир, со всеми его безутешными ужасами. Заглянув в эту бездну, Элис Фребем вспомнил давно слышанный им рассказ старого 216 штурмана корабля, на котором он служил. Человеку этому чудилось в припадке горячки, что волны, внезапно расступаясь, открыли перед ним бездонную пропасть морского дна, на котором тысячи отвратительных чудовищ, клубясь и ползая среди груды раковин, кораллов и окаменелостей, рвали и терзали друг друга, пока не погибли в этой страшной борьбе все до последнего. По словам старика, сон этот означал близкую смерть, и, действительно, скоро он, в припадке безумия, бросился с палубы в море и исчез в волнах навсегда. При воспоминании об этом, Элису казалось, что дно Фалунской бездны очень похоже на высохшее дно моря, а черные скалы с голубоватым налетом обжигаемых руд выглядели, точно страшные рудокопов, полипы, простиравшие к нему свои жадные лапы. Несколько поднявшихся снизу, в черных рабочих платьях, с лицами, закопченными пороховым дымом, похожие на демонов, пробивающих себе дорогу к свету, довершали ужасное впечатление. Элис не мог скрыть возбужденного в нем чувства почувствовал даже, чего никогда не бывает головокружение, с моряком, страха и невольное точно невидимые руки толкали его прямо в зияющую пропасть. Закрыв глаза, бросился он бежать; только спустившись с Гуффрисберга, где опять засияло над ним светлое солнце, мог он оправиться от впечатления ужасного зрелища. Вздохнув свободно грудью, он воскликнул: - О Боже! Что значат все опасности моря перед ужасом этих каменных масс! Пусть воет буря, пусть вздымаются страшные волны, придет время, и ясное солнце снова засияет над головой моряка, заставив его скоро позабыть прошлую опасность; но здесь! Никогда луч света не проникнет в эту черную глубину, никогда сладкое дыхание весны не освежит грудь рудокопа. Нет! Не буду я товарищем черных, роющих землю червяков! Никогда не привыкнуть мне к их безотрадной жизни! 217 Элис решился переночевать в Фалуне и завтра же ранним утром отправиться обратным путем в Гетеборг. Достигнув рыночной площади, он увидел там собравшуюся толпу народа. Все сословие рудокопов, в полном составе, с лампами в руках и с музыкантами впереди, стояли, выстроившись перед ратушей. Высокий, стройный человек средних лет вышел из дверей и оглядел всех с ласковой улыбкой. Открытый лоб, свободные движения и блестящие темно-голубые глаза обличали в нем уроженца Далькарлии. Каждому из столпившихся вокруг рудокопов пожал он приветливо руку и каждому сказал несколько ласковых слов. Элис Фребем узнал из расспросов, что это был Пэрсон Дальсе, альдерман и владелец Коппарберга. прекрасной горной фрельзы, близ Стора- Горными фрельзами называются в Швеции поземельные участки, отведенные под добычу медных и серебряных руд. Владельцы таких фрельз разделяют подземные участки на паи, сохраняя за собою право надзора над правильностью работ. Далее Элису объяснили, что сегодня кончался Бергстинг, или общее собрание рудокопов, и что в этот день они поочередно посещали бергмейстера, гюттенмейстера и альдерманов, встречая везде радушный прием и хорошее угощение. При виде этих статных, красивых людей с веселыми лицами Элис невольно позабыл роющих червяков, вид которых так поразил его в руднике. Радостное, дружелюбное приветствие, которым был встречен Пэрсон Дальсе, не походило также и на буйное пиршество матросов на генснинге. Скромному, трудолюбивому Элису очень понравился тихий характер этого праздника рудокопов. Он чувствовал себя как-то особенно хорошо; когда же молодые рабочие затянули, хоровую песню, стройными голосами, в которой призывалось благословение Божье старую, на их тяжелый труд, он не мог удержать невольных слез. 218 По окончании пения двери дома Парсона Дальсе отворились, и вся толпа рабочих направилась туда. Элис вошел за ними и остановился на пороге. Вся толпа разместилась в обширной комнате на скамьях, поставленных за столами с роскошным угощением. Вдруг двери, в стене напротив Элиса, отворились, и в комнату вошла молодая, одетая в праздничное платье девушка. Высокая, стройная, с темными волосами, заплетенными в несколько обернутых около головы кос, с корсажем, изящно убранным блестящими пряжками, она, улыбалась всем казалось, своим существом, как живое олицетворение цветущей молодости. Гости, при входе ее, встали, и легкий ропот удовольствия пробежал по рядам. - Улла Дальсе, Улла Дальсе! Наградил же Бог нашего альдермана такой дочкой! Даже старики не могли удержаться от радостной улыбки, когда Улла приветливо протягивала им руку, чтобы поздороваться. Она велела подать тяжелые, серебряные кружки, и, наполнив их элем, какой умеют приготовлять только в Фалуне, радушно поднесла его гостям, с лицом, озаренным самой милой, естественной приветливостью. Элис, едва ее увидел, был мгновенно охвачен чувством мгновенной и глубочайшей любви, что, таким казалось, отрадным молния пронизала все его существо. Он тотчас узнал в ней ту самую женщину, которая протягивала ему руку спасения в его таинственном сне, и, от души прощая старого рудокопа, благословлял судьбу, приведшую его в Фалун. Но в то же время, стоя на своем пороге, и чувствуя себя бедным, чуждым всем странником, он готов был сожалеть, что не умер прежде, чем увидел Уллу Дальсе и осознал несбыточность своих пылких желаний. Он не мог оторвать глаз от прелестной девушки и не утерпел, чтобы не назвать ее тихо по имени, когда она прошла совсем близко мимо него. Улла обернулась и заметила юношу, смущенного, с яркой краской на лице, который был не в состоянии произнести ни одного слова. 219 Она подошла и сказала с ласковой улыбкой: - Вы верно чужестранец? Я вижу это по вашей одежде моряка. Что же вы стоите? Садитесь, прошу вас, и порадуйтесь вместе с нами. - С этими словами она дружески взяла его за руку, усадила за стол и поднесла полную кружку зля. - Пейте, - прибавила она, - и будьте нашим дорогим гостем! Элису казалось, что сладкий сон перенес его в рай, и он каждую минуту боялся пробудиться. Бессознательно выпил он предложенный напиток. В эту минуту подошел Пэрсон Дальсе и, ободряюще пожав ему руку, с участием спросил, кто он такой и зачем прибыл в Фалун. Элис чувствовал, как живительная сила выпитого эля разливалась по всем его жилам. Он весело смотрел в глаза честного, бодрого Пэрсона Дальсе и рассказывал ему, как, будучи сыном моряка, он с ранних лет вырос на море, как, вернувшись из Индии, не застал в живых свою мать, которую содержал своими трудами, как тяжело показалось ему его одиночество и как опротивела ему бурная жизнь на море, потому он, по собственному внутреннему влечению, решился отправиться в Фалун, чтоб сделаться рудокопом. Как ни противоположно было последнее решение тому, что он думал несколько часов назад, Элис, казалось, высказал его совершенно добровольно, так что потом, соображая все сказанное альдерману, он сам удивлялся, каким образом могло так вдруг сделаться его желанием то, о чем он прежде даже не думал. Пэрсон Дальсе посмотрел на молодого человека очень серьезным взглядом, как будто хотел увидеть его насквозь, и сказал: - Я не хочу предполагать, что одно легкомыслие побудило вас отказаться от прежнего ремесла и что прежде вашего решения вы не взвесили всех трудностей и препятствий, которым исполнен труд рудокопа. Старое поверье говорит у нас, что если рудокоп не откажется от всяких иных помыслов и занятий, кроме тех, которые требует его работа, и не предастся всей душой и телом труду с огнем в земле, то дело это неминуемо 220 погубит его самого. Но если ваше решение твердо, и вы хорошо себя испытали, то с Богом, в добрый час ! На моем участке недостает рабочих, и если желаете, то я приму вас сегодня же. Вы переночуете у меня, а завтра отправитесь в рудник со штейгером, который укажет вам вашу работу. Элис Фребем чуть НЕ запрыгал от радости, услышав предложение Пэрсона Дальсе. Он забыл все ужасы адского ущелья, поразившие его утром, и думал только о прекрасной Улле, которую будет видеть каждый день, с которой будет жить под одною крышей. Восторг и счастье наполняли его душу, открывая вместе с тем путь и дальнейшим сладким надеждам. Пэрсон Дальсе объявил рабочим о новом, нанявшемся у него работнике, и представил им Элиса Фребема. Все тепло поприветствовали Элиса, причем каждый, оглядывая его стройную фигуру и крепкие мускулы, изъявлял надежду, что из него выйдет добрый рудокоп, а что касается честности и прилежания, то в них он, конечно, не обнаружит недостатка. Один из присутствовавших, уже довольно пожилой человек, подошел к Элису и, дружески пожав ему руку, отрекомендовался главным штейгером на участке Пэрсона Дальсе, прибавив, что он с особенным удовольствием возьмется передать ему все необходимые для его нового ремесла познания. Затем он усадил Элиса возле себя и тотчас же начал объяснять ему, за кружкой эля, в чем состоят занятия рудокопа. Элис вспомнил старого рудокопа в Гетеборге, говорившего ему то же самое, и, таким образом, оказалось, что он уже знал почти все, что нужно было знать. - Эге! - воскликнул удивленный старик. - Да где же ты всему этому научился, Элис Фребем? Как вижу, тебя учить только портить, и предсказываю, что ты будешь лихим рудокопом! Прекрасная Улла, обходя и потчуя гостей, часто обращалась с одобрительными словами к Элису. 221 - Ну вот, - говорила она, - теперь он нам не чужой! Он принадлежит нашей семье, а не этому лживому, обманчивому морю! Фалун и его богатые горы будут ему вторым отечеством. Легко себе представить, какое море блаженства открывалось в этих словах пылкому молодому человеку. Улла явно оказывала ему свое расположение, и сам Пэрсон Дальсе, при всей своей строгой серьезности, смотрел на Элиса самым ласковым взглядом. Однако сердце Элиса сжалось по-прежнему, когда на другой день, одетый в платье рудокопа и обутый в подкованные железом далькарльские башмаки, он снова приблизился вместе со штейгером к ужасному входу в рудник и стал спускаться в бездонную шахту . Горячий, пар, удушливый беспрестанно встречавшийся на пути, то и дело захватывал ему дух; огоньки рудничных ламп трепетали, встречая струи холодного воздуха, которым вентилировался рудник. Все глубже и глубже спускались они иногда по железным, шириною не более фута лестницам, так что даже привычная ловкость Элиса Фребема в лазании по мачтам ему не помогала. И вот достигли они последнего предела глубины, где штейгер указал Элису работу, которую он должен был выполнять. Элис вспомнил прелестную Уллу, чей образ витал над ним светлым ангелом, и быстро забыл весь свой страх, а равно и трудности предстоявшей работы. Он сознавал ясно, что только трудом с напряжением всех сил мог он подняться в мнении Пэрсона Дальсе так высоко, чтобы надеяться на осуществление своих надежд. Понятно, что с таким убеждением он скоро сравнялся умением и ловкостью с лучшими рудокопами. Пэрсон Дальсе с каждым днем привязывался все более и более к трудолюбивому молодому человеку и часто говорил, что смотрит на него не как на рабочего, а как на родного сына. Расположение к нему Уллы также росло с каждым часом. Часто, когда Элис отправлялся на особенно опасную работу, она со слезами на глазах 222 умоляла его поберечь себя. И с какой радостью бросалась она к нему навстречу, когда он возвращался! Какой прекрасный эль, какие вкусные блюда находились у нее в таких случаях под рукой, чтобы подкрепить и освежить его силы! Можно себе представить радость Элиса, когда Пэрсон Дальсе однажды сказал ему, что при той сумме денег, которую он принес с собой, и при его трудолюбии ему вовсе не будет трудно, в скором времени, приобрести в собственность горный участок, а, может быть, и целую фрельзу и что тогда ни один из горных владельцев в Фалуне не отказал бы ему в руке своей дочери. Элис почти был готов тут же сознаться ему в любви своей к Улле, но был удержан каким-то непреодолимым страхом, или, скорее, сомнением, любит ли его Улла. Однажды Элис работал в самом глубоком отделении рудника, до того наполненном серными испарениями, что его лампочка едва горела бледным, мерцающим светом , и он едва мог отличать горные породы одну от другой. Вдруг услышал он удары горного кайла, раздававшиеся еще глубже той шахты, в которой он находился. Звук этот поразил его каким-то неприятным, зловещим образом, так как он хорошо знал, что в этом отделении рудника никого не было кроме него, прочие же рабочие, еще с утра, были посланы штейгером в другую шахту. Он бросил молот и стал прислушиваться к этому глухому звуку, который все приближался. В эту минуту свежий поток воздуха, ворвавшись откуда-то в шахту, разогнал серный пар; черная тень скользнула по стене, и Элис, оглянувшись, увидел возле себя старого гетеборгского рудокопа. - Доброго успеха! - сказал старик. - Доброго успеха, Элис Фребем в твоем деле! Каково поживаешь, товарищ ? Элис хотел спросить, каким образом он смог забраться в шахту, но старик вдруг с такой силой ударил молотом по скале, что искры посыпались во все стороны и точно гром пронесся по всему подземелью. 223 - Славная здесь есть жила! - закричал он резким, пронзительным голосом. - Да только ты ее не увидишь, хитрый подмастерье! Вечно будешь ты рыться, как слепой крот, и никогда не полюбит тебя царь металлов! Да и там, наверху, не удастся тебе ничего! Ведь ты работаешь только затем, чтобы жениться на дочери Пэрсона Дальсе Улле! Любви и усердия к делу в тебе нет. Берегись, лукавый работник! Смотри, чтобы здешний царь, над которым ты издеваешься, не переломал о камни и не разбросал в разные стороны твои кости! Никогда Улла не будет твоей женой, это говорю тебе я! Элиса взорвало от дерзких слов старика. - Что ты тут делаешь, - крикнул он, - в шахте моего хозяина Пэрсона Дальсе, на которого я работаю со всем усердием, к какому только способен? Убирайся-ка лучше, подобру-поздорову, покуда цел, а не то мы еще посмотрим, кто кому разобьет голову! С этими словами он грозно встал перед стариком, подняв железный молот, которым работал, но тот только презрительно усмехнулся и, к величайшему ужасу Элиса, вскарабкавшись с проворством кошки по уступам скалы, исчез в мрачных переходах подземелья. Элис чувствовал, что он точно разбит во всем теле; работа валилась из его рук, и он вышел из шахты. Главный штейгер, встретив его при выходе, воскликнул: - Ради самого Создателя, что с тобой, Элис? Ты расстроен и бледен как смерть! Неужто тебя так одурманил серный дым, к которому ты еще не успел привыкнуть? Ничего! Выпей, дружище, это тебе поможет? Элис выпил добрый глоток из фляжки, поданной ему стариком, и подкрепившись таким образом, рассказал ему свое приключение в шахте, а равно и свое первое знакомство со старым и загадочным рудокопом в Гетеборге. 224 Главный штейгер выслушал его очень внимательно, а затем, многозначительно покачав головой, сказал: - Знаешь что, Элис Фребем! Ведь это был старый Торберн, и я начинаю думать, что сказки, которые о нем здесь рассказывают, далеко не вздор. Лет сто тому назад жил в Фалуне рудокоп, по имени Торберн. Он был один из первых, приведших Фалунское горное дело в порядок, и при нем выгоды этого занятия были гораздо значительнее, чем теперь. Никто не мог сравниться с Торберном в глубоком познании горного дела, и в Фалуне он был лучшим его представителем. Вечно мрачный и суровый на вид, он, казалось, обладал какой-то сверхъестественной способностью открывать богатейшие рудные жилы и постоянно рылся в земле, никогда не выходя на свет Божий. Ни жены, ни детей, ни даже жилища в Фалуне у него не было. Такая жизнь скоро породила слухи, что будто бы он связался с нечистой силой , которой подвластны расплавленные в земной утробе металлы. Он постоянно пророчил несчастье тем рудокопам, которые работали только для прибыли, а не из бескорыстной любви к благородным камням и металлам . Но его никто не хотел слушать, и рудники наши все более и более перерезывались подземными ходами и шахтами, пока, наконец, однажды, в день святого Иоанна тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года, ужасный горный обвал не завалил весь рудник, образовав таким образом наше страшное ущелье и разрушив все работы до такой степени, что только спустя долгое время, с великим трудом, успели восстановить и сделать годными для дальнейших работ некоторые шахты. Торберна никто с тех пор не видал, так что, по всей вероятности, он, работая в шахте, был засыпан обвалом. Однако впоследствии, когда работы были восстановлены, между мастеровыми пронесся слух, что Торберн стал появляться то в той, то в другой части рудника и каждый раз давал дельные советы работающим или указывал новые рудные жилы. 225 Некоторые встречали его даже наверху, причем он или печально на что-то жаловался, или сердито ворчал. Многие из пришедших сюда молодых людей уверяли, что им советовал искать счастья в горном труде и прислал именно в Фалун неизвестный им старый рудокоп. Замечательно, что это случалось каждый раз, когда здесь был недостаток в рабочих руках, так что Торберн, казалось, и этим хотел услужить любимому им горному делу. Если человек, с которым ты поссорился в шахте, был действительно Торберн и если он в самом деле говорил тебе о близко лежащей жиле, то это верный знак, что тут есть богатая залежь руды, и завтра мы непременно исследуем эту местность. Ведь ты знаешь, что залежи руды мы называем жилами, когда, выходя на поверхность, они разбиваются на несколько ветвей. Когда Элис Фребем, раздумывая о всем слышанном, вернулся в дом Пэрсона Дальсе, его очень удивило, что Улла не выбежала, по обыкновению, ему навстречу. Напротив, со смущенным лицом и, как показалось Элису, с заплаканными глазами, сидела она на своем обычном месте, возле нее стоял красивый молодой человек, держа ее руку в своих и стараясь, как по всему было видно, поддержать с ней веселый, дружеский разговор. Сердце Элиса сжалось от какого-то тяжелого предчувствия, когда Пэрсон Дальсе, увидев его, попросил, с таинственным видом, выйти вместе с ним в другую комнату. - Ну, Элис Фребем, - так начал он, - скоро придется тебе доказать на деле твою ко мне привязанность. Я давно уже смотрю на тебя, как на сына, и скоро ты будешь им на самом деле. Человек, которого ты сейчас видел, богатый купец Эрик Олафсен из Гетеборга. Он просит руки моей дочери, и я дал на то согласие. Он увозит ее в Гетеборг, и ты останешься у меня один опорой моей старости! Что же ты молчишь?.. бледнеешь... Неужели тебе не нравится мое предложение и ты откажешь остаться со мной теперь, когда дочь моя меня покидает? Но я слышу, что Эрик Олафсен меня зовет. Я должен идти к ним. 226 С этими словами Пэрсон Дальсе вышел. Элис чувствовал, что сердце его было готово разорваться на части; он не мог ни говорить, ни плакать. В безумном отчаянии выбежал он из дома и бежал, бежал не оглядываясь, пока не достиг большого обрыва. Если это место возбуждало невольный ужас даже при свете дня, то сейчас, ночью, оно казалось во много раз страшнее, когда бледный лунный свет, едва озаряя дикие скалы, еще более делал похожими их очертания на толпу чудовищ, обвитых пеленою поднимавшегося снизу дыма, сверкавших огненными глазами и простиравших исполинские руки, чтобы схватить дерзкого, осмелившегося приблизиться к этому проклятому месту человека. - Торберн! Торберн! - крикнул Элис безумным голосом, отдавшимся громким эхом между скал. - Торберн! Я здесь! Ты был прав, говоря, что я лукавый работник, который трудился ради надежд, оставленных на поверхности земли ! Внизу мое счастье, моя жизнь, мое все! Явись ко мне, укажи мне богатейшие жилы: в них буду я рыться и работать без устали, без желания взглянуть на свет Божий! Торберн, Торберн! Явись ко мне! Элис достал огниво и кремень, зажег лампочку рудокопа и спустился в шахту, в которой работал вчера. ТорбернА, однако, там не было. Но каково было удивление Элиса, когда, достигнув крайней глубины, он вдруг увидел богатейшую рудную жилу, простиравшуюся перед ним так ясно, что он мог проследить глазами все ее разветвления и повороты! По мере того, как он пристальнее всматривался в эту чудную, каменную массу, ему показалось, что по шахте разливается какой-то легкий бледный свет, выходивший неизвестно откуда, и от которого стены подземелья делались прозрачными, как чистейший хрусталь. Таинственный сон, виденный им в Гетеборге, повторился в яви. Зачарованный сад металлических цветов и деревьев, с рдеющими на ветвях плодами из драгоценных каменьев, сверкавших, разноцветных как ряд огней, обступили его со всех сторон. Снова увидел он 227 улыбающиеся лица прелестных женщин, и снова восстал перед ним величавый образ царицы. Она привлекла его к себе и прижала к своей груди. Тут все помутилось в его глазах; какой-то раскаленный луч проник в его сердце, и ему казалось, что он понесся по волнам голубоватого, сверкающего эфира. - Элис Фребем! Элис Фребем! - вдруг раздался на верху громкий голос; свет двух факелов озарил шахту. Это был Пэрсон Дальсе, поспешивший вместе со штейгером на поиски бедного юноши, после того как он, точно безумный, выскочил из дверей дома и убежал в рудник. Они нашли его стоящим в каком-то оцепенении, с лицом, крепко прижатым к холодному камню. - Что ты тут делаешь поздней ночью, глупый ты человек? - воскликнул Пэрсон Дальсе. - Вставай проворнее, соберись с силами да полезем наверх; а там услышишь ты хорошие вести. Очнувшийся Элис машинально последовал за ним, не проронив ни одного слова, между тем как Пэрсон Дальсе всю дорогу ворчал и бранился за страшную опасность, которой подвергался Элис. Уже совершенно рассвело, когда они вернулись домой. Улла с громким криком радости упала на грудь Элиса, называя его всеми нежнейшими именами. Но Пэрсон Дальсе продолжал ворчать: - Глупый ты человек, - говорил он, - неужели ты воображал, что я не знал о твоей любви к Улле и не понимал очень хорошо, что только для нее работаешь ты с таким усердием в руднике? Неужели не видел я, что Улла также любит тебя всем сердцем, и, наконец, мог ли я найти себе зятя лучше, чем ты, честный, трудолюбивый Элис? Меня огорчило только, зачем вы оба молчали и скрывались. - Да разве мы сами подозревали, что любим друг друга так горячо? - перебила Улла. 228 - Ну, это ваше дело, - продолжал Пэрсон Дальсе, - только я тоже довольно помучился, раздумывая, почему Элис не хочет мне прямо открыться в своей любви. И вот вследствие этого, а также для испытания твоего сердца, выдумал я сказку об Эрике Олафсене, от которой Элис чуть не погиб. Глупый ты человек! Да ведь Эрик Олафсен давно женат, а мою Уллу отдам я тебе, честный, храбрый Элис, и повторяю, что никогда не мог бы пожелать лучшего зятя! Слезы радости текли по щекам Элиса. Счастье всей его жизни пришло так внезапно, что он серьезно думал, не был ли это один лишь призрачный сон. Все рабочие были приглашены в этот день Пэрсоном Дальсе на большой обед. Улла, одетая в лучшее свое платье, была до того прелестна, что не находилось человека, который не повторил бы, глядя на нее: "Ну уж достал себе невесту наш честный Элис Фребем! Благослови Господь их обоих за их благочестие!" На бледном лице Элиса мелькали еще следы пережитой им ужасной ночи, и иногда он невольно содрогался. - Что с тобой, мой Элис? - ласково спрашивала Улла. - Ничего, ничего, - бормотал он в ответ, прижимая ее к сердцу. - Ты моя, значит - все хорошо. Но при всем том Элису иногда чудилось, что точно какая-то ледяная рука хватала его за сердце, и глухой мрачный голос отдавался в его ушах: "И ты думаешь, что достиг всего, сделавшись женихом Уллы? Глупец, глупец! Ты забыл, что видел царицу!" Неизъяснимый страх сжимал грудь Элиса; его преследовала ужасная мысль, что вот, вот сейчас какой-нибудь из рабочих обернется исполинской фигурой Торберна и грозно потребует, чтобы он, бросив все, следовал за ним в подземное царство камней и металлов, для которого закабалил себя навеки. И при этом он никак не мог понять, почему был так враждебно настроен по отношению к нему старик и какая связь существует между подземным царством и его любовью? 229 Пэрсон Дальсе видел огорчение Элиса и приписывал его влиянию ужасной ночи, проведенной им в руднике. Не так думала Улла, тщетно умолявшая под гнетом какого-то зловещего предчувствия, чтобы возлюбленный рассказал ей все, что его так томило. У Элиса готова была разорваться грудь от отчаяния. Напрасно порывался он рассказать ей свое таинственное видение в шахте. Какая-то неведомая сила сковывала его язык; он словно видел внутренним зрением зловещий облик царицы, звавшей его по имени, и ему казалось, что Медузы, заколдовывал и превращал в ее взгляд, подобно взгляду камень и его самого, и все окружающее. Дивные прелести, так восхищавшие его в глубине, казались ему теперь каким-то адским наваждением, зачаровавшим его для вечной муки и погибели. Пэрсон Дальсе требовал, чтобы Элис вовсе перестал ходить в рудник, пока не оправится совершенно от своей болезни. За все это время нежнейшие попечения любящей Уллы сумели наконец несколько изгладить в памяти Элиса мысль об его ужасном приключении. Он снова стал весел, здоров и поверил в свое счастье, перестав бояться угрожавшей ему злобной власти. Но когда, выздоровев, он снова спустился в рудник, все показалось ему там не таким, как прежде. Богатейшие рудные жилы ясно рисовались перед его глазами. Он начал работать с удвоенным жаром, забывал все и выходил наверх только по настойчивым требованиям Пэрсона Дальсе и своей Уллы. Он точно чувствовал себя разделенным на две половины, из которых большая неудержимо стремилась туда, к центру земли, где, казалось, неизъяснимое блаженство ждало его в объятиях царицы, а другая чувствовала, что наверху, в Фалуне, для него все пустынно и мертво. Когда Улла заговаривала с ним о своей любви и об ожидавшем их счастье, он, точно в каком-то забытьи, начинал бормотать о прелестях подземного мира, о скрытых в нем несчетных богатствах ; иногда говорил даже до того темно и бессвязно, что бедная Улла не могла понять, что 230 за ужасная перемена произошла в ее Элисе. Штейгеру Пэрсона Дальсе Элис с каким-то восторженным видом беспрестанно рассказывал о богатейших залежах и прекраснейших рудных жилах, которые он будто бы открывал, и если тот возражал, что в них ничего нет, кроме пустой породы, Элис презрительно смеялся и думал про себя, что значит ему одному дано понимать таинственные приметы и знаки, начертанные рукой царицы на каменных глыбах, и что ему совершенно достаточно просто о них знать, так как он не имеет ни малейшего желания делиться с кем-нибудь своими открытиями. С горестью смотрел старый штейгер на молодого человека, когда тот, дико сверкая глазами, описывал ему дивные чудеса подземного мира: - Ах, хозяин, хозяин! - тихо шептал он Пэрсону Дальсе. - Ведь нашего бедного мальчика обошел злой Торберн! - Полно тебе, старина, пугать этими бреднями рудокопов, - возражал тот. - Бедному парню просто любовь вскружила голову. Дай нам только справить свадьбу, а там, увидишь сам, он забудет все свои жилы, залежи и подземные чудеса. День, назначенный для свадьбы, наступил. За несколько дней до нее Элис Фребем стал гораздо сдержаннее и серьезней, точно обдумывал какуюто важную мысль, и в то же время никогда не был он так нежен с Уллой и никогда не чувствовал так глубоко своего счастья. Он не покидал ее ни на одну минуту и даже не ходил в рудник. Казалось, он совсем забыл свою страсть к горному делу и во все это время ни разу не заговорил о своем подземном царстве. Улла утопала в счастье. Боязнь таинственных подземных сил, легенды о которых она слышала от старых рудокопов и которые заставляли ее так волноваться за Элиса, исчезла в ней без следа. Даже Пэрсон Дальсе, улыбаясь, говорил старому штейгеру: - Ну вот, видишь! У нашего бедного Элиса просто закружилась голова от любви к моей Улле. 231 Рано утром в назначенный для свадьбы день - это был день святого Иоанна - Элис постучал в дверь своей невесты. Она отворила и отшатнулась в ужасе. Бледный как смерть, с дико блуждающими глазами стоял перед ней Элис, одетый в праздничный свадебный наряд. - Я пришел тебе объявить, моя дорогая, - заговорил он тихим, срывающимся голосом, - что мы стоим теперь возле высочайшего счастья, какое только может достаться в удел людям. Все открылось мне в эту ночь: там, внизу, на страшной глубине, под толстым слоем хлорита и слюды зарыт огненный, сверкающий альмандин. На нем вырезана ожидающая нас судьба, и его получишь ты от меня как свадебный подарок. Он прекраснее, чем кровавый карбункул, и когда мы будем смотреть на него полными любви глазами, увидим мы ясно, как наше внутреннее существо, разрастаясь, переплетается с теми дивными ветвями, которые вырастают из сердца царицы в самом центре земли. Надо только добыть этот камень, и я это сделаю. Жди меня, моя бесценная Улла! Скоро я вернусь к тебе обратно! Улла, заливаясь горячими слезами, умоляла его сумасбродное предприятие, говоря, что предчувствует в нем бросить гибель их счастья. Но Элис остался непоколебим, утверждая, что иначе он не будет иметь всю жизнь ни одной минуты покоя и что в предприятии его нет ровно ничего опасного. Затем он крепко обнял свою невесту и ушел. Уже собрались гости, для того чтобы ехать вместе с женихом и невестой в Коппарбергскую церковь, где по окончании службы была назначена свадьба. Толпа молодых девушек в праздничных нарядах, провожавшие, по местному обычаю невесту, окружили Уллу, весело болтая и смеясь. Музыканты настраивали инструменты на веселый свадебный марш. Был почти полдень, а Элис Фребем все еще не являлся. Вдруг на улице показалась толпа бежавших, с бледными, испуганными лицами, рабочих, и 232 вслед затем распространилась ужасная весть, что страшный горный обвал, обрушившись на участок Пэрсона Дальсе, завалил все его шахты. - Элис! Мой Элис! Ты там, ты там! - с раздирающим душу воплем воскликнула Улла и упала замертво. Тут только узнал от штейгера Пэрсон Дальсе, что Элис Фребем еще ранним утром направился к руднику, куда спустился один, так как все прочие рабочие были приглашены на свадьбу, и в шахте никого не было. Все жители с Пэрсоном Дальсе во главе бросились к обвалу, но тщетны оказались все, даже с опасностью для жизни, проведенные розыски. Элис Фребем не был найден. Ясно было, что обвал застиг его в шахте и похоронил заживо. Так слезы и горе поселились в доме честного Персона Дальсе в ту самую минуту, когда он думал найти покой и отраду своих грядущих дней! Давно умер честный альдерман Пэрсон Дальсе; давно исчез самый слух о его дочери Улле. Никто не помнил о них в Фалуне, так как уже более пятидесяти лет прошло со дня несостоявшейся свадьбы Элиса Фребема. Однажды смена рабочих, пробивая штольню между двумя шахтами, внезапно нашла тело молодого рудокопа, плававший в подземном озере купоросной воды и казавшийся с виду совершенно окаменелым. Молодой человек, казалось, спал глубоким сном; так свежо сохранились черты и краски его лица, одежда рудокопа, и даже букет цветов на груди. Все население Фалуна высыпало смотреть на покойника, перенесенного из рудника на поверхность. Но не только никто из присутствовавших не мог узнать его в лицо, но даже ни один из старых рудокопов не помнил, чтобы кто-либо из их товарищей погиб таким образом. Труп уже хотели перенести в Фалун для погребения, как вдруг через толпу окружавших его пробилась старая, дряхлая старушка на двух костылях. - Это Иоаннова старушка, - послышалось между стоявшими рудокопами. 233 Имя это было ей дано потому, что с незапамятных времен она ежегодно в день святого Иоанна рано утром приходила в Фалун, становилась над обрывом со скрещенными на груди руками и весь день жалобно стонала, глядя на бездну, чтобы потом опять уйти неизвестно куда. Едва старушка увидела окаменелый тело юноши, как в тот же миг всплеснула руками, уронив оба костыля, и воскликнула раздирающим душу голосом: "О Элис Фребем! О мой Элис! Мой милый жених!". С этими словами она упала на труп, схватив его холодные руки, и крепко прижала их к своей груди, где, как святой огонь нефтяных источников, скрытый под покровом земли, еще билось полное горячей любви сердце. - Ах! - сказала она, озираясь на присутствующих. - Никто из вас не помнит Уллы Дальсе, бывшей счастливой невестой этого юноши пятьдесят лет тому назад! Когда, потеряв его, я с отчаянием удалилась в Орнэс, меня нашел там старый Торберн и утешил предсказанием, что я еще раз, на день Иоанна, увижу на земле моего Элиса, похороненного под обвалом. С тех пор каждый год приходила я сюда и жадно вперяла взор в эту пропасть. И вот сегодня дождалась я, наконец, радостного свидания! О мой Элис! Милый жених мой! И снова охватила она иссохшими руками дорогой труп, как бы не желая никогда с ним расставаться. Все присутствующие были тронуты до глубины души. Все тише и тише раздавались ее рыдания, пока не затихли совсем. Рабочие хотели поднять бедную Уллу, чтобы ей помочь, но было уже поздно: она умерла, лежа возле своего окаменевшего жениха. Через некоторое время от соприкосновения со свежим воздухом тело Элиса распалось и превратилось в пыль. В Коппарбергской церкви, где пятьдесят лет тому готовились совершить свадебный обряд, погребли прах бедного юноши, а рядом с ним положили тело его невесты, оставшейся верной ему до гроба. 234 *** - Мне кажется, - сказал Теодор, кончив чтение, и видя, что друзья молча смотрели друг на друга, - мой рассказ вам не совсем понравился, или, может быть, вы сегодня не были расположены к слушанию чего-либо печального. - Рассказ твой действительно производит грустное впечатление, возразил Оттмар, - но, строго говоря, я нахожу в излишними заимствованные тобой подробности о нем совершенно шведских горных фрельзах, рудниках, народных поверьях и видениях. На меня гораздо глубже подействовала та часть рассказа, где просто и трогательно описывается, как молодой человек был найден в руднике и бедная старушка узнала в нем своего бывшего жениха. - Обращаюсь с просьбой защиты, - сказал, улыбаясь, Теодор, - к нашему патрону, пустыннику Серапиону, и уверяю вас его именем, что вся рассказанная мною повесть о молодом человеке не только написана, но и выдумана мною самим. - Предоставим каждому, - сказал Лотар, - свободу писать, как ему вздумается. Я, напротив, очень доволен тем, что из рассказа Теодора мы могли почерпнуть кое-какие неизвестные нам прежде сведения о горной науке, о Фалунских рудниках и о шведских нравах. Хотя, правда, можно заметить, что некоторые из употребленных тобой горных терминов не для всех понятны, но ведь этак, пожалуй, иной, прослушав твою историю, стал бы уверять, что добрые гетеборгцы и фалунцы пьют деревянное масло, по созвучию слов Ael (эль) и Oel (масло), тогда как эль ничто иное, как прекрасное, крепкое пиво. - Что до меня, - вмешался Киприан, - то повесть Теодора понравилась мне гораздо больше, чем Оттмару. Многие замечательные поэты часто изображали людей, погибавших, подобно Элису Фребему, от такой же ужасной раздвоенности своего нравственного существа, производимой 235 вмешательством каких-то посторонних таинственных сил. Теодор разработал именно эту канву, и мне она очень нравится из-за своей глубинной правды. Я сам встречал людей, которые внезапно изменялись до основания вследствие какой-нибудь посторонней причины, и, неустанно преследуемые злобной властью, не знали они ни минуты покоя, доходя иной раз до гибели. - Довольно, довольно, - закричал Лотар, - если наш духовидец Киприан будет продолжать эту тему, то мы скоро запутаемся все, как есть, в безысходном лабиринте таинственных стремлений и предчувствий. С вашего позволенья, чтобы разогнать общее мрачное настроение, я намерен прочесть в заключение сегодняшнего вечера сочиненную мною недавно сказку для детей, которую, как кажется, нашептал мне сам веселый домашний дух Дролль. 236 А. Фон Шамиссо. Удивительная история Петера Шлемиля ЮЛИУСУ ЭДУАРДУ ГИТЦИГУ ОТ АДЕЛЬБЕРТА ФОН ШАМИССО Ты, Эдуард, не забываешь никого; ты, конечно, еще помнишь некоего Петера Шлемиля, которого в прежние годы не раз встречал у меня, - такой долговязый малый, слывший растяпой, потому что был неповоротлив, и лентяем, потому что был нерасторопен. Мне он нравился. Ты, конечно, не забыл, как однажды в наш "зеленый" период он, увильнул от бывших у нас в ходу стихотворных опытов: я взял его с собой на очередное поэтическое чаепитие, а он заснул, не дождавшись чтения, пока сонеты еще только сочинялись. Мне вспоминается также, как ты Сострил на его счет. Ты уже раньше видел его, не знаю где и когда, в старой черной венгерке, в которой он был и на этот раз. И ты сказал: "Этот малый мог бы почесть себя счастливцем, будь его душа хоть наполовину такой же бессмертной, как его куртка". Вот ведь какого неважного мнения все вы были о нем. Мне же он нравился. 237 От этого-то самого Шлемиля, которого я потерял из виду много лет назад, и досталась мне тетрадь, кою я доверяю теперь тебе. Лишь тебе, Эдуард, моему второму "я", от которого у меня нет секретов. Доверяю я ее лишь тебе и, само собой разумеется, нашему Фуке, также занявшему прочное место в моем сердце, но ему только как другу, не как поэту. Вы поймете, сколь неприятно мне было бы, если бы исповедь честного человека, положившегося на мою дружбу и порядочность, была высмеяна в литературном произведении и даже если бы вообще отнеслись без должного благоговения, как к неостроумной шутке, к тому, с чем нельзя и не должно шутить. Правда, надо сознаться, мне жаль, что эта история, вышедшая из-под пера доброго малого Шлемиля, звучит нелепо, что она не передана со всею силою заключенного в ней комизма умелым мастером. Что бы сделал из нее Жан-Поль! Кроме всего прочего, любезный друг, в ней, возможно, упоминаются и ныне здравствующие люди; это тоже надо принять во внимание. Еще несколько слов о том, как попали ко мне эти листки. Я получил их 238 вчера рано утром, только-только проснувшись, -- странного вида человек с длинной седой бородой, одетый в изношенную черную венгерку, с ботанизиркой через плечо и, несмотря на сырую дождливую погоду, в туфлях поверх сапог, справился обо мне и оставил эту тетрадь. Он сказал, что прибыл из Берлина. Аделъберт фон Шамиссо Кунерсдорф, 27 сентября 1813 г. Р. S. Прилагаю набросок, сделанный искусником Леопольдом, который как раз стоял у окна и был поражен необычайным явлением. Узнав, что я дорожу рисунком, он охотно подарил его мне. МОЕМУ СТАРОМУ ДРУГУ ПЕТЕРУ ШЛЕМИЛЮ Твоя давно забытая тетрадь Случайно в руки мне попала снова. Я вспомнил дни минувшие опять, К огда нас мир в ученье брал сурово. Я стар и сед, мне нужды нет скрывать От друга юности простое слово: Я друг твой прежний перед целым светом, Наперекор насмешкам и наветам. 239 Мой бедный друг, со мной тогда лукавый Не так играл, как он играл с тобой. И я в те дни искал напрасно славы, Парил без пользы в выси голубой. Но сатана похвастаться не вправе, Что тень мою купил он той порой. Со мною тень, мне данная с рожденья, Я всюду и всегда с моею тенью. И хоть я не был виноват ни в чем, Да и лицом с тобою мы не схожи, "Где тень твоя?" -- кричали мне кругом, Смеясь и корча шутовские рожи. Я тень показывал. Что толку в том? Они б смеялись и на смертном ложе. Нам силы для терпения даны, И благо, коль не чувствуем вины. Но что такое тень? -- спросить хочу я, Хоть сам вопрос такой слыхал не раз, И злобный свет, придав цену большую, Не слишком ли вознес ее сейчас? Но годы миновавшие такую Открыли мудрость высшую для нас: Бывало, тень мы называли сутью, А нынче суть и та покрыта мутью. Итак, друг другу руки мы пожмем, Вперед, и пусть все будет, как бывало. 240 Печалиться не станем о былом, К огда теснее наша дружба стала. Мы к цели приближаемся вдвоем, И злобный мир нас не страшит нимало. А стихнут бури, в гавани с тобой, Уснув, найдем мы сладостный покой. Адельберт фон Шамиссо Берлин, август 1834 г. (Перевод И. Едина.) 1 После благополучного, хотя и очень для меня тягостного плавания корабль наш вошел наконец в гавань. Как только шлюпка доставила меня на берег, я забрал свои скудные пожитки и, протолкавшись сквозь суетливую толпу, направился к ближайшему, скромному с виду дому, на котором узрел вывеску гостиницы. Я спросил комнату. Слуга осмотрел меня с ног до головы и провел наверх, под крышу. Я приказал подать холодной воды и попросил толком объяснить, как найти господина Томаса Джона. -- Сейчас же за Северными воротами первая вилла по правую руку, большой 241 новый дом с колоннами, отделанный белым и красным мрамором. Так. Было еще раннее утро. Я развязал свои пожитки, достал перелицованный черный сюртук, тщательно оделся во все, что у меня было лучшего, сунул в карман рекомендательное письмо и отправился к человеку, с помощью которого надеялся осуществить свои скромные мечты. Пройдя длинную Северную улицу до конца, я сейчас же за воротами увидел белевшие сквозь листву колонны. "Значит, здесь!" -- подумал я. Смахнул носовым платком пыль с башмаков, поправил галстук и, благословясь, дернул за звонок. Дверь распахнулась. В прихожей мне был учинен настоящий допрос. Швейцар все же приказал доложить о моем приходе, и я удостоился чести быть проведенным в парк, где господин Джон гулял в обществе друзей. Я сейчас же признал хозяина по дородству и сияющей самодовольством физиономии. Он принял меня очень хорошо -- как богач нищего, даже повернул ко мне голову, правда, не отвернувшись от остального общества, и взял у меня из рук протянутое письмо. -- Так, так, так! От брата! Давненько не было от него вестей. Значит, 242 здоров? Вон там, -- продолжал он, обращаясь к гостям и не дожидаясь ответа, и указал письмом на пригорок, -- вон там я построю новое здание. - Он разорвал конверт, но не прервал разговора, который перешел на богатство.-- У кого нет хотя бы миллионного состояния, -- заметил он, -- тот, простите меня за грубое слово,--голодранец! -- Ах, как это верно! -- воскликнул я с самым искренним чувством. Должно быть, мои слова пришлись ему по вкусу. Он улыбнулся и сказал: -- Не уходите, голубчик, может статься, я найду потом время и потолкую с вами насчет вот этого. Он указал на письмо, которое тут же сунул в карман, а затем снова занялся гостями. Хозяин предложил руку приятной молодой особе, другие господа любезничали с другими красотками, каждый нашел себе даму по вкусу, и все общество направилось к поросшему розами пригорку. Я поплелся сзади, никого собой не обременяя, так как никто уже мною не интересовался. Гости были очень веселы, дурачились и шутили, порой серьезно разговаривали о пустяках, часто пустословили о серьезном и охотно острили насчет отсутствующих друзей, я плохо понимал, о чем шла речь, потому что был 243 слишком озабочен и занят своими мыслями и, будучи чужим в их компании, не вникал в эти загадки. Мы дошли до зарослей роз. Очаровательной Фанни, которая казалась царицей праздника, заблагорассудилось самой сорвать цветущую ветку; она наколола шипом палец, и на ее нежную ручку упали алые капли, словно оброненные темными розами. Это происшествие взбудоражило все общество. Гости бросились искать английский пластырь. Молчаливый господин в летах, сухопарый, костлявый и длинный, которого я до тех пор не приметил, хотя он шел вместе со всеми, сейчас же сунул руку в плотно прилегающий задний карман своего старомодного серого шелкового редингота, достал маленький бумажник, открыл его и с почтительным поклоном подал даме желаемое. Она взяла пластырь, не взглянув на подателя и не поблагодарив его; царапину заклеили, и все общество двинулось дальше, чтобы насладиться открывавшимся с вершины холма видом на зеленый лабиринт парка и бесконечный простор океана. Зрелище действительно было грандиозное и прекрасное. На горизонте, 244 между темными волнами и небесной лазурью, появилась светлая точка. -- Подать сюда подзорную трубу! -- крикнул господин Джон, и не успели прибежавшие на зов слуги выполнить приказание, как серый человек сунул руку в карман редингота, вытащил оттуда прекрасный доллоыд и со смиренным поклоном подал господину Джону. Тот приставил тут же трубу к глазу и сообщил, что это корабль, вчера снявшийся с якоря, но из-за противного ветра до сих пор не вышедший в открытое море. Подзорная труба переходила из рук в руки и не возвращалась обратно к своему владельцу. Я же с удивлением смотрел на него и недоумевал, как мог уместиться такой большой предмет в таком маленьком кармане. Но все остальные, казалось, приняли это за должное, и человек в сером возбуждал в них не больше любопытства, чем я. Подали прохладительные напитки и драгоценные вазы с фруктами -редчайшими плодами всех поясов земли. Господин Джон потчевал гостей более или менее любезно; тут он во второй раз обратился ко мне: -- Кушайте на здоровье! Этого вам во время плаванья есть не довелось! Я поклонился, но он даже не заметил; он уже разговаривал с кем-то 245 другим. Компания охотно расположилась бы на лужайке, на склоне холма, откуда открывался широкий вид, да только все боялись сидеть на сырой земле. Кто-то из гостей заметил, как чудесно было бы расстелить здесь турецкий ковер. Не успел он высказать это желание, как человек в сером уже сунул руку в карман и со смиренным, можно даже сказать подобострастным, видом стал вытаскивать оттуда роскошный золототканый ковер. Лакеи как ни в чем не бывало подхватили его и разостлали на облюбованном месте. Не долго думая, компания расположилась на ковре; я же опять с недоумением глядел то на человека в сером, то на карман, то на ковер, в котором было не меньше двадцати шагов в длину и десяти в ширину, и тер глаза, не зная, что и думать, тем более что никто как будто не находил в этом ничего чудесного. Мне очень хотелось разведать, кто этот человек, я только не знал, к кому обратиться за разъяснениями, потому что перед господами лакеями робел, пожалуй, еще больше, чем перед господами лакеев. Наконец я набрался храбрости и подошел к молодому 246 человеку, как будто не такому важному, как другие, и часто стоявшему в одиночестве. Я вполголоса осведомился, кто этот обязательный человек в сером. -- Тот, что похож на нитку, выскользнувшую из иглы портного? -- Да, тот, что стоит один. -- Не знаю! -- ответил он и отвернулся, как мне показалось, желая избежать дальнейшей беседы со мной, и тут же заговорил о всяких пустяках с кем-то другим. Солнце уже сильно припекало, и жара начала тяготить дам. Очаровательная Фанни небрежно обратилась к серому человеку, с которым, насколько я помню, еще никто не разговаривал, и задала ему необдуманный вопрос: не найдется ли у него заодно и палатки? Он ответил таким низким поклоном, словно на его долю выпала незаслуженная честь, и сейчас же сунул руку в карман, из которого у меня на глазах извлек материю, колышки, шнуры, железный остов -словом, все, что требуется для роскошного шатра. Молодые люди помогли разбить палатку, которая растянулась над всем ковром, -- и опять это никого не поразило. 247 Мне уже давно было как-то не по себе, даже страшновато. Что же я почувствовал, когда при следующем высказанном вслух желании он вытащил из кармана трех верховых лошадей -- говорю тебе, трех прекрасных, крупных вороных, взнузданных и оседланных! Нет, ты только подумай -еще и трех оседланных лошадей, и все из того же кармана, откуда уже вылезли бумажник, подзорная труба, тканый ковер двадцати шагов в длину и десяти в ширину, шатер тех же размеров со всеми нужными колышками и железными прутьями! Если бы не мое честное слово, подтверждающее, что я видел все это собственными глазами, ты бы мне, конечно, не поверил. Человек этот казался очень застенчивым и скромным, окружающие обращали на него мало внимания, и все же в его бледном лице, от которого я не мог отвести взгляда, было что-то такое жуткое, что под конец я не выдержал. Я решил незаметно удалиться, мне это казалось совсем нетрудным, принимая во внимание незначительную роль, которую я играл в здешнем обществе. Я хотел воротиться в город, на следующее утро снова попытать 248 счастья и, если наберусь храбрости, расспросить господина Джона о странном человеке в сером. Ах, если бы мне посчастливилось тогда ускользнуть! Я уже благополучно пробрался через заросли роз до подножия холма и очутился на открытой лужайке, но тут, испугавшись, как бы кто не увидел, что я иду не по дорожке, а по траве, я огляделся вокруг. Как же я перетрусил, когда увидел, что человек в сером идет за мной следом и уже приближается. Он сейчас же снял шляпу и поклонился так низко, как еще никто мне не кланялся. Сомнения быть не могло -- он собирался со мной заговорить, и с моей стороны было бы неучтивым уклониться от разговора. Я тоже снял шляпу и, несмотря на яркое солнце, так, с непокрытой головой, замер на месте. Я смотрел на него с ужасом, не отрываясь, словно птица, завороженная взглядом змеи. Он тоже казался очень смущенным; не поднимая глаз и отвешивая все новые поклоны, подошел он ближе и заговорил со мной тихо и неуверенно, тоном просителя. -- Извините, сударь, не сочтите с моей стороны навязчивостью, ежели я, не будучи с вами знаком, осмеливаюсь вас задерживать: у меня до вас просьба. 249 Дозвольте, ежели на то будет ваше согласие... -- Господи помилуй, сударь! -- воскликнул я в страхе. -- Чем могу я быть полезен человеку, который... Мы оба смутились и, как мне сдается, покраснели. После минутного молчания он снова начал: -- В течение того краткого времени, когда я имел счастье наслаждаться вашим обществом, я, сударь, несколько раз,-- позвольте вам это высказать,-любовался той поистине прекрасной тенью, которую вы, будучи освещены солнцем, сами того не замечая, отбрасывали от себя, я сказал бы, с некоторым благородным пренебрежением, -- любовался вот этой самой великолепной тенью у ваших ног! Не сочтите мой вопрос дерзким; вы ничего не будете иметь против, ежели я попрошу вас уступить мне свою тень? Он замолчал, а у меня голова шла кругом. Что подумать о таком необычном предложении -- продать свою тень? "Верно, это сумасшедший", -мелькнуло у меня в голове, и совсем другим тоном, гораздо более подходящим к тому смиренному тону, который усвоил он, я ответил: -- Эх, приятель, неужто вам мало собственной тени? Ну уж и сделка, доложу я вам, совсем необычная! 250 Но он не отставал: -- Сударь, у меня в кармане найдется много всякой всячины, может быть, что-нибудь вас и соблазнит. Для такой бесценной тени, как ваша, я ничего не пожалею! При упоминании о кармане у меня опять побежали мурашки по спине, я сам не понимал, как это я мог решиться назвать его "приятелем". Я постарался, насколько возможно, исправить свою неучтивость изысканной вежливостью и сказал: -- Не посетуйте, сударь, на вашего покорнейшего слугу! Но я, верно, вас не так понял? Как я могу свою тень... Он прервал меня на полуслове: -- Я только прошу, ваша милость, разрешить мне сию минуту, не сходя с места, поднять с земли эту благородную тень и спрятать себе в карман; как я это сделаю, моя забота. А взамен в знак признательности я предлагаю вам, сударь, выбрать любое из тех сокровищ, которые я ношу с собой в кармане: подлинную разрыв-траву, корень мандрагоры, пфенниги- перевертыши, талер-добытчик, скатерть-самобранку, принадлежавшую оруженосцам Роланда, 251 чертика в бутылке. Но все это не то, что вам требуется. Хотите волшебную шапку, принадлежавшую Фортунату, совсем новенькую и крепкую, только что из починки? А может быть, волшебный кошелек, такой же, как у Фортуната? -- Давайте кошелек Фортуната! -- прервал я его речь, и, как ни был велик мой страх, при этих словах я позабыл обо всем. Голова закружилась, перед глазами засверкало золото. -- Соблаговолите, сударь, взглянуть и испробовать, что это за кошелек! Он сунул руку в карман и вытащил за два крепких ременных шнура не очень большой кошелек, на совесть сшитый из прочного сафьяна, и вручил его мне. Я тут же достал из кошелька десять червонцев, а потом еще десять, и еще десять, и еще; я быстро протянул ему руку. -- Идет! Сделка состоялась. Давайте кошель и получайте тень! Мы ударили по рукам; он, не теряя ни минуты, опустился на колени и с поразительной сноровкой осторожно, начав с головы и закончив ногами, отделил от травы мою тень, поднял ее, скатал, сложил и сунул в карман. Он встал, снова отвесил мне поклон и удалился в заросли роз. Мне почудилось, будто он 252 там тихонько хихикнул. Я же крепко вцепился в шнуры кошелька; лужайка, на которой я стоял, была ярко освещена солнцем, но я еще ничего не соображал. 2 Наконец я опомнился и поспешил поскорее покинуть здешние места, куда, как я надеялся, мне больше не придется возвращаться. Сначала я наполнил карманы золотом, затем, обвязав шнуры вокруг шеи, спрятал кошелек на груди. Никем не замеченный, вышел я из парка на дорогу и направился к городу. Я подходил к воротам, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал, что меня окликают: -- Эй, молодой человек, молодой человек, послушайте ! Я оглянулся, незнакомая старуха крикнула мне вслед: -- Сударь, будьте осторожны! Вы потеряли тень! -- Благодарствуйте, мамаша. -- Я бросил ей золотой за добрый совет и сошел с дороги под деревья. У заставы меня сейчас же остановил будочник: -- Господин, где это вы позабыли свою тень? А затем разохались какие-то кумушки: -- Иисусе Христе! Да у него, у горемычного, тени нет! 253 Меня это уже начинало злить, и я старательно избегал солнца. Но не всюду это было возможно, вот хотя бы на широкой улице, через которую мне предстояло перейти, и, к моему несчастью, как раз в то время, когда школьники возвращались домой. Какой-то проклятый озорник- горбун, -- он у меня и сейчас как живой перед глазами, -- тут же доглядел, что у меня нет тени. Громким улюлюканьем натравил он на меня всю высокообразованную уличную молодежь предместья, которая сейчас же обрушилась на меня с ехидной критикой и забросала грязью. "Только неряха, выходя на солнце, забывает прихватить и свою тень!" Я кинул им несколько пригоршней золотых, чтобы они отвязались, а сам вскочил в экипаж, нанятый с помощью добросердечных людей. Очутившись один в карете, я горько разрыдался. Верно, во мне уже начало пробуждаться сознание того, что, хотя золото ценится на земле гораздо дороже, чем заслуги и добродетель, тень уважают еще больше, чем золото; и так же, как раньше я поступился совестью ради богатства, так и теперь я расстался с тенью только ради золота. Чем может кончить, чем неизбежно должен кончить такой человек! 254 Я был еще в полном смятении, когда экипаж остановился перед моей прежней гостиницей; меня испугала мысль, что придется еще раз войти в жалкую комнатушку под крышей. Я распорядился снести вниз мои вещи, с презрением взял свой нищенский узелок, бросил на стол несколько золотых и приказал кучеру отвезти меня в самый дорогой отель. Новая гостиница смотрела окнами на север, я мог не бояться солнца. Я отпустил кучера, щедро заплатив ему, распорядился, чтобы мне тут же отвели лучший номер, и, водворившись, сразу же запер дверь на ключ. Как ты думаешь, чем я занялся? О, любезный Ша-миссо, я краснею теперь, признаваясь в этом даже тебе одному. Я снял с груди кошелек и с каким-то остервенением, которое, подобно пламени пожара, разгоралось во мне с новой силой, стал доставать из кошелька золото. Еще и еще, все больше и больше, сыпал золото на пол, ходил по золоту, слушал, как оно звенит, и, упиваясь его блеском и звоном, бросал на пол все больше и больше благородного металла, пока наконец, обессилев, не свалился на это богатое ложе; с 255 наслаждением зарывался я в золото, катался по золоту. Так прошел день, прошел вечер; я не отпирал двери, ночь застала меня лежащим на золоте, и тут же, на золоте, сморил меня сон. Во сне я видел тебя, мне пригрезилось, будто я стою за стеклянной дверью твоей комнатки и оттуда смотрю на тебя; ты сидишь за письменным столом, между скелетом и пучком засушенных растений. На столе лежат открытые книги -- Галлер, Гумбольдт и Линней, на диване -- том Гете и "Волшебное кольцо". Я долго глядел на тебя и на все вокруг, а потом опять на тебя; но ты не пошевельнулся, ты не дышал, ты был мертв. Я проснулся. Верно, было еще очень рано. Часы мои остановились. Я чувствовал себя совсем разбитым, да к тому же еще хотел и пить: со вчерашнего утра у меня во рту маковой росинки не было. Злобно и с отвращением отпихнул я надоевшее мне золото, которому в своем суетном сердце еще так недавно радовался; теперь оно меня раздражало, и я не знал, куда его деть. Нельзя же было оставить его просто так, на полу. А что, если опять упрятать его в кошелек? Но не тут-то было. Ни одно из моих окон не выходило 256 на море. Мне пришлось с большим трудом, обливаясь потом, перетаскать все золото в чулан и уложить в стоявший там большой шкаф; себе я оставил только несколько пригоршней дукатов. Справившись с этой работой, я в полном изнеможении растянулся в кресле и стал ждать, когда зашевелятся в доме. При первой же возможности я приказал подать мне поесть и позвать хозяина. Мы обсудили с ним будущее устройство моих апартаментов. Он рекомендовал для ухода за моей особой некоего Бенделя, который сразу покорил меня своей открытой и смышленой физиономией. Бендель оказался человеком, чья привязанность долго служила мне утешением в тягостной жизни и примиряла с моей печальной долей. Весь день, не выходя из своих комнат, я провозился со слугами, ищущими места, сапожниками, портными и купцами; я обзавелся обстановкой и накупил кучу драгоценностей и самоцветных каменьев, чтобы хоть отчасти избавиться от этой груды золота. Но она как будто и не думала уменьшаться. Меж тем мое положение пугало меня. Я не решался ни на шаг отлучиться из 257 дому, а по вечерам сидел в темноте и дожидался, пока в зале зажгут сорок восковых свечей. Я не мог без ужаса вспомнить отвратительную стычку со школьниками. В конце концов я решил, как это меня ни страшило, еще раз проверить общественное мнение. В ту пору ночи стояли лунные. Поздно вечером я накинул широкий плащ, надвинул на глаза шляпу и, словно злоумышленник, дрожа и крадучись, покинул дом. Только отойдя порядочно от гостиницы, выступил я из тени домов, под охраной которых был в безопасности, и вышел на лунный свет, твердо решив услышать свой приговор из уст прохожих. Избавь меня, дорогой друг, от тягостного пересказа всего того, что мне пришлось вытерпеть. Женщины по большей части проявляли глубокую жалость, но выражение сочувствия пронзало мне сердце не меньше, чем насмешки молодежи и высокомерное презрение мужчин, особенно толстых, хорошо откормленных, которые сами отбрасывали широкую тень. Очаровательная, прелестная девушка, которая шла, вероятно, в сопровождении родителей, задумчиво глядевших себе под ноги, случайно подняла на меня свои сияющие глаза. Увидев, что у меня 258 нет тени, она явно испугалась, опустила на прекрасное лицо вуаль, склонила голову и молча прошла мимо. Этого я не вынес. Горькие слезы хлынули у меня из глаз, и, шатаясь, с разбитым сердцем, спрятался я обратно в темноту. Я шел медленно, держась за стены домов, чтобы не упасть, и поздно добрался до гостиницы. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день первой моей заботой было найти человека в сером рединготе. Может быть, мне удастся его отыскать, и, на мое счастье, окажется, что и он, подобно мне, жалеет о нашей безумной сделке. Я позвал Бенделя, он казался смекалистым и расторопным малым; я точно описал ему человека, владеющего сокровищем, без которого жизнь была для меня сплошной мукой. Я указал время и место, где я его видел; описал всех, кто был там же, и прибавил еще одну примету: велел справляться о подзорной трубе, турецком ковре, тканном золотом, роскошной палатке и трех вороных конях, которые каким-то образом -- каким именно, говорить незачем -связаны с таинственным незнакомцем, навсегда лишившим меня покоя и счастья, хотя на остальных он как будто не произвел впечатления. 259 Окончив свою речь, я принес столько золота, сколько мог поднять, и прибавил еще на большую сумму самоцветных камней и драгоценностей. -- Бендель, -- сказал я, -- вот это выравнивает многие пути и делает легко выполнимым то, что кажется невозможным. Не скупись, ты видишь, твой хозяин тоже не скупится. Иди и обрадуй меня сообщением, на которое я возлагаю все мои надежды! Бендель ушел. Домой он вернулся поздно, очень печальный. Никто из челяди господина Джона, никто из его гостей -- он расспросил всех - даже вспомнить не мог человека в сером рединготе. Новая подзорная труба была налицо, но никто не знал, откуда она взялась; ковер был разостлан, палатка разбита на том же пригорке, что и тогда. Слуги хвалились богатством своего хозяина, но никто не знал, откуда появились эти новые сокровища. Сам он был ими доволен, хотя тоже не знал, откуда они, но это его мало заботило. Лошади стояли на конюшне у молодых людей, которые в тот день на них катались, а теперь превозносили щедрость господина Джона, тогда же подарившего им этих 260 коней. Вот все, что выяснилось из обстоятельного рассказа Бенделя, чье ревностное усердие и умелое поведение, хотя и не увенчались успехом, все же заслужили мою похвалу. Я мрачно махнул рукой, чтобы он оставил меня одного. -- Я дал вам, сударь, отчет о самом для вас важном,--снова начал Бендель. -- Остается еще выполнить поручение, полученное сегодня утром от незнакомого человека, повстречавшегося мне у самого дома, когда я вышел по делу, в котором потерпел неудачу. Вот собственные слова незнакомца: "Передайте господину Петеру Шлемилю, что здесь он меня больше не увидит: я отправляюсь за море, дует попутный ветер, и я спешу в гавань. Но по прошествии одного года и одного дня я сам отыщу его и буду иметь честь предложить ему другую, возможно, более приемлемую сделку. Передайте нижайший поклон и уверения в моей неизменной благодарности!" Я спросил, как о нем сказать, но он ответил, что вы его знаете. -- Как он выглядел? -- взмолился я, предчувствуя, кто это. И Бендель точка в точку, слово в слово описал мне человека в сером рединготе, 261 совершенно так же, как в предыдущем рассказе описывал человека, о котором всех расспрашивал. -- Несчастный! -- воскликнул я, ломая руки. -- Ведь это же был он! И у Бенделя словно пелена спала с глаз. -- Да, да, это был он, конечно, он! -- воскликнул Бендель в испуге. -А я, слепец, я, дурак, его не узнал, не узнал и предал своего хозяина! Громко рыдая, осыпал он себя горькими упреками; отчаяние, которому он предавался, разжалобило меня. Я принялся утешать его, уверяя, что нисколько не сомневаюсь в его верности, и тут же отправил его в гавань, чтобы попытаться, если это возможно, найти следы таинственного незнакомца. Но в это самое утро вышло в море очень много кораблей, которых удерживал в гавани противный ветер, и все направлялись в разные край света, все к разным берегам, и серый человек исчез бесследно, растаял, как тень. 3 Что пользы в крыльях тому, кто закован в железные цепи? Он только еще сильнее ощутит всю безвыходность своего положения. Подобно Фафнеру, 262 стерегущему клад вдали от людей, изнемогал я около своего золота; но сердце мое не лежало к нему, я проклинал богатство, из-за которого был отрезан от жизни. Я хранил в душе свою печальную тайну, боясь своих слуг и в то же время завидуя им, -- ведь у них была тень, они могли появиться на улице при солнечном свете. В одиночестве грустил я дни и ночи у себя в покоях, и тоска точила мне сердце. Еще один человек тужил вместе со мной,-- мой верный Бендель непрестанно мучил себя упреками, что обманул доверие своего доброго хозяина и не признал того, за кем был послан, того, с кем, как он думал, тесно связана моя печальная участь. Я же не мог его ни в чем винить: я знал, что всему причиной таинственная природа незнакомца. Дабы испробовать все средства, я послал Бенделя с дорогим бриллиантовым перстнем к самому знаменитому в городе живописцу, которого пригласил к себе. Тот пришел, я удалил слуг, запер дверь, подсел к художнику и, воздав должное его мастерству, с тяжелым сердцем приступил к сути дела. Но раньше взял с него слово, что он будет свято хранить тайну. -- Господин профессор, - начал я, -- могли бы вы нарисовать 263 искусственную тень человеку, который по несчастной случайности потерял свою тень? -- Вы имеете в виду тень, которую отбрасывают предметы? -- Именно ее. -- Каким же надо быть простофилей, каким разиней, чтобы потерять свою тень? -- спросил он. -- Как это случилось, для вас безразлично,-- возразил я. -- Но извольте, я расскажу. Прошлой зимой, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, -- начал я сочинять, -- его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее отодрать. -- Если я нарисую ему искусственную тень, -- ответил профессор, -- он все равно потеряет ее при первом же движении, раз уж он, как явствует из вашего рассказа, так мало дорожил своей, данной ему от рождения, тенью. У кого нет тени, пусть не выходит на солнце; так оно будет разумнее и вернее! Он встал и ушел, бросив на меня испытующий взгляд, которого я не мог выдержать. Я упал в кресло и закрыл лицо руками. Вошедший Бендель застал меня в этой позе. Он понял, в каком я отчаянии, и хотел безмолвно и почтительно удалиться. Я поднял голову, я изнемогал под тяжестью своего горя, мне нужно было с кем-нибудь им поделиться. 264 -- Бендель! -- окликнул я его. -- Бендель! Ты один видишь и уважаешь мои страдания, не стараешься разузнать, что меня мучает, но молча и кротко сочувствуешь мне. Поди сюда, Бендель, и будь моим сердечным другом! Я не утаил от тебя сокровенного своего богатства, не хочу утаить и сокровенной своей печали. Бендель, не покидай меня! Бендель, ты видишь -- я богат, щедр, милосерден; ты полагаешь, что люди должны превозносить меня, и ты видишь, что я бегу людей, запираюсь от них. Бендель, люди произнесли свой приговор, они оттолкнули меня, может статься, и ты отвернешься от меня, когда узнаешь мою страшную тайну: Бендель, я богат, щедр, милосерден, но -- о, боже праведный! --у меня нет тени! -- Нет тени? -- в испуге воскликнул добрый малый, из глаз у него брызнули слезы, -- Ах ты, горе горькое, не-ужто я родился на свет, чтобы служить хозяину, у которого нет тени! Он замолчал, а я не отрывал рук от лица. -- Бендель, -- дрожащим голосом сказал я наконец, -- я тебе доверился, теперь ты можешь злоупотребить моим доверием. Поди и свидетельствуй против меня! 265 Казалось, он переживает тяжелую душевную борьбу; затем он упал передо мной на колени и, обливаясь слезами, схватил мои руки. -- Нет, мой добрый хозяин! -- воскликнул он. -- Что бы ни говорили люди, я не могу покинуть вас и никогда не покину из-за тени! Я послушаюсь сердца, а не разума, я останусь у вас, я одолжу вам свою тень, буду выручать вас, когда смогу, а не смогу, буду плакать вместе с вами! Я бросился к нему на шею, пораженный таким необычным благородством, ибо был убежден, что им руководит не корыстолюбие. С тех пор моя судьба и образ жизни несколько изменились. Я просто диву давался, как ловко умел Бендель скрывать мой недостаток. Куда бы я ни шел, он всюду поспевал или до меня, или вместе со мной, все предусматривал, все предвидел, и, если мне случайно грозила беда, он был тут как тут и прикрывал меня своей тенью, потому что был выше и полнее меня. Я снова решился бывать на людях и начал играть известную роль в свете. Конечно, мне приходилось напускать на себя всякие чудачества и капризы. Но богатым людям они пристали, и, пока правда была скрыта, я мог наслаждаться почетом и 266 уважением, которые приличествовали такому богачу. Я уже спокойно ждал посещения, обещанного загадочным незнакомцем через год со днем. Я отлично понимал, что не следует долго засиживаться там, где кое-кто уже видел меня без тени и, значит, моя тайна легко могла быть обнаружена. Кроме того, я помнил, -- возможно, только я один, -- свое появление у господина Джона, и это воспоминание угнетало меня; поэтому я считал пребывание здесь только репетицией, после которой я легче и увереннее буду выступать в другом месте. Однако меня некоторое время удерживало здесь одно обстоятельство, задевшее мое тщеславие, чувство, особенно крепко засевшее в сердце человека. Красавица Фанни, бывавшая в знакомом мне доме, позабыв, что мы встречались уже раньше, подарила меня своим вниманием, ибо теперь я был находчив и остроумен. Когда я говорил, все слушали; и я сам себе удивлялся, откуда у меня такое искусство свободно болтать и овладевать разговором. Впечатление, которое, как я заметил, я произвел на красавицу, лишило меня рассудка, чего она и добивалась, и теперь я следовал за ней, куда только 267 мог, держась в тени и прячась от света, для чего прибегал к тысяче уловок. Моему тщеславию льстило, что Фанни льстит мое ухаживание; я любил только умом и при всем своем желании не мог полюбить сердцем. Но к чему повторять тебе так подробно эту обычную пошлую историю? Ты достаточно часто рассказывал мне то же самое о других, вполне достойных людях. Правда, к старой, избитой пьесе, в которой я добродушно играл тривиальную роль, неожиданно для меня, для Фанни и для окружающих была присочинена необычная развязка. В один прекрасный вечер, когда в саду, по обыкновению, собралось целое общество, я под руку со своей оча-ровательницей бродил в некотором отдалении от других гостей, стараясь обворожить ее любезностями и комплиментами. Она скромно опустила глаза долу и отвечала легким пожатием на пожатие моей руки; неожиданно позади нас из-за облаков выплыла луна, и Фанни увидела на земле только свою тень. Она вздрогнула, посмотрела на меня, ничего не понимая, затем опять на землю, взглядом призывая мою тень; ее недоумение так комично 268 отражалось на ее лице, что я расхохотался бы, ежели бы у меня самого по спине не побежали мурашки. Я отпустил руку лишившейся сознания Фанни, стрелой промчался мимо пораженных гостей, добежал до калитки, вскочил в первый попавшийся экипаж и покатил в город, где в этот раз, себе на горе, оставил предусмотрительного Бенделя. Он испугался, увидев меня, но с первого же слова понял все. Тут же были заказаны почтовые лошади. Я взял с собой только одного слугу, продувного малого по имени Раскал, благодаря своему пронырству вошедшего ко мне в доверие и, разумеется, не подозревавшего о том, что сейчас произошло. Еще в ту же ночь я проделал тридцать верст. Бендель задержался в городе, чтобы ликвидировать мое хозяйство, расплатиться и привезти мне самое необходимое. Когда он нагнал меня на следующий день, я бросился ему на грудь и поклялся, правда, не в том, что больше не совершу никакой глупости, а в том, что впредь буду осторожнее. Мы безостановочно продолжали наше путешествие через границу и горы, и, только перезалив на ту сторону хребта, 269 отделенный высоким склоном от тех злополучных мест, я сдался на уговоры и согласился после пережитых трудов отдохнуть на водах в расположенном неподалеку уединенном местечке. 4 Я лишь бегло коснусь в своем повествовании поры, на которой -и как охотно! -- задержался бы подольше, если бы мог воскресить в памяти ее живой дух. Но краски, которые оживляли ее и одни могли бы вновь оживить, поблекли в моей душе; и когда я снова пытаюсь найти в груди то, от чего она так бурно вздымалась в ту пору, -- былые страдания и былое счастье, былые сладостные грезы, -- я тщетно ударяю в скалу, живительный источник уже иссяк, и бог отвернулся от меня. Иной, совсем иной кажется мне теперь та давно прошедшая пора! Мне предстояло играть там, на водах, трагигероиче-скую роль, а я, еще новичок на сцене, плохо разучил ее и по уши влюбился в пару голубых глаз. Родители, обманутые игрой, поспешили закончить сделку, и пошлый фарс 270 завершился издевательством. Это все, все! Теперь то, что было, кажется мне глупым и безвкусным, и в то же время мне страшно подумать, что могут казаться такими те чувства, которые некогда переполняли мне грудь великим блаженством. Минна, так же, как плакал я тогда, потеряв тебя, так плачу и сейчас, потеряв свое чувство к тебе. Неужели я так постарел? О, жалкий рассудок! Хотя бы еще одно биение сердца той поры, еще одну минуту тех грез,--но нет! Я одиноко скитаюсь в пустынном море горького рассудка, и давно уже в бокале перестало играть искрометное шампанское! Я послал вперед Бенделя, дав ему несколько мешков с золотом и поручив подыскать подходящий дом и обставить его согласно моим вкусам. Он сыпал деньгами направо и налево и довольно туманно распространялся о знатном чужестранце, на службе коего состоит, ибо я хотел остаться неизвестным. Это натолкнуло простодушных обывателей на странные мысли. Как только все было готово для моего приезда, Бендель вернулся за мной. Мы отправились в дорогу. Приблизительно за час пути от места назначения мы выехали на залитую 271 солнцем поляну, где нам преградила дорогу празднично разодетая толпа. Карета остановилась. Музыка, колокольный звон, пушечная пальба, громкие крики "виват!" огласили воздух. Перед дверцами кареты появился хор редкой красоты девушек в белых платьях, но, как солнце .затмевает ночные светила, так одна затмевала всех остальных. Она выступила из круга подруг, стройная и нежная, и, зардевшись от смущения, опустилась передо мной на колени и подала на шелковой подушке венок, сплетенный из лавров, масличных ветвей и роз, при этом она произнесла небольшую речь, смысл которой я не понял, услышав такие слова, как "ваше величество", "благоговение", "любовь",-- но слух мой и сердце были очарованы нежными звуками; мне казалось, что это небесное видение когда-то уже являлось моим взорам. Тут вступил хор, славословя доброго короля и счастье его подданных. Ах, любезный друг, такая сцена при ярком солнечном свете! Она все еще стояла, преклонив колена, в двух шагах от меня; а я не мог упасть к ногам этого ангела, нас разделяла пропасть, через которую я не мог перескочить,-272 у меня не было тени! О, чего бы я не дал в ту минуту за тень! Я забился в угол кареты, чтобы скрыть свой конфуз, свой страх и отчаяние. Но Бендель подумал за меня, он выскочил из кареты с другой стороны, я успел его окликнуть и передал ему из шкатулки, которая как раз была у меня под рукой, роскошную алмазную диадему, предназначавшуюся для красавицы Фанни. Он выступил вперед и от имени своего господина заявил, что тот не может и не хочет принять такие почести; вероятно, произошло недоразумение; но все же он отблагодарит добрых горожан за их радушный прием. Он взял с подушки преподнесенный венок и положил на его место алмазный обруч; затем, почтительно подав руку, помог встать прелестной девушке и знаком предложил духовенству, муниципалитету и всем депутациям отойти. Бендель никого не допустил до меня. Он приказал толпе расступиться, вскочил в карету, и мы, промчавшись под аркой, разубранной гирляндами из листьев и цветов, галопом въехали в город. Пальба из пушек не прекращалась. Карета остановилась перед моим домом. 273 Я проворно проскочил прямо в дверь через расступившуюся толпу, которую привело сюда любопытство. Народ не расходился и кричал "виват!" у меня под окнами, и по моему приказанию из окон бросали в толпу дублоны. Вечером город по собственному почину устроил иллюминацию. Я все еще не знал, что это должно означать и за кого меня принимают. Я послал на разведку Раскала. Ему сообщили, -- будто бы из самых достоверных источников, -- что добрый прусский король путешествует по стране под именем графа; рассказали, как был узнан мой адъютант, как он проговорился, выдав себя и меня; и, наконец, как велика была всеобщая радость, когда стало известно, что я остановлюсь в здешнем городке. Теперь жители, правда, поняли, как опрометчиво они поступили, проявив настойчивое желание приподнять завесу, раз я совершенно явно хочу сохранять строжайшее инкогнито. Но я изволил гневаться столь милостиво и благосклонно, что, конечно, не поставлю им в вину такую искреннюю любовь. Моему повесе вся эта история представлялась очень забавной, и он тут же постарался строгими речами еще больше укрепить добрых горожан в их 274 заблуждении; он пересказал мне все в очень потешной форме. Его уморительный доклад развеселил меня, и мы оба от души посмеялись над его злой шуткой. Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца. Я приказал подготовить к завтрашнему вечеру празднество под деревьями, осенявшими своей тенью площадку перед домом, и пригласить весь город. Благодаря таинственной силе моего кошелька, стараниям Бенделя, изобретательности и проворству Раскала нам удалось восторжествовать над временем. Поистине удивительно, как всего за несколько часов было устроено столь красивое и роскошное пиршество. С каким великолепием, с каким изобилием! Остроумно придуманное освещение было распределено с большим искусством, и я чувствовал себя в полной безопасности. Оставалось только похвалить моих слуг, -- ведь мне не пришлось ни о чем напоминать. Наступил вечер. Стали собираться гости, их представляли мне. О "вашем величестве" не было больше и речи; меня почтительно, с глубоким благоговением именовали "господин граф". Что мне было делать? Я не возражал 275 против графа и с этих пор стал графом Петером. Но среди праздничной суеты сердце мое стремилось только к одной. Было уже поздно, когда появилась она -- венец творения, увенчанная мною алмазным венцом. Она шла, благонравно опустив глаза, вслед за родителями и, казалось, не знала, что прекраснее ее здесь никого нет. Мне были представлены главный лесничий, его супруга и дочь. Для стариков у меня нашлось много комплиментов и любезностей; перед дочерью я стоял как провинившийся школьник и не мог вымолвить ни слова. Наконец, запинаясь, попросил я красавицу осчастливить наш праздник и занять на нем место, подобающее той эмблеме, что украшает ее голову. Оробев, она бросила на меня трогательный взгляд, моливший о пощаде; но, робея еще больше нее, я назвал себя ее подданным и первый уверил ее в своем благоговении и преданности; для гостей желание графа было приказом, который все поспешили исполнить. На нашем веселом празднестве царили величие, невинность и грация в союзе с красотой. Счастливые родители Минны думали, что их дочь так возвеличена только из уважения к ним; сам я все время находился в 276 неописуемом опьянении. Я приказал положить в две закрытые миски все оставшиеся у меня драгоценности -- жемчуг и самоцветные каменья, купленные еще в ту пору, когда я не знал, как избавиться от тяготившего меня золота, и во время ужина раздать их от имени царицы бала ее подругам и прочим дамам. Между тем ликующей толпе, стоявшей за огороженным пространством, бросали пригоршнями золото. На следующее утро Бендель по секрету сообщил мне, что подозрение, которое он давно питал насчет Раскала, окончательно подтвердилось: вчера Раскал утаил несколько мешков золота. -- Бог с ним, -- сказал я, -- пусть его, бедняга, пользуется. Я раздаю направо и налево, почему не дать и ему? Вчера и он, и все новые слуги, которых ты нанял, выполняли свои обязанности отлично, они весело помогали справлять веселый праздник. Больше мы об этом не говорили. Раскал был моим камердинером, Бендель же другом и наперсником. Он привык считать мое богатство неистощимым и не старался дознаться, откуда оно; мало того, подхватывая на лету мои мысли, он вместе со мной придумывал, куда истратить мое золото, и помогал мне 277 проматывать деньги. О незнакомце, о бледном пронырливом человеке Бендель знал одно: только он может избавить меня от тяготеющего надо мной проклятия, и, хотя на нем зиждутся все мои надежды, я боюсь предстоящей встречи. Впрочем, я убежден, что где бы я ни был, он при желании всегда меня разыщет, мне же его нипочем не разыскать, поэтому я и отказался от напрасных поисков и жду обещанного дня. Вначале пышность заданного мною пира и мое поведение на нем только укрепили легковерных обывателей в их предвзятом мнении. Правда, из газет вскоре выяснилось, что легендарное путешествие прусского короля -необоснованный слух. Но так или иначе, меня сделали королем, королем я и остался, да к тому же еще из самых богатых и щедрых. Вот только никто не знал, какого королевства. Мир никогда не имел основания жаловаться на недостаток монархов, а в наши дни особенно; простодушные обыватели и в глаза не видывали королей и посему с равным основанием приписывали мне то одно, то другое королевство. Граф Петер неизменно оставался тем, кем он был. Однажды среди приехавших на воды появился некий коммерсант, с целью 278 наживы объявивший себя банкротом; он пользовался всеобщим уважением и отбрасывал, правда, широкую, но бледноватую тень. Он хотел прихвастнуть здесь накопленным богатством, ему даже взбрело на ум потягаться со мной. Я прибегнул к своему кошельку и вскоре довел беднягу до того, что ему, дабы спасти свой престиж, пришлось снова объявить себя банкротом и перебраться на ту сторону гор. Так я отделался от него. Ох, сколько бездельников и лодырей наплодил я в здешней местности! Своей поистине королевской расточительностью и роскошью я подчинил себе все, однако у себя дома я жил очень скромно и уединенно. Я поставил себе за правило величайшую осторожность; никто, кроме Бенделя, ни под каким предлогом не смел входить в мои личные покои. Пока светило солнце, я сидел там, запершись с Бен-делем, и всем говорилось: граф работает у себя в кабинете. Работой же объяснялось то множество нарочных, которых я гонял по всяким пустякам взад и вперед. Гостей я принимал только по вечерам либо в тени деревьев, либо в зале, ярко освещенном согласно искусным указаниям 279 Бенделя. Когда я выходил, Бендель не спускал с меня неусыпного ока, выходил же я только в сад к лесничему и только ради нее, моей единственной, ибо самым заветным в жизни была для меня моя любовь. О, душа моя, Шамиссо, надеюсь, ты еще не забыл, что такое любовь! Ты сам дополнишь остальное. Минна была доброй, кроткой девушкой, достойной любви. Я овладел всеми ее помыслами. .По своей скромности она не понимала, чем заслужила мое исключительное внимание, и со всем пылом неискушенного юного сердца платила любовью за любовь. Она любила, как любят женщины, целиком отдаваясь чувству, самозабвенно, самоотверженно, думая только о том, кто был всей ее жизнью, забывая себя, то есть любила по-настоящему. Я же... о, какие ужасные часы, -- ужасные, но как бы я хотел их вернуть! -- провел я, рыдая на груди у Бенделя, когда опомнился после первого опьянения и посмотрел на себя со стороны: как мог я, человек, лишенный тени, в коварном себялюбии толкать на гибель эту чистую душу, этого ангела, приворожив ее и похитив ее любовь! Я то решал открыться ей во всем, 280 то клялся страшными клятвами вырвать ее из своего сердца и бежать, то снова разражался слезами и обсуждал с Бенделем, как свидеться с нею вечером в саду лесничего. Бывали дни, когда я пытался обмануть сам себя, возлагая большие надежды на близкое свидание с серым незнакомцем, а потом снова плакал, ибо при всем желании не мог поверить этим надеждам. Я высчитал день ожидаемой страшной встречи, ведь он сказал -- через год со днем, и я верил его слову. Родители Минны были хорошими, почтенными людьми, горячо любившими свою единственную дочь. Наше сближение, о котором они узнали не сразу, поразило их, и они не знали, что делать. Им и во сне не снилось, что графу Петеру может приглянуться их Минна; а теперь оказывается, он ее любит, и она отвечает ему взаимностью. Мать была достаточно тщеславной, считала наш брак возможным и старалась ему способствовать; разумный, знающий жизнь старик не допускал подобных сумасбродных фантазий. Оба были убеждены в чистоте моих помыслов; оставалось только молить бога за свое дитя. Мне под руку попалось письмо Минны, сохранившееся еще от той поры. Да, это ее почерк! Я перепишу его для тебя. 281 "Я молода и глупа! Я вообразила, что мой любимый не может сделать больно мне, бедной девушке, -- ведь я люблю его от всего сердца, от всего своего сердца. Ах, ты такой добрый, такой удивительно добрый, но не пойми меня превратно. Ты не должен ничем жертвовать ради меня, ничем, даже мысленно. Господи боже! Я бы возненавидела себя, если бы ты это сделал! Нет -- ты дал мне безмерное счастье, научил любить тебя. Уезжай! Я знаю свою судьбу! Граф Петер принадлежит не мне, он принадлежит миру. Я хочу гордиться тобой, хочу слышать: "это был он", и "это снова был он", и "это совершил он", и "все благоговеют перед ним", и "его боготворят". Понимаешь, когда я об этом подумаю, я сержусь на тебя за то, что ты забываешь о своем великом предназначении из любви к такой простушке, как я. Уезжай, ведь от этой мысли я могу почувствовать себя несчастной, а ты дал мне такое счастье, такое блаженство! Разве я не вплела в твою жизнь оливковую ветвь и еще не распустившуюся розу, так же, как в тот венок, который мне было даровано преподнести тебе? Ты, мой любимый, живешь в моем сердце, не бойся расстаться 282 со мною -- благодаря тебе я умру такой счастливой, такой бесконечно счастливой". Ты представляешь, какой болью отозвались в моем сердце эти слова. Я признался ей, что я не тот, за кого меня принимают. Я просто богатый и бесконечно несчастный человек. Надо мной тяготеет проклятие, которое должно остаться единственной моей тайной от нее, ибо я еще не потерял надежды, что оно будет снято. Это-то и отравляет мне жизнь: я боюсь увлечь за собой в бездну и ее -- ее, единственный светоч, единственное счастье моей жизни, единственное сокровище моего сердца. Она снова заплакала. Теперь уже из жалости ко мне. Ах, какая она была ласковая, какая добрая! Ради того, чтобы я не пролил лишней слезинки, она бы с радостью пожертвовала собой. Но как она была далека от правильного истолкования моих слов! Она подозревала, что я владетельный князь, подвергшийся изгнанию, высокая особа в опале, и ее живая фантазия уже окружала возлюбленного героическим ореолом. Как-то я сказал ей: -- Минна, последний день будущего месяца может изменить и решить мою 283 судьбу. Если этого не случится, я должен умереть, потому что не хочу сделать тебя несчастной. Горько плача, спрятала она лицо у меня на груди. -- Если судьба твоя изменится, мне достаточно знать, что ты счастлив, больше мне ничего не надо. Если ты будешь обременен горем, не покидай меня, я помогу тебе нести твое бремя. -- Возьми, возьми обратно необдуманные слова, слетевшие с твоих уст! Знаешь ли ты, в чем мое горе, в чем мое проклятие? Знаешь ли ты, кто твой возлюбленный... Знаешь ли, что он... Ты видишь, я содрогаюсь и не могу решиться открыть тебе свою тайну! Она, рыдая, упала к моим ногам и заклинала внять ее мольбе. Я объявил подошедшему лесничему о своем намерении первого числа следующего месяца просить руки его дочери. Такой срок я установил потому, что за это время многое в моей жизни может измениться. Неизменна только моя любовь к его дочери. Добрый старик очень испугался, услышав такие слова из уст графа Петера. Он бросился мне на шею, но тут же сконфузился при мысли, что мог так забыться. Затем он начал сомневаться, раздумывать, допытываться; заговорил о 284 приданом, об обеспечении, о будущем своей любимой дочери. Я поблагодарил его, что он напомнил об этом. Сказал, что хочу поселиться здесь, в этой местности, где меня как будто любят, и зажить беззаботной жизнью. Я попросил его приобрести на имя его дочери самые богатые из продажных поместий, а оплату перевести на меня. В таких делах отец лучше всякого другого может помочь жениху. Ему пришлось здорово похлопотать; всюду его опережал какой-то чужестранец; лесничему удалось купить поместий только на миллион. Поручая ему эти хлопоты, я, в сущности, старался его удалить, я не раз уже прибегал к подобным невинным хитростям, потому что, должен признаться, он бывал назойлив. Мамаша была туга на ухо и не стремилась к чести развлекать его сиятельство графа своими разговорами. Тут подоспела мать. Счастливые родители настоятельно просили провести с ними сегодняшний вечер; я же не мог задержаться ни на минуту; я видел, что уже всходит луна. Время мое истекло. На следующий вечер я снова пошел в сад к лесничему. Набросив плащ на плечи, надвинув шляпу на самые глаза, я направился прямо к Минне. Она 285 подняла голову, посмотрела на меня и вдруг сделала невольное движение; и перед моим умственным взором сразу возникло видение той страшной ночи, когда я, не имея тени, решился выйти при луне. Да, это была она. Но узнала ли и она меня? Минна в раздумье молчала, и у меня было тяжело на сердце. Я встал. Она, беззвучно рыдая, бросилась мне на грудь. Я ушел. Теперь я часто заставал Минну в слезах; у меня на душе с каждым днем становилось все мрачней и мрачней; только родители купались в блаженстве. Роковой день надвигался, жуткий и хмурый, как грозовая туча. Наступил последний вечер -- я еле дышал. Предусмотрительно наполнив золотом несколько сундуков, я стал ожидать полночи. Часы пробили двенадцать. Я не спускал глаз со стрелки, считал секунды, минуты, ощущая их, как удары кинжала. Я вздрагивал от малейшего шума. Наступило утро. Один за другим проходили тягостные часы, настал полдень, настал вечер, ночь; двигались стрелки; гасла надежда; пробило одиннадцать, никто не появлялся; уходили последние минуты последнего часа, никто не появлялся; пробил первый 286 удар, пробил последний удар двенадцатого часа; потеряв всякую надежду, обливаясь слезами, повалился я на свое ложе. Завтра мне, навеки лишенному тени, предстояло просить руки возлюбленной; под утро я забылся тяжелым сном. Было еще очень рано, когда меня разбудили голоса людей, громко споривших в прихожей. Я прислушался. Бендель не допускал до меня. Раскал ругался на чем свет стоит, кричал, что распоряжение равных ему людей для него не указ, и насильно ломился ко мне в спальню. Добрый Бендель увещевал его, говоря, что, буде такие слова дойдут до моего слуха, Раскал лишится выгодного места. Тот грозился дать волю рукам, если Бендель заупрямится и не допустит его ко мне. Я кое-как оделся, в ярости распахнул дверь и напустился на Раскала: -- Зачем ты сюда пожаловал, бездельник? Он отступил шага на два и холодно ответил: -- Покорнейше просить вас, господин граф, позволить мне взглянуть на вашу тень! На дворе сейчас ярко светит солнце. Слова его меня точно громом поразили. Долго не мог я снова обрести дар речи. -- Как может лакей так говорить со своим господином?.. 287 Он спокойно перебил меня: -- Лакеи тоже, бывает, себя уважают, а уважающий себя лакей не захочет служить господину, у которого нет тени. Я пришел за расчетом. Я попытался затронуть другие струны: -- Но, дорогой мой Раскал, кто внушил тебе такую злополучную мысль? Неужели ты думаешь?.. Он продолжал в прежнем тоне: -- Люди болтают, будто у вас нет тени... Да что там говорить, покажите мне вашу тень или пожалуйте расчет. Побледневший, дрожащий Бендель оказался находчивее меня, он подал мне знак; я прибег к все улаживающему золоту. Но и оно потеряло свою силу, Раскал швырнул деньги мне под ноги: -- От человека, у которого нет тени, мне ничего не надо! Он повернулся ко мне спиной и, не сняв шляпы, насвистывая песенку, медленно вышел из комнаты. Мы с Бенделем, словно окаменев, смотрели ему вслед без мысли, без движения. Тяжело вздыхая, скорбя душой, собрался я наконец вернуть слово и, как преступник перед судьями, предстать перед семьей лесничего. Я вошел в темную беседку, названную в честь меня, где они должны были дожидаться моего 288 прихода и на этот раз. Ничего не подозревавшая мать встретила меня радостно. Минна сидела в беседке, бледная и прекрасная, как первый снег, который иногда в осеннюю пору целует последние цветы, чтобы тут же растаять и превратиться в горькую влагу. Лесничий, держа в руке исписанный лист бумаги, шагал из угла в угол и, казалось, старался побороть чувства, отражавшиеся на его то красневшем, то бледневшем лице, обычно маловыразительном. Он сейчас же подошел ко мне и потребовал, прерывая свои слова вздохами, чтобы я поговорил с ним наедине. Аллея, куда он предложил нам уединиться, вела в открытую, залитую солнцем часть сада. Ни слова не говоря, опустился я на скамью; последовало долгое молчание, прервать которое не решалась даже мамаша. Лесничий продолжал быстро и нервно шагать из угла в угол беседки; вдруг он остановился передо мной, посмотрел на листок, который держал в руке, и, глядя на меня испытующим взглядом, спросил: -- Скажите, ваше сиятельство, вам действительно знаком некий Петер Шлемиль? -- Я молчал. 289 ^ -- Человек прекрасного нрава, одаренный особыми талантами... Он ждал ответа. -- А что, если я сам этот человек? -- ...и потерявший свою собственную тень! --прибавил он резко. -- Предчувствие не обмануло меня! -- воскликнула Минна. -- Да, я уже давно знала, что у него нет тени! И она бросилась в объятия матери, которая в страхе судорожно прижала ее к груди, осыпая упреками за то, что она, себе на горе, скрыла от родителей такую ужасную тайну. Дочь превратилась, подобно Аретузе, в ручей слез, сильнее разливавшийся при звуке моего голоса, а при моем приближении струившийся бурным потоком. -- И вы не побоялись с неслыханной наглостью обмануть ее и меня? -гневно продолжал отец.-- Вы говорите, что любите ее, и в то же время так ее опозорили! Видите, она плачет, она рыдает! Какой ужас! Какой ужас! Я совсем потерял голову и, сам не понимая, что говорю, начал убеждать, что это, в конце концов, тень, всего только тень; можно отлично прожить и без нее и не стоит подымать из-за этого столько шуму. Но я сам чувствовал всю неубедительность своих доводов; я замолчал, а он не удостоил меня даже 290 ответом. Я прибавил только: то, что раз потерял, в другой раз, случается, найдешь. Он в ярости набросился на меня: -- Сознайтесь, сознайтесь, сударь, каким образом вы лишились тени? Мне опять пришлось прибегнуть ко лжи: -- Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать тень в починку, ведь деньги творят чудеса; я надеялся получить ее вчера обратно. -- Так, так, государь мой,--возразил лесничий,--вы сватаете мою дочь, ее сватают и другие. На мне как на отце лежит забота о ней; даю вам три дня сроку. Потрудитесь за это время обзавестись тенью. Если вы за эти три дня явитесь с хорошо пригнанной тенью, милости просим; но на четвертый - будьте покойны - моя дочь станет женой другого. Я было попробовал заговорить с Минной, но она, расплакавшись пуще прежнего, крепче прижалась к матери, и та молча махнула мне рукой,-дескать, идите! Я побрел прочь, и мне казалось, что мир замкнулся у меня за спиной. Скрывшись от надзора любящего Бен-деля, в отчаянии блуждал я по лесам и 291 полям. От страха лоб мой покрылся холодным потом, из груди вырывались глухие стенания, я сходил с ума. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг, очутившись на залитой солнцем поляне, я почувствовал, что кто-то схватил меня за рукав. Я остановился и оглянулся. У меня за спиной стоял человек в сером рединготе, мне даже показалось, будто он запыхался, догоняя меня. Он сейчас же заговорил: -- Я обещал явиться сегодня; вы не могли дождаться условленного времени. Но ничто еще не потеряно; вы послушаетесь доброго совета, выменяете обратно свою тень, которую я предоставлю в ваше распоряжение, и тут же вернетесь туда, откуда пришли. Лесничий примет вас с распростертыми объятиями, все будет объяснено простой шуткой. С Раскалом, который вас выдал и сам сватается к вашей невесте, я и один справлюсь, по нем давно плачет виселица. Я слушал как во сне. -- Вы обещали явиться сегодня? -- Я еще раз прикинул срок. Он был прав: с самого начала я обсчитался на один день. Я нащупал правой рукой кошелек на 292 груди; незнакомец правильно истолковал мое движение и отступил на два шага. -- Нет, господин граф, кошелек в очень хороших руках, оставьте его при себе! Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на него. Он продолжал: -- Взамен тени я прошу пустячок, так, на память: будьте столь любезны, поставьте свою подпись вот под этим листком! На листке пергамента стояли следующие слова: "Завещаю держателю сего мою душу после того, как ока естественным путем разлучится с телом, что собственной подписью и удостоверяю". Онемев от изумления, переводил я взгляд с записки на незнакомца в сером и обратно. Он же тем временем очинил перо, обмакнул его в каплю крови, выступившую у меня на ладони, которую я оцарапал об острый шип, и протянул мне. -- Кто же вы? -- спросил я наконец. -- Не все ли равно? -- отозвался он.--Да разве по мне не видно? Так, из породы лукавых, из тех ученых чудаков и лекарей, которые знают одну радость на свете -- занятия всякой чертовщиной, хотя они и не получают благодарности 293 за те диковинные штучки, что преподносят своим друзьям. Но поставьте же вашу подпись! Вот тут, справа внизу: Петер Шлемиль. Я покачал головой и сказал: -- Простите, милостивый государь, но этогоя не подпишу! -- Не подпишете? -- удивленно повторил он.--А почему? -- Мне кажется в известной мере необдуманным променять душу на собственную тень. -- Так, так, необдуманно! -- повторил он и громко расхохотался мне в лицо. -- А позвольте спросить, что такое ваша душа? Вы ее когда-либо видели? И на кой прах она вам нужна после смерти? Радуйтесь, что нашли любителя, который еще при жизни согласен заплатить за нее чем-то реальным, а именно -вашей телесной тенью, при помощи которой вы можете добиться руки любимой девушки и исполнения всех желаний, за завещание этой неизвестной величины, этого x, этой гальванической силы, или поляризирующего действия, или как вам будет угодно назвать всю эту галиматью. Неужели вы предпочитаете толкнуть в объятия подлого мошенника Раскала бедняжку Минну, такую еще молоденькую? Нет, надо, чтобы вы взглянули на это собственными глазами; идемте, я одолжу 294 вам шапку-невидимку, -- он вытащил что-то из кармана, -- и, скрытые от людских взоров, мы совершим паломничество в сад к лесничему. Должен признаться, мне было очень стыдно, что человек в сером так надо мной измывается. Я ненавидел его всеми силами души, и, думаю, личное отвращение сильнее, чем нравственные устои и предрассудки, удержало меня от выкупа тени -- хоть она и была мне очень нужна -- ценой требуемой подписи. Столь же невыносимо казалось мне предпринять в его обществе предложенную им прогулку. Все мое существо возмущалось при мысли, что между мной и любимой вотрется этот мерзкий пролаза, что этот саркастически улыбающийся демон будет издеваться над нашими истекающими кровью сердцами. Я счел то, что случилось, волей рока, а свою беду неотвратимой и, обратясь к нему, сказал: -- Сударь, я продал вам свою тень за этот весьма превосходный кошелек и потом очень каялся. Если сделку можно расторгнуть, слава богу! Он покачал головой и сразу помрачнел. Я продолжал: -- Ничего больше из того, что мне принадлежит, я вам не продам, даже если вы предложите в уплату мою тень. А значит, ничего не подпишу. Отсюда 295 явствует, что прогулка в шапке-невидимке, на которую вы меня приглашаете, будет не в равной мере увеселительной для вас и для меня. Посему прошу меня извинить, и, раз мы ни к чему не пришли, -- расстанемся! -- Весьма сожалею, мосье Шлемиль, что вы упорно отказываетесь от сделки, которую я вам дружески предлагаю. Возможно, в другой раз я буду счастливее. До скорого свидания! А рropos /Кстати (франц.)./, будьте любезны убедиться, что вещи, которые я покупаю, не плесневеют, -- они у меня в чести и в полной сохранности. Он сейчас же вытащил из кармана мою тень и, ловко бросив ее на поляну, раскатал и расправил на солнечной стороне у своих ног, так что к его услугам оказались две тени -- моя и его собственная, -- между которыми он и шагал, ибо моя тень тоже подчинялась ему и послушно приспосабливалась ко всем его движениям. Когда после столь долгого перерыва я снова увидел бедную мою тень, да притом еще обесчещенную унизительной службой у такого негодяя, в то время как я из-за нее терпел несказанные муки, сердце мое не выдержало, и я горько 296 разрыдался. А он, окаянный, величаясь передо мной похищенной у меня же собственностью, возобновил свое наглое предложение: -- Ничто еще не упущено. Росчерк пера -- и бедная несчастная Минна спасена: из лап негодяя она попадет прямо в объятия уважаемого господина графа! Я уже сказал -- один росчерк пера! Слезы с новой силой брызнули у меня из глаз, но я отвернулся и махнул рукой, чтоб он уходил. Как раз в эту минуту подоспел Бендель, который, беспокоясь обо мне, побежал за мной следом и наконец настиг меня здесь. Когда этот добрый, преданный друг застал меня в слезах, а мою тень, не узнать которую он не мог, во власти неизвестного серого чародея, он тут же решил хотя бы силой вернуть мне мою собственность; но он не умел обращаться с таким деликатным предметом и потому сразу же напустился на серого человека и, не тратя времени на разговоры, приказал ему сию же минуту, не рассуждая, отдать мне мое добро. Но тот вместо ответа повернулся спиной к простодушному парию и пошел прочь, Бендель же взмахнул дубинкой, которая была при нем, и, следуя 297 за ним по пятам, все снова и снова требовал, чтобы он отдал тень, и беспощадно лупил его со всей силы своих жилистых рук. Незнакомец же, словно такое обращение для него дело привычное, втянул голову в плечи, сгорбился и молча, не ускоряя шага, побрел своей дорогой через поляну, уводя за собой и мою тень, и моего верного слугу. И долго еще слышались в этом безлюдье глухие удары, пока наконец не замолкли вдали. Я снова оказался один со своим горем. 6 Оставшись на пустой поляне, я дал волю безудержным рыданиям, стараясь облегчить душу и в слезах излить гнетущую меня тоску. Но я не видел конца, не видел выхода, не видел предела моему безмерному страданию. С мрачной жаждой пил я теперь тот яд, который незнакомец влил мне в рану. Я представил себе Минну, и у меня в душе возник нежный образ любимой, бледной и обливающейся слезами, какой я видел ее в последний раз в минуту моего 298 позора, но тут между ней и мной нагло протискался призрак издевающегося Раскала. Я закрыл лицо и бросился в лес, однако мерзкое видение не отставало, оно преследовало меня, пока наконец я не упал, задыхаясь, на землю, которую оросил новым потоком слез. И все это из-за тени! И чтобы получить эту тень обратно, достаточно росчерка пера. Я задумался над неслыханным предложением и над моим отказом. В голове у меня все спуталось, я не знал, что делать, на что решиться. День клонился к вечеру. Я утолил голод ягодами, жажду -водою из горного потока; настала ночь, я улегся под деревом. Утренняя сырость пробудила меня от тяжкого сна, во время которого я сам слышал свое хриплое, словно предсмертное дыхание. Бендель, видно, потерял мой след, и я был этому рад. Я не хотел возвращаться к людям, от которых бежал в страхе, как пугливый горный зверь. Так прожил я три ужасных дня. Наутро четвертого я очутился на песчаной равнине, ярко освещенной солнцем, и, сидя на обломках скалы, грелся в его лучах. Теперь я радовался солнцу, которого так долго был лишен. Я находил усладу в своей сердечной 299 тоске. Вдруг меня спугнул легкий шорох. Я огляделся вокруг, готовясь тут же убежать, и не увидел никого; но мимо меня по освещенному солнцем песку проскользнула тень человека, похожая на мою, которая, казалось, убежала от своего хозяина и гуляла одна на свободе. Во мне возникло непреодолимое желание. "Тень, -- подумал я,-уж не ищешь ли ты хозяина? Я буду им". И я бросился к тени, чтобы овладеть ею. Я, собственно, думал, что, ежели мне удастся наступить на ее край так, чтобы она очутилась у самых моих ног, она, может быть, к ним прилипнет и со временем привыкнет ко мне. Но, как только я двинулся с места, тень бросилась наутек; я пустился вдогонку за легкой беглянкой, и только мысль, что таким путем я могу вырваться из тяжелого положения, в какое попал, давала мне нужные силы. Тень удирала к лесу, правда, пока еще далекому, и в его сумраке я бы ее, конечно, потерял. Я понял это, страх пронзил мне сердце, воспламенил мое желание, окрылил стопы; я заметно нагонял тень, расстояние между нами все уменьшалось, я уже почти настиг ее. Но тут она вдруг остановилась и 300 обернулась ко мне. Как лев на добычу, одним прыжком, кинулся я на нее -- и неожиданно наткнулся на сильное физическое сопротивление. На меня посыпались удары невидимых, но неслыханно увесистых кулаков. Навряд ли такие тумаки доставались кому-либо из смертных. Обезумев от страха, я судорожно обхватил обеими руками и крепко сжал то невидимое, что стояло передо мной. При этом быстром движении я упал и растянулся на земле; но подо мной лежал на спине человек, который только сейчас стал видимым и которого я не выпускал. Теперь все случившееся получило самое естественное объяснение. Человек, вероятно, раньше нес, а теперь бросил гнездо-невидимку, которое делает невидимым того, кто его держит, но не его тень. Я огляделся вокруг, очень быстро обнаружил тень гнезда-невидимки, вскочил на ноги, подбежал к гнезду и не упустил драгоценную добычу. Я -- невидимый и не имеющий тени -- держал в руках гнездо. Лежавший подо мной человек быстро вскочил, озираясь вокруг в поисках своего счастливого победителя, но он не увидел на открытой солнечной поляне 301 ни его, ни его тени, отсутствие которой его особенно испугало. Ведь он не успел заметить и никак не мог предположить, что я сам по себе лишен тени. Убедившись, что я исчез бесследно, он в страшном отчаянии схватился за голову и стал рвать на себе волосы. Мне же добытое с бою сокровище давало возможность, а вместе с тем и желание снова появиться в кругу людей. У меня не было недостатка в доводах для оправдания в собственных глазах своей вероломной кражи, или, вернее, я не чувствовал в этом необходимости; чтобы подобные мысли и не приходили мне в голову, я поспешил прочь, не оглядываясь на несчастного, испуганный голос которого еще долго доносился до моего слуха. Так, по крайней мере, представлялись мне тогда все обстоятельства этого дела. Я сгорал от нетерпения попасть в сад к лесничему и собственными глазами убедиться, верно ли то, что рассказал мой ненавистник. Но я не знал, где я, и, чтоб осмотреться вокруг, забрался на ближайший холм, с вершины которого увидел лежащий у его подножия городок и сад лесничего. Сердце отчаянно 302 билось, и слезы, но уже иные, чем те, что я проливал до этого, опять выступили у меня на глазах: я снова увижу ее! Страстная тоска гнала меня вниз по ближайшей тропинке. Незамеченный прошел я мимо крестьян, идущих из города. Они говорили обо мне, Раскале и лесничем; я не хотел вслушиваться, я поспешил пройти мимо. Трепеща от ожидания, вошел я в сад, и вдруг словно кто-то захохотал мне навстречу. Я похолодел и огляделся, но не увидел никого. Я пошел дальше, мне почудился какой-то шорох, точно кто-то шагал рядом со мной, но никого не было видно; я по думал, что это обман слуха. Был еще ранний час, в беседке графа Петера -- никого, в саду -- пусто; я быстро прошел по знакомым аллеям к дому. Тот же шорох, но уже более явственный, все время преследовал меня. Со страхом в сердце сел я на скамью, которая стояла на залитой солнцем лужайке против крыльца. Мне померещилось, будто окаянный невидимка хихикнул и сел со мною рядом. В дверях повернули ключ. Дверь отворилась; из дому вышел лесничий с бумагами в руках. Я почувствовал, что голову мою окутало 303 как туманом, и -- о ужас! -- человек в сером сидел рядом и глядел на меня с дьявольской усмешкой. Он натянул свою шапку-невидимку и на меня, у его ног мирно лежали рядом его и моя тень. Человек в сером небрежно вертел в руках уже знакомый мне лист пергамента и, пока занятый своими бумагами лесничий ходил взад и вперед, конфиденциально зашептал мне на ухо: -- Так, значит, вы все же приняли мое приглашение, и теперь мы сидим рядом -- две головы под одной шапкой. Это уже хорошо, да, да, хорошо! Ну а теперь верните мне гнездо; оно вам больше не нужно, вы человек честный и не станете удерживать его силой. Нет, нет, не благодарите, уверяю вас, я одолжил его вам от всего сердца. Он беспрепятственно взял гнездо у меня из рук, положил к себе в карман и снова рассмеялся, да так громко, что лесничий огляделся вокруг. Я словно окаменел. -- Признайтесь, -- продолжал он, -- что такая шапка-невидимка куда как удобна, она закрывает не только самого владельца, но и его тень, да еще столько теней, сколько ему заблагорассудится прихватить. Вот сегодня я опять 304 захватил две. -- Он снова захохотал. -- Заметьте, Шлемиль! Сперва не хочешь добром, а потом волей-неволей согласишься. Я думаю, вы выкупите у меня сей предмет, получите обратно невесту (время еще не упущено), а Раскал будет болтаться на виселице. Пока веревки не перевелись, это для нас дело плевое. Слушайте, я вам в придачу еще и шапку-невидимку дам. Тут из дому вышла мать, и начался разговор. -- Что делает Минна? -- Плачет. -- Глупая девочка! Ведь теперь уж ничего не изменишь! -- Конечно, нет; но так скоро отдать ее другому... Ох, отец, ты жесток к собственному ребенку! -- Нет, мать, ты неправа. Вот выплачет она свои девичьи слезы, увидит, что она жена очень богатого и уважаемого человека, и утешится, позабудет свое горе, как тяжелый сон, и станет благодарить и бога и нас; вот увидишь! -- Дай-то Бог! -- Правда, ей принадлежат теперь очень хорошие поместья, но после того шума, который наделала злополучная история с этим проходимцем, навряд ли скоро представится другая такая же удачная партия, как господин Раскал. 305 Знаешь, какое у него состояние? Он приобрел на шесть миллионов имений в нашем краю, ни одно не заложено, за все заплачено чистоганом. Я все купчие видел! Это он скупал у меня под носом все самое лучшее, да сверх того у него еще в векселях на Томаса Джона около четырех с половиной миллионов. -- Он, верно, много накрал. -- Ну что это ты опять городишь! Он был разумен и копил там, где другие швыряли деньгами. -- Ведь он же служил в лакеях! -- Э, ерунда! Зато у него безукоризненная тень! -- Ты прав, но... Человек в сером засмеялся и посмотрел на меня. Дверь отворилась, и в сад вышла Минна. Она опиралась на руку горничной, тихие слезы катились по ее прекрасным бледным щекам. Минна села в кресло, которое было вынесено для нее под липу, а отец придвинул стул и сел рядом. Он нежно держал Минну за руку и ласково ее уговаривал, а она заливалась горькими слезами. -- Ты у меня добрая, хорошая дочка; будь же умницей, не огорчай старика отца; ведь я хочу тебе счастья. Я, голубка моя, отлично понимаю, как ты потрясена, ты просто чудом избежала несчастья! До тех пор, пока не открылся 306 гнусный обман, ты очень любила этого недостойного человека! Видишь, Минна, я это знаю и не упрекаю тебя. Я сам, деточка, любил его, пока считал знатной особой. Теперь ты видишь, как все переменилось. Подумай только! У каждого самого паршивого пса есть тень, а моя любимая единственная дочь собиралась замуж за... Нет, ты об нем больше не думаешь. Послушай, Минна, за тебя сватается человек, которому незачем бегать от солнца, человек почтенный, не сиятельный, правда, но зато у него десятимиллионное состояние, в десять раз большее, чем у тебя, с -ним моя любимая девочка будет счастлива. Не возражай, не противься, будь доброй, послушной дочкой! Предоставь любящему отцу позаботиться о тебе, осушить твои слезы. Обещай, что отдашь свою руку господину Раскалу! Ну, скажи, обещаешь? Она ответила замирающим голосом: -- У меня не осталось собственной воли, не осталось на этом свете желаний, я поступлю так, как тебе, отец, будет угодно. Тут же было доложено о приходе господина Раскала, который имел наглость приблизиться к ним. Минна лежала в обмороке. Мой ненавистный спутник злобно посмотрел на меня и быстро шепнул: 307 -- И вы это потерпите! Что течет у вас в жилах вместо крови? -Он быстро оцарапал мне ладонь, выступила кровь, он продолжал: -Ишь ты! Красная кровь! Ну, подпишите! У меня в руках очутились пергамент и перо. 7 Я подчиняюсь твоему приговору, любезный Шамис-со, и не буду оправдываться. Сам я уже давно осудил себя на строгую кару, ибо лелеял в сердце своем червя-мучителя. Перед моим умственным взором непрестанно представала картина той роковой минуты в моей жизни, и я мог взирать на нее только с нерешительностью, смирением и раскаянием. Любезный друг, кто по легкомыслию свернет хоть на один шаг с прямого пути, тот незаметно вступит на боковые дорожки, которые уведут его все дальше и дальше в сторону. Напрасно будет он взирать на сверкающие в небе путеводные звезды, у него уже нет выбора: его неудержимо тянет вниз, отдаться в руки Немезиды. После необдуманного, ложного шага, навлекшего на меня проклятие, я совершил 308 преступление, полюбив и вторгшись в судьбу другого человека. Что оставалось мне? Там, где я посеял горе, где от меня ждали быстрого спасения, очертя голову ринуться на спасение? Ибо пробил последний час. Не думай обо мне плохо, Адельберт, поверь, что любая спрошенная цена не показалась бы мне слишком высокой, что я не пожалел бы ничего из принадлежащего мне, как не жалел золота, нет, Адельберт! Но душу мою переполнила непреодолимая ненависть к этому загадочному проныре, пробиравшемуся окольными путями. Возможно, я был несправедлив, но всякое общение с ним возмущало меня. И в данном случае, как уже часто было в моей жизни и во всемирной истории тоже, предусмотренное уступило место случайному. Впоследствии я сам с собой примирился. Я научился серьезно уважать неизбежность и то, что неотъемлемо присуще ей, что важнее предусмотренного действия, -- свершившуюся случайность. Затем я научился также уважать неизбежность как мудрое провидение, направляющее тот огромный действующий механизм, в котором мы только действующие и приводящие в действие колесики; чему суждено 309 свершиться, должно свершиться ; чему суждено было свершиться, свершилось, и не без участия того провидения, которое я наконец научился уважать в моей собственной судьбе и в судьбе тех, кого жизнь связала со мной. Не знаю, чему приписать то, что случилось,-- то ли душевному напряжению под влиянием сильных переживаний, то ли надрыву физических сил, которые за последние дни ослабли от непривычных лишений, то ли, наконец, присутствию серого аспида, близость которого возмущала все мое существо,-короче, когда дело дошло до подписи, я впал в глубокое забытье и долгое время лежал словно в объятиях смерти. Первые звуки, коснувшиеся моего слуха, когда я пришел в себя, были брань и топанье. Я открыл глаза; уже стемнело, мой ненавистный спутник хлопотал около меня и ругался: -- Прямо старая баба какая-то! Ну, быстро, вставайте и делайте все по уговору, или мы передумали и предпочитаем хныкать? Я с трудом поднялся с земли, на которой лежал, и молча огляделся. Был поздний вечер; из ярко освещенного дома лесничего доносилась праздничная музыка, по аллеям сада группами гуляли гости. Двое подошли ближе и, 310 продолжая беседу, сели на скамью, где до того сидел я. Они говорили о состоявшейся сегодня утром свадьбе богача Раскала с дочерью лесничего. Итак, свершилось... Я скинул с головы шапку-невидимку, -- с ней вместе исчез и незнакомец, -- и, углубившись в темноту кустов, молча поспешил по дорожке, ведущей мимо беседки графа Петера к выходу из сада. Но мой незримый мучитель не отставал от меня ни на шаг, преследуя едкими насмешками: -- Так вот она, благодарность за то, что я весь день провозился с таким слабонервным субъектом. А теперь, значит, остаюсь в дураках. Ладно же, господин упрямец, спасайтесь себе на здоровье, мы с вами все равно неразлучны! У вас мое золото, а у меня ваша тень; вот мы оба и не можем никак успокоиться. Где же это слыхано, чтобы тень отстала от своего хозяина? Ваша тень будет всюду таскать меня за вами, пока вы не смилуетесь и не соблаговолите взять ее обратно, -- только тогда я с ней развяжусь. Смотрите, потом спохватитесь, да уж поздно будет. И от докуки и омерзения сделаете то, что не удосужились сделать по доброй воле, -- от судьбы не уйдешь! 311 Он продолжал все в том же духе; напрасно я думал спастись бегством, он не отставал ни на минуту и с издевкой твердил о золоте и теки. У меня в голове не было ни одной мысли. Я шел, выбирая безлюдные улицы. Очутившись перед своим домом, я с трудом узнал его: за разбитыми окнами нет света, двери на запоре, в доме не слышно челяди. Человек в сером громко захохотал над самым моим ухом. -- Да, да, да, вот до чего дело дошло! Но ваш Бен-дель, должно быть, здесь; о нем позаботились: отправили домой в очень жалком виде, он, верно, никуда не выходит! -- Он снова рассмеялся.-- Да, ему есть что порассказать! Ну, так и быть! На сегодня хватит. Покойной ночи, до скорого свидания! Я позвонил несколько раз; мелькнул свет; Бендель, стоя за дверью, спросил, кто звонит. Узнав меня по голосу, добрый малый едва мог сдержать свою радость; дверь распахнулась, мы, рыдая, кинулись друг другу в объятия. Он очень изменился, казался больным, осунулся. А я совсем поседел. Бендель провел меня через опустошенные комнаты в далекий нетронутый покой; принес поесть и попить. Мы сели за стол, и он снова расплакался. Он 312 рассказал, что так далеко преследовал и так долго лупил одетого в серое сухопарого человека, которого застал с моей тенью, что в конце концов потерял мой след и, совсем обессилев, свалился на землю, что затем, отчаявшись найти меня, вернулся домой, куда вскоре ворвалась наусь-канная Раскалом чернь, разбила окна и удовлетворила свою жажду благодетелю. Вся челядь разбежалась. разрушения. Так отплатила она своему Местная полиция запретила мне как лицу неблагонадежному пребывание в городе и приказала в двадцать четыре часа покинуть его пределы. Бендель добавил еще многое к тому, что было уже мне известно о богатстве и бракосочетании Раскала. Этот негодяй, от которого исходила поднятая-против меня травля, должно быть, с самого начала узнал мою тайну; привлеченный, надо думать, золотом, он ловко втерся ко мне в доверие и с первых же дней подобрал ключ к денежному шкафу, что и положило основу его состояния, приумножением которого он мог теперь пренебречь. Все это поведал мне Бендель, сопровождая свои слова обильными слезами, 313 потом он плакал уже от радости, ибо после того, как долго мучился неведением, где я, снова видел меня, снова был со мной и убедился, что я спокоен и твердо переношу свое несчастье; да, мое отчаяние приняло теперь такую форму. Мое горе представлялось мне огромным, я выплакал все свои слезы. Больше оно уже не могло непоправимым; плача над ним, исторгнуть из моей груди ни единого стона, холодно и равнодушно подставлял я ему свою беззащитную голову. -- Бендель, -- сказал я, -- ты знаешь мой жребий. Тяжкое наказание постигло меня за прежнюю вину. Не надо тебе, человеку безвинному, и впредь связывать свою судьбу с моей; я этого не хочу. Я уеду сегодня в ночь, оседлай мне лошадь; я поеду один. Ты останешься здесь, такова моя воля. Тут должны быть еще несколько ящиков с золотом, возьми их себе! Я один буду скитаться по белу свету; но если для меня снова наступит радостная пора и счастье мне милостиво улыбнется, я вспомню тебя, ибо в тяжелые, печальные часы я плакал на твоей верной груди. С болью в сердце повиновался честный слуга этому последнему, повергшему 314 его в страх приказанию своего господина. Я остался глух к его мольбам и уговорам, слеп к его слезам. Он подвел мне лошадь. Я еще раз прижал обливавшегося слезами Бенделя к груди, вскочил в седло и под покровом ночи удалился от места, где похоронил свою жизнь, не заботясь, куда помчит меня конь, -- ведь на земле у меня не осталось ни цели, ни желания, ни надежды. 8 Вскоре ко мне присоединился пешеход, который, прошагав некоторое время рядом с моей лошадью, -- нам, видно, было по пути, -- попросил разрешения положить сзади на седло свои пожитки; я молча согласился. Он поблагодарил, не придавая большого значения такой как будто бы не особо значительной услуге, похвалил мою лошадь и, воспользовавшись этим, стал превозносить счастье и могущество богачей, а затем незаметно завел своего рода разговор, в котором я принимал участие только в качестве слушателя. Он пространно изложил свое мировоззрение и очень скоро дошел до 315 метафизики, к которой-де предъявлено требование найти слово, разрешающее все загадки. Он чрезвычайно отчетливо разъяснил эту задачу и перешел к ответу на нее. Тебе, мой друг, известно, что, побывав в выучке у философов, я твердо убедился в своей полной непригодности к умозрительным философским рассуждениям и решительно отрекся от этого поприща. С тех пор я до многого перестал докапываться, многое отказался постигнуть и понять и, следуя твоему же совету, доверился здравому смыслу, своему внутреннему голосу и, насколько это было в моих силах, шел своим путем. Так вот, мне показалось, что сей краснобай с большим мастерством возводит крепко сколоченное здание, которое, будучи в себе самом обосновано, возносится ввысь и стоит в силу внутренней необходимости. Но я не видел в нем как раз того, что хотел бы найти, и поэтому для меня это здание было просто художественным произведением, изящная гармония и совершенство которого радуют только глаз. Тем не менее я с удовольствием слушал своего красноречивого спутника, отвлекшего меня от 316 грустных мыслей и овладевшего моим вниманием, и он легко покорил бы меня, если бы обращался не только к моему разуму, но и к сердцу. Меж тем время шло, и я не заметил, как посветлело от утренней зари небо. Я обмер, когда поднял глаза и вдруг увидел, что восток окрасился великолепным пурпуром, возвещавшим скорый восход солнца. Я понял, что в час, когда тени, отбрасываемые предметами, красуются во всей своей длине, мне некуда укрыться здесь, на открытом месте, негде найти убежище! А я был не один. Я взглянул на своего спутника и снова обмер. Это был человек в сером. Он засмеялся, увидя мое смущение, и продолжал, не дав мне вымолвить ни слова: -- Пускай наша взаимная выгода на время нас свяжет, как это обычно бывает на свете! Расстаться мы всегда успеем. Вот эта дорога вдоль гор -- по этой же дороге поспешаю и я -- единственная, по которой, здраво рассуждая, вам следует ехать, хотя сами вы до этого не додумались; вниз, в долину, вам нельзя, а тем паче назад, через горы, туда, откуда вы прибыли. Я вижу, что восход солнца вас пугает; так и быть, я одолжу вам вашу тень на то время, 317 что мы вместе, но зато вам придется примириться с моим обществом. Бенделя при вас нет, можете воспользоваться моими услугами. Вы меня не любите, очень жаль. Все же я могу вам пригодиться. Черт не так страшен, как его малюют. Вчера вы меня, правда, разозлили; сегодня я уже обиды не помню, я помог вам скоротать время в пути, это вы должны признать. Хотите на время получить обратно свою тень? Солнце взошло, по дороге навстречу нам шли люди. Я принял предложение, хотя и с неудовольствием. Усмехнувшись, опустил он на землю мою тень, которая тут же уселась на тень лошади и весело затрусила рядом со мной. На душе у меня было смутно. Я проехал мимо группы крестьян, они, почтительно сняв шапки, дали дорогу состоятельному человеку. Я поехал дальше, с бьющимся сердцем, жадным оком косясь на тень, некогда принадлежавшую мне, а теперь, полученную напрокат от постороннего, мало того -- от врага. А он беззаботно шагал рядом и насвистывал песенку. Он шел пешком, я ехал на лошади! У меня закружилась голова, искушение было слишком велико. Я дернул за повод, пришпорил коня и пустил его галопом по проселочной дороге. 318 Но я не увез тени, при повороте на проселок она соскользнула с лошади и стала дожидаться на большаке своего законного хозяина. Пристыженный, повернул я обратно; человек в сером, спокойно досвистав свою песенку, высмеял меня, снова посадил мою тень на место и назидательно заметил, что она только тогда накрепко ко мне прирастет и уже не отстанет, когда снова перейдет в мое законное владение. -- Я крепко держу вас за вашу тень, -- закончил он. -- И вам от меня не уйти! Такому богачу, как вы, тень необходима, тут ничего не поделаешь. За одно только вас следует пожурить -- за то, что вы не сообразили этого раньше. Я продолжал свой путь по большой дороге. И комфорт и даже роскошь снова были к моим услугам. Я мог свободно и легко передвигаться -- ведь у меня была тень, правда, данная во временное пользование, -- и повсюду я встречал уважение, которое внушает всем богатство, но в душе у меня была смерть. Мой удивительный спутник, выдававший себя за скромного слугу самого богатого человека на свете, был очень услужлив, бесконечно умел и ловок, -можно 319 сказать, квинтэссенция камердинера богатого человека, -- но он ни на шаг не отходил от меня и все время убеждал, непрестанно высказывая твердую уверенность, что я наконец соглашусь на выкуп тени, хотя бы только ради того, чтобы развязаться с ним. Мне он был столь же противен, сколь и ненавистен. Он внушал мне страх: теперь, вернув меня к наслаждениям жизни, от которых я бежал, он крепко взял меня в руки. Мне приходилось терпеть его болтовню, и я даже чувствовал, что он как будто прав. Богатому человеку без тени никак нельзя, и коль скоро я хочу сохранить свое положение, которым с его легкой руки я опять начал пользоваться, для меня возможен лишь этот выход. Одно только я твердо решил: после того как я пожертвовал своей любовью, после того как жизнь для меня померкла, я не хотел продавать свою душу этой погани даже за все тени на свете. Я не знал, чем все это кончится. Однажды мы сидели у входа в пещеру, которую обычно осматривают иностранцы, путешествующие в здешних горах. Сюда из бесконечной глубины доносится гул подземных потоков, и шум от брошенного вниз камня замирает 320 раньше, чем камень достигнет дна. С богатой фантазией человек в сером рисовал, как уже не раз прежде, в самых ярких красках чарующие, соблазнительные, тщательно обдуманные картины того, чего я могу достигнуть при помощи моего кошелька, разумеется, если опять буду собственной тенью. Опершись локтями о колени и закрыв лицо распоряжаться руками, я слушал лукавого, и сердце мое разрывалось между соблазном и твердой волей. Пребывать дольше в таком раздвоенном настроении я был не в силах и решил дать окончательный бой. -- Вы, сударь, как будто запамятовали, что я вам, правда, разрешил сопровождать меня на определенных условиях, но сохранил за собой полную свободу действий. -- Если прикажете, я сейчас же заберу свое имущество. Он часто прибегал к такой угрозе. Я молчал; он тут же принялся скатывать мою тень. Я побледнел, но был нем и не препятствовал его занятию. Последовала длительная пауза. Он заговорил первый: -- Вы меня не выносите, сударь, ненавидите, я знаю; но за что вы меня 321 ненавидите? Уж не за то ли, что напали на меня среди бела дня и хотели силой отнять гнездо? Или за то, что пытались воровски похитить мое добро -- тень, доверенную, как вы полагали, вашей честности? Что касается меня, я вас за это не ненавижу; я нахожу вполне естественным, что вы стараетесь воспользоваться всеми своими преимуществами, хитростью и силой. Против вашего пристрастия к самым строгим правилам и неподкупной честности я тоже ничего не имею. Я, правда, не столь щепетилен: я просто действую так, как вы думаете. Разве был такой случай, чтобы я брал вас за горло, желая прикарманить вашу дражайшую тень, которую мне так хотелось заполучить? Или, может быть, я напустил на вас моего слугу за выменянным вами у меня кошельком или попробовал с ним удрать? Мне нечего было возразить. Он продолжал: -- Будь по-вашему, сударь, будь по-вашему! Вы меня терпеть не можете, я понимаю и не сержусь. Нам надо расстаться. Это ясно, и вы тоже уже порядком мне надоели. Итак, чтобы окончательно избавиться от моего стесняющего вас присутствия, еще раз советую вам: выкупите у меня сей предмет! Я протянул кошелек: 322 -- Вот этой ценой! ' -- Нет! Я тяжело вздохнул и сказал: -- Ну что ж! Я настаиваю на своем, сударь! Расстанемся; не становитесь мне поперек дороги, надеюсь, что на земле хватит места нам обоим. Он усмехнулся и ответил: -- Я ухожу, сударь! Но предварительно я научу вас, каким звоночком мне позвонить, ежели вам когда придет охота повидать вашего покорнейшего слугу: встряхните кошельком -- и все, чтобы звякнули неразменные червонцы, на этот звук я являюсь моментально. Здесь, на земле, каждый заботится о своей выгоде, я, как вы видите, забочусь также и о вашей, ведь я, несомненно, даю вам в руки новую власть! Ох, какой это кошелек! Даже если бы вашу тень уже съела моль, при помощи кошелька вы крепко связаны со мной. Словом, вы держите меня за мое золото. Даже издали вы можете распоряжаться вашим слугой. Вы знаете, что я могу оказывать большие услуги моим друзьям и что с богатыми у меня особенно хорошие отношения; вы сами это видели, но вашу тень, сударь,-- запомните это раз и навсегда! -- вы можете получить обратно только при одном-единственном условии! 323 Перед моим умственным взором возникли образы прошлого. Я быстро спросил: -- Господин Джон дал вам расписку? Он усмехнулся: -- С ним мы такие друзья, что этого не потребовалось. -- Где он? Ради бога, мне надо знать! Он нерешительно сунул руку в карман и вытащил за волосы Томаса Джона, побледневшего, осунувшегося, с синими, как у покойника, губами, шептавшего: justo judicio dei judicatus sum; justo judicio dei condemnatus sum" /"Праведным судом божиим я был судим; праведным судом божиим я осужден" (лат.)/. Я ужаснулся и, быстро швырнув звенящий кошелек в пропасть, обратился к моему спутнику с последним словом: -- Заклинаю тебя именем Господа Бога, сгинь, окаянный, и никогда больше не появляйся мне на глаза! Он мрачно поднялся с места и сейчас же исчез за скалами, окаймлявшими заросшую густым кустарником местность. 9 Я остался без тени и без денег, но с души у меня свалилось тяжелое 324 бремя, я был весел. Если бы я не потерял также и любовь или если бы не чувствовал, что потерял ее по собственной вине, я думаю, я мог бы даже быть счастлив. Но я не знал, что мне делать. Я обшарил все карманы и нашел несколько золотых; пересчитал их и рассмеялся. Внизу, в гостинице, я оставил лошадей. Вернуться туда я стеснялся, во всяком случае, надо было подождать, пока зайдет солнце; оно стояло еще высоко в небе. Я лег в тени ближайших деревьев и заснул спокойным сном. В приятном сновидении сплетались в воздушные хороводы любезные моему сердцу образы. Вот пронеслась, ласково улыбаясь, Минна с венком на голове, вот честный Бендель, тоже увенчанный цветами, радостно поклонился мне и исчез. Я видел еще многих друзей, толпившихся в отдалении, и, помнится, тебя тоже, Ша-миссо. Все было залито светом, но ни у кого не было тени, и, как ни странно, это выглядело совсем неплохо -- цветы, песни, любовь и веселье под сенью пальмовых рощ. Я не мог удержать эти колеблющиеся, быстро уплывающие милые образы, не мог точно определить, кто они, но я знаю, что сон был 325 приятен, и я боялся пробуждения; на самом деле я уже проснулся, но не открывал глаз, стараясь подольше удержать в душе исчезающие видения. Наконец я открыл глаза. Солнце еще стояло на небе, но на востоке: я проспал ночь. Я воспринял это как указание, что мне не следует возвращаться в гостиницу. С легким сердцем отказался я от всех пожитков, что оставил там, и решил, отдавшись на волю судьбы, пешком отправиться по проселочной дороге, вившейся у подножия поросших лесом гор. Я не оглядывался назад и не думал также обращаться к богатому теперь Бен-делю, хотя, конечно, мог это сделать. Я видел себя в той новой роли, которую мне отныне предстояло играть: одет я был более чем скромно. На мне была старая черная венгерка, еще берлинской поры, почему-то снова попавшая мне под руку как раз во время данного путешествия. На голове была дорожная шапка, на ногах -- старые сапоги. Я встал, срезал на память суковатую палку и тут же отправился в путь. В лесу мне повстречался старик, который ласково со мной поздоровался и вступил в разговор. Как любознательный путник, я расспросил прежде всего про 326 дорогу, затем про здешний край и жителей, про богатство здешних гор и еще кое о чем в том же роде. Он разумно и словоохотливо отвечал на мои расспросы. Мы дошли до русла горного потока, который опустошил целую полосу леса. Я внутренне содрогнулся, когда передо мной открылось ярко освещенное солнцем пространство. Я пропустил крестьянина вперед. Но он остановился на самой середине этого опасного места и обернулся, чтобы рассказать мне, как случилось такое опустошение. Он тут же заметил, чего мне недостает, и сразу осекся: -- Да как же это так?У вас, сударь, нет тени! -- К сожалению, да! -- со вздохом сказал я.-- Во время тяжелой болезни я потерял волосы, ногти и тень. Вот, взгляните, папаша, в моем возрасте новые волосы у меня седые, ногти -- короткие, а тень до сих пор никак не вырастет. -- Ишь ты, -- покачал головою старик. -- Без тени ой как скверно! Должно быть, вы, сударь, очень скверной болезнью болели. Но он не продолжал своего рассказа и на первом же перекрестке, не сказав ни слова, покинул меня. Горькие слезы снова выступили у меня на 327 глазах, и бодрости как не бывало. С печалью в сердце продолжал я свой путь. Я потерял охоту встречаться с людьми и углубился в самую чащу леса, а если мне случалось пересекать пространство, освещенное солнцем, я часами выжидал, чтобы не попасться на глаза человеку. По вечерам я искал пристанища где-нибудь в деревне. Собственно, я держал путь на горные рудники, где рассчитывал наняться на работу под землей: я понял, что только напряженная работа может спасти меня от гнетущих мыслей, не говоря уже о том, что в моем теперешнем положении мне приходилось заботиться о пропитании. Несколько дождливых дней благоприятствовали моему путешествию, но зато пострадали мои сапоги, подметки коих были рассчитаны на графа Петера, а не на пехотного солдата. Я шел уже босиком. Пришлось приобретать новые сапоги. На следующее утро я всерьез занялся этим делом в местечке, где была ярмарка и где в одной лавке была выставлена на продажу подержанная и новая обувь. Я долго выбирал и торговался. От новых сапог пришлось отказаться, хотя мне этого и не хотелось. Меня отпугнула их цена, которую никак нельзя было 328 назвать сходной. Итак, я удовольствовался старыми, но еще хорошими и крепкими сапогами, которые с приветливой улыбкой и пожеланием счастливой дороги вручил мне за наличные смазливый белокурый паренек, торговавший в лавке. Я тут же надел их и через Северные ворота вышел из городка. Я был погружен в свои мысли и не замечал, где я шагаю, потому что думал о рудниках, куда надеялся попасть сегодня к вечеру, и не знал, кем там назваться. Я не сделал еще и двухсот шагов, как заметил, что сбился с пути; я стал искать дорогу: я был в глухом вековом бору, которого, верно, никогда не касался топор. Я прошел еще несколько шагов и очутился среди диких скал, поросших только мхом и камнеломками и окруженных снежными и ледяными полями. Было очень холодно, я оглянулся: лес позади меня исчез. Я сделал еще несколько шагов -- вокруг царила мертвая тишина, под ногами у меня был лед; повсюду, насколько хватал глаз, простирался лед, над которым навис тяжелый туман; солнце кровавым пятном стояло на горизонте. Холод был невыносимый. Я не понимал, что со мной творится. Лютый мороз побудил меня ускорить шаг; я 329 слышал только далекий гул воды, еще шаг -- и я очутился на ледяном берегу какого-то океана. Бесчисленные стада тюленей бросились от меня в воду. Я пошел вдоль берега; опять я увидел голые скалы, поля, березовые рощи и еловые леса. Я пробежал еще несколько минут, стало невыносимо жарко; я огляделся: я стоял среди хорошо обработанных рисовых полей и тутовых деревьев; я присел в их тени; посмотрел на часы, не прошло и четверти часа, как я оставил местечко, где была ярмарка, -- мне показалось, что я сплю и вижу сон; чтобы проснуться, я укусил себя за язык; но я действительно бодрствовал. Я закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. И вдруг я услышал, как кто-то рядом гнусаво произносит непонятные слоги. Я открыл глаза: два китайца, которых нельзя было не узнать по азиатскому складу лица, даже если бы я не придал значения их одежде, обращались ко мне на своем языке, приветствуя меня по местному обычаю. Я встал и отступил на два шага. Китайцы исчезли, весь ландшафт резко изменился: вместо рисовых полей -деревья, леса. Я смотрел на деревья-и цветущие травы: те, которые были мне 330 известны, принадлежали к растениям, произрастающим на юго- востоке Азии. Я хотел подойти к одному дереву, шаг -- и опять все изменилось. Теперь я зашагал медленно и размеренно, как новобранец, которого обучают шагистике. Перед моим удивленным взором мелькали все время словно чудом сменявшие друг друга луга, нивы, долины, горы, степи, песчаные пустыни. Сомнения быть не могло: на ногах у меня были семимильные сапоги. 10 В немой молитве, проливая благодарственные слезы, упал я на колени, ибо передо мной вдруг ясно предстала моя будущая судьба. За проступок, совершенный в молодые годы, я отлучен от человеческого общества, но в возмещение приведен к издавна любимой мною природе ; отныне земля для меня -- роскошный сад, изучение ее даст мне силы и направит мою жизнь, цель которой -- наука. Это не было принятым мною решением. Просто с этой поры я смиренно, упорно, с неугасимым усердием трудился, стремясь передать другим 331 то, что в ясном и совершенном первообразе видел своим внутренним оком, и бывал доволен, когда переданное мною совпадало с первообразом. Я поднялся и, не страшась, обвел взглядом то поле, на котором собирался отныне пожинать урожай. Я стоял на вершинах Тибета, и солнце, восход которого я видел несколько часов тому назад, здесь уже клонилось к закату. Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. Пройдя Египет, где я дивился на пирамиды и храмы, я увидел в пустыне, неподалеку от стовратных Фив. пещеры, в которых спасались христианские отшельники. И вдруг для меня стало ясно и несомненно: здесь мой дом. Я выбрал себе для жилья самую скрытую и в то же время поместительную, удобную и недоступную шакалам пещеру и продолжал свой путь. У Геркулесовых столпов я шагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды перешагнул в Гренландию и Америку, пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север. 332 Я подождал, пока в Восточной Азии рассветет, и, отдохнув, двинулся дальше. Я шел через обе Америки по горной цепи, в которой расположены высшие известные нам точки земного шара. Медленно и осторожно ступал я с вершины на вершину, через пышущие огнем вулканы и снежные пики, часто дыша с трудом; я дошел до горы Св. Ильи и через Берингов пролив перепрыгнул в Азию. Оттуда я двинулся по ее восточному, очень изрезанному побережью, особенно тщательно обдумывая, какие из расположенных там островов могут быть мне доступны. С полуострова Малакка мои сапоги перенесли меня на Суматру, Яву, Бали и Ломбок. Я попытался, не раз подвергаясь опасности и все же безуспешно, проложить себе путь на северо-запад, на Борнео и другие острова того же архипелага, через мелкие острова и рифы, которыми ощетинилось здесь море. Я должен был отказаться от этой надежды. Наконец я уселся на крайней оконечности Ломбока и заплакал, глядя на юг и восток, ибо почувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы -- слишком скоро я обнаружил положенный мне предел. Чудесная Новая Голландия, столь существенно необходимая для познания 333 земли и ее сотканного солнцем покрова -- растительного и животного мира, и Индийский океан с его Коралловыми островами были мне недоступны, и, значит, уже с самого начала все, что я соберу и создам, обречено остаться только отрывочными знаниями. О Адельберт, как тщетны усилия человека! Часто, когда в южном полушарии свирепствовала лютая зима, пытался я пройти от мыса Горн через полярные льды на запад те двести шагов, которые отделяли меня от Земли Вандимена и Новой Голландии, не думая об обратном пути, пусть даже мне суждено было найти здесь могилу, с безумной отвагой отчаяния перепрыгивал я с одной дрейфующей льдины на другую, не отступая перед стужей и морем. Напрасно -- я все еще не попал в Новую Голландию! Всякий раз я возвращался обратно на Ломбок, садился там на край мыса и снова плакал, глядя на юг и восток, ибо чувствовал себя как за крепкой решеткой тюрьмы. Наконец я все же покинул этот остров и с грустью в сердце вступил в Азиатский континент; затем, догоняя утреннюю зарю, прошел всю Азию на запад и еще ночью вернулся домой, в Фиваиду, где был накануне вечером. 334 Я немного отдохнул, но, как только над Европой взошло солнце, сейчас же озаботился приобретением всего необходимого. Прежде всего мне нужна была тормозящая обувь,-- ведь я на собственной шкуре испытал, как неудобно, чтобы сократить шаги, разуваться всякий раз, когда хочешь не спеша рассмотреть близкий объект. Пара туфель поверх сапог вполне оправдала мои ожидания. Впоследствии я всегда брал с собой две пары, потому что часто сбрасывал туфли с ног и не успевал подобрать, когда люди, львы или гиены вспугивали меня во время собирания растений. Прекрасные часы на короткое время моих путешествий вполне заменяли мне отличный хронометр. Мне не хватало еще секстанта, нескольких физических приборов и книг. Чтобы обзавестись всем этим, мне пришлось со страхом в сердце совершить несколько прогулок в Лондон и Париж, к счастью, как раз окутанные благоприятствовавшим мне туманом. Когда остатки волшебного золота были исчерпаны, я стал расплачиваться слоновой костью, которую нетрудно было раздобыть в Африке, причем я, конечно, выбирал самые маленькие клыки, 335 сообразуясь со своими силами. Вскоре я был хорошо снаряжен и всем обеспечен и, не откладывая, начал новую жизнь не связанного службой ученого. Я бродил по земле, то измеряя ее высоты, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения. Я спешил от экватора4 к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытным путем сведения. Пищей мне обычно служили яйца африканского страуса или северных морских птиц и плоды, преимущественно тропических пальм и бананов. Недостающее счастье в какой-то мере заменяла никотиана, а человеческое участие и близость -- любовь верного пуделя, который охранял мою фиваидскую пещеру и, когда я возвращался домой, нагруженный новыми сокровищами, радостно выбегал навстречу и по-человечески давал мне почувствовать, что я не одинок на земле. Но мне еще суждено было снова встретиться с людьми. 11 Однажды, когда я, затормозив свои сапоги, собирал на побережье Арктики лишайники и водоросли, навстречу мне из-за скалы неожиданно вышел белый 336 медведь. Сбросив туфли, я хотел шагнуть на торчащий из моря голый утес, а оттуда на расположенный напротив остров. Я твердо ступил одной ногой на камень и будтыхнулся по другую его сторону в море, не заметив, что скинул туфлю только с одной ноги. Меня охватил ледяной холод, с трудом удалось мне спастись; как только я добрался до суши, я во весь опор помчался в Ливийскую пустыню, чтоб обсушиться на солнышке. Но оно светило во все лопатки и так напекло мне голову, что я, совсем больной, чуть держась на ногах, опять понесся на север. Я пытался найти облегчение в стремительном беге и, неуверенно, но быстро шагая, метался с запада на восток и с востока на запад. Я попадал то в ясный день, то в темную ночь, то в летний зной, то в зимнюю стужу. Не помню, как долго скитался я так по земле. Тело мое сжигала лихорадка; в страхе чувствовал я, что сознание покидает меня. К несчастью еще, мечась наобум, я имел неосторожность наступить кому-то на ногу. Вероятно, ему было больно. Я почувствовал сильный толчок и упал наземь. Когда я пришел в себя, я удобно лежал на хорошей постели, стоявшей 337 вместе с другими постелями в просторной и красивой палате. Кто-то сидел у моего изголовья. От кровати к кровати ходили какие-то люди. Они подошли ближе и заговорили обо мне. Меня они называли "Номер двенадцатый", а на стене, в ногах кровати,-- нет я был уверен, что не ошибаюсь,-- на черной мраморной доске большими золотыми буквами было совершенно правильно написано мое имя: Петер Шлемиль. На доске под моей фамилией стояли еиде две строчки, но я слишком ослаб и не мог их разобрать. Я снова закрыл глаза. Я слушал, как кто-то громко и явственно что-то читает, как упоминается Петер Шлемиль, но смысл уловить не мог. К моей кровати подошел приветливый господин с очень красивой дамой в черном платье. Их облик был мне знаком, но припомнить, кто это, я не мог. Прошло некоторое время, силы опять вернулись ко мне. "Номер двенадцать" -- это был я. Из-за длинной бороды "Номер двенадцать" был сочтен за еврея, однако от этого уход за ним был не менее заботлив, чем за другими. Казалось, никто не заметил, что у него нет тени. Мои сапоги вместе со всем, что было 338 при мне, когда я сюда попал, находятся, как меня уверили, в полной сохранности и будут мне возвращены, когда я поправлюсь. Место, где я лежал, называлось "Шлемилиум"; то, что ежедневно читалось о Петере Шлемиле, было напоминанием и просьбой молиться за него, как за основателя и благодетеля данного учреждения. Приветливый господин, которого я видел у своей постели, был Бендель, красивая дама -- Минна. Я поправлялся в Шлемилиуме, никем не узнанный, и услышал еще следующее: я находился в родном городе Бенделя, в больнице моего имени, которую он основал на остаток моих проклятых денег, но здесь больные меня не кляли, а благословляли; Бендель же и управлял больницей. Минна овдовела; неудачно окончившийся процесс стоил господину Раскалу жизни, ей же пришлось поплатиться почти всем своим состоянием. Ее родителей уже не было в живых. Она вела жизнь богобоязненной вдовы и занималась делами благотворительности. Раз, стоя у постели "Номера двенадцатого", она разговаривала с Бенделем. -- Почему, сударыня, вы так часто рискуете здоровьем, подолгу дыша 339 здешним вредным воздухом? Неужели судьба так к вам жестока, что вы ищете смерти? -- Нет, господин Бендель, с той поры, как я доглядела мой страшный сон и проснулась, у меня на душе хорошо, с той поры я уж не хочу смерти и не боюсь умереть. С той поры я светло смотрю на прошлое и будущее. Ведь вы тоже, выполняя такое богоугодное дело, служите теперь вашему господину и другу со спокойной сердечной радостью. -- Слава богу, да, сударыня, и как же все удивительно получилось; мы, не задумываясь, пили из полной чаши и радость и горе -- и вот чаша пуста; невольно думается, что все это было только испытанием, и теперь, вооружившись мудрой рассудительностью, надо ожидать истинного начала. Это истинное начало должно быть совсем иным,и не хочется возврата того, первого, и все же, в общем, хорошо, что пережито то, что пережито. К тому же у меня какая-то внутренняя уверенность, что нашему старому другу сейчас живется лучше, чем тогда. -- И у меня тоже, -- согласилась красавица вдова, и оба прошли дальше. 340 Их разговор произвел на меня глубокое впечатление. Но в душе я колебался, открыться ли им или уйти, не открывшись. И я пришел к определенному решению. Я попросил бумаги и карандаш и написал: "Вашему старому другу тоже живется сейчас лучше, чем тогда, и если он искупает сейчас свою вину, то это очистительное искупление". Затем я попросил дать мне одеться, так как чувствовал себя значительно крепче. Мне принесли ключ от шкафчика, стоявшего возле моей постели. Там я нашел все свое имущество. Я оделся, повесил через плечо поверх черной венгерки ботанизирку, в которой с радостью обнаружил собранный мною на севере лишайник, натянул сапоги, положил записку на кровать, и не успела открыться дверь, как я уже шагал в Фиваиду. И вот, когда я шел вдоль Сирийского побережья, по той самой дороге, по которой в последний раз отправился из дому, я увидел моего бедного Фигаро, бежавшего мне навстречу. Верный пудель, заждавшись хозяина, должно быть, отправился его разыскивать. Я остановился и кликнул Фигаро. Он с лаем кинулся ко мне, бурно проявляя свою бескорыстную, трогательную радость. Я 341 подхватил его под мышку, потому что он не поспел бы за мной. И вместе с ним возвратился в свою пещеру. Там я нашел все в порядке и постепенно, по мере того как крепли силы, вернулся к своим прежним занятиям и к прежнему образу жизни. Только целый год избегал совершенно невыносимых теперь для меня полярных холодов. Итак, любезный Шамиссо, я жив еще и по сей день. Сапоги мои не знают износу, хотя сперва я очень опасался за их прочность, принимая во внимание весьма ученый труд знаменитого Тикиуса "De rebus gestis Polocilli" /"О деяниях Мальчика с пальчик" (лат.)/. Сила их неизменна; а вот мои силы идут на убыль, но я утешаюсь тем, что потратил их не зря и для определенной цели: насколько хватало прыти у моих сапог, я основательнее других людей изучал землю, ее очертания, вершины, температуру, климатические изменения, явления земного магнетизма, жизнь на земле, особенно жизнь растительного царства. С возможной точностью в ясной системе я установил в своих работах факты, а выводы и взгляды бегло изложил в нескольких статьях. Особенное значение я 342 придаю своим исследованиям земного магнетизма. Я изучил географию Центральной Африки и Арктики, Средней Азии и ее восточного побережья. Моя "Historia stirpium plantarum utriusque orbis" /"История видов растений Старого и Нового Света" (лат.)/ является значительной частью моей же "Flora universalis terrae" /"Вся флора земного шара" (лат.)/ и одним из звеньев моей "Systema naturae" / Система природы" (лат.)/. Я полагаю, что не только увеличил, скромно говоря, больше чем на треть число известных видов, но, кроме того, внес свой вклад в дело изучения естественной истории и географии растений. Сейчас я усердно тружусь над фауной. Я позабочусь, чтобы еще до моей смерти мои рукописи были пересланы в Берлинский университет. А тебе, любезный Шамиссо, я завещаю удивительную историю своей жизни, дабы, когда я уже покину сей мир, она могла послужить людям полезным назиданием. Ты же, любезный друг, если хочешь жить среди людей, запомни, что прежде всего -тень, а уж затем -- деньги. Если же ты хочешь жить для самоусовершенствования, для лучшей части своего "я", тогда тебе не нужны никакие советы. 343 В. Ф. Одоевский. Город без имени В пространных равнинах Верхней Канады, на берегах оружий, пустынных Ореяоко, находятся остатки зданий, бронзовых произведения что некогда скульптуры, которые свидетельствуют, просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов. Гумболъд. Vues des Cordilleses (Виды Кордильерой (франц.)). Т. 1 Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски... Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем черному человеку, а в околодко говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя. Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе. Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука 344 природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых юные местах деревья, обманутое воображение видело подобие перистилей; в разных направлениях, выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование. Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид не знакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах го рели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю. Мы старались извиниться, что нарушили его уединение... - Правда...- сказал незнакомец после некоторого мол чания, - я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне; люди идут дальше, дальше - пока сами не обратятся в печальное зрелище... - Не мудрено, что вас мало посещают, - возразил один из нас, чтоб завести разговор, - это место так уныло, - оно похоже на кладбище. - На кладбище...- прервал незнакомец, - да, это правда! - прибавил он горько, - это правда - здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний... - Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? - продолжал мой товарищ. Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах сто выражалось удивление. - Да, сударь, - отвечал он, - я потерял самое драгоценное в жизни я потерял отчизну... - Отчизну?.. 345 - Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травою, - бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя. - Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою. - Опять ты предо мною, - вскричал он, - ты, вина всех бедствий моей отчизны, - прочь, прочь - мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?.. - Незнакомец захохотал. Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились? - У этой страны нет имени - она недостойна его; некогда она носила имя, - имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства... - Позвольте вас спросить, - продолжал мой товарищ, - неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?.. Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца... - Даже на карте...- повторил он после некоторого молчания, - да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть и... погибнуть, не замеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу 346 историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не прерывайте меня... Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так: Давно, давно - в XVIII столетии - все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и па площади, и па университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы. Тогда одни молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель - благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах заставить человека не человека, о должностях: но переступать границ своего права? что может что может заставить человека свято хранить свою должность? одно - собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, польза есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно - то вредно, что полезно - то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза - да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого поэтические бредни, все вымыслы филантропов врожденного чувства, все - и общество достигнет прочного благоденствия. Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей, - и это был мне не нужно называть его - это был Бентам. 347 Блистательные положительном выводы, основании, построенные воспламенили на столь многих. твердом, Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему. В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя. Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканности вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он произносил заветное слово: польза - и все по-прежнему приходило погасавшая в порядок, воля; признательностию поднимались ленивые словом, колония к виновнику руки, воспламенялась процветала . Проникнутые своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: польза. 348 Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало наслаждений счастливого острова. В самом спокойствия и начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились - и храм был устроен. Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, - и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги - едва успевали обедать. В обществах был один разговор - о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету - что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеянии, - каждая минута для была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением, - жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала. Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть 349 источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человека. На этом условии театр был устроен. Возникали многие подобные споры; по как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось - колония процветала! Восхищенные своим успехом, колонисты положили времена па но переменять своих узаконении, как признанных вечные на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала. Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матери, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека. Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой эксплуатации; (к счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)) мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом польза, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей п потом продавали им свои втридорога; многие из пас, оградясь всеми против соседей весьма законными формами, предприняли удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, 350 разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами постоянно - распространяли нашу монополию. Все наши богатели - колония процветала. Когда основательной соседи вполне разорились благодаря нашей политике, правители наши, собравши мудрой, выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась соседям рука человека. Решено было отправить предложение об уступке нам земли их за к нашим известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною противопоставляло нам какое-либо рукою, уничтожили все, что сопротивление; остальных принудили 351 откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом. Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разрабатывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть - и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили пашу колонию. Колония процветала. Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. возникли у нас споры. Пограничные Тогда города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную . Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе 352 стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат, исчисляя следствие торжества ультрдемократической партии, говорит: один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство. (Примеч. В. ф. Одоевского.)). Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. промышленную Соревнование произвело новую деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои домы прежней роскоши - и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступать другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, по естественному ходу вещей, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу польза, принялись спокойно наживаться задерживать предметы, на которые банкротствами, благоразумно было требование, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с 353 основательностию заниматься биржевого игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели - другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились. В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбеЙ общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание правдою или казалось излишним. Одно неправдой добыть себе несколько считалось нужным - вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. 354 Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности – бесполезною роскошью. времен осталось только От прежних славных одно слово - польза; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему. Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в угодье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги. 355 Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводнили сильное беспокойство па всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие - и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они задумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем философические преступлении - в поэзии. Зачем нам эти толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам! - кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. Зачем, - говорили купцы, - нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями! И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предведение, исправление нравов, все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить 356 процентов, торжествовал. новых было Науки названо - мечтами. и искусства замолкли Банкирский совершенно; феодализм не являлось открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам. Предстали пред человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстраивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение достоинству человека, боготворение злата, угождение к самым грубым требованиям плоти - стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась изыскание в средств обманывать приходорасходной живопись подведении исправных итогов; умственные занятия книги; без музыка потери кредита; поэзия - однообразная стукотня баланс машин; - черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, - а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились. В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. Горе, - восклицал он, посыпая прахом главу свою, - горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи: или ты 357 не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром - злато, коварство - умом и ум - коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: проклинаю тебя! С сими словами говоривший ты не упал пред огрубелого покаешься - ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи светло-синею молниею; удары грома следовали разрывались один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в Прейскуранте, единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью: На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется. Р. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался волкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава 358 представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч... Наш незнакомец остановился. Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов. Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. Зачем, - кричали они, - нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу - мы должны быть правителями! И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями - и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились. За ремесленниками пришли землепашцы. Зачем, - кричали они, нам этих людей, которые занимаются безделками - и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что трудами? бы они стали делать, если бы мы не кормили их Мы приносим существенную пользу городу; мы своими знаем его первые, необходимые нужды - мы должны быть правителями. И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города. 359 Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя другую, находили минутное убежище; в но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную нишу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали, в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую Землетрясения или о власти, или о дневном довершили начатое людьми: они пропитании! опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. 360 Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? - они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец удрученные погибли и последние остатки нашей колонии, голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям. Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю... Мы удалились. Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике. - О! - отвечал нам трактирщик. - Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь На одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру - и мы выгнали оратора за двери. 361 Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди. 362 К. Сергиенко. До свиданья, овраг Повесть о бездомных собаках Москва, "Детская литература", 1979 г. Глава 1. НАШ ОВРАГ Вот и лето пришло. Как я люблю эту пору! Зимой нелегко прожить. Найдёшь на дороге огрызок, а он промёрз, укуси попробуй. Зимой скучновато. Только и радости, когда дети катаются с гор. Можно за ними бегать, прыгать и лаять. Один пёс из наших бывал в лесу на охоте. Он говорит, что на снегу там много следов. От них загорается сердце собаки. Но то в лесу. А в нашем овраге если и проложит стёжку, то знакомый кот. Кругом человечьи следы, птичьи крестики и линейки от лыж. Только утром после снегопада овраг становится чистым и белым. Нет, летом лучше. Вырастает большая трава. Цветы качают головками. И запахов полно, от которых дрожит нос. Наш овраг большой и красивый. В овраге у нас раздолье, обежать его - целое путешествие. По краям оврага растут кусты и деревья. На деревьях живут птицы-чернухи. Их домики похожи на корзины, ни крыш, ни дверей. Домик собаки, конечно, лучше, но ведь не у каждого пса есть своя конура. Я знаю тут каждую ложбинку. Посреди оврага течёт ручей. Летом он 363 почти высыхает, но земля вокруг всё равно мокрая, и даже есть маленькое болотце. Трава здесь высокая, по самые уши. Тучами летают комары, и смеются лягушки. В овраге много вещей. Чего тут только не встретишь! Старые туфли и варежки. Колёса, шарики и дощечки. Головастый нашёл мятую шляпу и научился её носить, а Крошка живёт в ящике из-под яблок. Ящик пахнет яблоками, но Крошке по ночам снятся котлеты. Я знаю, где лежит золотое колечко. Я понюхал его и понял, что колечко носил добрый человек. Только не знаю, зачем он положил его в овраг. Со всех сторон овраг окружают высокие белые дома. А дальше этих домов всё больше и больше. Там гудят машины, ночью поднимается зарево. Наш овраг с каждым летом становится меньше. Этой весной насыпали целую кучу камня, песка и глины. Снова хотят строить дом. Все наши ругаются. Разве им места мало? Почему обязательно в нашем овраге ? Куда податься собаке? Но жаловаться некому. Особенно я люблю наш овраг ночью. С его глубокого дна видно 364 чёрное небо, а в нём насыпано много красивых блестящих звёзд. Они очень высоко, и как ни прыгай, не достанешь. Вместо солнца выходит белая луна. Холодок пробегает по спине, шерсть встаёт дыбом. И если спишь при луне, бывают сны, от которых текут слезы, а внутри так сладко щемит. Глава 2. ВОЛЬНЫЕ ПСЫ Все мы вольные псы. Когда-то вокруг оврага была деревня. Маленькие дома сломали, построили большие. Хозяева уехали, а собаки остались . Верховодит у нас Чёрный. Он большой и сильный. Все ему подчиняются, только я держусь в стороне. Раза два мы сцепились. Он понял, что клыки у меня не хуже, и больше не пристаёт. Иногда я бегаю со всеми, иногда один. Я не стал отбивать у Чёрного псов, и он успокоился. Раньше у Чёрного был приятель, большой и глупый увалень по кличке Отпетый. Чуть что, Отпетый бросался в драку. Он всегда был за Чёрного. Теперь Отпетого нет, но Чёрного всё равно боятся. Однажды подошёл ко мне Головастый и сказал: - Гордый, возьми меня в стаю . - У меня нет стаи, Головастый, - ответил я. - Тогда собери. Бывшая Такса просится и Хромой. - В овраге не должно быть две стаи, Головастый, - сказал я. 365 - Тогда победи Чёрного. Вчера он бросил в болото мою шляпу. Головастый у нас умник. Он умеет читать. Часами смотрит на рваную газету и складывает по слогам: "Но-во-сти с по-лей ..." Иногда он напяливает шляпу и сидит с задумчивым видом. Чёрный ему сказал: - Зачем ты носишь шляпу, Головастый? Хочешь быть похожим на человека? - Я умею читать, как человек, - гордо ответил Головастый. - А я умею кусать, как собака! - грозно сказал Чёрный и так пихнул Головастого, что тот шлёпнулся на свою газету, а шляпа покатилась под обрыв. - Ха-ха-ха! - засмеялся Крошка. Крошка любит смеяться. Он маленький лохматый пёсик, весёлый и добрый. На носу у него всегда кусочек глины. Дети балуют Крошку. Берут его на руки, тискают, ерошат шерсть. А Крошка знай себе хохочет. Крошка хохочет, а Бывшая Такса вздыхает. На шее у неё грязный, затрёпанный бант. Она не хочет его снимать и говорит, что бант напоминает ей о прошлом. Когда Бывшая Такса появилась в овраге, она всех называла на "вы ". Но Чёрный быстро отучил её от этой причуды. Чёрный говорит, что собака должна быть собакой . Моя дружба с котом Ямомото вызывает у него недовольство. 366 Я бы не стал дружить с котом Ямомото, но он такой умный. Ямомото японский император, и это все знают. Ямомото говорит, что император важнее самого Чёрного. Ямомото хорошо говорит по-собачьи. Мы часто беседуем, греясь на солнышке. - Не противно тебе, Гордый, разговаривать с котами? - спрашивает Чёрный. - Не твоё дело, - шипит Ямомото. Чёрный кидается к нему, но Ямомото ловко взлетает на дерево. - Я тебе ещё морду в кровь раздеру, - обещает он. Чёрный рычит и грозится. Я наблюдаю спокойно. Знаю, что Ямомото не даст себя в обиду. Никто, кроме Чёрного, уже не гоняется за Ямомото. Мы говорим с Ямомото обо всём. О еде, о погоде, о далёкой Японии. Нас любит слушать Хромой. Приковыляет и сядет в сторонке. Послушает, послушает, потрёт мокрый нос лапой и что-то пробормочет. - Что, что? - спросит Ямомото. - Да это, как его... - прохрипит Хромой, но больше ничего не скажет. Посидит ещё немного и уплетётся восвояси. Хромой молчун и скромник, сказать несколько слов подряд для него большое дело . Чёрный не раз звал меня в стаю. - Я сделаю тебя правой лапой, - говорит он. - Нет, - отвечаю я. Чёрный не годится мне в вожаки. Если выбирать вожака, я бы взял другого. Есть у меня один на примете. Но у него не четыре ноги, как 367 у нас, а две. У него нет хвоста, а верхние лапы называются "руки". Он человек, а Чёрный не любит людей. Глава 3. МОЙ ЧЕЛОВЕК Люди делятся на детей и взрослых. Дети - это маленькие люди. Дети веселее и добрее. Взрослые бывают злые, но бывают и добрые. Мой Человек самый добрый . Когда-то и у Чёрного был свой Человек. Он держал его на цепи и бил. Когда деревню сломали, тот Человек сел в машину и уехал. Чёрный долго бежал за ним. Машина остановилась. Человек вышел и прогнал Чёрного. Но Чёрный снова побежал за машиной. Тогда Человек его ударил. Чёрный упал, а машина уехала. С тех пор Чёрный не любит людей . Своего Человека я встретил ночью. Это было зимой. У меня тогда сильно болела лапа. В одном месте из-под земли шёл пар, снег тут растаял. Я лёг и стал греть лапу на большой железной крышке. Мой Человек шёл в распахнутом пальто. Он размахивал рукой и что-то говорил сам себе. Около меня он споткнулся, а потом присел на корточки. - Здравствуй, уважаемый, - сказал он. - Как дела ? Я сразу почувствовал к нему доверие. Я понял, что не надо убегать. Этот человек меня не обидит. Я показал ему больную лапу. - Дела неважные, - сказал он. - Пойдём со мной. 368 И я пошёл. В подъезде он долго искал ключ и шёпотом говорил: - Прошу тебя, уважаемый, как можно тише. Соседи нас не поймут. Так я впервые оказался в белом доме, или большой конуре, как называет его Бывшая Такса. В темноте я неловко повернулся и что-то зацепил, но Человек быстро открыл дверь комнаты и впустил меня. - Так, - сказал он, - будем лечиться. Но сначала надо перекусить. Так ведь, мой друг? Я согласился. Он кормил меня очень вкусной колбасой, а потом лечил мою ногу. Так приятно, когда тебя лечат. Немножко больно, зато знаешь, что скоро всё будет в порядке. Мой Человек умеет лечить. В его комнате стояли разные картоночки и дощечки и чем-то остро пахло. Он сел перед одной дощечкой и взял в руки тонкие палочки. - Это кисти, - сказал он. - Отдыхай, уважаемый, а я пока поработаю. Ночью у меня хорошо получается . Он долго трогал палочками свою дощечку, иногда отходил и смотрел прищурившись. - Полюбуйся, уважаемый, - сказал он. Я подошёл к дощечке и понюхал её. - Жаль, что собаки не различают цветов, - сказал он. - Впрочем, ты, может быть, различаешь. Я повёл носом поверх дощечки. Направо, налево, поперёк. Нет, она пахла очень красиво, эта дощечка. Запах струился лентой, расплывался шаром, набегал волной. Я разволновался и царапнул лапой пол. Потом он снова сидел перед дощечкой и трогал её своими палочками. Я подрёмывал в углу. 369 Наконец Человек встал, потрогал мою забинтованную лапу и сказал: - Ну, уважаемый, пора расставаться. Ты накормлен и подлечен. Большего я для тебя сделать пока не могу. Подождём лучших времён. Я всё понял. Он не мог оставить меня. Я встал и пошёл на улицу. Он вышел меня провожать, и мы погуляли по утреннему морозцу. Небо уже посветлело, поскрипывал снег. - До свидания, уважаемый, - сказал он. - Всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Поверь, я бы охотно пожил с тобой вместе. Давай-ка лапу. Я протянул ему лапу. Он ушёл, подняв воротник пальто. Я часто вижу своего Человека. Я провожаю его сторонкой и никогда не напрашиваюсь в гости. Несколько раз мы сталкивались на улице. Он всегда узнаёт меня, гладит и ласкает. Называет меня "уважаемый", спрашивает, как я живу. Я весело кручу хвостом и бегу рядом. В эти минуты сердце у меня колотится от счастья. Как всё-таки хорошо иметь своего Человека! Жизнь тогда кажется просто сказкой . Глава 4. НАШИ ЗАБОТЫ У вольного пса очень много дел. С утра пораньше надо обежать овраг и выяснить, нет ли чего нового. У каждой собаки есть свой уголок, который она знает лучше других. Если ты в стае, то нужно рассказать новости вожаку. Чёрный обычно сидит у своей ямки за Диким кустом. Прибегает Бывшая Такса и говорит, что в её канавке появилась 370 железная коробочка. - Ржавая? - спрашивает Чёрный. - Да, очень ржавая, с двумя дырочками. Чёрный думает, потом говорит: - Ладно, пускай лежит. Головастый докладывает, что на его бугорке кто-то забыл книжку. - Про собак? - спрашивает Чёрный. - Нет, про людей, - отвечает Головастый. - Разорви на мелкие клочки, - приказывает Чёрный, хотя и знает, что Головастый рвать книжку не станет, а спрячет её подальше . У Хромого жгли ночью костёр и сломали удобный сучок, о который все мы чесались. - Я ещё узнаю, кто сломал! - грозится Чёрный. - Так дёрну его за штанину, что она разорвётся! Крошка говорит, что в его ложбинке ничего не изменилось. - Как это не изменилось? - спрашивает Чёрный. - У всех изменилось, а у тебя не изменилось? А ты хорошо всё прощупал? Ты плёл носом петли, шарил крест-накрест, водил сверху вниз? Крошка торопливо уверял, что плёл петли, шарил крест-накрест и водил сверху вниз. - А это что? - грозно спрашивает Чёрный. Он бросает перед Крошкой ветку бузины. - Я специально проверил тебя, Крошка. Я сбегал в твою ложбинку и отгрыз эту ветку, а ты не заметил. Крошка начинает ёрзать и хихикать. - Вот так всегда. - Чёрный обращается ко мне. - Ничего не знают, ничего не умеют. Засыпь им весь овраг, не заметят. После обхода надо проводить в школу детей. Они идут, весело 371 болтают, размахивают портфелями, бегают, дерутся. Мы тоже идём, звонко тявкаем, крутим хвостами. Жалко, что летом школа закрывается. Многие дети уезжают. Зато остальные целые дни проводят в овраге. Играют в прятки, жгут костры, роют пещеры. За всем этим надо присмотреть. Без нас не обходится ни одна затея. Если появится нехороший человек, мы его облаем и не подпустим. Самых маленьких надо покатать верхом, большим принести какую-нибудь дичь. Например, серую мышь. Развлекаешь ребят целый день, даже устаёшь. Забота нелёгкая. Я уж не говорю про то, что приходится добывать пищу. Конечно, наши маленькие приятели иногда приносят еду. Куски мяса, булки, колбасу. Но разве этого хватит на всех собак? Перебиваемся как можем. Бегаем туда-сюда, ищем. Хватаем, что плохо лежит. Самый отчаянный из нас Чёрный. На моих глазах он два раза отнимал еду у взрослых. Вечером, когда на автобусной остановке темно, Чёрный залегал в кустах и ждал. Если из автобуса выходила одинокая взрослая с сумкой, Чёрный нападал на неё, рычал, дёргал к себе сумку и в конце концов отнимал её. Он издали чуял, что несёт взрослая. Если в сумке только хлеб, он оставался в кустах. Если же колбаса или мясо, считайте, что сумка у Чёрного . Я говорил Чёрному, что это добром не кончится. Но Чёрный не унимался. 372 - Я им ещё покажу, - говорил Чёрный и рычал. Хорошо, хоть у него хватало ума не нападать на мужчин. Эти так просто не отдадут свою еду, а то и прибьют. Сытнее всех среди наших живёт Хромой. Он ходит побираться на железную дорогу. Там он залезает в поезд и бродит по вагонам с жалким видом. Люди кидают ему всякую всячину. Хромой наедается сам и кое-что приносит Чёрному, а уж Чёрный посмотрит, угостить ли кого ещё. В заботах о еде, о наших маленьких друзьях, об овраге мы и проводим весь день. А когда темнота ляжет на землю, наступает час ночного дозора. Глава 5. НОЧНОЙ ДОЗОР - Построиться! - тихо командует Чёрный. - Приставить носы! Вперёд! И лёгкой тенью мы скользим по земле мимо спящих домов. В носу свербит. Жажда поиска кружит голову. Ночной дозор - торжественный час для собаки . Если днём много запахов, то ночью в них прямо утопаешь. Пахнет небо, пахнет лунный свет, пахнет сама темнота, а в ней, как мотыльки, туда-сюда так и снуют, так и мелькают запахи. Хочется схватить каждый и подержать на носу, как держит на носу шарик одна знакомая собака. 373 Запахами покрыта вся земля. Вот одни следы, вот другие. Кто-то бежал, кто-то шёл вразвалочку, а вот здесь крался кот. Это проехало колесо машины, это боролись на земле два мальчика, это - скок-скок пропрыгал мяч. Это упала буханка хлеба, а это вот-вот пробьётся из-под камней росток травы. Всё нам расскажут запахи. Но особенно пахуч, особенно полон ароматами наш овраг. Он налит ими до краёв, как большая миска. Запахи волнуются и колышутся. Цветы раскрыли свои чашки, и каждый зовёт ночную бабочку. Запахи самые разные. Медовые, горькие, нежные. Надо во всём разобраться, надо понять, что откуда. Вот муравьиная тропка, она пахнет кисло. Её пересекает рогатый жук со своим фонариком. Стрекочут кузнечики, квакают лягушки, и ленивый болотный дух плывёт по оврагу от их хозяйства. Ночная птица-ковырун завела свою трескотню и начала подпрыгивать в воздухе. Притихли чернухи в гнёздах. Старые деревья толпятся на краю оврага, словно хотят погулять в его холодной сочной траве. Во время ночного дозора мы ищем собачью дверку. Найти собачью дверку - мечта каждого пса. Много я слышал о ней рассказов. Собачья дверка совсем маленькая, меньше бусинки. Пока не уткнёшься в неё носом, не найдёшь. А когда найдёшь, собачья дверка откроется и станет большая, пройдёт любая собака. За этой дверкой совсем другая жизнь. Всегда тепло и красиво. 374 Много дичи и вкусной еды. Кругом поля и леса, а хозяйничают там одни собаки . Дверка, дверка, попадись, попадись! Дверка, дверка, отворись, отворись! Если в нашем овраге есть собачья дверка, обязательно её отыщу. И когда искать дверку, как не ночью. Ночью овраг отдыхает. Не грохочут машины, не сыплется песок и камни. Ночью на дне оврага, как в волшебной стране. Над тобой только огромное небо в голубых крупинках и большое круглое зеркало. В это зеркало можно смотреть без конца. И видишь там что-то знакомое, но очень далёкое. От этого делается грустно. Хочется спеть какую-то песню. То ли пожаловаться кому-то, то ли кого-то позвать, то ли просто рассказать что-то. И тогда начинает Крошка. Он садится, подняв к луне острую мордочку, и выводит тоненьким голосом: - Ах, я Крошка, я белая собачка, я просто живу и живу! - А я учёный, я умный, - подхватывает грубым голосом Головастый. - Я славные песни пою! За Головастым начинает Бывшая Такса: - Ох, я Такса, Бывшая Такса, где же вы, детки мои? - В такие минуты Бывшая Такса вспоминает своих щенков. Тут и Хромой подвывает: - Дайте Хромому, подайте Хромому, киньте хоть маленький осколочек луны! И после всех с блестящими глазами и вытянутой шеей щемящим криком 375 начинает свою песню Чёрный: - А я Чёрный, я весь чёрный, я чёрный снаружи и внутри! Отойдите от Чёрного, не жалейте Чёрного, я весь чёрный снаружи и внутри ! Глава 6. ПРИВЯЗАННЫЕ Кроме нас, в овраге бывают привязанные . Это совсем другие собаки. Их приводят гулять люди. Привязанные отличаются от нас тем, что носят ошейник. Как-то я сказал знакомому бульдогу: - Никогда бы не стал носить ошейник. - Это потому, что у тебя нет медалей, - ответил тот. - Ошейник надевают, чтобы носить медали. - Подумаешь, - сказал я. - А я знаю, где лежит золотое колечко! - Да, - сказал он, - у меня много медалей. Послушай, как они звенят. Я породистый. - Колечко очень красивое, - сказал я. - У моего Человека тоже есть медаль, - добавил бульдог. - Он тоже породистый . - Это ещё надо проверить, - заметил Головастый. - Самой лучшей породы! - заверил бульдог. - Самая лучшая порода - это пудель, - сказал умник Головастый. - Да, да, мой Человек пудель, - поспешил согласиться бульдог. - А может, и нет. - Головастый наморщил лоб. - Может, лучшая порода - это шавка. - Да, да, - сказал глупый бульдог. - Кажется, мой Человек шавка . Почти все привязанные очень важные. Многие не здороваются и делают вид, что мы им не ровня. Все их разговоры сводятся к 376 хвастовству. - Знаешь, какой мой Человек? - начинает привязанный. - Мой Человек выше этой лавки! - А мой Человек бегает быстрее тебя, - отвечает другой привязанный. - У моего Человека дома есть здоровенная палка. Он может тебя проучить. - А у моего Человека такие клыки, что он перегрызёт тебя пополам! Самый смешной из привязанных это Балконный. Есть один такой пёсик, его только на балкон выпускают, а на улице я его ни разу не видел. Такой ругливой собаки я в жизни не встречал . Балконный просовывает морду сквозь прутья и целый день ругается страшными словами. - Только попробуй залезь на мой балкон, ррав! - Только попробуй ограбь мою квартиру, рруф! - Только попробуй плюнь в меня, только попробуй! - Всех, всех перекусаю! В кллочья рраздеру! Я как-то ему сказал: - Эй ты, балаболка, слезай вниз, поговорим. Тогда я тебе и квартиру ограблю, и на балкон залезу, и плюну тебе прямо в нос. Тут Балконный прямо с ума сошёл. Он стал грызть железку и поливать меня сверху слюной: - Рраздеру-рраскурочу-рразом-порешу! А сам-то от горшка два вершка. Вот ведь какие бывают собаки, просто стыд и срам. Кое-кто из наших завидует привязанным. Как-никак это сытый народ. 377 Живут в тепле, не знают заботы. Чёрный привязанных не любит и всегда задирает их. Что до меня, то не знаю, как можно целый день высидеть на балконе вроде ругливого. Мне нравится свобода. А свой Человек у меня есть, как у любого привязанного. Правда, не часто мы видимся, но я буду верен ему всю жизнь . Глава 7. ПОПОЛНЕНИЕ Лето шло своим чередом. Уже миновали денёчки свежей травы и приближалось время пушариков. Есть такой белый цветок. Дунешь на него, и он разлетится на много крохотных пушинок. Бегать за такой пушинкой и ловить её на нос - старая собачья игра. Как-то утречком на автобусной остановке вышел человек с двумя собаками. Собак он оставил, а сам сел в автобус и уехал. Пёсики были очень похожи друг на друга. Так, ничего себе пёсики, с длинными мордами и острыми ушами. Автобусы катили один за другим, а тот, кто привёз их сюда, не возвращался. Собаки с надеждой смотрели на каждый автобус. Они вертелись под ногами у людей. Их отгоняли, но они не уходили. - Видал? - спросил меня Чёрный. - Новое пополнение. Он прошёлся мимо пёсиков туда-сюда, с презрением поцарапал асфальт задней лапой, а потом поднял её и окатил столб. Это означало насмешку и угрозу. Пёсики поняли и прижались друг к другу. - Эй, вы, чего здесь делаете? - грозно спросил Чёрный. 378 - Ждём, - ответили они робко. - Кого это ждёте? - Нашего Человека. - А где же он? - Он скоро вернётся. - А вы знаете, что это наше место? - Нет, не знаем, - тихо ответили пёсики. Подбежал Крошка, подошёл Головастый, приковылял Хромой, подоспела Бывшая Такса, и все уставились на новых собак. - Видали? - сказал Чёрный. - Они ждут своего Человека. Утром он их привёз, а сейчас уже вечер. Они ещё думают, что он вернётся. - Ха-ха-ха! - захохотал Крошка. - Если утром, то, конечно, не вернётся, - рассудил Головастый. - Да, это самое... - прохрипел Хромой. - Меня точно так же привезли и бросили, - печально сказала Бывшая Такса, поправляя свой бант. - Слышали? - сказал Чёрный. - Как вас зовут? - Вавик и Тобик, - ответили они. - Что это за имена? - Чёрный презрительно поморщился. - Вавик и Тобик! Разве не стыдно отзываться на такие клички? - Ха-ха-ха! - заливался Крошка. - Теперь вы будете просто Новые, - сказал Чёрный. - Ну-ка идите сюда! - Не пойдём, - ответили те дрожа. - Не пойдёте? - удивился Чёрный. - Вы не хотите меня слушаться? - Мы слушаемся своего Человека, - ответили те. - А теперь будете слушаться меня! - рявкнул Чёрный. - Ваш Человек просто вас бросил. Он никогда не вернётся! - Мы не верим, - ответили пёсики. 379 - А вы знаете, что я здесь главный? - сказал Чёрный, оскалив клыки. - Не знаем, - твердо ответили пёсики. - Тогда я вас проучу, - мрачно сказал Чёрный и пошёл к ним вразвалку. За ним, хоть и нехотя, двинулся Головастый, засеменил Крошка, потянулась Бывшая Такса, заковылял Хромой. Проучить двух молодых пёсиков такой ораве ничего не стоило. - Не трогай их, Чёрный, - сказал я. - Не мешай, Гордый, - ответил он. - Не трогай, - повторил я. - Пусть ждут. Они сами поймут, что их Человек не вернётся, и попросятся к тебе в стаю. - Мальчики такие скромные, - робко добавила Бывшая Такса. Хромой кашлянул. - Они попросятся, - ещё раз сказал я, а сам приготовился заступиться за пёсиков. - Ладно. - Чёрный остановился, он почувствовал, что я уже начал злиться. - Пусть сами попросятся. Конечно, ему хотелось дать взбучку новичкам. Он поступал так всегда, чтобы лучше слушались. Но лишняя ссора со мной ему тоже не выгодна. Всё-таки Чёрный меня уважал и всё ещё надеялся, что я стану его правой лапой. Так в нашем овраге появились две новые собаки. Их так и прозвали - Новые. Первое время они глаз не спускали с автобусной остановки и всё говорили про своего Человека. Какой он сильный, как его боятся соседи, сколько у него дома ошейников и поводков. Новые никак не 380 могли поверить, что их Человек просто обманщик . Глава 8. В ГОСТЯХ У ЯМОМОТО Бывают дни, когда небо хворает мокрой лихорадкой. С него так и сыплется мелкая вода. Всё набухает, становится скользким, блестящим, а люди ходят с большими скорлупками над головой. Мой хороший знакомый кот Ямомото давно зазывал меня в гости. - Приходи, когда не будет моих, - говорил он. - Окно всегда открыто. Прыгай прямо в окно. В мокрые дни хорошо где-то погреться и обсушиться. Тогда я решил пойти к Ямомото. Ямомото встречал меня на подоконнике. Он жил удобно, на первом этаже. Я разбежался и прыгнул. Высота всё-таки немалая, но я её одолел и очутился в комнате. Не часто нашему брату доводится бывать там, где живут коты и люди. С лету я поскользнулся на блестящем деревянном полу и порядком его поцарапал. - Вот здесь я и живу, - сказал Ямомото. Он сразу стал очень важным. Надел две такие стекляшечки, которые носят люди, и начал водить меня по жилищу. - Ванная, - говорил он, - туалет, гостиная... Всё это было для меня в новость. Таких слов я не слышал. 381 Потом Ямомото уселся в кресло, открыл большую книгу и сказал, что немного почитает про Японию. - Япония большая страна, - начал он, - в ней много мышей, они подчиняются котам. Самый главный в Японии император Ямомото. Тут Ямомото посмотрел на меня поверх стекляшек и спросил: - Может, не веришь? Тогда почитай сам. Он заставил меня посмотреть в книжку с какими-то закорючками, а потом ещё долго читал про то, как хорошо в Японии и какой хороший император Ямомото. - А где эта Япония? - спросил я. - Где? - сказал Ямомото. - Очень далеко. По ту сторону дороги, за тем оврагом, а может, и ещё дальше. - Да, это далеко, - согласился я. Какой всё-таки умный мой друг Ямомото! Головастый еле складывает по слогам, а Ямомото читает легко и быстро. Он знает все языки и, когда надевает стекляшки, становится ещё умнее. Потом Ямомото принялся меня угощать. - Чай, кофе? - спросил он. Я отказался. - Может, по рюмочке валерьянки? Я снова отказался. Тогда Ямомото торжественно вытащил кусок колбасы и без всяких вопросов положил у меня под носом. Он очень гостеприимный хозяин, понимает толк в угощениях. Пока я лакомился колбасой, Ямомото говорил без умолку: - Домашние мне не мешают. Когда хочется побыть одному, я прошу их 382 пойти погулять. Сегодня, например, сказал, что у меня будут гости, и они сразу ушли. Хорошие ребята. Стирка, уборка, готовка - это на них. Я раз и навсегда сказал: времени у меня не хватает. Так что ко мне не пристают. Сплю когда хочу. Ем что желаю. Гуляю где надо . Ямомото говорил и говорил, а я доедал колбаску. В это время дверь заскрипела и отворилась. Это пришли домашние. Ямомото поперхнулся и прервал свои речи. - Прячься! - зашипел он. Но куда тут прятаться? Я заметался по комнате. Попробовал махнуть через подоконник. Но нет, без разбега не выйдет. - Под диван! - шипел Ямомото. Но поздно. В дверях комнаты появились домашние. От изумления они застыли. Тогда я взял разбег через комнату, сбил цветок и выпрыгнул на улицу. За мной взъерошенным комком вылетел Ямомото. Стекляшки слетели с его носа и брякнули об пол. Вслед нам неслись сердитые голоса. Мы отдышались только у оврага. - Видишь, какие они хорошие, какие вежливые, - пыхтел Ямомото. Другие бы схватили тебя и отдали на живодёрню. - Да, очень вежливые, - согласился я. - Знают своё место, - говорил Ямомото. - Когда у меня гости, они тише воды, ниже травы. Я согласился. И правда, бывают такие злые домашние. А эти ничего. Не гнались за нами, не кидались камнями. Ямомото повезло, что живёт с такими. 383 Глава 9. МОЛОДЕЦ, СТАВЛЮ ПЯТЬ! Головастый, конечно, читает хуже кота Ямомото. Но всё-таки читает. А почему? Да потому что он целых два года учился в школе! В самой настоящей человечьей школе на той стороне оврага. Головастый тогда жил у сторожа, и сторож разрешил ему поучиться. Повезло Головастому. Я как-то сказал: - Хорошо тебе, Головастый. Если бы я два года учился, я бы и других поучил. Поучи нас, Головастый. Головастый сразу стал важный. - Ты не понимаешь, - сказал он. - Учат в школе. А где я вас буду учить? - А ты поучи нас в овраге. - Нужна доска, - сказал Головастый. Доску мы быстро нашли. На стройке сколько угодно досок. Мы оторвали одну от забора и принесли. Головастый с сомнением потрогал её лапой. - Садитесь все вот так, - сказал он. - Нет, наоборот. Крошка, не хихикай. Такса, подвинься ближе. Нет, лучше давайте по-другому. Он долго рассаживал нас, а потом спрятался в кусты и вышел оттуда в своей шляпе. - Здравствуйте, дети, - важно сказал Головастый. Крошка хихикнул. - Крошка, иди к доске. - Головастый был очень строг. Крошка вильнул хвостиком и уселся на доску. 384 - Отвечай урок! - Чего? - спросил Крошка. - По-твоему, я должен подсказывать? - важно сказал Головастый. - А что такое урок? - спросил я. - Это такая вещь, которую нужно рассказывать, - объяснил Головастый. - А чего рассказывать-то? - снова хихикнул Крошка. - Рассказывай чего хочешь, а я поставлю отметку. Крошка поднял мордочку кверху и задумался. - Ну, это... - начал он, - иду я вчера, иду, а в моём ящике сидит мышь. Я за ней кинулся и побежал. - Поймал? - спросил Головастый. - Нет, не поймал. Она в норку ушла. - Молодец, ставлю пять! - сказал Головастый и нацарапал на песке какую-то закорючку. - Такса, иди к доске! Отвечай урок. Такса поправила бант. - Когда я жила на даче, у меня было много еды... - Ха-ха-ха! - засмеялся Крошка. - Крошка, не мешай, - сказал Головастый. - Меня кормили колбасой, - обиженно сказала Бывшая Такса. - Ха-ха-ха! Колбасой! Вот умора! - надрывался Крошка. - Почему ты смеёшься? - спросила Бывшая Такса. На глазах у неё показались слезы. - Да, меня кормили колбасой, и это все знают... - Молодец, ставлю пять, - поспешно сказал Головастый. На доску уселись Новые. Они стали хвалить своего Человека. Какой он хороший, какой сильный и смелый. Всё это мы уже слышали, но Головастый сказал: - Молодцы, ставлю пять. 385 Быть учителем Головастому очень нравилось. Он даже шляпу сдвинул на одно ухо. - Хромой, иди к доске! Хромой, как всегда, стеснялся и бормотал что-то непонятное. - Это... ну, как-то раз... это самое... - Молодец, ставлю пять! - с удовольствием сказал Головастый. Гордый, пойдёшь к доске? - Ещё ничего не придумал, - сказал я. - Молодец, ставлю пять! - не слушая, объявил Головастый. - А мне можно к доске? - спросил Чёрный. Головастый растерялся и замолчал. Чёрный вышел вразвалочку, пихнул лапой доску и сказал: - Все вы дураки. Собака должна быть собакой. Зачем ей читать по-человечьи? Зачем носить шляпу? Всё равно Человек не отдаст вам свою одежду и не отдаст еду. Нам достаются только объедки. Вот мой рассказ. Что мне поставишь, Головастый? - Ставлю пять, - промямлил Головастый и вздохнул. - То-то, - сказал Чёрный. - И не забывайте, что раньше Человек и Собака разговаривали на одном языке. Нам незачем учиться человечьим словам, пока люди будут такими . Чёрный прав. Раньше Человек и Собака говорили одинаково. Об этом мне рассказывала мать, когда я был глупым щенком . 386 Глава 10. КАК ЧЕЛОВЕК И СОБАКА СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПОРАЗНОМУ Когда Человек и Собака говорили одинаково, они жили вместе и всё делили поровну. У них был маленький домик, огород и поле. Утром Собака вставала и шла пасти коров, а Человек пахал и сеял. Урожай собирали вместе, пищу ели одну. Как-то пошли на охоту. Долго гоняли зверя, и Человек сказал: - Устал я бегать, за тобой не поспеваю. Ведь у тебя четыре ноги, а у меня всего две. - Ладно, - говорит Собака, - отдохни. Я подгоню к тебе зверя, а ты лови. Так и стали делать. Собака бегает, гоняет дичь, а Человек стоит на месте и ловит. Поймают дичь и съедят. Человек говорит: - Надоело мне жевать сырое мясо. Вон у тебя какие клыки, а у меня маленькие зубы. Свари мне мясо, чтоб мягче было. - Ладно, - говорит Собака. Сварила ему мясо. Так и пошло дальше. Человек ест варёное, Собака сырое. Варит, парит Собака, солью посыпает, украшает корешками. Вкусно! Человек ест больше и больше. Толстый стал, тесно с собакой в домике. Тогда и говорит: - Здесь повернуться негде. Построй себе конуру. У тебя шерсть, не замёрзнешь, а у меня всего-навсего кожа. - Ладно, - сказала Собака и построила себе конуру. А в те времена много страшных зверей бродило по лесу. Соберутся ночью, заглядывают в окна, рычат. Человеку страшно. Говорит Собаке: 387 - Без тебя спать боюсь, а с тобой тесно. Ты бы ночью отогнала зверей, покричала на них. - Ладно, - говорит Собака, - покричу. Ночью собрались страшные звери. Собака вышла и стала кричать: - Уходите отсюда, загрызу! Утром Человек говорит: - Всю ночь ты мне спать не давала. Кричишь "загрызу! ", а мне страшно. Ты что-нибудь простое кричи, например "гав-гав!". Ночью пришли страшные звери, Собака вышла и стала кричать: - Уходите отсюда, гав-гав! Утром Человек говорит: - Опять ты мне спать не давала. Как крикнешь "уходите отсюда! ", мне кажется, меня из дома выгоняют. Ты лучше просто кричи "гав-гав!". Ночью опять пришли страшные звери, Собака на них закричала: - Гав-гав! Но и тут Человек недоволен: - Слишком ты громко кричишь, сон прогоняешь. Я даже худеть стал . Чем кричать, лучше пойди на охоту, принеси мне мяса. Пошла на охоту Собака, принесла Человеку мяса, сварила, накормила. Человек заснул, а когда проснулся, снова просит еды: - Эй, Собака, где мясо? - Гав-гав! - отвечает Собака. - Что это значит "гав-гав"? - сердится Человек. - Говори, чтобы понятно было. - Гав-гав! - отвечает Собака. - Пока мы жили, как брат с братом, я говорила понятно. Теперь нам не о чем разговаривать. Пока не исправишься, буду говорить с тобой "гав-гав !". Так и вышло, что Собака перестала разговаривать с Человеком. 388 Человек с тех пор немного исправился. Сам на охоту ходит, сам себе мясо варит. Но, видно, ещё не пришло время помириться с ним до конца. Поэтому Человек только и слышит от Собаки: "Гав-гав!" Вот что рассказала мне мать, когда я был ещё маленьким щенком. Глава 11. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЯМОМОТО Мой добрый приятель кот Ямомото решил переселиться на дерево. Дело в том, что он поссорился со своими домашними и оказался на улице. - Видишь ли, - объяснил он, - им не понравилось, что ты пришёл ко мне в гости, разбил цветок и наследил. Но я суров. Они у меня тише воды, ниже травы. Ямомото принялся зализывать лапу. - Болит? - спросил я. - Немножко. С хозяином дрался. Он, видишь ли, на меня замахнулся. Но я строг. Я так дал ему лапой, что он покатился кувырком. Как думаешь, я не сильно его ударил? Быть может, я слишком непреклонен? Я похвалил Ямомото. Надо уметь постоять за себя. - Да, силёнка у меня есть, - согласился Ямомото, - потрогай мускул. Но теперь я хочу пожить отдельно. Пусть они узнают, что значит жить без своего Ямомото. Без своего доброго, умного императора, который о них так заботился. Пусть они сами готовят обед, подметают пол, пусть сами наливают молока в мою мисочку . Неблагодарные! 389 Ямомото промокнул лапой слезинку. - Не расстраивайся, - сказал я, - проживём. - Конечно, проживём, - сказал Ямомото, - я решил переселиться на дерево. - На дерево? - Да. Построю себе гнездо рядом с галками. Это очень удобно. На обед буду брать по одной галке. Я засомневался, что чернухи так легко согласятся с Ямомото. - А почему? - удивился тот. - Что им, жалко? Ведь их так много. Никогда не понимал этих галок. Все чёрные, одинаковые. Какая им разница, если на одну станет меньше? Было бы меня столько, я бы не жадничал, подарил пару штук себя на шапку хозяину. Ямомото долго раздумывал, как строить гнездо. Потом позвал меня и сказал: - Садись вон там и слушай. Называется "доклад". Когда кончу, похлопай мне лапами. Понял? Он поправил усы и начал: - Я решил построить гнездо. Соберу сто палочек, двести прутиков, пятнадцать корешков одуванчиков, соломинки, шерсть, волоски, мох, тряпочки, а также большой замок с двумя ключами. Самое главное, чтобы гнездо запиралось. Я кончил. Хлопай, Гордый. Я изо всех сил постукал лапой об лапу. Ямомото поклонился. - Называется "доклад", - важно повторил он. С утра Ямомото принялся строить гнездо. Я помогал ему, как мог. Таскал палочки и прутики, а от себя добавил картонную коробку. Не успел Ямомото пристроить на дереве первые прутики, как подлетела чернуха и что-то гаркнула ему в самое ухо. Ямомото отшатнулся и чуть не свалился вниз. 390 - Грубиянка! - сказал он. К полдню на дереве что-то чернело. Издали это напоминало кучу мусора. Птицы так и кружили рядом и всё кричали, кричали. - Самое главное - замок, - пыхтя сказал Ямомото. - Гнездо должно запираться. Эти галки житья не дадут. Я спросил, куда он повесит замок. На его гнезде и двери-то нет. Ямомото задумался. Пока он размышлял, я побежал обедать. Когда вернулся, увидел печальную картину. Галки ломали постройку Ямомото и разделывали под орех моего доброго друга. Их было видимо-невидимо. От них почернело небо. Откуда взялось столько птиц? Они носились кругами со свистом и долбили крепкими клювами гнездо и его строителя. Шерсть летела клочками, сыпались с дерева палочки, прутики, свалилась картонная коробка, а под конец сам Ямомото плюхнулся рядом со мной, отчаянно размахивая лапами. - Видишь ли, - сказал он, отдышавшись, - им не понравилось, что я император. Но я суров. Видел, как я дал лапой одной? Она полетела вверх тормашками! Я посочувствовал Ямомото. - Не понимают своего счастья, - сказал он. - Я бы навёл у них порядок. Пусть теперь живут одни. Пусть их бьёт град, пусть мучит холод и голод. Тогда они пожалеют, что остались без своего доброго, умного императора. И Ямомото вытер лапой под носом. 391 Глава 12. КАК-ТО НОЧЬЮ Кот не собака. Спать не пристроится где угодно. Я всегда завидовал Ямомото, что тот может пролезть в любую дырку. Например, подвал. Собаке туда не попасть, а Ямомото ночует в подвале, как у себя на квартире. Но и Ямомото мог бы позавидовать мне. Кто такой кот против собаки? Окажись в ту ночь на моём месте простой кот, он не смог бы помочь своему Человеку. Я как раз возвращался с ночного дозора. Спасибо ещё и Балконному, что задержал меня у песочницы. Рядом с песочницей вьётся дорожка, по ней ходят люди. Но в такой час редко кто здесь появится. Бежал я, раздумывал. Тут слышу тихий такой шепоток: - Эй, эй, приятель! Поднимаю голову. Вижу, сквозь прутья решётки торчит белый нос Балконного. - Эй, - говорит, - постой-ка! Я остановился, спрашиваю: - Что же ты не ругаешься? Балконный вздохнул. - Не хочется. А как там на улице, хорошо? - Очень, - говорю, - выходи, погуляем. - Не могу, - отвечает Балконный, - меня только сюда выпускают. - Что же ты, не собака? - спрашиваю. Балконный опять вздохнул. - Задние лапы у меня слабые, почти не ходят. Болел я недавно, а 392 теперь лапы не ходят. Тут стал меня Балконный расспрашивать. Как пахнет трава в овраге, есть ли там мыши-полёвки, куда течёт ручей. Про всё спросил. Вот и спасибо ему, что задержался я около песочницы. Тут вьётся дорожка. А по дорожке этой шёл мой Человек. Он шёл себе, шёл, и сердце у меня радостно заколотилось. Но тут навстречу моему Человеку вышли двое. Они вышли из темноты и подошли близко. Они сказали: - Дай закурить . Я спрятался за песочницу и стал смотреть. Мой Человек порылся в кармане и дал им закурить. - А спички? - спросили они. Он дал им и спички. - Сколько времени? - спросили они. - Поздно, - ответил он и хотел пройти. Но они не пустили. - Пойдём с нами, - сказали они. - Надо поговорить. - О чём? - спросил он. - Надо, - сказали они. Тут шерсть у меня стала подниматься дыбом. Не с добром подошли эти двое. - Дайте пройти, - сказал мой Человек. - Пойдём с нами, - сказали они. - Я иду домой, - сказал он. - Надо поговорить, - сказали они. Я стал весь как пружина. Сжался в упругий комок, глазами так и вцепился в этих двоих. Я только ждал, когда они тронут моего Человека. 393 - А ты парень ничего, - сказали они. - Пропустите, - сказал он. И тут они кинулись на него. Что бы делал без меня мой Человек? Стрелой вылетел я из-за своего укрытия. С коротким рыком врезался в нападавших. Ярость душила меня. В эту минуту я мог выйти против ста людей, если бы они тронули моего Человека . Я цапнул одного, цапнул другого. Они упали и поползли на четвереньках. Я метался между ними и всех кусал. Ох, как они испугались! Они кричали, что я бешеный, и звали на помощь. А тут ещё Балконный решил поддержать меня и завопил что есть мочи сверху: - Всех, всех перекусаю, в кллочья рраздеру! В доме зажглись окна, высунулись сердитые люди. Мой Человек позвал меня, и мы быстро ушли. Он гладил меня по голове и говорил: - Спасибо тебе, уважаемый. Ты настоящий друг. И он повторил это несколько раз. Глава 13. СОН А потом мне приснился сон. Я нашёл собачью дверку, открыл её, а там стоял мой Человек. На нём высокие сапоги, шляпа с белым пером, в руке блестящее ружьё. Яркое, яркое солнце. Глубокое, глубокое небо. - Смотри, оно синее, Гордый! - говорит мой Человек. И я вижу, небо синее, очень синее, а трава зелёная. Куртка на 394 моём Человеке коричневая с жёлтым узором. Какое всё разное и красивое! Как же я не замечал этого раньше? Я ношусь большими кругами, почти летаю. Чуть трону лапами землю и взмываю в воздух. Я перепрыгиваю камни, кусты и целые деревья. Мой Человек останавливается. Он поднимает блестящее ружьё и ведёт им по синему небу. Бух! Из ружья вылетает фонтанчик, и разноцветная птица падает на землю. Я мчусь к ней, осторожно беру зубами и приношу моему Человеку. - Молодец, Гордый! - говорит он. Он снова поводит ружьём, и снова - бух! - ещё одна птица падает в кусты. А мы идём, идём. Вокруг нас луга, ручейки и белая пена цветов. Небо стоит круглым куполом. Снизу светлое, вверху бездонное, синее. И вот мы подходим к опушке. Лес нас встречает прохладой. - Здравствуй, дедушка Лес! - кричит мой Человек. И дедушка Лес вздыхает шумно: - Жа-арко, уважжаемые... Вдали сквозь деревья заблестела вода, и мы побежали к ней. Хохочем, смеёмся. Окунулись и сделали радугу брызгами. - Здравствуй, тётушка Река! - кричит мой Человек. - Бл-бл-баловники, - бормочет она добродушно. Мы искупались. Мокрые и довольные шагаем дальше. Встречаем поляны с большими красными ягодами, продираемся сквозь чащу. Долго идём, устали. А вот и овраг. Здесь отдохнём . 395 - Здравствуй, дядюшка Овраг, - говорит мой Человек. - Можно полежать у тебя на боку? - Ладно уж, - соглашается дядюшка Овраг. Мы кидаемся в сочную голубую траву, катимся по ней, замираем. - Мы с Гордым друзья, - говорит мой Человек. - А как ты поживаешь, дядюшка Овраг? - Да уж так, - отвечает тот. - Ты тоже наш друг, - говорит мой Человек. - Мы любим лежать у тебя на боку. - Ну уж... - говорит он. Так и лежим, смотрим в небо. - Что там, Гордый? - спрашивает мой Человек. Я вижу в небе большую красивую птицу. Но мой Человек не берёт блестящее ружьё. Он вынимает дощечку и тонкие палочки. Он начинает трогать дощечку, и на ней появляется птица ещё красивей той, которая в небе. Потом он берёт дощечку и бросает её в небо. Дощечка летит, летит, кувыркается. И вдруг из неё выпархивает ослепительная, огненная птица. Та самая, которую он вывел своими палочками. Она взмахивает крыльями и мчится к солнцу. - Ура! - кричит мой Человек. Он вскакивает, пляшет, размахивает руками. Он хватает блестящее ружьё и палит в сторону, чтобы не задеть птицы. А она улетает всё выше и выше . - Полетела, полетела! - кричит мой Человек. Я тоже прыгаю, лаю. Мне весело, потому что весело моему Человеку. И дядюшка Овраг доволен, бормочет: 396 - Ну уж, молодцы... Какой замечательный сон! Он снился мне долго-долго. Пока что-то не забухало, не затарахтело. Я приоткрыл глаза. Оказывается, лежу в своей ямке. Низкое небо, моросит. В овраге работают машины . Начался новый день. Глава 14. КАК КОМУ ПОВЕЗЕТ Собачья жизнь такая. Сегодня у тебя в зубах кость, а завтра не знаешь, как уцелеть. Вчера Хромой притащился едва живой. Он, как всегда, побирался в поезде, и его там здорово стукнули. Было у него три лапы, а теперь и вовсе на двух приполз. Терпел Хромой молча, только слезы в глазах стояли. Бедный Хромой, за что его так ударили ? Зато повезло Новым. Я сам это видел. У дома стояла машина, взрослый человек что-то в неё укладывал. Рядом вертелись Новые, ждали, может, чего перепадёт. Тут из подъезда вышла девочка. Я знал эту девочку, как-то она угостила меня кусочком мяса. Девочка сказала: - Папа, такие хорошие собачки, они тут всегда ходят. Папа ничего не ответил, возился со своей машиной. - Папа, как раз мне и Маше. Давай их возьмём на дачу. Папа ничего не ответил. - Я буду с ними играть, а они посторожат сад. Ничего не сказал папа. - Собаки, собаченьки, идите сюда, - позвала девочка. Новые завиляли хвостами и подбежали. Я, наоборот, отошёл. Если 397 девочка меня не зовёт, то и не надо. Она уже давала мне кусочек мяса. А теперь у неё ничего нет. - Собаченьки, собаченьки, - говорила девочка и гладила Новых. Те прыгали, визжали от удовольствия, а Тобик перевернулся животом вверх и задрыгал лапами. Противная привычка. - Папа, давай их возьмём на дачу, - сказала девочка. Папа ничего не ответил. - Давай, пап, а? - А зимой куда денем? - спросил папа. - Лето кончается. - Зимой отдадим дяде Коле. - У дяди Коли есть собака. - Ну будут ещё две. Он любит собак. - Как хочешь, - сказал папа, и машина его заурчала. Девочка открыла дверцу и позвала: - Идите сюда, пёсики. Поедем на дачу. На даче хорошо. Новые вопросительно посмотрели на меня. Все мы наслушались рассказов Таксы про дачу. На даче не жизнь, а рай для собак. Я, конечно, обиделся на девочку. Почему бы ей не позвать меня? Никуда я не поеду, у меня тут свой Человек, да и овраг не брошу, но всё-таки... - Идите, идите, - звала девочка. По всему видно, девочка добрая. Да и папа не злой. Не стоило Новым упускать такой случай. - Ладно, идите, - сказал я. - А Чёрный, - спросили они, - Чёрный не рассердится? Чёрный, наверное, не отпустил бы Новых. Чёрный людям не верит. Но Чёрный сейчас на той стороне оврага. И Новые пошли. 398 - Если не понравится, мы вернёмся, - сказали они, а сами были очень рады. Не каждый день добрая девочка приглашает собак пожить на даче. Бочком они влезли в машину, дверца захлопнулась, и Новые укатили. Я погрустил немного. Недолго побыли Вавик и Тобик в Собачьем овраге. Редеет стая. Чёрный будет ругаться, что я отпустил Новых. С кем ходить ему в ночной дозор? Вот и Хромой выбыл из строя. Уж если кому отдыхать на даче, так это ему. Но собачья судьба как головка пушарика. Дунет ветер пушинки в одну сторону, дунет ещё - в другую. Больше всех сокрушалась Бывшая Такса: - Ах, почему я не поехала с Новыми! Глава 15. ЛЕТО К КОНЦУ В конце лета быстро темнеет, ночью прохладно, а с дерева нет-нет да слетит высохший лист. Недалеко время серебряной паутинки. Земля облезет, как шерсть у собаки, с неё сдерут траву и сожгут на кострах. Хромой не поправляется, наоборот, хворает всё больше. Рана его не заживает. Чёрный сказал: - Плохо твоё дело, Хромой. Говорил, не ходи побираться. Хромой что-то хрипит в ответ, даже не поднимает морду. Как быстро промелькнуло лето! Скоро начнутся дожди, задуют ветры, и тогда снова ищи тёплый угол да корку хлеба. 399 В овраге посветлела трава, от неё пахнет сладким дурманом. В погожие дни я часто пристраиваюсь в какой-нибудь ложбинке, качаю носом цветы, смотрю на больших стрекоз и разговариваю с оврагом. - Помнишь, дядюшка Овраг, как мы ходили к тебе с моим Человеком? Что он тебе сказал? "Гордый - мой лучший друг! " - вот что сказал тебе мой Человек. Дядюшка Овраг шелестит что-то в ответ и щекочет меня большой травинкой. - Да, - говорю я, - скоро зима. Но знаешь, где я буду жить, дядюшка Овраг? Я буду жить с моим Человеком. Он сам мне сказал: "Приходи и живи со мной, Гордый". А если не веришь, дядюшка Овраг, спроси у кота Ямомото. К осени ближе наливаются грустью собачьи глаза. Особенно это заметно по Бывшей Таксе . - Ах, я всё вспоминаю нашу дачу, - вздыхает она, - какая это была жизнь! Мне отвели целую комнату. Только подумайте, целую комнату для собаки! - Ха-ха-ха! - начинает свою песню Крошка. - Когда он смеётся, мне делается грустно, - говорит Бывшая Такса. - Это потому, что ты не умеешь читать, - сказал Головастый. Когда мне грустно, я читаю про сенокос и уборку урожая. - Ты такой умный, - сказала Бывшая Такса, - почти как мой Человек. Его звали Профессор. Хочешь, я буду звать тебя Профессором, Головастый? Головастый смутился и сразу напялил шляпу. К осени ближе чешется бок у собаки. Почешешь слева, почешешь 400 справа, и под кожей начинается озноб. Это морозец грозит издалека. Напоминает, что нужно привести в порядок мех, иначе плохо придётся бездомным. Головастый уже начал собирать старые газеты. В холод он делает из них подстилку. Головастый любит спать на газетах. Проснётся, прочитает словечко и снова заснёт. Утром вместо завтрака всё бормочет себе под нос: "Рек-лам-ная смесь... Ку-да пой-ти учить-ся..." Крошка утепляет свой яблочный ящик и радуется, что скоро приедут дети. Зазвенит в школе звонок, и они побегут, махая портфелями. Крошку все любят. Станут гладить, обнимать, совать в пасть конфеты. В конце лета луна делается ярче и ярче. Хромой каждую ночь воет: "Дайте Хромому, подайте Хромому, киньте хоть маленький осколочек луны! Серебряную крошку, маленькую крошку, чтобы дожил Хромой до весны!" Только не знаю, долго ли протянет Хромой. Мой добрый приятель кот Ямомото сказал: - Я бы его поставил на ноги. Но не умею лечить собак. А денёчки такие славные! Тёплые, спелые, как большая ягода. Наш овраг ещё радует вольных псов. Там, где не соскребли и не разрыли землю, всё заросло буйной травой. Между кучами глины пробирается ручеёк. Целые дни мы проводим в овраге. Играем в охоту, в собачью догонялку. Только Хромой уже не играл. Кончились игры Хромого. В эти 401 последние тёплые дни расстались мы с бедным Хромым . Глава 16. ПРОЩАНЬЕ С ХРОМЫМ Он лежал, уткнув морду в лапы. Шерсть на боку облезла, рана стала ещё больше. Все наши сидели вокруг. - Хочешь есть? - спросил Чёрный. - Не знаю, - прохрипел Хромой. - Принесите ему кость, - приказал Чёрный. Кто-то сбегал за костью. В тайнике Чёрного всегда лежит косточка, хотя и обглоданная. Хромой понюхал кость, хотел подвинуть её лапой, но не смог. - Чего тебе хочется? - спросил Чёрный. - Солёненькой травки, - прохрипел Хромой. Солёненькой травки! Где её взять? Место, где росла солёная трава, давно завалено землёй и камнем. Мы знали, только солёная трава могла помочь Хромому. Но это раньше. Теперь и солёная трава не нужна. Наступил последний денёк Хромого. - Поищите ему солёной травы! - приказал Чёрный. Все молча разбежались по оврагу. Нет солёной травы, но ведь надо что-то найти Хромому. Когда плохо кому-то из наших, мы стараемся принести угощение. В прошлом году захворал Отпетый. Помню, я принёс ему веточку, намоченную в нашем ручье. Отпетый полизал её и сказал, что ему хорошо. К лету, кроме Отпетого, мы недосчитались ещё троих. Ленивый 402 попал под машину, Тихий пропал, а Красивую заманили и увели с собой какие-то люди. Мы снова собрались в кружок. Каждый принёс что мог. Корку, огрызок яблока, обёртку от сладкой конфеты. Я положил перед Хромым золотое колечко. Пусть полюбуется напоследок. - Спасибо, - прошептал Хромой. - Прощайтесь! - строго сказал Чёрный. - До свидания, Хромой, - сказала Бывшая Такса и убежала. - До скорого, Хромка! - бросил Крошка, махнув хвостиком. - Чао, - важно произнёс Головастый, он любил незнакомые слова. Остались мы с Чёрным. Чёрный ждал, что я попрощаюсь и уйду первым. Но я сидел молча. Здесь я не уступлю Чёрному. Так просидели долго. - Ладно, Гордый, - сказал наконец Чёрный, - я не такой, чтобы ссориться, когда кто-то умирает. Он встал, прикоснулся носом к носу Хромого и сказал: - Главное, ничего не бойся. - Я и не боюсь, - прохрипел Хромой. Чёрный ушёл. Мы остались одни. Солнце оседало за дорогой. Ползли по земле тени, одна накрыла Хромого. - Гордый, - прошептал он, - ты это... знаешь, где у Коровьего куста лежит кривая дощечка? - Знаю, - ответил я. - Там это... мой мячик спрятан. Возьми себе. - Ладно, - сказал я. - Хороший мячик. Совсем новый, только с дыркой. Возьми. С ним хорошо играть. 403 - Ладно, - сказал я. - Прыгай и бей его носом, - советовал Хромой. - Ты хорошо прыгаешь. Первый и последний раз я слышал, как Хромой разговорился. Пересилил себя напоследок. - Гордый, это самое... - прохрипел он. - Надень мне на нос колечко. Я взял золотое кольцо и повесил его на нос Хромому. Оно вспыхнуло в лучах заходящего солнца. - Красиво, - пробормотал Хромой. Это были его последние слова. В овраге стало ещё на одного вольного пса меньше . Глава 17. МЕСТЬ ЧЕРНОГО - Я им отомщу! - сказал Чёрный. Он говорил это каждый раз, когда уменьшалась стая. В глазах его светилась тоска. Я знал, как он переживает. И тогда я решил сказать: - Не горюй, Чёрный. Я буду вместо Хромого. Чёрный встрепенулся . - Ты идёшь в стаю, Гордый? - Да, Чёрный. Я буду вместо Хромого. Чёрный выпрямился и крикнул звонко: - Построиться! Я встал первый, за мной Головастый, Крошка и Бывшая Такса. - Друзья! - сказал Чёрный, глаза его горели. - Гордый вступает в стаю. Он будет моей правой лапой. Поклянёмся ещё раз стоять друг за 404 друга и никогда не разлучаться! - Рррав! - гаркнули мы. - Поклянёмся не забывать Хромого! - Рррав! - Поклянёмся отомстить взрослым! - Поклянёмся! - радостно крикнул Крошка. Остальные глухо тявкнули. - Как же мы будем мстить? - Чёрный обвёл нас взглядом. Я сказал, что надо наказать того, кто ударил Хромого. Только вот как его найти? Головастый важно заметил, что найти будет трудно. Крошка хихикал, а Бывшая Такса вздыхала. - Я смотрю, вы ничего не можете придумать, - сказал Чёрный. Боитесь людей. Хорошо. Я никого не заставляю. Я отомщу сам. Кто пойдёт со мной? - Я! - выкрикнул Крошка. После этого среди бела дня Чёрный и Крошка напали на взрослую. Она прогуливалась вдоль оврага. Взрослая испугалась и побледнела. Чёрный прыгал на неё и клацал зубами. Крошка мельтешил рядом и заливался весёлым лаем. Для него это забава, а для Чёрного удовольствие. Чёрный любит, когда боятся . - Они меня ещё попомнят, - проворчал он. На другой день Чёрный и Крошка стали пугать всех подряд. Притаятся за углом, выскочат, облают и убегут. Все это не очень мне нравилось. Я ждал неприятностей. Так скоро и вышло. Один взрослый не испугался. Он схватил камень и бросил в Чёрного. Тогда Чёрный разозлился и укусил взрослого за ногу. 405 Это уже не шутки. Мы убежали в овраг и спрятались. Чёрный ещё дрожал от азарта. - Я им покажу! - рычал он. - Пусть ещё раз кинут камнем! Но и сам он чувствовал, что хватил лишку. Люди не любят, когда их кусают. Глава 18. БОЛЬШАЯ ПЕСНЯ Первую недобрую весть принёс кот Ямомото. Ямомото прибежал напуганный. - Прячься, Гордый, - прошипел он, - тебя отправят на живодёрню. Ямомото слышал разговор взрослых. В овраге появились бешеные собаки, они кусают людей. Несколько покусали днём, а двоих ночью. Этих собак нужно поймать. У меня всё внутри упало. Значит, нажаловались и те двое, от которых я спас своего Человека. Плохо нам теперь придётся. - Я бы позвал тебя жить к себе, - сказал Ямомото, - да сам понимаешь, надо проучить домашних. Пускай поскучают. Мне и на улице хорошо. Наши собрались в кружок и стали думать. Не пора ли переселяться? Но куда? Справа дорога, слева дорога, носятся машины, грохочут поезда. Жалко, что мы не звери. Тогда бы сбежали в лес. Лес синеет вдали. Там нет домов и людей, но, значит, нет и пищи. Словом, податься некуда. 406 - Надо им всё объяснить, - размышлял Головастый. - Надо сказать, что Чёрный не хотел кусать, но в него кинули камнем. - Вот и объясни. - Чёрный мрачно усмехнулся. - Какая жалость, что нас не учили по-человечьи, - сказала Бывшая Такса. - Моя подруга по даче умела говорить "мама". Катились денёчки, и мало-помалу мы успокоились. Дети такие добрые и ласковые. Прозвенит звонок, они высыпят из школы, и начинается беготня и забавы. Намаешься за день, забудешь про все невзгоды. Ночью мы поглядываем на луну. Пришло время большой песни. Эту песню мы поём раз в год перед зимой. Рассказываем луне, как прошло лето, просим, чтобы зима была потеплее. Начинает всегда Крошка. Крошка поёт хорошо, никогда не сбивается. Он пел про свой ящик, который пахнет яблоками. Крошка утеплил ящик соломой и глиной, сделал подстилку из сухой травы, но эту траву растаскивают мыши. Крошка просил луну, чтобы ночная птицаковырун не мешала ему спать, не садилась на ящик. Головастый, как всегда, начал хвалиться, что умеет читать. Свою песню Головастый исполнял в шляпе. Он вытягивал к луне лапу, прикладывал её к груди, а в конце разошёлся и стал петь прямо по газете: - "В но-овый год пятилее-тки вступит заа-втра завод!" Никто не имеет права прерывать большую песню. Даже Чёрный терпел, 407 пока Головастый допоёт луне свои глупости. Бывшая Такса пела про свой бант. Она жаловалась, что бант порвался, а раньше был красивый и чистый. И Такса просила, чтобы кто-нибудь привязал ей на шею новый бант с крапинками. - Как жалко, как жалко, что нас не учили завязывать бант! - пела Такса. Чёрный проклинал человечьи машины, жалел овраг. Чёрный жаловался, что собакам не стало житья, а потом стал звать Хромого: - Эй, Хромой, я тебя вижу, вон ты сидишь на луне! Эй, Хромой, расскажи мне, Чёрному, как ты живёшь на луне! Эй, Хромой, приготовь мне место, скоро и я буду жить на луне! А моя песня была совсем короткой. Я спел луне, что она такая же блестящая, как ружьё моего Человека. Я спел луне, что она такая же круглая, как собачья дверка. - А за этой дверкой, за этой дверкой так хорошо собаки живут! А наутро после большой песни всё и случилось. Глава 19. ЖЕЛЕЗНАЯ КЛЕТКА Началось с того, что прибежал Крошка и, запыхавшись, крикнул: - Еду кидают! Кто кидает, где? Бывают, конечно, радости в жизни собаки. Например, у магазина появится гора костей. А то в мусорный ящик попадёт целый кулёк с мясными объедками. Уж тут гляди, не зевай. Крошка умчался, а я побежал, искать Ямомото. Может, и ему перепадёт немного. Это меня и спасло, а то бы попался, как Крошка. 408 Когда мы с Ямомото прибежали за едой, Крошка и Головастый уже сидели в железной клетке. Рядом расхаживал человек с большой верёвкой. Крошка и Головастый печально смотрели из-за решётки. Кругом носился Чёрный и яростно ругал растяп: - Зачем полезли? Зачем брали у него мясо ? - Он дал мне мясо, - объяснял Головастый, - а потом кинул на шею петлю. Я чуть не задохнулся. Скажи ему, чтобы он отпустил нас. Чёрный рычал и метался вокруг железной клетки. - Отпусти их! - хрипел он. - Отпусти, негодяй! Я тебя покусаю! - Иди сюда, псина, иди, - звал человек и бросал на Чёрного петлю. Но Чёрный уворачивался. - Чёрный, беги! - крикнул я. - Поймают! - Конец им пришёл, - прошипел Ямомото, - отправят на живодёрню. Бежим, Гордый. - Чёрный, беги! - крикнул я. - Я их спасу! - рычал тот. - Я его покусаю! Но тут человек ловко набросил петлю. Чёрный взметнулся вверх, забился. Ещё мгновение, и человек перебросил Чёрного через высокую решётку . - Негодяй, негодяй! - рычал тот и грыз железные прутья. - Бежим, Гордый, - торопил Ямомото. Но я не мог бросить своих. И так же, как Чёрный, я стал носиться вокруг клетки, рычать и лаять. - Гордый, уходи! - крикнул Чёрный. - Спасайся! Вокруг стали собираться люди. Они говорили: - Не издевайтесь над собаками! Отпустите собак! Человек с верёвкой ответил: 409 - Сами жаловались, что есть бешеные. А если вас бешеные покусают? Дети хором кричали: - Отпустите собак, отпустите! Некоторые плакали. Головастый никак не мог понять, за что он попал в клетку. - Гордый, - бормотал он, - скажи, чтобы меня отпустили. Ведь я умею читать. Скажи им, что я умею читать. А Крошка начал смеяться. Он начал смеяться над Головастым, а может, и сам не знал, над чем. Он смеялся, смеялся, а потом стал плакать. Плакал и смеялся, и снова плакал. - Не плачь, Крошка, не плачь! - рычал Чёрный. - Я не дам тебя в обиду. Я всех покусаю! Гордый, беги! И тут я почувствовал, что петля схватила меня за шею. Она сдавила горло, в глазах помутилось, и я упал на землю. Когда я очнулся, кто-то говорил: - Это моя собака, отпустите её! И я увидел моего Человека. Он нагнулся, снял петлю и погладил меня по голове . - Если это ваша собака, то где её ошейник? - спросил тот, с верёвкой. - Это не ваша собака. Я отпущу её, а она снова будет всех кусать. - Нет, - твердо сказал мой Человек. - Это моя собака. - Покажи номер, - сказал тот. Тогда мой Человек вынул из кармана бумажку. Человек с верёвкой спрятал её в карман и сказал: - Ладно, бери собаку. Только надень ошейник. Мы ловим всех бездомных собак . Я не мог стоять, ноги дрожали от слабости. Тогда мой Человек взял меня на руки и сказал: 410 - Пойдём домой. И он унёс меня от железной клетки, в которой рычал Чёрный, плакал Крошка и бормотал Головастый. Больше я их не видел. Глава 20. ДО СВИДАНИЯ, ОВРАГ Вот и всё. Кончилась наша жизнь в овраге. Для меня началась новая. Мы уехали и целый месяц бродили с моим Человеком по осенним лесам. В лесу так здорово! Сбылась моя мечта. Я шёл рядом со своим Человеком и зорко смотрел по сторонам. Мы продирались сквозь чащи, переплывали реки, ночевали у костра. За это время я сильно окреп . Мой Человек иногда вынимал свои картоночки и трогал их палочками. А однажды на картонке появилась та птица, которую я видел во сне. Мы вернулись в город, когда уже выпал снег. Овраг покрылся белой пеленой. Замёрзло болотце. Дети катались на санках, бегали на коньках. Я сразу встретил Балконного. Его теперь выводят гулять в тёплой ватной попонке. Ноги у него поправляются, и он совсем перестал ругаться. Мой добрый приятель кот Ямомото помирился с домашними и снова живёт в тепле и достатке. Он рассказал, что несколько раз видел Бывшую Таксу, а потом она пропала . 411 Мой Человек не держит меня на привязи. Целый день я гуляю где хочу, а спать прихожу домой. Все знают, что у меня есть Человек. Соседи поругались-поругались, а потом привыкли. Утречком, когда скрипит снег, мы выходим гулять вместе. Я ношусь по ровному снегу и вспоминаю. Вот здесь была моя пещерка, тут лежала доска, а здесь пряталось золотое колечко. Мне кажется, что овраг спит крепким сном. Тепло под белым пушистым одеялом. Я разгребаю снег носом, прикладываю ухо к земле и говорю: - Ты слышишь меня, дядюшка Овраг? - Ш-шуу... - чудится мне в ответ. - Ты спишь? - спрашиваю я. - Ш-шуу... - повторяет он. Тогда я вспоминаю всю свою неприкаянную собачью жизнь, холод и голод. Теперь у меня есть тёплый угол, своя постелька. Чего ещё желать? Вечером мой Человек долго не тушит свет. Я подрёмываю, смотрю, как он орудует палочками. А потом к нам приходит дядюшка Овраг. Сначала он долго шаркает за дверью ногами, покряхтывает. Мой Человек открывает дверь и приглашает: - Входи, дядюшка Овраг, входи. Мы тебя ждём. Дядюшка Овраг кланяется низко, говорит: - Здравствуйте, уважаемые. Мы кипятим чайник, ставим на стол варенье. Дядюшка Овраг пьёт из 412 блюдечка, щёлкает сахаром, говорит: - Хорошо, уважаемые. - Пей, пей, дядюшка Овраг, - угощает мой Человек. - Давай я тебя нарисую. Дядюшка Овраг садится на стул, делается важный, и мой Человек рисует его на большом листе бумаги. Потом я подсаживаюсь к дядюшке, и мой Человек рисует нас вместе. Мы снова пьём чай. Дядюшка Овраг выпивает целых десять стаканов. Ему жарко, он доволен. Он говорит: - Да уж... Потом я ложусь спать и прошу: - Дядюшка Овраг, расскажи сказку. Он морщит лоб, думает, потом начинает: - Да... жили-были собачки. Хорошие псы. Одного звали Гордый, другого Чёрный, третьего Головастый. Да... И ещё был Крошка, тоже хороший пёсик. Ну и Бывшая Такса с ними. Жили они, поживали, со мной дружили. Хорошие были собачки. - А Гордый хороший? - спрашиваю я. - Хороший, хороший, - отвечает он. - Один ты у меня остался, остальные ушли, бросили. - Они ещё вернутся, - обещаю я. - Да уж, вернутся... - бормочет дядюшка Овраг. - Старею я. Понасыпали на меня всякого, домов понаставили, да... Тяжело. Бок зачешется, и почесать некому. - Я почешу, дядюшка Овраг. - Да... К весне, глядишь, совсем засыпят. Что тогда делать? Где 413 травки солёной возьмёшь? - Да её давно нету, - говорю я. - Травку ту давно уж глиной засыпали. Но может быть, новая вырастет? - Да... - бормочет он, - вырастет... Ну я пошёл. Спасибо, чайком напоили. Утром придёшь гулять? - Приду, дядюшка Овраг. - В снежки поиграем, - говорит он, довольный. Утром я ношусь по чистому снегу. Мой Человек бросает палку, я хватаю и приношу её обратно. Мы бегаем, веселимся. Дядюшка Овраг смотрит и тоже радуется. - Молодцы, - бормочет он. - Кабы все так... И он обдаёт нас снежной пыльцой, катает на спине. Зима всё дальше, небо светлее. Потом будет весна, придёт лето. Летом устрою себе дачу. Возьму Крошкин ящик, поставлю за Диким кустом. Летом в овраг придут другие собаки. А может, вернутся Новые или Бывшая Такса... Так я мечтал, а вышло совсем по-другому. В конце зимы мой Человек получил новое жильё, и нам пришлось переехать. Будем теперь жить без соседей, никто не заворчит, если я наслежу на полу. В самый последний день я побежал прощаться с Оврагом. Сколько здесь навалило снега! Я долго рыл лапой, пока добрался до чёрной травы. - Ты слышишь меня, дядюшка Овраг? - спросил я. - Ш-шуу... - ответил он. 414 - Я уезжаю, слышишь? Я уезжаю. - Ш-шуу... - Но я тебя навещу, дядюшка Овраг. Вот лето придёт, и я тебя навещу. - Ш-шуу... - шуршало кругом. Я ткнул в траву носом и тихо сказал: - До свидания. - Ш-шш... - донеслось в ответ. Дунул ветер, и снежное облако обдало меня острой пылью. 415 Р. Л. Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда История двери Храните нерушимость этих уз С ветрами, с вереском незыблем наш союз. Вдали от родины мы знаем, что для нас Цветет на севере душистый дрок сейчас. Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь; зато она говорила не только в этих безмолвных средоточиях послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой: когда обедал в одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах, а когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать. - Я склонен к каиновой ереси, говаривал он со скрытой усмешкой. Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу . А потому судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде. Без сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из 416 той же вселенской благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая; этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил либо с родственниками, либо с давними знакомыми; его привязанность, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее и тот и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела. И вот как-то раз в такое воскресенье случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по-видимому, преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки прибылей употребляли на прихорашивание; поэтому витрины по обеим ее сторонам источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была пустынна, все же по сравнению с окружающим убожеством она сияла, точно костер в лесу, аккуратно выкрашенные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного прохожего. Через две двери от угла, по левой стороне, если идти к востоку, линия домов нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна только дверь внизу да слепой лоб 417 грязной стены над ней и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежения. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяга устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, дети играли "в магазин" на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств. Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но, когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него. - Вы когда-нибудь обращали внимание на эту дверь? спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил: С ней связана для меня одна очень странная история. - Неужели? спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом. Какая же? - Дело было так, начал мистер Энфилд. Я возвращался домой откудато с края света часа в три по-зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все спят, улица за улицей, освещенные, словно для какогонибудь торжества, и опустелые, как церковь, так что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры: в восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет девяти. Hа углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот что-то произошло нечто непередаваемо мерзкое: мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский Джаггернаут. Я закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и дотащил назад, туда, где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько 418 не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испариной, точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся возле девочки, ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бежала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что, конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый, говорил он с сильным эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке. Так вот, сэр. С ним случилось то же, что и со всеми нами, стоило ему взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и, хотя убить негодяя, к сожалению, все-таки было нельзя, мы все же постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ославить его на весь Лондон, и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах, а негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость, я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам Сатана. "Если вы решили нажиться на этой случайности, заявил он, то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете?" В конце концов мы выжали из него сто фунтов для родных девочки; он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. 419 Теперь оставалось только получить деньги, и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери! Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес десять гиней и чек на банк Куттса, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней-то и заключена главная соль моей истории; скажу только, что фамилия эта очень известна и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит: только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на сто фунтов. Но он и бровью не повел. "Не беспокойтесь, заявил он презрительно. Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку". После чего мы все врач, отец девочки, наш приятель и я отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало! Подпись оказалась подлинной. - Так-так! заметил мистер Аттерсон. - Я вижу, вы разделяете мой взгляд, сказал мистер Энфилд. Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек, воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и (что только ухудшает дело) принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж: честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. "Дом шантажиста" вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все! - Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив: - Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек? - В таком-то доме? возразил мистер Энфилд. К тому же я прочел на чеке его адрес какая-то площадь. 420 - И вы не наводили справок... о доме с дверью? осведомился мистер Аттерсон. - Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов: в наведении справок есть какой-то привкус Судного дня. Задать вопрос это словно столкнуть камень с горы: вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни; какойнибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило: чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов. - Превосходное правило, согласился нотариус. - Однако я занялся наблюдением за этим зданием, продолжал мистер Энфилд. Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе; окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое. Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон. - Энфилд, сказал он, это ваше правило превосходно. - Да, я и сам так считаю, ответил Энфилд. - Тем не менее, продолжал нотариус, мне все-таки хотедось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка. - Что же, сказал мистер Энфилд, не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайд. - Гм! отозвался мистер Аттерсон. А как он выглядит? 421 - Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное... что-то неприятное... попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство, такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается: я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами. Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая. - А вы уверены, что у него был собственный ключ? спросил он наконец. - Право же... начал Энфилд, даже растерявшись от изумления. - Да, конечно, перебил его Аттерсон. Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей. - Вам следовало бы предупредить меня, обиженно ответил мистер Энфилд, но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ: я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад. Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил: - Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме. - С величайшей охотой, ответил нотариус. Совершено с вами согласен, Ричард. 422 Поиски мистера Хайда В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с какимнибудь сухим богословским трактатом на пюпитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Аттерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф, достал из тайника документ в конверте, на котором значилось: "Завещание д-ра Джекила", и, нахмурившись, принялся его штудировать. Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Аттерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время наотрез отказался принять участие в его составлении; согласно воле завещателя, все имущество Генри Джекила, доктора медицины, доктора права, члена Королевского общества и т. д., переходило "его другу и благодетелю Эдварду Хайду" не только в случае его смерти, но и в случае "исчезновения или необъяснимого отсутствия означенного доктора Джекила свыше трех календарных месяцев"; означенный Эдвард Хайд также должен был вступить во владение его имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам доктора . Этот документ давно уже был источником мучений для нотариуса. Он оскорблял его и как юриста и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. До сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде, теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайда оставалось для него только именем, 423 положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами и из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ. - Мне казалось, что это простое безумие, пробормотал нотариус, убирая ненавистный документ в сейф. Но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна. Мистер Аттерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению к Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг энаменитый доктор Лэньон. "Если кто-нибудь и может пролить на это свет, то только Лэньон", решил он. Важный дворецкий почтительно поздоровался с мистером Аттерсоном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк с гривой рано поседевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности, однако приветливость его была неподдельна и порождало ее искреннее чувство: доктор Лэньон и мистер Аттерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету, они питали глубокое взаимное уважение и к тому же (что далеко не всегда сопутствует подобному уважению у людей, также уважающих и самих себя) очень любили общество друг друга. Несколько минут они беседовали о том о сем, а затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший. - Пожалуй, Лэньон, сказал он, мы с вами самые старые друзья Генри Джекила? 424 - Жаль, что не самые молодые! рассмеялся доктор Лэньон. Но, наверное, так оно и есть. Почему вы об этом упомянули? Я с ним теперь редко вижусь. - Неужели? А я думал, что вас сближают общие интересы. - Так оно и было, ответил доктор. Но вот уже десять с лишним лет, как Генри Джекил занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути я говорю о путях разума , и, хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, вот уже несколько лет я вижусь с ним чертовски редко. Подобный ненаучный вздор заставил бы даже Дамона отвернуться от Финтия, заключил доктор, внезапно побагровев. Эта вспышка несколько развеяла тревогу мистера Аттерсона. "Они поссорились из-за каких-то научных теорий, подумал он, и, так как науки его нисколько не интересовали (если только речь не шла о теориях передачи права собственности), он даже с облегчением добавил про себя: Ну, это пустяки!" Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Аттерсон наконец задал вопрос, ради которого и пришел сюда: - А вам знаком его протеже... некий Хайд? - Хайд? повторил Лэньон. Нет. В первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня. Это были единственные сведения, полученные нотариусом, и он мог сколько душе угодно размышлять над ними, ворочаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов. Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Аттерсона, пробили шесть, а он все еще ломал голову над этой загадкой; вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес, но теперь было уже затронуто, а вернее, порабощено, и его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжкой тьме своей 425 плотно занавешенной спальни, а в его сознании, точно свиток с огненными картинами, развертывалась история, услышанная от мистера Энфидда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города, затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины, затем бегущая от врача девочка, они сталкивались. Джаггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил, грезил во сне и улыбался, но тут дверь спальни отворялась, занавески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью, - даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет; если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть: она еще более беззвучно кралась по затихшим домам или еще быстрее, еще стремительнее с головокружительной быстротой мелькала в еще более запутанных лабиринтах освещенных фонарями улиц, на каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стонов. И попрежнему у этой фигуры не было лица, по которому он мог бы ее опознать, даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами прежде, чем он успевал рассмотреть хоть одну черту; в конце концов в душе нотариуса родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Мистер Аттерсон не сомневался, что стоит ему только взглянуть на это лицо и тайна рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивают загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, он найдет объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него (называйте это как хотите), а быть может, поймет и причину столь необычного условия, 426 оговоренного в завещании. Да и в любом случае на это лицо стоит посмотреть на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило в сердце флегматичного Энфилда глубокую и непреходящую ненависть. С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий в конторе, днем, когда дел было много, а времени мало, вечером под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты нотариус являлся на выбранный им пост. "Как бы он ни прятался, я его увижу", упрямо твердил он себе. И наконец его терпение было вознаграждено. Был ясный, сухой вечер, холодный воздух чуть покусывал щеки, улицы были чисты, как бальные залы, фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина, хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко, на обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов, а шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производят шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимания так резко и властно, и он скрылся под аркой ворот с суеверной уверенностью в успехе. Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на 427 таком расстоянии нотариус почувствовал в нем что-то отталкивающее. Неизвестный направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Аттерсон сделал шаг вперед и, коснувшись его плеча, сказал: - Мистер Хайд, если не ошибаюсь? Мистер Хайд попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако его испуг был мимолетен, и хотя он не смотрел нотариусу в лицо, но ответил довольно спокойно: - Да, меня зовут так. Что вам нужно? - Я вижу, вы собираетесь войти сюда, сказал нотариус. Я старый друг доктора Джекила, мистер Аттерсон с Гонт-стрит. Вы, вероятно, слышали мое имя, и, раз уж мы так удачно встретились, я подумал, что вы разрешите мне войти с вами. - Вам незачем заходить, доктора Джекила нет дома, ответил мистер Хайд, продувая ключ, а потом, все еще не поднимая головы, внезапно спросил: А как вы меня узнали? - Прежде чем я отвечу, не окажете ли вы мне одну любезность? сказал мистер Аттерсон. - Извольте. А какую? - Покажите мне свое лицо, попросил нотариус. Мистер Хайд, казалось, колебался, но потом, словно внезапно на чтото решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга. - Теперь я вас всегда узнаю, заметил мистер Аттерсон. Это может оказаться полезным. - Да, ответил мистер Хайд, пожалуй, хорошо, что мы встретились, и a propos (кстати - фр.) мне следует дать вам мой адрес, и он назвал улицу в Сохо и номер дома. 428 "Боже великий! ужаснулся мистер Аттерсон. Неужели и он подумал о завещании?" однако он сдержался и только невнятно поблагодарил за адрес. - Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали? потребовал мистер Хайд. - По описанию. - А кто вам меня описал? - У нас есть общие друзья. - Общие друзья? сипло переспросил мистер Хайд. Кто же это? - Например, Джекил, ответил нотариус. - Он вам ничего не говорил! воскликнул мистер Хайд, гневно покраснев. Я не ждал, что вы мне солжете. - Пожалуйста, выбирайте выражения, сказал мистер Аттерсон. Мистер Хайд издал свирепый смешок и через мгновение, с немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней. Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где его оставил мистер Хайд, и на лице его были написаны тревога и недоумение. Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. Быть может, задача, которую он пытался решить, вообще не имела решения. Мистер Хайд был бледен и приземист, он производил впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем заметно не было, улыбался он крайне неприятно, держался с нотариусом как-то противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и прерывистый все это говорило против него, но и все это, вместе взятое, не могло объяснить, почему мистер Аттерсон почувствовал дотоле ему неизвестное отвращение, гадливость и страх . - Тут кроется что-то другое! в растерянности твердил себе нотариус. Что-то совсем другое, но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого ! Он более походит на троглодита. А может быть, это случай необъяснимой антипатии? Или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает? 429 Пожалуй, именно так, да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекил, на лице твоего нового друга явственно видна печать Сатаны . За углом была площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив былое величие, сдавалось поквартирно людям самых разных профессий и положений граверам, архитекторам, адвокатам с сомнительной репутацией и темным дельцам. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом; перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Он постучал. Дверь открыл старый прекрасно одетый слуга. - Доктор Джекил дома, Пул? осведомился нотариус. - Сейчас узнаю, мистер Аттерсон, ответил Пул, впуская гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом, где (точно в помещичьем доме) пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки. - Вы подождете тут у огонька, сэр, или зажечь лампу в столовой? - Благодарю вас, я подожду тут, ответил нотариус и оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекила, и сам Аттерсон не раз называл ее самой приятной комнатой в Лондоне. Но в этот вечер по его жилам струился холод, повсюду ему чудилось лицо Хайда, он испытывал (большая для него редкость) гнетущее отвращение к жизни; его смятенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул. Дворецкий сообщил, что доктор Джекил куда-то ушел. 430 - Я видел, Пул, как мистер Хайд входил в дверь бывшей секционной, сказал нотариус. Это ничего? Раз доктора Джекила нет дома... - Это ничего, сэр, ответил слуга. У мистера Хайда есть свой ключ. - Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку, Пул, задумчиво продолжал нотариус. - Да, сэр, очень, ответил Пул. Нам всем приказано исполнять его распоряжения. - Мне, кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь? спросил Аттерсон. - Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает, выразительно ответил дворецкий. По правде говоря, в доме мы его почти не видим; он всегда приходит и уходит через лабораторию. - Что же! Доброй ночи. Пул. - Доброй ночи, мистер Аттерсон. И нотариус с тяжелым сердцем побрел домой. "Бедный Гарри Джекил! думал он. Боюсь, над ним нависла беда! В молодости он вел бурную жизнь конечно, это было давно, но Божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так: тень какого-то старинного греха, язва скрытого позора, кара, настигшая его через много лет после того, как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинение ". Испугавшись этой мысли, нотариус задумался над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти, полный страха, что оттуда, точно чертик из коробочки, вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно немного нашлось бы людей, которые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни, и все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его во прах, чтобы затем он мог воспрянуть, с робкой и смиренной благодарностью припомнив, от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. 431 Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету, и в сердце вспыхнула искра надежды. "Этим молодчиком Хайдом следовало бы заняться: у него, несомненно, есть свои тайны черные тайны, если судить по его виду, тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джекила покажутся солнечным светом. Так больше продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь воровато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает! И какая опасность ему грозит ведь если этот Хайд проведает про завещание, ему, быть может, захочется поскорее получить свое наследство! Да-да, мне следует вмешаться... Только бы Джекил позволил мне вмешаться, добавил он. Только бы он позволил". Ибо перед его умственным взором вновь, словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания. Доктор Джекил был спокоен По счастливому стечению обстоятельств две недели спустя доктор Джекил дал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного он далеко не в первый раз уходил из гостей позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кров; многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе, нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекил не был исключением из этого правила, и теперь, когда он расположился по другую сторону камина крупный, хорошо 432 сложенный, моложавый мужчина лет пятидесяти, с лицом, быть может, не совсем открытым, но, бесспорно, умным и добрым, вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Аттерсону самую теплую привязанность. - Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекил, сказал нотариус. О вашем завещании. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что тема эта доктору неприятна, однако он ответил нотариусу с веселой непринужденностью. - Мой бедный Аттерсон! воскликнул он. На этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэньона, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. О, я знаю, что он превосходный человек не хмурьтесь, пожалуйста. Да, превосходный, и я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще; но это не мешает ему быть упрямым педантом невежественным, надутым педантом! Я ни в ком так не разочаровывался, как в Лэньоне. - Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным, продолжал мистер Аттерсон, безжалостно игнорируя попытку доктора переменить разговор. - Мое завещание? Да, конечно, знаю, ответил доктор с некоторой резкостью. Вы мне это уже говорили. - Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз, продолжал нотариус. Мне стало кое-что известно про Хайда. По крупному красивому лицу доктора Джекила разлилась бледность, его глаза потемнели. - Я не желаю больше ничего слушать, сказал он. Мне кажется, мы согласились не обсуждать этого вопроса. - Но то, что я слышал, отвратительно. 433 - Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении, сбивчиво ответил доктор. Оно крайне щекотливо, Аттерсон, крайне щекотливой странно, очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь. - Джекил, сказал Аттерсон, вы знаете меня. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне, и я не сомневаюсь, что сумею вам помочь. - Мой дорогой Аттерсон, сказал доктор. Вы очень добры, очень, и я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я верю вам безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя, но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется, и дело обстоит далеко не так плохо; и, чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь: стоит мне захотеть, и я легко и навсегда избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что, Аттерсон (и надеюсь, вы поймете меня правильно): это мое частное дело, и я прошу вас не вмешиваться. Аттерсон некоторое время размышлял, глядя на огонь. - Разумеется, это ваше право, - наконец сказал он, вставая. - Ну, раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, в последний раз, сказал доктор, мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. Я знаю, что вы его видели он мне об этом рассказывал, и боюсь, он был с вами груб. Однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке; если меня не станет, то прошу вас, Аттерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, знай вы все, а ваше обещание снимет камень с моей души. - Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию, сказал Аттерсон. 434 - Об этом я не прошу, грустно произнес Джекил, положив руку на плечо нотариуса. Я прошу только о справедливости; я только прошу вас помочь ему, ради меня, когда меня не станет. Аттерсон не мог удержаться от глубокого вздоха. - Хорошо, сказал он. Я обещаю. Убийство Кэрью Одиннадцать месяцев спустя, в октябре 18... года, Лондон бьл потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Те немногие подробности, которые были известны, производили ошеломляющее впечатление. Служанка, остававшаяся одна в доме неподалеку от реки, поднялась в одиннадцатом часу к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок, куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, служанка была романтической натурой: во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни (со слезами повторяла она, когда рассказывала о случившемся), ни разу в жизни не испытывала она такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру. Вскоре она заметила, что к их дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами, а навстречу ему идет другой, низенький джентльмен, на которого она сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились (это произошло почти под самым окном служанки), пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Видимо, речь шла о каком-то пустяке - судя по его 435 жесту, можно было заключить, что он просто спрашивает дорогу, однако, когда он заговорил, на его лицо упал лунный свет, и девушка залюбовалась им такой чистой и старомодной добротой оно дышало, причем эта доброта сочеталась с чем-то более высоким, говорившим о заслуженном душевном мире. Тут она взглянула на второго прохожего и, к своему удивлению, узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к ее хозяину и к которому она сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, которой все время поигрывал; он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в дикую ярость затопал ногами, взмахнул тростью и вообще повел себя, по словам служанки, как буйнопомешанный. Почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайд, словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать еe градом ударов служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой, и от ужаса лишилась чувств. Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой, без сомнения, унес убийца. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный, возможно, нес на почту и который был адресован мистеру Аттерсону. Письмо доставили нотариусу на следующее утро, когда он еще лежал в постели. Едва он увидел конверт и услышал о случившемся, его лицо стало очень озабоченным. 436 - Я ничего не скажу, пока не увижу тела, объявил он. Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь. Все так же хмурясь, он наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул. - Да, сказал он. Я его узнаю. Должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Дэннерс Кэрью . - Боже великий! воскликнул полицейский. Неужели, сэр? В его глазах вспыхнуло профессиональное честолюбие. Это наделает много шума, заметил он. Может быть, вам известен убийца? Тут он кратко сообщил суть рассказа служанки и показал нотариусу обломок трости. Когда мистер Аттерсон услышал имя Хайда, у него сжалось сердце, но при виде трости он уже не мог долее сомневаться: хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу. - Этот мистер Хайд невысок ростом? спросил он. - Совсем карлик и необыкновенно злобный так утверждает служанка, ответил полицейский. Мистер Аттерсон задумался, а потом поднял голову и сказал: - Если вы поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом. Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осений туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся пары, и пока кеб медленно полз по улицам, перед глазами мистера Аттерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек: то вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара, то туман на мгновение рассеивался совсем и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы, 437 этот район, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре . Кроме того, нотариуса одолевали самые мрачные мысли, и, когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми. Когда кеб был уже близок к цели, туман немного разошелся, и взгляду мистера Аттерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый, точно глина, туман вновь сомкнулся и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где жил любимец Генри Джекила, человек, которому предстояло унаследовать четверть миллиона фунтов! Дверь им отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манеры ее не оставляли желать ничего лучшего. Да, ответила она, мистер Хайд проживает здесь, но его нет дома; он вернулся поздно ночью, но ушел, не пробыв тут и часа; нет, это ее не удивило: он всегда приходил и уходил в самое неурочное время и часто пропадал надолго; например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия. - Прекрасно. В таком случае проводите нас в его комнату, - сказал нотариус и, когда старуха объявила, что никак не может исполнить его просьбу, прибавил: Вам следует узнать, кто со мной. Это инспектор Ньюкомен из Скотленд-Ярда. Лицо старухи вспыхнуло злобной радостью. - А! сказала она. Попался, голубчик! Что он натворил? Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядом. 438 - Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью, заметил инспектор. А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где. Во всем доме, где не было никого, кроме старухи, мистер Хайд пользовался только двумя комнатами, зато они были обставлены со вкусом и всевозможной роскошью. В стенном шкафу стояли ряды винных бутылок, посуда была серебряной, столовое белье очень изящным; на стене висела хорошая картина подарок Генри Джекила, решил мистер Аттерсон, знатока и любителя живописи; ковры были пушистыми и красивыми. Однако теперь в комнате царил величайший беспорядок, словно совсем недавно кто-то торопливо ее обыскивал: на полу была раскидана одежда с вывернутыми карманами, ящики были выдвинуты, а в камине высилась пирамидка серого пепла, как будто там жгли множество бумаг. Из этой кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня; за дверью они нашли второй обломок трости, и инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия. - Уж поверьте, сэр, объявил он мистеру Аттерсону, теперь он от меня не уйдет! Он совсем голову потерял от страха, иначе он унес бы палку, а главное, ни за что не стал бы жечь чековую книжку. Ведь деньги для него сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет. Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто; у него почти не было знакомых даже хозяин служанки видел его всего два раза, не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался, а те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном: у всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно. 439 ЭпизоД с письмом День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался наконец у двери доктора Джекила. Ему открыл Пул и немедленно проводил его через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, но, питая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон, но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный; кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница велa к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Аттерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами; кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол; три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джекил, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку и поздоровался с ним голосом, совсем не похожим на прежний. - Так вот, сказал мистер Аттерсон, едва Пул удалился, вы слышали, что произошло? 440 Доктор содрогнулся всем телом. - Газетчики кричали об этом на площади, сказал он. Я слышал их даже в столовой. - Погодите, перебил его нотариус. Кэрью был моим клиентом, но и вы мой клиент, и поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя? - Аттерсон, клянусь Богом! воскликнул доктор. Клянусь Богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончено. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи; вы не знаете его так, как знаю я: он нашел себе надежное убежище, очень надежное! И помяните мое слово больше о нем никто никогда не услышит. Нотариус нахмурился; ему не нравилось лихорадочное возбуждение его друга. - Вы, по-видимому, уверены в нем, заметил он. И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь, если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя. - Да, я в нем совершенно уверен, ответил Джекил. Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я... я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его вам, Аттерсон, я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю. - Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след? спросил нотариус. - Нет, ответил доктор Джекил. Право, мне безразлично, что станет с Хайдом; я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которую эта гнусная история может бросить тень. Аттерсон задумался: он был удивлен эгоизмом своего друга и в то же время почувствовал облегчение. - Что же, сказал он наконец. Покажите мне это письмо. 441 Письмо было написано необычным прямым почерком, в конце стояла подпись "Эдвард Хайд"; оно очень кратко сообщало, что благодетель пишущего, доктор Джекил, которому он столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может не тревожиться о нем: у него есть верное и надежное средство спасения. Нотариус прочел письмо с некоторым облегчением, так как оно бросало на эти странные отношения гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать, и он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения. - А конверт? - спросил он. - Я его сжег, ответил доктор Джекил. Прежде чем сообразил, что я делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посильный. - Могу я взять его с собой и принять решение утром? спросил Аттерсон. - Я целиком полагаюсь на ваше суждение, ответил доктор. Себе я больше не верю. - Хорошо, я подумаю, что делать, сказал нотариус. А теперь последний вопрос: это Хайд потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении? Доктор, казалось, почувствовал дурноту; он крепко сжал губы и кивнул. - Я знал это, сказал Аттерсон. Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели. - Куда важнее другое! угрюмо возразил доктор. Я получил хороший урок! Бог мой, Аттерсон, какой я получил урок! И он на мгновение закрыл лицо руками. Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться двумя-тремя словами с Пулом. - Кстати, сказал он. Сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный? 442 Но Пул решительно объявил, что в этот день письма приносил только почтальон, да и то лишь одни печатные объявления. Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через дверь лаборатории, возможно даже, что оно было написано в кабинете, а это придавало ему совсем иную окраску, и воспользоваться им можно было лишь с большой осторожностью. Вокруг на тротуарах охрипшие мальчишки-газетчики вопили: "Специальный выпуск! Ужасное убийство члена парламента!" Таково было надгробное напутствие его старому другу и клиенту, а если его опасения окажутся верны, то доброе имя еще одного его друга могло безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение, и хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета было невозможно, но, может быть, решил он, его удастся получить косвенным образом. Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина, напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк, а между ними в надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной. Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорий собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. От мистера Геста у него почти не было секретов, а может быть, как он иногда 443 подозревал, их не было и вовсе. Гест часто бывал по делам у доктора Джекила, он был знаком с Пулом, несомненно, слышал о том, как мистер Хайд стал своим человеком в доме, и, наверное, сделал для себя кое-какие выводы. Разве не следовало показать ему письмо, разъяснявшее тайну? А Гест, большой знаток и любитель графологии, разумеется, сочтет это вполне естественной любезностью. К тому же старший клерк отличался немалой проницательностью, и столь странное письмо, конечно, понудит его высказать какое-нибудь мнение, которое, в свою очередь, может подсказать мистеру Аттерсону, как ему следует теперь поступить. - Какой ужасный случай я имею в виду смерть сэра Дэнверса, сказал он. - Да, сэр, ужасный! Он вызвал большое возмущение, ответил Гест. Убийца, конечно, был сумасшедшим. - Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет, продолжал Аттерсон. У меня есть один написанный им документ... это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой в любом случае дело оборачивается очень скверно. Но как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе автограф убийцы. Глаза Геста заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма. - Нет, сэр, сказал он наконец. Это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный. - И, судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также далЕко не обычному, добавил нотариус. В эту минуту вошел слуга с запиской. - От доктора Джекила, сэр? осведомился клерк. Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное, мистер Аттерсон? - Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть? 444 - Только взгляну. Благодарю вас, сэр. И клерк, положив листки рядом, принялся тщательно их сравнивать. Благодарю вас, сэр, повторил он затем и вернул оба листка нотариусу. Это очень интересный автограф. Наступило молчание, а потом мистер Аггерсон после некоторой внутренней борьбы внезапно спросил: - Для чего вы их сравнивали, Гест? - Видите ли, сэр, ответил тот, мне редко встречались такие схожие почерки, они почти одинаковы только наклон разный. - Любопытно, заметил Аттерсон . - Совершенно верно: очень любопытно. - Лучше ничего никому не говорите про это письмо, сказал патрон. - Конечно, сэр, я понимаю, ответил клерк. Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда. "Как! думал он. Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы!" И кровь застыла в его жилах. Примечательный эпизод с доктором Лэньоном Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Дэнверса вызвала всеобщее негодование, но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом гнусных подробностей: о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, которой, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него, но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он наутро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял, и постепенно тревога мистера Аттерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него 445 стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Дэнверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином; а если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благочестие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним. Восьмого января Аттерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу среди приглашенных был Лэньон, и хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. Двенадцатого января, а затем и четырнадцатого дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. "Доктор не выходит, объявил Пул, и никого не принимает". Пятнадцатого мистер Аттерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором, и снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно, и это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающе. На пятый день он пригласил Геста пообедать с ним, а на шестой отправился к доктору Лэньону. Тут его, во всяком случае, приняли, но, войдя в комнату, он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Лэньона ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражение глаз и вся манера держаться, свидетельствовавшие, казалось, о том, что его томит какой-то неизбывный тайный ужас . Трудно было поверить, что доктор боится смерти, но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон. "Да, рассуждал 446 нотариус, он врач и должен понимать свое состояние, должен знать, что дни его сочтены, и у него нет сил вынести эту мысль". Однако в ответ на слова Аттерсона о том, как он плохо выглядит Лэньон ответил, что он обречен, и сказал это твердым и спокойным голосом. - Я перенес большое потрясение, сказал он. И уже не оправлюсь. Мне осталось лишь несколько недель. Что же, жизнь была приятной штукой, мне она нравилась; да, прежде она мне очень нравилась. Теперь же я думаю иногда, что, будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней. - Джекил тоже болен, заметил нотариус. Вы его видели? Лицо Лэньона исказилось, и он поднял дрожащую руку. - Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем, сказал он громким, прерывающимся голосом. Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминаний о том, кого я считаю умершим. - Так-так! произнес мистер Аттерсон и после долгой паузы спросил: Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое - старые друзья, Лэньон, и новых уже не заведем. - Помочь ничем нельзя, ответил Лэньон. Спросите хоть у него самого. - Он отказывается меня видеть, сказал нотариус. - Это меня не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти, Аттерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло. Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом, то оставайтесь я очень рад вас видеть, но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то, ради Бога, уйдите, потому что я этого не вынесу. Едва вернувшись домой, Аттерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома, и осведомляясь о причине его прискорбного разрыва с Лэньоном. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Лэкьоном был окончателен. 447 "Я ни в чем не виню нашего старого друга, писал Джекил, но я согласен с ним: нам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь не удивляйтесь и не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя кару и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики и мои страдания . Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас, а вы, Аттерсон, можете облегчить мою судьбу только одним: не требуйте, чтобы я нарушил молчание". Аттерсон был поражен: черное влияние Хайда исчезло, доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, лишь неделю назад все обещало ему бодрую и почтенную старость, и вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Такая огромная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие, однако поведение и слова Лэньона наводили на мысль о какой-то иной причине. Неделю спустя доктор Лэньон слег, а еще через две недели скончался. Вечером после похорон, чрезвычайно его расстроивших, Аттерсон заперся у себя в кабинете и при унылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. "Личное. Вручить только Г. Дж. Аттерсону, а в случае, если он умрет прежде меня, сжечь, не вскрывая" таково было категорическое распоряжение на конверте, и испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. "Я похоронил сегодня одного друга, думал он. Что, если это письмо лишит меня и второго?" Затем, устыдившись этого недостойного страха, он сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт, на котором было написано: "Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила". Аттерсон не верил своим глазам. Но нет и тут говорилось об исчезновении: как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору, тут вновь объединялись идея 448 исчезновения и имя Генри Джекила. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайд, и ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэньон, когда его рука писала это слово ? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайнам, однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа невскрытым. Но одно дело подавить любопытство и совсем другое избавиться от него вовсе; с этого дня Аттерсон уже не искал общества второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятение и страх. Он даже заходил к нему, но, пожалуй, испытывал только облегчение, когда его не принимали; пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с Пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уединившимся там загадочным отшельником. Пул к тому же не мог сообщить ему ничего утешительного. Доктор теперь постоянно запирался в кабинете над лабораторией и иногда даже ночевал там; он пребывал в постоянном унынии, стал очень молчалив, ничего не читал, и казалось, его что-то гнетет. Аттерсон так привык к этим неизменным сообщениям, что его визиты мало-помалу становились все более редкими. Эпизод у окна Однажды в воскресенье, когда мистер Аттерсон, как обычно прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все в той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее. - Во всяком случае, сказал Энфилл, эта история окончилась, и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда. 449 - Надеюсь, что так, ответил Аттерсон. Я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы? - Это само собой разумеется увидев его, не почувствовать отвращение было просто невозможно, заметил Энфилд. Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекила! Собственно, если бы не вы, я бы этого попрежнему не знал . - Так вы это знаете? сказал Аттерсон. В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит, и я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему помочь. Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и, хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено, и Аттерсон увидел, что возле него, вероятно, решив подышать свежим воздухом, сидит доктор Джекил, невыразимо печальный, словно неутешный узник. - Как! Джекил! воскликнул нотариус. Надеюсь, вам лучше? - Я очень плох, Аттерсон, ответил доктор тоскливо, очень плох. Благодарение Богу, скоро все это должно кончиться. - Вы слишком мало выходите на воздух, сказал Аттерсон. Вам бы следовало побольше гулять, разгонять кровь, как делаем мы с Энфилдом. (Мой родственник мистер Энфилд, доктор Джекил.) Вот что: берите-ка шляпу и идемте с нами. - Вы очень любезны, со вздохом ответил доктор. Я был бы в восторге... Но нет, нет, нет, это невозможно, я не смею. Право же, Аттерсон, я счастлив видеть вас, это большая радость для меня. Я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок... - В таком случае, добродушно ответил нотариус, мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами, не сходя с места. 450 - Именно это я и хотел предложить, с улыбкой согласился доктор, но не успел он договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, и только когда оказались на соседней большой улице, оживленной, даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон, наконец, посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх. - Да простит нас Бог, да простит нас Бог! сказал мистер Аттерсон, но мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперЕд, попрежнему храня молчание. Последняя ночь Как-то вечером, когда мистер Аттерсон сидел после обеда у камина, к нему неожиданно явился Пул. - Бог мой, что вас сюда привело, Пул? изумленно воскликнул нотариус и, поглядев на старого слугу, добавил: Что с вами? Доктор заболел? - Мистер Аттерсон, ответил дворецкий, случилась какая-то беда. - Садитесь, выпейте вина, сказал нотариус. И не спеша объясните мне, что вам нужно. - Вы ведь знаете, сэр, привычки доктора, ответил Пул, как он теперь ото всех запирается. Так вот: он опять заперся в кабинете, и мне это не нравится, сэр... очень не нравится, право слово. Мистер Аттерсон, я боюсь. - Успокойтесь, мой милый, сказал нотариус. Говорите яснее. Чего вы боитесь? - Я уже неделю как боюсь, продолжал Пул, упрямо не отвечая на вопрос. И больше у меня сил нет терпеть. 451 Весь облик Пула подтверждал справедливость его слов; он и держался иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариусу в лицо. Он сидел, придерживая на колене полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол. - Больше сил моих нет терпеть, повторил он. - Успокойтесь же, сказал нотариус. Я вижу, Пул, что у вас есть веские основания так говорить, вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело! - Я думаю, тут произошло преступление, хрипло ответил Пул. - Преступление! воскликнул нотариус раздраженно, так как он был очень испуган. Какое преступление? О чем вы говорите? - Не смею объяснить сэр, ответил Пул. Но, может, вы пойдете со мной и сами посмотрите? Вместо ответа мистер Аттерсон встал, надел пальто и взял шляпу; при этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице дворецкого, но еще больше нотариус удивился, когда Пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина. Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь, бледный месяц опрокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра, а по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлестал по щекам, что к ним приливала кровь. Кроме того он, казалось, вымел с улиц прохожих во всяком случае, мистеру Аттерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность эта угнетала его, ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей как он ни разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли, чахлые деревья за садовой решеткой хлестали друг друга ветвями. 452 Дворецкий, который всю дорогу держался шагах в двух впереди, теперь остановился посреди мостовой и, несмотря на резкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как ни быстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой лицо его побелело, голос, когда он заговорил, был сиплым и прерывистым. - Что ж, сэр, сказал он. Вот мы и пришли. Дай-то Бог, чтобы все оказалось хорошо. - Аминь, ответил нотариус. Дворецкий осторожно постучал, дверь приоткрылась на цепочке, и кто-то негромко спросил: - Это вы, Пул? - Да-да, сказал Пул. Открывайте. Прихожая была ярко освещена, в камине пылал огонь, а возле, словно овцы, жались все слуги доктора и мужчины и женщины. При виде мистера Аттерсона горничная истерически всхлипнула, а кухарка с воплем "Благодарение Богу! Это мистер Аттерсон!" кинулась к нотариусу, будто намереваясь заключить его в объятия. - Как так? кисло сказал нотариус. Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорбный непорядок, ваш хозяин будет очень недоволен. - Они все боятся, сказал Пул. Последовало глухое молчание, никто не возразил дворецкому, и только горничная, уже не сдерживаясь больше, зарыдала в голос. - Помолчите-ка! - прикрикнул на неЕ Пул со свирепостью, показывавшей, насколько были расстроены его собственные нервы; более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки, все вздрогнули и повернулись к двери, ведущей в комнаты, с таким выражением, словно ожидали чего-то ужасного. - Ну-ка, подай мне свечу, продолжал дворецкий, обращаясь к кухонному мальчишке, и мы сейчас же со всем этим покончим. 453 После этого он почтительно попросил мистера Аттерсона следовать за ним и через черный ход вывел его во двор. - А теперь, сэр, сказал он, идите тихонько: я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы вас не слышали. И вот что еще, сэр: если он вдруг пригласит вас войти, вы не входите. Нервы мистера Аттерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесия; однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут Пул сделал ему знак остановиться и слушать, а сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимое усилие, поднялся по ступеням и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном. - Сэр, вас хочет видеть мистер Аттерсон, сказал он громко и снова судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько. Из-за двери донесся голос. - Скажите ему, что я никого не принимаю, произнес он жалобно и раздраженно. - Слушаю, сэр, отозвался Пул почти торжествующим тоном и, взяв свечу, вывел мистера Аттерсона во двор, а оттуда направился с ним в большую кухню, огонь в большой плите был погашен, и по полу сновали тараканы. - Сэр, спросил он, глядя мистеру Аттерсону прямо в глаза, это был голос моего хозяина? - Он очень изменился, ответил нотариус, побледнев, но не отводя взгляда. - Изменился? Еще бы! сказал дворецкий. Неужто, прослужив здесь двадцать лет, я не узнал бы голоса хозяина? Нет, сэр. Хозяина убили; его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к Богу; а 454 что теперь там вместо него и почему оно там остается... это вопиет к небесам, мистер Аггерсон! - Вы рассказываете странные вещи. Пул; это какая-то нелепость, любезный, ответил мистер Аттерсон, прикусывая палец. Предположим, произошло то, что вы предполагаете предположим, Доктор Джекил был... ну, допустим... убит. Так зачем убийце оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу. - Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, но все равно я вам докажу! ответил Пул. Всю эту неделю, вот послушайте, он...оно... ну, то, что поселилось в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он хозяин то есть имел привычку писать на листке, что ему было нужно, и выбрасывать листок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего, кроме листков, не видели ничего, только листки да закрытую дверь; даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, сэр, каждый день по два, по три раза на дню только и были, что приказы да жалобы, и я обегал всех лондонских аптекарей. Чуть я принесу это снадобье, так тотчас нахожу еще листок с распоряжением вернуть его аптекарю, дескать, оно с примесями, и обратиться еще к одной фирме. Очень там это снадобье нужно, сэр, а уж для чего неизвестно. - А у вас сохранились эти листки? спросил мистер Аттерсоц. Пул пошарил по карманам и вытащил скомканную записку, которую нотариус, нагнувшись поближе к свече, начал внимательно разглядывать. Содержание ее было таково: "Доктор Джекил с почтением заверяет фирму May, что последний образчик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 18... году доктор Джекил приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем тщанием проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джекилу крайне важно получить этот препарат". До этой фразы тон письма был достаточно 455 деловым, но тут, как свидетельствовали чернильные брызги, пишущий уже не мог совладать со своим волнением. "Ради всего святого, добавлял он, разыщите для меня старый препарат!" - Странное письмо, задумчиво произнес мистер Аттерсон и тут же резко спросил: А почему оно вскрыто? - Приказчик у May очень рассердился, сэр, и швырнул его мне прямо в лицо, ответил Пул. - Это ведь почерк доктора, вы видите? продолжал нотариус. - Похож-то он похож, угрюмо согласился дворецкий и вдруг сказал совсем другим голосом: Только что толку от почерка? Я же его самого видел! - Видели его? повторил мистер Аттерсон. И что же? - А вот что! ответил Пул. Было это так: я вошел в лабораторию из сада. А он, наверное, прокрался туда искать это свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, а он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и кинулся вверх по лестнице в кабинет. Я и видел-то его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом, что твои перья. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил! И еще... Дворецкий умолк и провел рукой по лицу. - Все это очень странно, сказал мистер Аттерсон, но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться дай Бог, чтобы надежда его не обмануда! Вот что я думаю, Пул. Это очень печально, даже ужасно, но, во всяком случае, понятно и естественно, все объясняет и избавляет нас от излишних тревог. 456 - Сэр, сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами, это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин, тут он оглянулся и перешел на шепот, мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик... Аттерсон попробовал возражать, но Пул перебил его. - Ах, сэр! воскликнул он. Что ж, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него двадцать лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро чуть ли не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот в маске не был доктором Джекилом. Одному Богу известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекил; и я знаю, что произошло убийство. - Пул, сказал нотариус, раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина (а это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив), но я считаю, что мой долг взломать эту дверь. - И правильно, мистер Аттерсон! вскричал дворецкий. - Однако возникает новый вопрос, продолжал Аттерсон. Кто это сделает? - Мы с вами, мужественно ответил дворецкий. - Прекрасно сказано, воскликнул нотариус. И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали. - В лаборатории есть топор, продолжал Пул, а вы, сэр, возьмите кочергу. Нотариус поднял это нехитрое, но тяжелое оружие и взвесил его в руке. - А вы знаете, Пул, сказал он, глядя на дворецкого, что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение? - А как же, сэр! Понятное дело, ответил дворецкий. 457 - В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными, заметил нотариус. Мы оба говорим не все, что думаем, так выскажемся начистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру? - Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайд, так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проворность, да и кто еще мог войти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, сэр, что у него был ключ, когда случилось то убийство. И мало того! Я не знаю, мистер Аттерсон, вы этого мистера Хайда встречали? - Да, ответил нотариус. Я однажды беседовал с ним. - Ну, тогда вы, как и все мы, наверное, замечали, что есть в нем какаято странность... отчего человеку не по себе становится... не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр, вроде как сразу мороз до костей пробирает. - Признаюсь, и я испытал нечто подобное, сказал мистер Аттерсон. - Так вот, сэр, продолжал Пул, когда эта тварь в маске запрыгала, точно обезьяна, среди ящиков и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда мистер Аттерсон, настолько-то и я учен. Но что человек чувствует, то он чувствует: я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайд. - Да-да, ответил нотариус. Я сам этого опасался. Боюсь, эту связь породило зло, и сама она могла породить только зло. Да, я верю вам, я верю, что бедный Гарри убит, и я верю, что его убийца (для чего, только Богу ведомо) все еще прячется в комнате своей жертвы. Ну, да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу. Лакей тотчас явился, бледный и испуганный. - Возьмите себя в руки, Брэдшоу, сказал нотариус. Я понимаю, что эта неопределенность измучила вас всех; но теперь мы намерены положить ей конец. Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Если все благополучно, ответственность я возьму на себя. Но если действительно чтото случилось, злодей может попытаться спастись через черный ход, поэтому 458 вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам десять минут, чтобы вы успели добраться до своего поста. Брэдшоу вышел, а нотариус поглядел на свои часы. - А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост, сказал он и, взяв кочергу под мышку, вышел во двор. Луну затянули тучи, и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов в кабинете. - Оно расхаживает так все дни напролет, сэр, прошептал Пул. Да и почти всю ночь тоже. Перестает только, когда приносят от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть лютый враг покоя! И каждый этот шаг, сэр, капля безвинно пролитой крови! Послушайте, послушайте, мистер Аттерсон! Внимательно послушайте и скажите мне, разве это походка доктора? Шаги были легкие и странные несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость, и они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекила. Аттерсон вздохнул. - И больше ничего не бывает слышно? спросил он. Пул многозначительно кивнул. - Один раз, сказал он, один раз я слышал, что оно плачет. - Плачет? Как так? воскликнул нотариус, внезапно похолодев от ужаса. - Точно женщина или неприкаянная душа, пояснил дворецкий. И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал. Тем временем десять минут истекли. Пул извлек топор из-под вороха упаковочной соломы, свеча была водворена на ближайший к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим, и они, затаив дыхание, приблизились к 459 двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук терпеливых шагов. - Джекил, громко воскликнул Аттерсон, я требую, чтобы вы меня впустили! Ответа не последовало, и он продолжал: Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе и я должен увидеть вас и увижу. Если не добром, так силой, если не с вашего согласия, то взломав эту дверь! - Аттерсон! раздался голос за дверью. Сжальтесь, во имя Бога! - Это не голос Джекила! вскричал Аттерсон. Это голос Хайда! Ломайте дверь. Пул! Пул взмахнул топором, все здание содрогнулось от удара, а обитая красным сукном дверь прогнулась, держась на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный вопль, полный животного ужаса. Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки, вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно, и первые четыре удара не достигли цели; только после пятого замок сломался, и сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете. Аттерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет: в камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку чайник, на письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги, два-три ящика были слегка выдвинуты, столик у камина был накрыт к чаю более мирную комнату трудно было себе представить, и, если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне. Посреди нее на полу, скорчившись, лежал человек его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика она пришлась бы впору человеку сложения доктора Джекила; вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасла, и Аттерсон, 460 заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы. - Мы явились слишком поздно и чтобы спасти и чтобы наказать, сказал он угрюмо. Хайд покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина. Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху; кабинет находился на антресолях и был обращен окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вел коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких темных чуланов и обширного подвала, никаких другие помещений в здании больше не было. Мистер Аттерсон и дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом. В чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, a cyдя по слою пыли на дверях, в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим eще ко временам хирурга, предшественника Джекила, но стоило им открыть дверь, как с нее сорвался настоящий ковер паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мертвого, оказались тщетными. Пул, топая и прислушиваясь, прошел по каменным плитам коридора. - Наверное, он похоронил его тут, сказал дворецкий. - А может быть, он бежал, отозвался Аттерсон и подошел к двери, выходившей на улицу. Она была заперта, а на полу вблизи нее они обнаружили ключ, уже слегка покрывшийся ржавчиной. - Им, кажется, давно не пользовались, заметил нотариус. - Не пользовались? переспросил Пул. Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан? Словно на него наступили. - Верно, ответил Аттерсон. И место излома тоже заржавело. Они испуганно переглянулись. - Я ничего не понимаю. Пул, сказал нотариус. Вернемся в кабинет. 461 Они молча поднялись по лестнице и, с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать все, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заметить следы химического опыта: на стеклянных блюдечках лежали разной величины кучки какой-то белой соли, точно несчастному помешали докончить проводимое им исследование. - То самое снадобье, которое я ему все время разыскивал, - сказал Пул, но тут чайник вскипел, и вода с шипеньем пролилась на огонь. Это заставило их подойти к камину к нему было пододвинуто покойное кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг; раскрытый том лежал на столике возле чашки - это был богословский трактат, о котором Джекил не раз отзывался с большим уважением, но теперь Аттерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора. Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные, испуганные лица. - Это зеркало видело странные вещи, сэр, прошептал Пул. - Но ничего более странного, чем оно само, так же тихо ответил нотариус. Для чего Джекил... при этом слове он вздрогнул и умолк, но тут же справился со своей слабостью... Зачем оно понадобилось Джекилу? - Кто знает! ответил Пул. Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Аттерсона. Нотариус распечатал его, и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого, как духовная на случай смерти и как дарственная на случай исчезновения; однако вместо имени Эдварда 462 Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании имя Габриэля Джона Аттерсона. Он посмотрел на Пула, затем снова на документ и, наконец, перевел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре. - У меня голова кругом идет, сказал он. Хайд был здесь полным хозяином несколько дней, у него не было причин любить меня, он, несомненно, пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства, и все-таки он не уничтожил завещания! Он поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора, сверху стояла дата. - Ах, Пул! вскричал нотариус. Он был сегодня здесь, и он был жив. За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно значит, он жив, значит, он бежал! Но почему бежал! И как? Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду. - Почему вы не прочтете записку, сэр? спросил Пул. - Потому что я боюсь, мрачно ответил нотариус. Дай-то Бог, чтобы мой страх не оправдался! Он поднес бумагу к глазам и прочел следующее: "Дорогой Аттерсон! Когда вы будете читать эти строки, я исчезну при каких именно обстоятельствах, я не могу предугадать, однако предчувствие и немыслимое положение, в котором я нахожусь, убеждают меня, что конец неотвратим и, вероятно, близок. В таком случае начните с письма Лэньона, которое он, если верить его словам, собирался вам вручить; если же вы пожелаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которую оставляет вам ваш недостойный и несчастный друг 463 Генри Джекил" - Тут было вложено что-то еще? спросил Аттерсон. - Вот, сэр, ответил Пул и вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах сургучом. Нотариус спрятал его в карман. - Об этих бумагах нельзя говорить никому. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. Сейчас десять часов, я должен пойти домой, чтобы без помех прочесть эти бумаги, но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией. Они вышли, заперли дверь лаборатории, и Аттерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны. Письмо доктора Лэньона Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джекила. Это меня очень удивило, так как у нас с ним не было обыкновения переписываться, а я видел его собственно говоря, обедал у него только накануне; и, уж во всяком случае, я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение. Я приведу его полностью. "9 января 18... года 464 Дорогой Лэньон, вы один из моих старейших друзей, и хотя по временам у нас бывали разногласия из-за научных теорий, наша взаимная привязанность как будто нисколько не охладела во всяком случае, с моей стороны. Я не могу припомнить дня, когда, скажи вы мне: "Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок", я не пожертвовал бы левой рукой, лишь бы помочь вам Лэньон, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок - если вы откажете сегодня в моей просьбе, я погиб. Подобное предисловие может навести вас на мысль, что я намерен просить вас о какой-то неблаговидной услуге. Но судите сами. Я прошу вас освободить этот вечер от каких-либо дел если даже вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь! Возьмите кеб, если только ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей, и с этим письмом (для справок) поезжайте прямо ко мне домой. Пулу, моему дворецкому, даны надлежащие указания он будет ждать вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем пусть они взломают дверь моего кабинета, но войдете в него вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева (помеченный буквой "Е") если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий, считая снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувств я могу дать вам неправильные указания, но даже если я ошибся, вы узнаете нужный ящик по его содержимому: порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю вас, отвезите этот ящик прямо, как он есть, к себе на Кавендиш-сквер. Это первая часть услуги, которой я от вас жду. Теперь о второй ее части. Если вы поедете ко мне немедленно после получения письма, вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи, но я даю вам срок до этого часа не только потому, что опасаюсь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда ваши слуги будут уже спать. Так вот: в полночь будьте у себя и непременно одни надо, чтобы вы сами открыли дверь тому, кто явится к вам от моего имени, и передали ему 465 ящик, который возьмете в моем кабинете. На этом ваша роль окончится, и вы заслужите мою вечную благодарность. Затем через пять минут, если вы потребуете объяснений, вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что, пренебреги вы хотя бы одной из них, какими бы нелепыми они вам ни казались, вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии. Как ни уверен я, что вы свято исполните мою просьбу, сердце мое сжимается, а рука дрожит при одной только мысли о возможности обратного. Подумайте: в этот час я нахожусь далеко от дома, меня снедает черное отчаяние, которое невозможно даже вообразить, и в то же время я знаю, что стоит вам точно выполнить все мои инструкции и мои тревоги останутся позади, как будто я читал о них в книге. Помогите мне, дорогой Лэньон, спасите вашего друга Г.Дж. P. S. Я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится и вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Лэньон, выполните мое поручение в течение дня, когда вам будет удобнее, и снова ожидайте моего посланца в полночь. Но возможно, будет уже поздно, и если ночью к вам никто не явится, знайте, что вы уже никогда больше не увидите Генри Джекила". Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума, но тем не менее счел себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности, а оставить без внимания столь отчаянную мольбу значило бы взять на себя тяжкую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекила. Дворецкий уже ждал меня: он 466 тоже получил с вечерней почтой заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и за плотником. Они явились, когда мы еще разговаривали, и мы все вместе направились в секционную покойного доктора Денмена, откуда (как вам, несомненно, известно) легче всего попасть в кабинет Джекила. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить, и слесарь тоже совсем было отчаялся. Однако он оказался искусным мастером, и через два часа замок все же поддался его усилиям. Шкаф, помеченный буквой "Е", не был заперт, я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простыней, а затем поехал с ним на Кавендиш-сквер. Там я внимательно рассмотрел его содержимое. Порошки были завернуты очень аккуратно, но все же не так, как завернул бы настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и какой-то эфир. Что еще входило в нее, сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбика дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более чем годовой давности. Иногда возле дат имелось какое-нибудь примечание, чаще всего одно слово. "Удвоено" встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, а где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилоСЬ "Полнейшая неудача!!!" Все это только раздразнило мое любопытство, но ничего не объяснило. Передо мной был флакончик с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записи каких-то опытов, которые (подобно подавляющему большинству экспериментов Джекила) не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или 467 погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги? Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить этот приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слуг спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться. Не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвещавший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открыть дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста. - Вы от доктора Джекила? осведомился я. Он судорожно кивнул, а когда я пригласил его войти, он прежде всего тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках, и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую. Все это, признаюсь, мне не понравилось, и, следуя за ним в ярко освещенный кабинет, я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут, наконец, мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок; меня поразило омерзительное выражение его лица, сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и в первую очередь странное, неприятное ощущение, которое возникало у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением пульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идиосинкразией и только подивился четкости симптомов; однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры и определяется она началом более благородным, нежели ненависть. 468 Неизвестный (с первой же секунды своего появления вызвавший во мне чувство, которое я могу назвать только смесью любопытства и гадливости) был одет так, что, будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежно велик и широк брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле, талия сюртука приходилась на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в самой сущности стоявшего передо мной незнакомца чувствовалось что-то ненормальное и уродливое что-то завораживающее, жуткое и гнусное, и такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натура этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете. Эти наблюдения, хотя они и занимают здесь немало места, потребовали всего нескольких секунд. К тому же моего посетителя, казалось, снедало жгучее нетерпение. - Он у вас? вскричал он. У вас? Его лихорадочное возбуждение было так велико, что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь встряхнуть. Я отстранил его руку, почувствовав, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна. - Простите, сэр, сказал я. Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте. И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, словно передо мной был пациент, и стараясь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель. - Прошу извинения, доктор Лэньон, ответил он достаточно учтиво. Ваш упрек совершенно справедлив мое нетерпение забежало вперед вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги доктора Генри 469 Джекила в связи с весьма важным делом насколько я понял... Он умолк, прижав руку к горлу, и я заметил, что, несмотря на свою сдержанность, он лишь с трудом подавляет припадок истерии. Насколько я понял... ящик... Но тут я сжалился над мучительным нетерпением моего посетителя, а может быть, и над собственным растущим любопытством. - Вот он, сэр, сказал я, указывая на ящик, который стоял на полу позади стола, все еще накрытый простыней. Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь. - Успокойтесь, сказал я. Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке, и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Увидев содержимое ящика, он испустил всхлипывающий вздох, полный такого невыразимого облегчения, что я окаменел. А затем, уже почти совсем овладев своим голосом, он спросил: - Нет ли у вас мензурки? Я встал с некоторым усилием и подал ему просимое. Он поблагодарил меня кивком и улыбкой, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов начала светлеть, с шипением пузыриться и выбрасывать облачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темнофиолетовой, а потом этот цвет медленно сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня. - А теперь, сказал он, последнее. Может быть, вы будете благоразумны? Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений? 470 Или ваше любопытство слишком сильно? Подумайте, прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется, как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее, хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу! Либо, если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого Сатаны. - Сэр, ответил я с притворным спокойствием, которого отнюдь не ощущал, вы говорите загадками, и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особенного доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца. - Пусть так, ответил мой посетитель. Лэньон, вы помните нашу профессиональную клятву? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь... теперь человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавший самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей, смотри! Он поднес мензурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Раздался короткий вопль, он покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом; и вдруг я заметил, что он меняется... становится словно больше... его лицо вдруг почернело, черты расплылись, преобразились и в следующий миг я вскочил, отпрянул к стене и поднял руку, заслоняясь от этого видения, теряя рассудок от ужаса. - Боже мой! вскрикнул я и продолжал твердить "Боже мой!", ибо передо мной, бледный, измученный, ослабевший, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых, передо мной стоял Генри Джекил! Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, я слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана; однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было, и не знаю 471 ответа. Моя жизнь сокрушена до самых ее корней, сон покинул меня, дни и ночи меня стережет смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены и я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого (если вы заставите себя поверить) будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил по собственному признанию Джекила имя Хайда, и его разыскивали по всей стране как убийцу Кэрью. Хейсти Лэньон Исчерпывающие объяснения Генри Джекила Я родился в году 18... наследником большого состояния; кроме того, я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, высоко ставил уважение умных и благородных людей и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям , которое для многих служит источником счастья; однако я не мог примирить эти наклонности с моим настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной . Немало людей гордо выставляли бы напоказ те уклонения со стези добродетели, в которых я был повинен, но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия . Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших 472 стремлений те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко , чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей. Та же причина заставляла меня упорно и настойчиво размышлять над тем суровым законом жизни, который лежит в основе религии и является самым обильным источником человеческого горя. Но, несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером: обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность - я был самим собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству и когда при свете дня усердно трудился на ниве знания или старался облегчить чужие страдания и несчастья . Направление же моих ученых занятий, тяготевших к области мистического и трансцендентного, в конце концов повлияло и пролило яркий свет на эту вечную войну двух начал, которую я ощущал в себе. Таким образом, с каждым днем обе стороны моей духовной сущности нравственная и интеллектуальная все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен . Я говорю "двоичен" потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов. Я же, благодаря своему образу жизни, мог продвигаться в одном и только в одном направлении. В своей личности абсолютную и изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере нравственности. Наблюдая в себе соперничество двух противоположных натур, я понял, что назвать каждую из них своей я могу только потому, что и та и другая равно составляют меня; еще задолго до того, как мои научные изыскания открыли передо мной практическую возможность такого чуда, я с наслаждением, точно заветной 473 мечте, предавался мыслям о полном разделении этих двух элементов. Если бы только, говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой; дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благой стезей, творя добро согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары , которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла. Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев, эта непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить? Вот куда уже привели меня мои размышления, когда, как я упоминал, на лабораторном столе забрезжил путеводный свет. Я начал осознавать глубже, чем кто-либо осознавал это прежде, всю зыбкую нематериальность, всю облачную бесплотность столь неизменного на вид тела, в которое мы облечены. Я обнаружил, что некоторые вещества обладают свойством колебать и преображать эту мышечную оболочку, как ветер, играющий с занавесками в беседке. По двум веским причинам я не стану в своей исповеди подробно объяснять научную сторону моего открытия. Во-первых, с тех пор я донял, что предопределенное бремя жизни возлагается на плечи человека навеки и попытка сбросить его неизменно кончается одним: оно вновь ложится на них, сделавшись еще более неумолимым и тягостным . Во-вторых, как увы! станет ясно из этого рассказа, открытие мое не было доведено до конца. Следовательно, достаточно будет сказать, что я не только распознал в моем теле всего лишь эманацию и ореол неких сил, составляющих мой дух, но и сумел приготовить препарат, с помощью которого эти силы лишались верховной власти, и возникал второй облик, который точно так же принадлежал мне, хотя он был выражением и нес на себе печать одних низших элементов моей души. 474 Я долго колебался, прежде чем рискнул подвергнуть эту теорию проверке практикой. Я знал, что опыт легко может кончиться моей смертью: ведь средство, столь полно подчиняющее себе самый оплот человеческой личности, могло вовсе уничтожить призрачный ковчег духа, который я надеялся с его помощью только преобразить, увеличение дозы на ничтожнейшую частицу, мельчайшая заминка в решительный момент неизбежно привели бы к роковому результату. Однако соблазн воспользоваться столь необыкновенным, столь неслыханным открытием в конце концов возобладал над всеми опасениями . Я уже давно изготовил тинктуру, я купил у некой оптовой фирмы значительное количество той соли, которая, как показали мои опыты, была последним необходимым ингредиентом, и вот в одну проклятую ночь я смешал элементы, увидел, как они закипели и задымились в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна. Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришел в себя, словно после тяжелой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая легкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности . С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом. Тогда в моем кабинете не было зеркала: то, которое стоит сейчас возле меня, я приказал поставить здесь позже именно для того, чтобы 475 наблюдать эту метаморфозу. Однако на смену ночи уже шло утро утро, которое, как ни черно оно было, готовилось вот-вот породить день, моих домочадцев крепко держал в объятиях непробудный сон, и я, одурманенный торжеством и надеждой, решил отправиться в моем новом облике к себе в спальню. Я прошел по двору, и созвездия, чудилось мне, с удивлением смотрели на первое подобное существо, которое им довелось узреть за все века их бессонных бдений; я прокрался по коридору чужой в моем собственном доме и, войдя в спальню, впервые увидел лицо и фигуру Эдварда Хайда. Далее следуют мои предположения не факты, но лишь теория, представляющаяся мне наиболее вероятной. Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро . С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявшей из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность и тем самым сохранял его силы . Вот почему, думается мне, Эдвард Хайд был ниже ростом, субтильнее и моложе Генри Джекила. И если лицо одного дышало добром, лицо другого несло на себе ясный и размашистый росчерк зла. Кроме того, зло (которое я и теперь не могу не признать губительной стороной человеческой натуры) наложило на этот облик отпечаток уродства и гнилости. И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я. Образ в зеркале казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, он был более четким отражением духа, более выразительным и гармоничным, чем та несовершенная и двойственная внешность, которую я до тех пор привык называть своей. И в этом я был, без сомнения, прав. Я замечал, что в облике Эдварда Хайда я внушал физическую гадливость всем, кто приближался ко мне. Этому, на мой взгляд, есть следующее объяснение: обычные люди представляют собой смесь добра 476 и зла, а Эдвард Хайд был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла . Я медлил перед зеркалом не долее минуты мне предстояло проделать второй и решающий опыт: я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу, снова испытал муки преображения и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила. В ту ночь я пришел к роковому распутью. Если бы к моему открытию меня привели более высокие побуждения, если бы я рискнул проделать этот опыт, находясь во власти благородных или благочестивых чувств, все могло бы сложиться иначе и из агонии смерти и возрождения я восстал бы ангелом, а не дьяволом. Само средство не обладало избирательной способностью, оно не было ни божественным, ни сатанинским, оно лишь отперло темницу моих склонностей и, подобно узникам в Филиппах, наружу вырвался тот, кто стоял у двери. Добро во мне тогда дремало, а зло бодрствовало, разбуженное тщеславием, и поспешило воспользоваться удобным случаем так возник Эдвард Хайд. В результате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой остался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему . Даже и в то время я еще не полностью преодолел ту скуку, которую внушало мне сухое однообразие жизни ученого. Я по-прежнему любил развлечения, но мои удовольствия были (мягко выражаясь) не слишком достойными, а я не только стал известным и уважаемым человеком, но достиг уже пожилого возраста, и раздвоенность моей жизни с каждым днем делалась для меня все тягостнее. Тут мне могло помочь мое новообретенное могущество, и, не устояв перед искушением , я превратился в раба. Мне стоило только выпить мой 477 напиток, чтобы сбросить с себя тело известного профессора и, как плотным плащом, окутаться телом Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли тогда она показалась мне забавной и занялся тщательной подготовкой. Я снял и меблировал тот дом в Сохо, до которого впоследствии полиция проследила Хайда, и поручил его заботам женщины, которая, как мне было известно, не отличалась щепетильностью и умела молчать. Затем я объявил моим слугам, что некий мистер Хайд (я описал его внешность) может распоряжаться в доме, как у себя, во избежание недоразумений я несколько раз появился там в моем втором облике, чтобы слуги ко мне привыкли. Далее я составил столь возмутившее вас завещание; если бы с доктором Джекилом что-нибудь произошло, я благодаря этому завещанию мог бы окончательно преобразиться в Эдварда Хайда, не утратив при этом моего состояния. И вот, обезопасившись, как мне казалось, от всех возможных случайностей, я начал извлекать выгоду из странных привилегий моего положения. В старину люди пользовались услугами наемных убийц, чтобы их руками творить свои преступления, не ставя под угрозу ни себя, ни свою добрую славу. Я был первым человеком, который прибегнул к этому способу в поисках удовольствий. Я был первым человеком, которого общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд и, подобно вырвавшемуся на свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но в отличие от этого школьника мне в моем непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал. Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье я бдительно следил за тем, чтобы тинктура и порошки всегда были у меня под рукой, и Эдвард Хайд, что бы он ни натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джекил, человек, 478 который, мирно трудясь у себя дома при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями. Удовольствия, которым я незамедлительно стал предаваться в своем маскарадном облике, были, как я уже сказал, не очень достойными, но и только; однако Эдвард Хайд вскоре превратил их в нечто чудовищное. Не раз, вернувшись из подобной экскурсии, я дивился развращенности, обретенной мной через его посредство . Этот фактотум, которого я вызвал из своей собственной души и послал одного искать наслаждений на его лад, был существом по самой своей природе злобным и преступным; каждое его действие, каждая мысль диктовались себялюбием, с животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное изваяние. Генри Джекил часто ужасался поступкам Эдварда Хайда, но странность положения, неподвластного обычным законам, незаметно убаюкивала совесть . Ведь в конечном счете виноват во всем был Хайд и только Хайд. А Джекил не стал хуже, он возвращался к лучшим своим качествам как будто таким же, каким был раньше. Если это было в его силах, он даже спешил загладить зло, причиненное Хайдом. И совесть его спала глубоким сном. Я не хочу подробно описывать ту мерзость, которой потворствовал (даже и теперь мне трудно признать, что ее творил я сам), я намерен только перечислить события, которые указывали на неизбежность возмездия и на его приближение. Однажды я навлек на себя большую опасность, но так как этот случай не имел никаких последствий, я о нем здесь только упомяну. Моя бездушная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я узнал в вашем кузене в тот раз, когда вы видели меня у окна; к нему на помощь пришли родные девочки и врач, и были минуты, когда я уже опасался за свою жизнь; чтобы успокоить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд был вынужден привести их к двери лаборатории и вручить им чек, подписанный Генри Джекилом. Однако я обеспечил себя от повторения подобных случаев, положив в другой банк деньги на имя Эдварда 479 Хайда; а когда я научился писать, изменяя наклон, и снабдил моего двойника подписью, я решил, что окончательно перехитрил судьбу. Месяца за два до убийства сэра Дэнверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева и резьбу на ее спинке что-то продолжало настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мысли и, поддавшись моему обычному интересу к психологии, начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на свою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекила по форме и размерам была настоящей рукой врача крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полусжатая в кулак рука, котрую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда. Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объял ужас, внезапный и оглушающий, как грохот литавр, вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, чго в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как можно это объяснить? спросил я себя и тут же с новым приливом ужаса задал себе второй вопрос: как это исправить ? Утро было в разгаре, слуги давно встали, все мои порошки хранились в кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом, двумя лестничными маршами, коридором, широким двором и всей длиной анатомического театра. Конечно, я мог бы закрыть 480 лицо, но что пользы? Ведь я был не в состоянии скрыть перемену в моем телосложении. Но тут с неизъяснимым облегчением я вспомнил, что слуги были уже давно приучены к внезапным появлениям моего второго "я". Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика, быстро прошел через черный ход, где Брэдшоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии, и через десять минут доктор Джекил, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает. Да, мне было не до еды! Это необъяснимое происшествие, это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письменам на валтасаровом пиру, пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Та часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше и шире в плечах, будто (когда я принимал эту форму) кровь более энергично струится в его жилах; значит, если так будет продолжаться и дальше, думал я, возникнет опасность, что равновесие моей духовной сущности нарушится безвозвратно, я лишусь способности преображаться по собственному желанию и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе, и с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу, а как-то, рискуя жизнью, принял даже тройную . До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, омрачавшей мою радость. Однако теперь, раздумывая над утренним происшествием, я пришел к выводу, что если вначале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекила, то в последнее время труднее всего стало вновь в него облекаться. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод: я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим 481 "я" и мало-помалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа. Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура) то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес. Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием . Выбрать Джекила значило бы отказаться от тех плотских склонностей, которым я прежде потакал тайно и которые в последнее время привык удовлетворять до пресыщения. Выбрать Хайда значило бы отказаться от тысячи интересов и упований, мгновенно и навеки превратиться в презираемого всеми отщепенца. Казалось бы, выбор представляется неравным, но на весы приходилось бросить еще одно соображение: Джекил был бы обречен мучительно страдать в пламени воздержания, в то время как Хайд не имел бы ни малейшего понятия о том, чего он лишился. Пусть положение мое было единственным в своем роде, но в сущности этот спор так же стар и обычен, как сам человек; примерно такие же соблазны и опасности решают, как выпадут кости для любого грешника, томимого искушением и страхом; и со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних: я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору. Да, я предпочел пожилого доктора, втайне не удовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды; я предпочел его и решительно простился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не 482 отказался от дома в Сохо и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая попрежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение, два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести . Но время притупило остроту моей тревоги, спокойная совесть становилась чем-то привычным, меня начинали терзать томительные желания, словно Хайд пытался вырваться на волю, и, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток . Пьяница, задумавший отучить себя от своего порока, лишь в редком случае искренне содрогнется при мысли об опасностях, которым он подвергается, впадая в физическое отупение. Так же и я, постоянно размышляя над своим положением, все же склонен был с некоторым легкомыслием относиться к абсолютному нравственному отупению и к неутолимой жажде зла, которые составляли главные черты характера Эдварда Хайда. Но именно они и навлекли на меня кару. Мой Дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло. Вероятно, именно поэтому учтивая речь моей несчастной жертвы и подняла в моей душе бурю раздражения; Бог свидетель, ни один душевно здоровый человек не был бы способен совершить подобное преступление по столь незначительному поводу я нанес первый удар под влиянием того же чувства, которое заставляет больного ребенка ломать игрушку. Однако я добровольно освободился от всех сдерживающих инстинктов, которые даже худшим из нас помогают сохранять среди искушений хоть какую-то степень разумности; для меня же самый малый соблазн уже означал падение. Мгновенно во мне проснулся и забушевал адский дух. В экстазе злорадства я калечил и уродовал беспомощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе, и только когда мной начала овладевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Туман 483 рассеялся, я понял, что мне грозит смерть, и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно, удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена, как струна скрипки. Я бросился в Сохо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме; затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы все в том же двойственном настроении я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги отмстителя. Хайд весело напевал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь, я вновь пережил дни детства, когда я гулял, держась за отцовскую руку, годы самозабвенного труда на благо больных и страждущих и опять, и опять, с тем же чувством нереальности, я возвращался к ужасу этого проклятого вечера . Мне хотелось кричать, я пытался слезами и молитвами отогнать жуткие образы и звуки, которыми пытала меня моя память, но уродливый лик моего греха продолжал заглядывать в мою душу. Однако, по мере того как муки раскаяния стихали, их начинала менять радость. Все была решено окончательно. С этих пор о Хайде не могло быть и речи, я волей-неволей должен был довольствоваться лучшей частью моего существа. О, как я этому радовался! С каким истовым смирением я вновь принял ограничения естественной жизни! С каким искренним отречением я запер роковую дверь, которой так часто пользовался прежде, и сломал каблуком ключ! На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление, это 484 было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался - обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. Джекил будет отныне моей крепостью: стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерти. Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого, и могу сказать без хвастовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды. Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду; вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И, право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием, и когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которую я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно бунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас! Нет-нет, я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник. Всему наступает конец; переполняется даже самая вместительная мера; и эта краткая уступка моему злому началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился! Падение это казалось мне естественным - простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный январский день, сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджент-парк звенел от зимнего чириканья и благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье, зверь во мне облизывал косточки воспоминаний, духовное начало дремало, обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов, 485 размышлял я, чем я хуже всех моих ближних? И тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жестокостью их равнодушия. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб . Затем они прошли, и я почувствовал слабость, а когда оправился, то заметил, что характер моих мыслей меняется и на смену прежнему настроению приходит дерзкая смелость, презрение к опасности, пренебрежение к узам человеческого долга. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на моем съежившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой. Я вновь превратился в Эдварда Хайда . За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим и дома меня ждал накрытый к обеду стол; а теперь я стал изгоем, затравленным, бездомным, я был изобличенным убийцей, добычей виселицы. Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекил, вероятно, погиб бы, Хайд нашел выход из положения. Тинктура и порошки были спрятаны у меня в кабинете в ящике одного из шкафов. Как до них добраться? Эту задачу я и старался решить, сдавив виски ладонями. Дверь лаборатории я запер навсегда . Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника, и остановил свой выбор на Лэньоне. Но как увидеться с ним? Как убедить его? Предположим, мне даже удастся избежать ареста на улице примет ли он меня? А если примет, то каким образом неизвестный и неприяттный посетитель сможет убедить знаменитого врача обыскать кабинет его коллеги доктора Джекила? Тут я вспомнил, что у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности мой почерк; и эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца. 486 Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля, название которого случайно запомнил. Поглядев на меня (а выглядел я действительно забавно, хоть за этим нелепым маскарадом и крылась трагедия), извозчик не мог сдержать улыбки. Во мне поднялась дьявольская ярость, я заскрежетал зубами, и улыбка мгновенно исчезла с его лица к счастью для него, но еще к большему счастью для меня, так как через секунду я, несомненно, стащил бы его с козел. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали: не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Хайд, которому грозила смерть, был для меня чем-то новым его снедало неутомимое бешенство, он готов был убивать и жаждал причинять боль. Тем не менее он сохранял благоразумие. Огромным усилием воли подавив свою ярость, он написал два важнейших письма Лэньону и Пулу и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены. Затем до ночи он просидел у камина в своем номере, грызя ногти; он пообедал там наедине со своими страхами, и официант бледнел и дрожал под его взглядом; с наступлением ночи он уехал, забившись в угол закрытого экипажа, и приказал кучеру возить его по улицам без всякой цели. "Он", говорю я и не могу написать "я ". В этом исчадии ада не было ничего человеческого, в его душе жили только ненависть и страх. И когда в конце концов, опасаясь, как бы извозчик чего-нибудь не заподозрил, он отпустил экипаж и отправился далее пешком в своем костюме не по росту, привлекавшем к нему внимание всех ночных прохожих, только два эти низменные чувства бушевали в его груди. Он шагал торопливо, гонимый тревогой, что-то бормотал про себя, сворачивал в безлюдные проулки и считал минуты, еще остававшиеся до полуночи. Один раз его остановила 487 какая-то женщина, продававшая, кажется, спички. Он ударил ее по лицу, и она убежала. Когда я снова стал собой в кабинете Лэньона, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу, это была лишь капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличения Лэньона я выслушивал, как в тумане, и, как в тумане, я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым, непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я по-прежнему ненавидел и страшился зверя, спавшего во мне, не забыл я и смертельной опасности, пережитой накануне, но ведь я теперь был дома, у себя, возле моих порошков, и радость, охватывавшая меня при мысли о моем чудесном спасении, лучезарностью почти равнялась надежде. Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охватила неописуемая дрожь, предвестница преображения у меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза, и увы! шесть часов спустя, когда я грустно сидел у камина, глядя в огонь, я вновь почувствовал знакомые спазмы и должен был прибегнуть к порошкам . Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранить обличье Джекила только ценой безостановочных усилий и только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Это вечное ожидание неизбежного и бессонница, на которую я теперь обрек себя, я и не представлял, что человек может так долго не спать! превратили меня, Джекила, в снедаемое и опустошаемое лихорадкой существо, обессиленное и телом и духом, нанятое одной-единственной 488 мыслью ужасом перед своим близнецом. Но когда я засыпал или когда кончалось действие препарата, я почти без перехода (с каждым днем спазмы преображения слабели) становился обладателем воображения, полного ужасных образов, души, испепеляемой беспричинной ненавистью, и тела, которое казалось слишком хрупким, чтобы вместить такую бешеную жизненную энергию. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекил угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекила она порождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство существа, которое делило с ним некоторые стороны сознания и должно было стать сонаследником его смерти но вне этих объединяющих звеньев, которые сами по себе составляли наиболее мучительную сторону его несчастья, Хайд, несмотря на всю свою жизненную энергию, представлялся ему не просто порождением ада, но чем-то не причастным органическому миру. Именно это и было самым ужасным: тина преисподней обладала голосом и кричала, аморфный прах двигался и грешил, то, что было мертвым и лишенным формы, присваивало функции жизни. И эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза, она томилась в его теле, как в клетке, и он слышал ее глухое ворчание, чувствовал, как она рвется на свет, а в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вытесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности; но эта необходимость была ему противна, ему было противно уныние, в которое впал теперь Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему. Поэтому он с обезьяньей злобой устраивал мне всяческие гадости: писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца, и только страх смерти удерживал его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Но его любовь к жизни поразительна! Скажу более: я содрогаюсь от омерзения при одной мысли о нем, но, когда я 489 вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость . Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук пусть будет довольно этого; однако привычка принесла нет, не смягчение этих мук, но некоторое огрубение души, притупление отчаяния, и мое наказание могло бы длиться еще многие годы, если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика и моего характера. Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать. Я послал купить ее и смешал питье жидкость закипела, цвет переменился, но второй перемены не последовало; я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно, и теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь, и что именно эта неведомая примесь придавала силу питью. С тех пор прошло около недели, и я дописываю это мое объяснение под действием последнего из прежних моих порошков. Если не случится чуда, значит, Генри Джекил в последний раз мыслит, как Генри Джекил, и в последний раз видит в зеркале свое лицо (увы, изменившееся до неузнаваемости!). И я не смею медлить с завершением моего письма до сих пор оно могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайд разорвет его в клочки, но если я успею спрятать его заблаговременно, невероятный эгоизм Хайда и заботы его нынешнего положения могут спасти письмо от его обезьяньей злобы. Да, тяготеющий над нами обоими рок уже изменил и раздавил его. Через полчаса, когда я вновь и уже навеки облекусь в эту ненавистную личину, я знаю, что буду, дрожа и рыдая, сидеть в кресле или, весь превратившись в испуганный слух, примусь без конца расхаживать по кабинету (моему последнему приюту на земле) и ждать, ждать, что вотвот раздадутся звуки, предвещающие конец. Умрет ли Хайд на эшафоте? Или 490 в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы? Это ведомо одному Богу, а для меня не имеет никакого значения: час моей настоящей смерти уже наступил, дальнейшее же касается не меня, а другого. Сейчас, отложив перо, я запечатаю мою исповедь, и этим завершит свою жизнь злополучный Генри Джекил 491 Д. Р. Р. Толкин. Лист кисти Ниггля Жил-был однажды маленький человек по имени Ниггль, которому предстояло совершить дальнее путешествие. Ехать он не хотел, да и вообще вся эта история была ему не по душе. Но деваться было некуда: он знал, что рано или поздно придется отправиться в путь. Со сборами он, однако, не спешил. Ниггль был художником. Правда, больших высот он не достиг, может быть, по-тому, что у него была масса других дел. Сам Ниггль считал, что по большей части эти дела мешают спокойно жить. Но выполнял он их вполне сносно, когда не удавалось отвертеться. А отвертеться, по его мнению, удавалось очень уж редко: законы в той стране держали народ в строгости. Были и другие помехи. Во-первых, иногда он попросту бездельничал, а вовторых, был по-своему добросердечен. Вам знакома эта разновидность доброго сердца: оно чаще заставляло Ниггля почувствовать угрызения совести, чем сделать что-нибудь. И даже если он что-то делал, доброе сердце не мешало ему ворчать, выходить из себя и браниться (чаще всего про себя). Так или иначе, из-за своего добросердечия он частенько помогал по мелочам своему соседу, хромоногому мистеру Пэришу. Бывало, приходили и люди, которые жили подальше, и просили о помощи – он и им не отказывал. А время от времени Ниггль вспоминал о путешествии и начинал без особого рвения упаковывать вещи. Тут уж времени на живопись и вовсе не оставалось. У Ниггля было несколько начатых картин, но все слишком большие и сложные, чтобы он со своими невеликими способностями мог их закончить. Он принадлежал к тем художникам, которые листья пишут лучше, чем деревья. Сам Ниггль, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть и форму, и блеск, и сверкающие капли росы по краям. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья его были и похожими, и разными. 492 Особенно не давала художнику покоя одна из картин. Началась она с листа, трепещущего на ветру, – но за листом явилось дерево и начало расти, раскидывая бесчис-ленные ветви и цепляясь за землю все новыми и новыми корнями самой фантастической формы. Прилетали и опускались на сучья странные птицы – ими тоже следовало заняться. А потом вокруг Дерева и позади него, в просветах между листьями и ветвями, начал раз-ворачиваться целый пейзаж. Окрестности поросли лесом, а вдали виднелись горы, тронутые снегом. Ниггль и думать забыл про остальные картины; а некоторые из них он просто взял и приставил с боков к большой картине с Деревом и горами. Скоро холст стал таким громадным, что пришлось Нигглю раздобыть стремянку. Так он и бегал по ней вверх-вниз – здесь положит мазок, там сотрет кусочек. Если его кто-нибудь навещал, он казался вполне вежливым, но все перекладывал карандаш на письменном столе. Слушает гостя, а сам все думает о своем большом холсте. Картина помещалась в специально выстроенном высоком сарае в саду – раньше он на этом месте сажал картошку . Ниггль никак не мог избавиться от своего добросердечия. «Вот бы мне быть по-тверже!» – иногда говорил он себе (а имел в виду: «Вот бы чужие беды меня не трога-ли!»). Но тут как раз наступило время, когда его долго никто серьезно не тревожил . «Будь что будет, но эту картину, мою настоящую картину, я обязательно допишу, а потом уж отправлюсь в путешествие, будь оно неладно», – повторял художник. И все же ему стало ясно, что нельзя без конца откладывать отъезд. Увеличивать картину больше не было возможности – настало время ее заканчивать. Как-то раз Ниггль, отойдя на несколько шагов от картины, рассматривал ее не-обычайно внимательно, словно автором был не он, а ктото другой. Он никак не мог ре-шить, что о ней думать, и жалел, что рядом нет приятеля с готовым мнением. Картина, честно говоря, совершенно его не удовлетворяла, и все же казалась очень красивой – единственной понастоящему прекрасной картиной в мире. В эту минуту Нигглю больше всего 493 было бы по душе, если бы в сарай вошел его двойник, хлопнул Ниггля по плечу и сказал с очевидной искренностью: «Великолепно! Неподражаемо! Я ясно вижу, к чему ты стремишься. Продолжай работать, а об остальном не тревожься. Мы устроим тебе государственный пенсион, так что будь спокоен». Увы, не было государственного пенсиона. Одно стало ясным: чтобы закончить картину даже при ее теперешней величине, нужно забросить все другие дела, нужно рабо-тать, упорно работать, ни на что не отвлекаясь. Ниггль закатал рукава и начал сосредота-чиваться. Несколько дней он пытался ни на что другое не обращать внимания. Но тут на него свалилась целая куча забот. Дом требовал ремонта; пришлось ехать в город и сидеть на суде (Ниггль был присяжным); мистер Пэриш слег от прострела; наконец, гости появ-лялись один за другим. Стояла весна, и они не прочь были бесплатно пообедать поближе к природе, а Ниггль жил в очень милом домике довольно далеко от города. В сердце он проклинал их, но не мог отрицать, что сам же пригласил их еще зимой, когда прогулка по магазинам и обед у городских знакомых вовсе не казались ему «помехой». Ниггль попытался ожесточить свое сердце, но ничего из этого не вышло. Слишком много было дел, от которых он не решался отказаться, считал он их своим долгом или нет. А были и такие, которые ему приходилось выполнять, что бы он вообще не считал. Некоторые гости намекали, что Ниггль не очень хорошо следит за садом и что к нему может наведаться Инспектор. Конечно, лишь немногие из них знали о картине; сомневаюсь, чтобы они придавали ей очень большое значение. По правде говоря, картина была не из лучших, хотя, возможно, некоторые места действительно стоили внимания. Во всяком случае, дерево было странное. Единственное в своем роде. (То же можно сказать и о самом Ниггле, хотя, с другой стороны, он был совершенно обыкновенный глуповатый человек.) Наконец, время у Ниггля стало на вес золота. Городские знакомые вспомнили, что ему предстоит нелегкое путешествие, и кое-кто из них начал 494 вычислять, до каких пор он может откладывать отъезд. Они прикидывали, кому достанется его домик, и будет ли новый хозяин лучше ухаживать за садом. Пришла осень, дождливая и ветреная. Стоя на стремянке в сарае, маленький ху-дожник пытался запечатлеть на холсте отблеск заходящего солнца на заснеженной вер-шине горы, чуть-чуть влево от Дерева. Он знал, что скоро придет пора уезжать – может быть, в самом начале будущего года. Времени только и оставалось, чтобы закончить кар-тину, да и то не совсем: кое-где по углам он успевал лишь наметить то, что собирался на-писать. Раздался стук в дверь. – Войдите! – резко отозвался Ниггль, слезая со стремянки. Крутя в пальцах кисть, он взглянул на посетителя. Это был Пэриш, его сосед, причем единственный; больше поблизости никто не жил. Несмотря на это, Пэриш не очень нравился Нигглю : во-первых, он часто попадал в беду и нуждался в помощи, а во-вторых, знать не хотел о живописи, зато очень критически относился к манере Ниггля ухаживать за садом. Когда Пэриш смотрел на сад Ниггля (что делал часто), видел он глав-ным образом сорняки; если же ему случалось взглянуть на Нигглевы картины (что происходило редко), он видел только серые и зеленые пятна да черные полосы и никакого смысла не находил. По долгу соседа он не мог обходить молчанием сорняки, но никогда не высказывал своего мнения о картинах. Пэриш считал, что тем самым проявляет добро-ту, и не понимал, что такой доброты маловато. Куда лучше было бы, если б он помог при прополке (а то и похвалил картины). – Ну, Пэриш, что стряслось? – спросил Ниггль. – Я знаю, мне не следовало вас отрывать, – отвечал Пэриш, даже не взглянув на картину. – Вы, понятно, очень заняты. Ниггль и сам собирался сказать что-нибудь в этом духе, но шанс был уже упу-щен. Пришлось ему ограничиться простым: – Да. 495 – Но мне больше не к кому обратиться! – пожаловался Пэриш. – Ну конечно, – вздохнул Ниггль. Это был вздох, предназначенный будто бы только для себя, но достаточно громкий, чтобы собеседник его услышал. – Чем я могу вам помочь? – Жена уже несколько дней хворает, и я начинаю тревожиться, – сказал Пэриш. – К тому же ветер сорвал с крыши половину черепицы, и в спальню льется вода. По-моему, нужно вызвать доктора. И кого-нибудь из строительной фирмы тоже, только их вечно не дождешься. Вот я и подумал – может, у вас найдутся доски да парусина или холст: мне бы залатать крышу да продержаться день-другой. – Вот тут-то он посмотрел на картину. – Бог ты мой! – воскликнул Ниггль. – Вот уж действительно не повезло. Наде-юсь, у вашей жены обычная простуда. Я зайду через пару минут и помогу вам перенести больную вниз. – Очень вам признателен, – весьма холодно отвечал Пэриш. – Только это не про-студа. У нее жар. Из-за простуды я бы не стал вас беспокоить. Кроме того, жена уже ле-жит внизу. Не с моей ногой бегать вверх-вниз по лестнице с подносами... Но я вижу, вы заняты. Извините, что побеспокоил. Просто я надеялся, что вы войдете в мое положение и выберете время съездить за доктором, а заодно и к строителям, раз уж у вас нет лишнего холста. – Конечно, – проговорил Ниггль, хотя на сердце у него лежали другие слова, – конечно, я мог бы съездить. Я съезжу, раз вы так тревожитесь. – Не то чтобы в нем заго-ворила совесть, просто сердце было очень мягкое. – Я тревожусь, я очень тревожусь, – подтвердил Пэриш. – Как жаль, что я хро-мой. Пришлось Нигглю поехать. Видите ли, положение было щекотливое. Пэриш жил совсем рядом, а больше поблизости не было ни одного дома. У Ниггля был велоси-пед, а у Пэриша не было, да он и не смог бы на нем ездить. Пэриш был хром, по-настоящему хром, и нога у него сильно болела. Об этом следовало помнить, как и о том, что у Пэриша кислая физиономия и 496 визгливый голос. Правда, Ниггль еще не дописал картину, и времени едва хватало, чтобы ее закончить. Но ему казалось, что об этом следовало бы подумать Пэришу. Однако Пэриш о картинах не думал, и тут Ниггль был бессилен что-либо изменить. «Проклятие!» – выругался он про себя и вывел велосипед из-под навеса. Было сыро, дул ветер, и дневной свет уже бледнел. «Сегодня мне больше не по-работать», – подумал Ниггль, и всю дорогу до города либо ругался про себя, либо пред-ставлял, как его кисть кладет мазки на гору и на россыпь листьев рядом с ней, – все это он придумал еще весной. Пальцы Ниггля дрожали на руле, так ему хотелось взяться за кисть. Сейчас, когда сарай остался позади, он совершенно ясно понял, как надо написать блестящие листья, которые обрамляли далекую гору. Но у него упало сердце, когда он со страхом подумал, что, может быть, уже не успеет перенести эту идею на холст. Ниггль нашел доктора и оставил записку в строительной конторе. Сама контора была закрыта: все уже разошлись по домам и теперь сидели у камина. Ниггль промок до костей и сам простудился. Доктор отправился по вызову не так быстро, как откликнулся Ниггль на просьбу Пэриша. Он появился лишь на следующий день – в очень удачный для себя момент, потому что к этому времени в соседних домах было уже два пациента. Ниггль лежал в постели с высокой температурой, а в голове его и на потолке рождались чудесные орнаменты из листьев и переплетенных ветвей. Ему не стало лучше, когда он узнал, что у миссис Пэриш была только простуда и она уже встает. Он отвернулся к стене и зарылся лицом в листья. Несколько дней он не вставал. Ветер дул по-прежнему. Он сорвал с крыши Пэ-риша еще много черепицы. У Ниггля крыша тоже начала подтекать. Строители так и не приехали. Несколько дней Нигглю было все равно. Потом он выбрался из дому поискать какой-нибудь еды (жены у него не было). Пэриш не появлялся: у него от сырости разболе-лась нога. А жена его все время подтирала воду и бормотала, уж не забыл ли «этот Ниггль» 497 вызвать строителей. Если ей понадобилось одолжить что-нибудь у Ниггля, она послала бы к нему Пэриша, несмотря на ногу. Но поскольку одалживать у художника бы-ло нечего, он оказался предоставлен самому себе. Примерно через неделю Ниггль, шатаясь, снова добрел до сарая. Он попытался взобраться на стремянку, но у него кружилась голова. Тогда он сел и уставился на карти-ну. Но в этот день ему в голову не приходили ни зеленые ветки, ни дальние горы. Он мог бы написать песчаную пустыню на заднем плане, но и на это у него не хватило энергии. На следующий день Нигглю стало гораздо лучше. Он залез на стремянку и взял-ся за кисть. Но только он начал погружаться в работу, как раздался стук в дверь. – Черт побери! – заорал Ниггль. С таким же успехом он мог вежливо сказать: «Войдите!» – потому что дверь все равно отворилась. На этот раз вошел незнакомый, очень высокий мужчина. – Здесь частная студия, – заявил Ниггль. – Я занят. Убирайтесь ! – Я – Инспектор домов, – отвечал мужчина, поднимая свое удостоверение так, чтобы Нигглю было видно со стремянки. – Ах так! – проговорил художник. – Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии! – Я знаю, – ответил Ниггль. – Я уже давно известил строителей, но они так и не появились. А потом я заболел. – Понятно. Но теперь-то вы здоровы. – Но я не строитель. Пэришу следует обратиться с просьбой в муниципалитет, и аварийная служба ему поможет. – Служба занята разрушениями посерьезнее, чем здесь, – сказал Инспектор. – Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам следовало помочь соседу и сде-лать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала слишком дорогостоящей. Таков закон. Здесь у вас масса материалов: холст, доски, водоотталкивающая краска. 498 – Где? – негодующе спросил Ниггль. – Вот! – ответил Инспектор, указывая на картину. – Моя картина! – воскликнул художник. – И что, что картина? – заявил Инспектор. – Дома важнее. Таков закон. – Не могу же я... – но тут Ниггль замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на Инспектора, что казался его двойником, – высокий, с головы до ног одетый в черное. – Поехали! – произнес вошедший. – Я Возница. Ниггль, дрожа, слез со стремянки. Казалось, художника снова одолела лихорад-ка: его знобило, в голове все плыло. – Возница? Возница? – забормотал он. – Чей возница ? – Ваш и вашего экипажа, – ответил незнакомец. – Экипаж заказан давно. Сего-дня он, наконец, пришел – и ожидает вас. Сами понимаете, пора вам отправляться в путе-шествие. – Ну вот! – сказал Инспектор. – Придется вам ехать. Не очень-то красиво от-правляться в путь, не доделав свои дела. Ну ладно, теперь мы по крайней мере воспользу-емся холстом. – Боже мой! – И бедный Ниггль разрыдался. – Ведь она... она даже не законче-на!.. – Не закончена? – удивился Возница. – Во всяком случае, ваша работа над ней закончена. Пошли! И Ниггль пошел, даже не протестуя. Возница не дал ему времени на сборы, ска-зав, что этим нужно было заниматься раньше и что они опаздывают на поезд. Ниггль только и успел захватить в прихожей небольшую сумку. Позже оказалось, что в ней лежит лишь ящик с красками и маленький альбом эскизов – ни одежды, ни еды. На поезд они успели. Ниггль очень устал, ему хотелось спать, и он вряд ли понимал, что происходит, когда его впихнули в купе. Все ему было безразлично. Он забыл 499 и куда полагается ехать, и зачем он туда едет. Почти сразу после отправления поезд вошел в темный туннель. Проснулся Ниггль на большой станции, смутно различимой за окном вагона. Вдоль платформы шел Носильщик, но выкрикивал он не название города, а имя Ниггля. Ниггль торопливо выбрался из вагона и вдруг обнаружил, что забыл сумку. Он было повернулся назад, но поезд уже ушел. – А, вот и вы! – сказал Носильщик. – Пройдите сюда! Что?! Вы без багажа? Придется вас направить в Работный дом. Ниггль снова почувствовал себя плохо и тут же, на платформе, упал в обморок. Его положили в карету «скорой помощи» и отвезли в больницу Работного дома. Лечение ему совсем не понравилось. Его поили горькими лекарствами. Санита-ры были недружелюбные, молчаливые и строгие, а кроме них его изредка навещал только очень суровый врач. Все это больше напоминало тюрьму, чем больницу. В определенные часы Нигглю приходилось заниматься изнурительным трудом: копать землю, плотничать, красить голые доски всегда в один и тот же цвет. Наружу никогда не выпускали, а все окна выходили во двор. Часами заставляли сидеть в полной темноте, «чтобы он хорошенько подумал». Ниггль потерял счет времени. И ему совсем не становилось лучше – если иметь в виду, что выздоравливающий начинает радоваться жизни. Ниггль не радовался, даже когда добирался до постели. Сначала, лет этак сто (я только передаю его впечатления), Ниггля неизвестно за-чем тревожило прошлое. Лежа в темноте, он раз за разом повторял: «Как жаль, что я не зашел к Пэришу в первый же день, когда подул сильный ветер! Я ведь собирался. Тогда черепицу было еще легко уложить на место. Миссис Пэриш не простудилась бы, и я бы тоже не простудился. Тогда у меня была бы еще неделя». Но со временем он забыл, зачем ему эта неделя. После этого, если он о чем и беспокоился, так это о работе в 500 больнице. Теперь он обдумывал ее заранее. Он начал высчитывать, сколько нужно времени, чтобы отремонтировать скрипящую половицу, навесить дверь, починить ножку стола. Вероятно, он и вправду стал нужным работником, хотя никто ему об этом не говорил. Но, конечно, не поэтому беднягу так долго не выпускали из больницы. Врачи, должно быть, ждали, когда он поправится, – причем у них были довольно необычные взгляды на то, что понимать под «поправкой». Так или иначе, Ниггль не получал от жизни удовольствия – или того, что он привык называть удовольствием. Несомненно, он не очень-то приятно проводил время. Но нельзя отрицать, что он начал ощущать некое удовлетворение: так человек, у которого нет масла, радуется хлебу. Он мог теперь взяться за работу в ту же секунду, как звонил звонок, и моментально отложить ее в сторону, как только звонил следующий, – и она ле-жала в полном порядке и ждала, когда придет время снова за нее приняться. Ниггль мно-го успевал сделать за день; всякие мелочи он непременно доделывал до конца. «Личного времени» у него не было, кроме как в палате, где он спал; и все же он становился хозяи-ном своего времени: он начал ясно понимать, на что можно его употребить. Теперь Ниггль не ощущал спешки. Он стал внутренне более спокойным и в часы отдыха действительно мог отдохнуть. И вдруг Нигглю перекроили весь распорядок дня. Времени на сон почти не ос-талось. У него отобрали плотницкую работу и заставили день за днем копать землю. Но и это испытание Ниггль вынес хорошо. Он даже не сразу принялся шарить в голове, оты-скивая позабытые ругательства. Ниггль копал и копал, кожа с ладоней слезла, спина боле-ла, как переломленная. Наконец, он почувствовал, что не сможет больше воткнуть лопату в землю. Никто его не поблагодарил. Но появился врач и взглянул на него. – Достаточно! – произнес он. – Полный отдых... в темноте. Лежа в темноте, Ниггль принимал прописанный полный отдых. Поскольку он ничего не чувствовал и ни о чем не думал, он не мог бы точно сказать, сколько прошло времени – несколько часов или несколько лет. Но 501 вдруг он услышал Голоса, ранее ему незнакомые . Похоже было, что рядом, в соседней комнате, заседает медицинская или следственная комиссия, причем дверь между комнатами открыта, хотя света и не видно. – Теперь дело Ниггля, – сказал чей-то Голос, и был он еще суровей, чем голос врача. – Что у него не в порядке? – спросил Второй Голос, который можно было бы на-звать нежным, хотя он не был мягким: в нем слышалась власть, и звучал он одновременно с надеждой и грустно. – Что не в порядке у Ниггля? Сердце у него было на месте. – Да, но работало оно не так, как нужно, – отвечал Первый Голос. – И голова у него была слабо привинчена: он почти совсем не думал. Погляди, сколько времени он по-терял даром! Так и не подготовился к путешествию. Был человеком среднего достатка, а здесь появился чуть ли не голым, и его пришлось поместить в отделение для нищих. Бо-юсь, положение его тяжелое. По-моему, он должен еще некоторое время пробыть здесь. – Возможно, это ему не повредило бы, – отозвался Второй Голос. – Но ведь он всего лишь маленький человек. Ничего особенного ему в жизни не полагалось, и сильным он не был. Давай заглянем в Записи. Да. Здесь, знаешь ли, есть кое-что, говорящее в его пользу. – Может быть, – сказал Первый Голос, – но лишь немногие из этих сведений смогут ему помочь, если мы их проанализируем. – Так вот, – настаивал Второй, – здесь есть следующее. Он по своей природе был художником. Конечно, не из великих, и все же Лист Ниггля посвоему привлекателен. Он очень упорно работал над листьями, но никогда не думал, что от этого станет большой фигурой. В Записях ничего не сказано о том, чтобы он притворялся, хотя бы перед самим собой, будто картины освобождают его от соблюдения требований закона. – Тогда почему он их так часто не соблюдал? – поинтересовался Первый Голос. – Все же он откликнулся на многие Просьбы. 502 – Лишь на небольшую часть Просьб, выбирая те, что полегче, да и те он называл Помехами. В Записях много раз повторяется это слово вместе с массой жалоб и глупыми проклятиями. – Действительно. Но ведь ясно, что ему, бедняге, Просьбы действительно каза-лись Помехами. И вот еще что: никогда он не надеялся на Воздаяние, как это называют многие люди, вроде него. У нас здесь есть дело Пэриша, оно прибыло позже. Пэриш был соседом Ниггля, ни разу пальцем для него не пошевелил и даже благодарил редко. Но в Записях нет ни слова о том, чтобы Ниггль ожидал от Пэриша благодарности. Судя по все-му, он вообще об этом не думал. – Да, это действительно смягчающее обстоятельство, – произнес Первый Голос, – но не очень существенное. Думаю, ты увидишь сам, что Ниггль часто просто забывал об этом. Все, что ему приходилось делать для Пэриша, он просто выкидывал из головы как досадный эпизод, с которым покончено. – И все же остается еще последнее донесение, – сказал Второй Голос, – о поезд-ке на велосипеде под дождем. Этот случай я особо подчеркиваю. По-моему, ясно, что это было истинное самопожертвование: Ниггль знал, что для тревоги у Пэриша нет основа-ний, а сам он теряет последний шанс закончить картину. – Мне кажется, ты употребляешь слишком сильное выражение, – заметил Пер-вый Голос. – Но последнее слово принадлежит тебе. Конечно, твоя задача – как можно лучше истолковать факты в пользу того, чье дело мы рассматриваем. Бывает, что они со-ответствуют такому толкованию. Что ты предлагаешь? – Я считаю, что пора перейти к курсу Мягкого Лечения, – ответил Второй Голос. Нигглю показалось, что никогда он не слышал такого великодушного голоса, как Второй. Слова «Мягкое Лечение» невидимый голос произнес так, будто говорил о множестве богатых даров или о приглашении на 503 королевский пир. И вдруг Ниггль усты-дился. Услышав, что к нему собираются применить Мягкое Лечение, он был так перепол-нен чувствами, что покраснел в темноте. Ощущение было такое, словно его похвалили на людях, причем и он, и все окружающие знают, что похвала не заслужена. Ниггль зарылся горящим лицом в грубое одеяло. Некоторое время длилось молчание. Потом совсем близко заговорил Первый Голос, обращаясь к Нигглю: – Ты слышал? – Да, – отвечал Ниггль. – И что же ты скажешь? – Вы не могли бы сообщить мне что-нибудь о Пэрише? – спросил Ниггль. – Мне бы очень хотелось снова его увидеть. Я надеюсь, он не очень болен? Вы можете вылечить его от хромоты? У него иногда ужасно болела нога. И, пожалуйста, не беспокойтесь на-счет его отношения ко мне. Он был отличным соседом и очень дешево продавал мне пре-красную картошку. Я сэкономил массу времени. – Дешево продавал картошку? Очень рад об этом слышать, – произнес Первый Голос. Вновь последовало молчание. Ниггль услышал затихающие голоса. – Хорошо, согласен, – прозвучал вдалеке Первый Голос. – Пусть перейдет на следующий этап. Если хочешь, завтра. Проснувшись, Ниггль обнаружил, что ставни распахнуты и его каморка залита солнечным светом. Вместо больничной пижамы на стуле лежала удобная одежда. После завтрака врач смазал его ободранные ладони какой-то мазью, и они сразу зажили. Он дал Нигглю несколько добрых советов и пузырек с укрепляющим (на случай, если оно пона-добится). Еще до полудня Нигглю принесли печенье и стакан вина, а потом вручили би-лет. – Теперь можете отправляться на станцию, – сказал врач. – Носильщик о вас по-заботится. Всего хорошего. 504 Ниггль выскользнул через главный вход и заморгал глазами. Вопервых, светило яркое солнце. А во-вторых, он ожидал, что вокруг него раскинется огромный город: ведь станция была очень большая. Но города не было. Ниггль стоял на вершине зеленого холма, овеваемый прохладным ветром, который вливал в тело новые силы. Вокруг не было ни души. Внизу, у подножья холма, сверкала крыша вокзала. Скорым шагом, без спешки, Ниггль спустился с холма. Носильщик сразу его за-метил: – Вам сюда! – и провел Ниггля к боковой платформе, где стоял очень приятный на вид маленький пригородный поезд – чистый, свежевыкрашенный, сверкающий на солнце паровозик и один вагон. Поезд выглядел так, словно впервые отправлялся в путь. Даже железнодорожное полотно казалось новым: рельсы сияли, шпалы под горячими лу-чами солнца вкусно пахли свежим дегтем. В вагоне было пусто. – Куда идет поезд, Носильщик? – справился Ниггль. – По-моему, это место пока никак не называется, – отозвался Носильщик. – Но вы его без труда найдете. – И захлопнул двери вагона. Поезд тут же покатил вперед. Ниггль откинулся на сидение. Паровозик пыхтел по дну глубокого ущелья с крутыми зелеными склонами, над которыми лучилось голубое небо. Вскоре с паровоза раздался свисток, заскрипели тормоза, и поезд остановился. Здесь не было ни вокзала, ни вывески с названием станции. Ниггль увидел ступеньки, ведущие вверх по заросшему травой склону. Наверху была аккуратная изгородь с калиткой. А ря-дом с калиткой стоял его велосипед – по крайней мере, очень похожий, и к рулю была привязана желтая табличка с надписью большими черными буквами: «Ниггль». Ниггль толкнул калитку, вскочил на велосипед и понесся вниз по склону под лучами весеннего солнца. Скоро обнаружилось, что тропинка, по которой он сначала ехал, исчезла, и велосипед катится по великолепному 505 лугу. Трава проносилась совсем рядом, и все же Ниггль отчетливо видел каждую травинку. Ему показалось, что он уже где-то видел эти колышущиеся травы, – а, может быть, они ему пригрезились во сне. Местность почему-то представлялась Нигглю знакомой. Да, вот здесь земля выровнялась, как и должно быть, а вот снова начался подъем. Солнце закрыла какая-то большая зеленая тень. Ниггль поднял глаза – и свалился с велосипеда. Перед ним стояло Дерево – его Дерево, но законченное. Если можно так сказать о Дереве живом, с распускающимися листьями, о Дереве, ветви которого росли и гнулись под ветром. Этот ветер Ниггль так часто чувствовал или представлял себе, и так часто не мог запечатлеть на холсте! Не отрывая взгляда от Дерева, он медленно раскинул руки, как будто для объятия. – Вот это дар! – проговорил Ниггль. Он говорил и о своем искусстве, и о картине – и все же использовал слово в буквальном значении. Не отрываясь глядел Ниггль на Дерево. Он видел все листья, над которыми тру-дился в своем сарае, – они были скорее такими, как он представлял себе, чем такими, как написал. Вместе с ними шумели и листья, которые когда-то только-только проклюнулись из почек в его воображении, и такие, которые проклюнулись бы, если б у него хватило времени. На них не было никаких надписей – это были просто изящные листья, – и все же каждый нес на себе точную дату, как листок календаря. Некоторые из самых пре-красных – и самых характерных, дававших совершенный пример стиля Ниггля – были явно созданы в сотрудничестве с мистером Пэришем (только так и можно это выразить). В ветвях Дерева строили гнезда птицы. Невероятные птицы: как они пели! И, глядя на них, Ниггль видел, как они селятся парами, высиживают птенцов, как птенцы оперяются и с песнями улетают в Лес. Теперь он заметил и Лес, раскинувшийся в обе сто-роны и уходящий к горизонту. Вдалеке сверкали Горы. 506 Прошло какое-то время, и Ниггль направился к Лесу. Не потому, что Дерево ему наскучило. Просто теперь оно ясно запечатлелось в памяти, и, даже не видя его, художник не забывал о нем, чувствовал, как оно растет. Отойдя от Дерева, Ниггль обнаружил странную вещь: Лес, конечно, был Лесом Вдалеке – в этом-то и заключалось его очарование, – и все же к нему можно было приблизиться, даже войти в него, и очарование не исчезало. До сих пор Нигглю никогда не удавалось войти в даль так, чтобы она не превращалась просто в окружающую местность. Теперь же прогулка стала куда приятнее: впереди все время открывались новые дали, так что были уже дали двойные, тройные и четверные, которые вдвое, втрое, вчетверо сильнее влекли к себе. Можно было идти вперед и вперед, и целая страна раскидывалась вокруг, словно вмещенная в один сад, или, если хотите, в одну картину. Можно было идти вперед и вперед, но, верно, не без конца. Ведь на заднем плане высились Горы. Они отчетливо, хоть и очень медленно, приближались. Казалось, они не из этой картины. Горы были как звено, связующее ее с чем-то иным, что л ишь проглядывало сквозь деревья, – со следующей ступенью, с новой картиной. На ходу Ниггль не просто глазел по сторонам. Он внимательно разглядывал ок-рестности. Дерево закончено, и Ниггль снова рядом с ним («А Возница говорил иначе», – припомнил он), но в Лесу все еще оставалось несколько неубедительных мест. Над ними нужно было подумать и потрудиться. Изменять что-либо не было нужды, все сделанное было сделано правильно – следовало только довести работу до конца. Какой вид должны в конце концов принять эти места, Ниггль в точности знал. Он уселся под очень красивым деревом вдалеке – оно напоминало Большое Де-рево, но обладало неповторимым своеобразием, или обладало бы, если ему уделить еще немного внимания – и стал раздумывать, откуда начать работу, где закончить, сколько времени она займет. Но в планах чтото не ладилось. 507 – Ну ясно! – воскликнул Ниггль. – Пэриш, вот кто мне нужен. О земле, кустах и деревьях он знает много такого, о чем я и понятия не имею. Нельзя, чтобы здесь кроме меня никого не было: ведь это же не частный парк. Мне нужна помощь и добрый совет, – давно пора было об этом подумать. Ниггль встал и направился к месту, с которого решил начать работу. Сбросил пиджак. И вдруг увидел в небольшой ложбинке, укрытой от взглядов издалека, какого-то человека, который ошеломленно озирался по сторонам. Человек этот опирался на лопату, но явно не знал, что с ней делать. – Пэриш! – позвал Ниггль. Пэриш вскинул лопату на плечо и подошел к нему. Он все еще слегка прихра-мывал. Соседи ни слова не сказали друг другу, только кивнули, как раньше, когда сталки-вались на улице. Но на этот раз они пошли дальше вместе, рука об руку. Без слов Ниггль и Пэриш согласились, где поставить маленький домик и разбить сад, без которых было не обойтись. Трудились они вместе, и скоро стало ясно, что теперь Ниггль лучше Пэриша умеет распоряжаться своим временем. Работа у него спорилась. Как ни странно, именно Ниггль больше увлекся домом и садом, а Пэриш часто бродил по округе, разглядывая де-ревья, особенно Большое Дерево. Как-то раз Ниггль сажал живую изгородь, а Пэриш лежал рядом, внимательно вглядываясь в изящный желтый цветок, росший в зеленой траве. Давным-давно Ниггль изобразил множество таких цветов меж корней Дерева. Вдруг Пэриш поднял глаза. На его лице, освещенном солнцем, играла улыбка. – Просто загляденье! – сказал он. – Честно говоря, я не заслужил, чтобы меня отправили сюда. Спасибо, что замолвили за меня словечко. – Чепуха, – ответил Ниггль. – Я даже не помню, что говорил. Во всяком случае, одного этого было явно недостаточно. – Еще как достаточно, – настаивал Пэриш. – Если б не вы, мне бы так рано ни за что не выбраться. Понимаете, это все Второй Голос. Это он сделал 508 так, что меня послали сюда. Он сказал, что вы хотите меня видеть. Так что я перед вами в долгу. – Нет. Вы в долгу перед Вторым Голосом, – был ответ. – Мы оба перед ним в долгу. И они по-прежнему жили и работали вместе. Не знаю, как долго это продолжа-лось. Не приходится отрицать, что поначалу у них время от времени возникали споры, особенно когда оба уставали (а это иногда случалось). Оказалось, что у обоих есть с собой укрепляющее. На пузырьках были одинаковые этикетки: «Смешать с водой из родника и принимать по несколько капель перед отдыхом». Родник они нашли в самой глубине Ле-са. Только однажды, когда-то давно, Ниггль представил его себе, но так и не перенес на холст. Теперь он понял, что из этого источника наполняется озеро, сверкающее вдалеке, воды которого поили всю округу. От нескольких капель укрепляющего вода становилась терпкой и горьковатой, но в тело вливались силы, а голова прояснялась. Приняв лекарст-во, они отдыхали, а потом вновь подымались и весело брались за работу. В такие минуты Ниггль придумывал новые прекрасные цветы и кусты, а Пэриш всегда точно знал, как и где их лучше всего посадить. Еще задолго до того, как пузырьки опустели, у Ниггля и Пэ-риша отпала нужда принимать лекарство. Пэриш даже избавился от хромоты. Работа подходила к концу, и они все чаще и чаще просто гуляли, любуясь де-ревьями, цветами, солнечным светом на изящных листьях, всем окрестным пейзажем. Иногда они вместе пели песни. Но Ниггль чувствовал, что взгляд его все чаще обращается к Горам. И вот пришло время, когда домик в ложбине, сад, трава, лес, озеро – все на кар-тине оказалось почти завершенным, почти таким, каким ему надлежало быть. Большое Дерево было все в цвету. – Сегодня вечером закончим, – сказал однажды Пэриш. – И тогда отправимся на прогулку по-настоящему далеко. 509 Они вышли на следующий день и шагали сквозь дали, пока не достигли Преде-ла. Конечно, он был невидим – не было ни черты, ни изгороди, ни стены, – однако путни-ки поняли, что дошли до конца этой страны. Перед ними появился какой-то человек, по-хожий на пастуха. Он спускался по заросшему травой склону, который уходил вдаль, к Горам. – Вам не нужен проводник? – спросил он. – Вы хотите идти дальше? На секунду между Нигглем и Пэришем прошла тень, потому что Ниггль понял, что хочет и в каком-то смысле должен продолжать путь, а Пэриш не хотел и не был еще готов идти дальше. – Мне нужно дождаться жены, – сказал Пэриш Нигглю. – Без меня ей будет одиноко. По-моему, ее должны отправить вслед за мной рано или поздно, когда она будет к этому готова, а я подготовлю здесь все для нее. Домик в меру наших сил достроен, и мне хочется самому ввести в него жену . Я думаю, она сможет сделать его еще уютнее. И надеюсь, что ей понравится здесь. Он взглянул на пастуха: – Проводник – это вы и есть? Скажите, пожалуйста, как называется эта мест-ность? – Разве ты не знаешь? – отвечал пастух. – Это – Страна Ниггля. Большая часть ее – Картина Ниггля, но теперь здесь есть и немного Сада Пэриша. – Картина Ниггля?! – изумленно воскликнул Пэриш. – Неужели все это выдума-ли вы, Ниггль? Я и не подозревал, какой вы умный. Но почему же вы мне не сказали? – Он давным-давно пытался, – сказал пастух, – но ты и не посмотрел ни разу. В те дни у него был только холст и краска, а ты хотел ими залатать крышу. Тебя окружает то, что вы с женой называли «Нигглева Блажь» или «Эта Мазня». – Но тогда все это было совсем не похоже, не настоящее, – пробормотал Пэриш. 510 – Да, это был только отблеск, – сказал пастух, – но, может быть, ты уловил бы его, если бы считал нужным попытаться. – Я сам не дал вам возможности, – проговорил Ниггль. – Ни разу не постарался что-нибудь объяснить. Я вас тогда называл Старой Землеройкой. Но к чему все это? Мы долго жили и трудились вместе. Все могло бы сложиться иначе, но лучше – не могло. Хватит об этом. Боюсь, мне придется идти дальше. Надеюсь, мы еще встретимся: ведь мы, должно быть, еще так много можем сделать вместе. До свидания! Он тепло пожал Пэришу руку – это была добрая, честная, крепкая рука. Ниггль повернулся на минуту и взглянул назад. Цветущее Большое Дерево сияло, как пламя. Все птицы распевали, поднявшись в воздух. Потом он улыбнулся, кивнул Пэришу и пошел за пастухом. Ему предстояло узнать многое об овцах и о том, как пасти их на поднебесных лугах. Он будет смотреть в огромное небо и идти все вверх, все ближе к Горам. А что по-том – не знаю. Даже маленький Ниггль в своем старом сарае сумел уловить очертания Гор – так они и попали на задний план его картины. Но лишь те, кто поднялся в Горы, могут сказать, какие они на самом деле и что лежит за ними. – По-моему, глупый человечишка, – заявил советник Томкинс. – Никакого толку от него не было. Человек, бесполезный для Общества . – Не знаю, не знаю... – протянул Аткинс (человек незначительный, школьный учитель). – Я в этом не уверен. Смотря что вы понимаете под пользой. – Бесполезный с практической и экономической точки зрения, – уточнил Том-кинс. – Из него, позвольте заметить, может, и вышел бы полезный винтик для обществен-ной машины, если бы вы, учителя, знали свое дело. Но вы его не знаете. Вот из ваших рук и выходят бесполезные людишки вроде него. Был бы я здесь главным, живо бы и его, и всех подобных приставил к какой-нибудь работенке, на которую они еще 511 способны. Мы-ли бы посуду в общественной столовой или что-нибудь в этом роде. Уж я бы проследил, чтобы они не ленились. Или просто избавился бы от них. От него я бы давным-давно из-бавился. – Избавились? Вы хотите сказать, что заставили бы его пуститься в путешествие раньше времени? – Вот именно, раз уж вам по душе это бессмысленное старое выражение. Через туннель на большую Мусорную Свалку – вот что я хочу сказать. – Так вы считаете, что живопись ничего не стоит? Что нужно не добиваться со-вершенства, а просто покончить с ней? Разве она совсем бесполезна? – Конечно, использовать живопись можно, – отозвался Томкинс, – только не в его исполнении. Перед смелой молодежью, которая не боится новых идей и приемов, до-рога открыта. А для этой старомодной мазни у нас места нет! Ох уж эти мне персональ-ные грезы! Да он бы и под страхом смерти не смог бы нарисовать приличное рекламное объявление, чтоб бросалось в глаза. Вечно носился со своими листочками-цветочками. Я его как-то раз спросил, зачем ему это. А он отвечает, что они, по его мнению, красивые. Можете себе представить? «Что красивое, – говорю, – органы питания и размножения у растений?» Он, конечно, ничего не ответил. Неумеха! – Неумеха!.. – вздохнул Аткинс. – Да, бедняга, ничего он не довел до конца. Ну что ж, после того, как он отбыл, его холстам нашли «лучшее применение». Но у меня нет такой уверенности, как у вас, Томкинс. Помните тот большой холст, который использова-ли, чтобы залатать крышу соседнего дома после бури и наводнения? Я нашел в поле ото-рванный от него уголок. Он был поврежден, но можно было различить вершину горы и несколько листьев. Никак не могу выкинуть их из головы. – Откуда-откуда? – удивился Томкинс. 512 – О ком это вы? – вмешался Перкинс в целях сохранения мира, поскольку Ат-кинс залился краской. – А-а, не стоит даже имя повторять, – заявил Томкинс. – Вообще не знаю, что это мы о нем заговорили. Он не жил в городе. – Не жил, – отрубил Аткинс, – но вы-то давно положили глаз на его дом. Оттого и в гости к нему ходили, и издевались над ним, прихлебывая его чай. Мало вам было го-родского дома! Теперь его домик перешел к вам, так что и имени его можете не стеснять-ся. Если вас это интересует, Перкинс, мы говорили о Ниггле. – Ах, бедняга Ниггль! А я и не знал, что он занимался живописью, – заметил Перкинс. После этого имя Ниггля, кажется, ни разу не всплывало в разговорах. Аткинс, однако, сохранил уголок картины. Краски пожухли, но один тщательно выписанный лист был хорошо виден. Аткинс вставил обрывок холста в раму, а позднее завещал городскому музею. Здесь «Лист Ниггля» долгие годы висел в темном углу. Замечали его немногие. Но однажды музей сгорел. После этого на родине Ниггля все забыли и «Лист», и его самого. – Каждый день – все новые подтверждения, что это отличное место для отдыха и восстановления сил, – сказал Второй Голос. – Там все способствует окончательному вы-здоровлению. Но это еще не все. Многих оно подводит вплотную к Горам. В некоторых случаях оно творит чудеса. Я посылаю туда все больше народа. Редко кому приходится возвращаться. – Да, ты прав, – отозвался Первый Голос. – Думаю, пришла пора дать этой мест-ности имя. Какие у тебя предложения? – Носильщик уже позаботился об этом, – сообщил Второй Голос. – Он уже дав-но оповещает пассажиров: «Поезд в Ниггль-Пэриш стоит у боковой платформы!» Ниггль-Пэриш. Я послал к ним сообщить об этом. – Что же они сказали? – Оба расхохотались. Расхохотались – да так, что отозвались Горы! 513 Имена персонажей имеют смысловое значение. Ниггль (Niggle) – англ. «зани-маться пустяками, размениваться на мелочи». Пэриш (Parish) – англ. «церковный приход». Тогда Ниггль-Пэриш (Niggle’s Parish) можно истолковать по-разному – «приют для малых», «Нигглев Приход». 514 В. К. Железников.Чучело Железников В.К. Повести. - М.: Дет. лит., 1985. Глава первая Ленка неслась по узким, причудливо горбатым улочкам городка, ничего не замечая на своем пути. Мимо одноэтажных домов с кружевными занавесками на окнах и высокими крестами телеантенн - вверх!.. Мимо длинных заборов и ворот, с кошками на их карнизах и злыми собаками у калиток - вниз!.. Куртка нараспашку, в глазах отчаяние, с губ слетал почти невнятный шепот: - Дедушка!.. Милый!.. Уедем! Уедем! Уедем!.. - Она всхлипывала на ходу. - Навсегда!.. От злых людей!.. Пусть они грызут друг друга!.. Волки!.. Шакалы!.. Лисы!.. Дедушка!.. - Вот ненормальная! - кричали ей вслед люди, которых она сбивала с ног. - Летит, как мотоциклетка! Ленка взбегала вверх по улице на одном дыхании, словно делала разбег, чтобы взлететь в небо. Она и в самом деле хотела бы тотчас взлететь над этим 515 городком - и прочь отсюда, прочь! Куда-то, где ждала ее радость и успокоение. Потом стремительно скатывалась вниз, словно хотела снести себе голову. Она и в самом деле была готова на какой-нибудь отчаянный поступок, не щадя себя. Подумать только, что же они с нею сделали! И за что?! Глава вторая Ленкин дед, Николай Николаевич Бессольцев, уже несколько лет жил в собственном доме в старом русском городке на берегу Оки, где-то между Калугой и Серпуховом. Это был городок, каких на нашей земле осталось всего несколько десятков. Ему было больше восьмисот лет. Николай Николаевич хорошо знал, высоко ценил и любил его историю, которая как живая вставала перед ним, когда он бродил по его улочкам, по крутым берегам реки, по живописным окрестностям с древними курганами, заросшими густыми кустарниками жимолости и березняком. Городок за свою историю пережил не одно бедствие. 516 Здесь, над самой рекой, на развалинах старого городища, стоял когда-то княжеский двор, и русская дружина насмерть дралась с несметными полчищами ханских воинов, вооруженных луками и кривыми саблями, которые с криками: "Та Русь! Та Русь!.." - на своих низкорослых крепких конях пытались переправиться с противоположного берега реки на этот, чтобы разгромить дружину и прорваться к Москве. И Отечественная война 1812 года задела городок своим острым углом. Армия Кутузова тогда пересекла его вереницей солдат и беженцев, повозок, лошадей, легкой и тяжелой артиллерии со всевозможными мортирами и гаубицами, с запасными лафетами и полевыми кузницами, превратив и без того худые местные дороги в сплошное месиво. А потом по этим же дорогам русские солдаты с неимоверной, почти нечеловеческой отвагой, не щадя живота своего, днем и ночью, без передыха гнали измученных французов обратно, хотя совсем было непонятно, откуда они взяли силы. После такого длинного отступления, голода и эпидемий. И отсвет завоевания Кавказа русскими коснулся городка - где-то здесь в 517 великой печали жил пленный Шамиль и горцы, которые его сопровождали. Они слонялись по узким улочкам, и их безумный тоскующий взор напрасно искал на горизонте гряду гор. А первая империалистическая как буря унесла из городка всех мужчин и вернула их наполовину калеками - безрукими, безногими, но злыми и бесстрашными. Свобода была дороже им собственной жизни. Они-то и принесли революцию в этот тихий, маленький городок. Потом, много лет спустя, пришли фашисты - и прокатилась волна пожаров, виселиц, расстрелов и жестокого опустошения. Но прошло время, окончилась война, и городок вновь возродился. Он стоял теперь, как и прежде, размашисто и вольно на нескольких холмах, которые крутыми обрывами подступали к широкой излучине реки. На одном из таких холмов и возвышался дом Николая Николаевича - старый, сложенный из крепких бревен, совершенно почерневших от времени. Его строгий простой мезонин с прямоугольными окнами затейливо украшали четыре балкончика, выходящие на все стороны света. Черный дом с просторной, открытой ветрам террасой был совсем не похож 518 на веселые, многоцветно раскрашенные домики соседей. Он выделялся на этой улице, как если бы суровый седой ворон попал в стаю канареек или снегирей. Дом Бессольцевых давно стоял в городке. Может быть, более ста лет. В лихие годы его не сожгли. В революцию не конфисковали, потому что его охраняло имя доктора Бессольцева, отца Николая Николаевича. Он, как почти каждый доктор из старого русского городка, был здесь уважаемым человеком. При фашистах он устроил в доме госпиталь для немецких солдат, а в подвале в это время лежали раненые русские, и доктор лечил их немецкими лекарствами. За это доктор Бессольцев и был расстрелян. На этот раз дом спасло стремительное наступление Советской Армии. Так дом стоял себе и стоял, всегда переполненный людьми, хотя мужчины Бессольцевы, как и полагалось, уходили на разные войны и не всегда возвращались. Многие из них оставались лежать где-то в безвестных братских могилах, которые печальными холмами разбросаны повсеместно в Центральной России, и на 519 Дальнем Востоке, и в Сибири, и во многих других местах нашей земли. До приезда Николая Николаевича в доме жила одинокая старуха, одна из Бессольцевых, к которой все реже и реже наезжали родственники как ни обидно, а род Бессольцевых частично рассыпался по России, а частично погиб в борьбе за свободу. Но все же дом продолжал жить своей жизнью, пока однажды разом не отворились все его двери и несколько мужчин молча, медленно и неловко вынесли из него на руках гроб с телом сухонькой старушки и отнесли на местное кладбище. После этого соседи заколотили двери и окна бессольцевского дома, забили отдушины, чтобы зимой дом не отсырел, прибили крестом две доски на калитку и ушли. Впервые дом оглох и ослеп. Вот тут-то и появился Николай Николаевич, который не был в городке более тридцати лет. Он только недавно похоронил свою жену и сам после этого тяжело заболел. Николай Николаевич не боялся смерти и относился к этому естественно и просто, но он хотел обязательно добраться до родного дома. И это страстное 520 желание помогло ему преодолеть болезнь, снова встать на ноги, чтобы двинуться в путь. Николай Николаевич мечтал попасть в окружение старых стен, где длинными бессонными ночами перед ним мелькали бы вереницы давно забытых и вечно памятных лиц. Только стоило ли ради этого возвращаться, чтобы на мгновение все это увидеть и услышать, а потом навсегда потерять? "А как же иначе?" - подумал он и поехал в родные края. В страшные часы своей последней болезни, в это одиночество, а также в те дни, когда он буквально погибал от военных ран, когда нет сил ворочать языком, а между ним и людьми появлялась временная полоса отчуждения, голова у Николая Николаевича работала отчетливо и целеустремленно. Он как-то особенно остро ощущал, как важно для него, чтобы не порвалась тоненькая ниточка, связывающая его с прошлым, то есть - с вечностью... Целый год до его приезда дом простоял заколоченный. Его поливали дожди, на крыше лежал снег, и никто его не счищал, поэтому крыша, и так уже давно не крашенная, во многих местах прохудилась и проржавела. А ступени главного крыльца совсем прогнили. 521 Когда Николай Николаевич увидел свою улицу и свой дом, сердце у него заколотилось так сильно, что он испугался, что не дойдет. Он постоял несколько минут, отдышался, твердым военным шагом пересек улицу, решительно оторвал крест от калитки, вошел во двор, отыскал в сарае топор и стал им отрывать доски от заколоченных окон. Неистово работая топором, забыв впервые о больном сердце, он думал: главное - отколотить доски, открыть двери, распахнуть окна, чтобы дом зажил своей постоянной жизнью. Николай Николаевич закончил работу, оглянулся и увидел, что позади него, скорбно сложив на груди руки, стояло несколько женщин, обсуждающих его, прикидывая, кто бы из Бессольцевых мог это быть. Но они все были еще так молоды, что не могли знать Николая Николаевича. Перехватив его взгляд, женщины заулыбались, сгорая от любопытства и желания поговорить с ним, но он молча кивнул всем, взял чемоданчик и скрылся в дверях. Николай Николаевич ни с кем не заговорил не потому, что был так нелюдим, просто каждая жилка дрожала у него внутри при встрече с домом, который был для него не просто дом, а его жизнь и колыбель. 522 По памяти дом всегда казался ему большим, просторным, пахнущим теплым воздухом печей, горячим хлебом, парным молоком и свежевымытыми полами. И еще когда Николай Николаевич был маленьким мальчиком, то всегда думал, что у них в доме живут не только "живые люди", не только бабушка, дедушка, папа, мама, братья и сестры, приезжающие и уезжающие бесчисленные дяди и тети, а еще и те, которые были на картинах, развешанных по стенам во всех пяти комнатах. Это были бабы и мужики в домотканых одеждах, со спокойными и строгими лицами. Дамы и господа в причудливых костюмах. Женщины в расшитых золотом платьях со шлейфами, со сверкающими диадемами в высоких прическах. Мужчины в ослепительно белых, голубых, зеленых мундирах с высокими стоячими воротниками, в сапогах с золотыми и серебряными шпорами. Портрет знаменитого генерала Раевского, в парадном мундире, при многочисленных орденах, висел на самом видном месте. И это чувство, что "люди с картин" на самом деле живут в их доме, никогда не покидало его, даже когда он стал взрослым, хотя, может быть, это 523 и странно. Трудно объяснить, почему так происходило, но, будучи в самых сложных переделках, в предсмертной агонии, на тяжкой кровавой работе войны, он, вспоминая дом, думал не только о своих родных, которые населяли его, но и о "людях с картин", которых он никогда не знал. Дело в том, что прапрадед Николая Николаевича был художник, а отец, доктор Бессольцев, отдал многие годы своей жизни, чтобы собрать его картины. И сколько Николай Николаевич себя помнил, эти картины всегда занимали главное место в их доме. Николай Николаевич отворил дверь с некоторой опаской. Вдруг там что-нибудь непоправимо изменилось. И он оказался прав - стены дома были пусты, исчезли все картины! В доме пахло сыростью и затхлостью. На потолке и в углах была паутина. Многочисленные пауки и паучки, не обращая на него внимания, продолжали свою кропотливую искусную работу. Полевая мышка, найдя приют в брошенном доме, как цирковой канатоходец, несколько раз весело пробежала по проволоке, которая осталась на окне от занавесей. 524 Мебель была сдвинута со своих привычных мест и зачехлена старыми чехлами. Страх и ужас до крайней степени овладели Николаем Николаевичем подумать только, картины исчезли! Он попробовал сделать шаг, но поскользнулся и еле устоял - пол был покрыт тонким слоем легкого инея. Тогда он заскользил дальше, как на лыжах, оставляя длинные следы по всему дому. Еще комната! Еще! Дальше! Дальше!.. Картин нигде не было! И только тут Николай Николаевич вспомнил: сестра писала ему в одном из последних писем, что сняла все картины, увернула их в мешковину и сложила на антресоли в самой сухой комнате. Николай Николаевич, сдерживая себя, вошел в эту комнату, влез на антресоли и дрожащими руками стал вытаскивать одну картину за другой, боясь, что они погибли, промерзли или отсырели. Но произошло чудо - картины были живы. Он с большой нежностью подумал о сестре, представив себе, как она 525 снимала картины, прятала их, чтобы сохранить. Как она, несильная, усохшая с годами, аккуратно упаковала каждую картину. Видно, трудилась целыми днями не один месяц, исколола себе все руки иглой, пока зашивала грубую мешковину. Один раз упала с полатей - да она писала ему и об этом, - отлежалась и вновь паковала, пока не закончила своей последней в жизни работы. Теперь, когда картины нашлись, Николай Николаевич взялся за дом. Первым делом он затопил печи, а когда стекла окон запотели, отворил их настежь, чтобы вышла из дома сырость. А сам все подкладывал и подкладывал в печи древа, завороженный пламенем и гулом огня. Потом он вымыл стены, принес стремянку, добрался до потолков и, наконец, меняя несколько раз воду, выскоблил тщательно полы, половицу за половицей. Постепенно всем своим существом Николай Николаевич почувствовал тепло родных печей и привычный запах родного дома - он радостно кружил ему голову. Впервые за последние годы Николай Николаевич освобожденно и блаженно вздохнул. Вот тогда-то он снял чехлы с мебели и расставил ее. И, наконец, развесил картины... Каждую на свое место. 526 Николай Николаевич огляделся, подумал, что бы сделать еще, - и вдруг понял, что ему больше всего хочется сесть в старое отцовское кресло, которое называлось волшебным словом "вольтеровское". В детстве ему не разрешалось этого делать, а как хотелось забраться на него с ногами!.. Николай Николаевич медленно опустился в кресло, откинулся на мягкую спинку, облокотился на подлокотники и просидел так неизвестно сколько времени. Может быть, час, а может быть, три, а может, остаток дня и всю ночь... Дом ожил, заговорил, запел, зарыдал... Множество людей вошли в комнату и окружили кольцом Николая Николаевича. Николай Николаевич думал о разном, но каждый раз возвращался к своей тайной мечте. Он думал о том, что когда он умрет, то здесь поселится его сын с семьей. И видел воочию, как сын входит в дом. И конечно, невидимые частицы прошлого пронзят и прогреют его тело, запульсируют кровью, и он уже никогда не сможет забыть родного дома. Даже если уедет в одну из своих экспедиций, где будет искать редчайшие цветы, взбираясь высоко в горы и рискуя сорваться 527 в пропасть, только затем, чтобы посмотреть на едва заметный бледно-голубой цветок на тонком стебельке, который растет на самом краю отвесной скалы. Нет, Николай Николаевич как раз понимал: жизнью надо рисковать непременно, иначе что же это за жизнь, это какое-то бессмысленное спанье и обжирание. Но все же он мечтал о том, чтобы сын его вернулся домой или возвращался, чтобы снова уезжать, как это делали прочие Бессольцевы в разные годы по разным поводам. Когда он очнулся, лучи солнца радужным облачком клубились в доме и падали на портрет генерала Раевского. И тогда Николай Николаевич вспомнил, как он в детстве ловил первые солнечные лучи на этой же картине, и грустно и весело рассмеялся, подумав, что жизнь безвозвратно прошла. Николай Николаевич вышел на крыльцо и увидел, что солнце осветило балкончик, который выходил на восток, и двинулось, чтобы сделать еще одно кольцо вокруг дома. Он взял топор, нашел рубанок и пилу, отобрал несколько досок, чтобы починить крыльцо. Как он давно этим не занимался, хотя видно - эта работа 528 крепко "сидела" у него в руках. Он делал все не очень ловко, но с большой охотой - ему нравилось держать обыкновенную доску, нравилось скользить по ней рубанком, и городская суета многих последних лет незримо уходила из его сознания. Дом ему скажет за это спасибо, подумал Николай Николаевич, и он скажет спасибо дому. Потом Николай Николаевич взобрался на крышу, и лист железа, поднятый ветром, ударил его по спине так сильно, что чуть не сбил с крыши он чудом удержался... Вот тут он впервые почувствовал острый голод, такой у него бывал только в юности, когда он от голода мог потерять сознание. И не удивительно, Николай Николаевич не" знал, сколько прошло времени, как он приехал, не помнил, что он ел и ложился ли спать. Он работал по дому и не замечал мелькания коротких зимних дней. Раннее утро он не отличал от позднего вечера. Николай Николаевич пошел на базар, купил квашеной капусты, картошки, сухих черных грибов и сварил грибные кислые щи. Съел две тарелки и лег 529 спать. Встал, по-прежнему не ощущая времени, снова съел щей, звонко рассмеялся, ловя себя на мысли, что узнает в интонациях своего смеха смех отца, и снова почему-то лег спать... С тех пор прошло несколько лет, и Николай Николаевич забыл про свои болезни. Он жил, жил и чувствовал, что стал вынослив, как крепкое старое дерево, хорошо политое весенним дождем. Его то и дело видели не по возрасту стремительно бегущим по кривым улочкам городка то в одну сторону, то в другую, очевидно без всякого дела, хотя иногда он нес что-то завернутое в материю, - тогда лицо его вдохновенно светилось и молодело. Те, кто считались сведущими, судачили, что он ищет какие-то картины. Тратит на них уйму денег, а оставшиеся, все без остатка, отдает за дрова. И топит - подумать только! - все печи каждый день, а в морозы и по два раза, чтобы эти его картины не отсырели. И всегда почему-то ночью, зажигая свет во всех комнатах. Сколько же у него деньжищ уходило зазря: легким дымом через печные 530 трубы в небо, ярким светом электричества в ночь, а главное, на новые картины - мало ему было своих! Вот поэтому и гол как сокол. В городке относились к Николаю Николаевичу с настороженным вниманием. То, как он жил, горожанам было непонятно и недоступно, но у многих вызывало уважение. И между прочим, люди привыкли к тому, что дом Бессольцевых светился ночью и стал в городке своеобразным маяком, ориентиром для запоздалых путников, издалека возвращавшихся в темноте домой. Ночью дом был как свеча в непроглядной мгле. Соседи могли подумать про Николая Николаевича, что он до ужаса одинок и поэтому несчастен. Он вечно бродил по городку один, в неизменной кепке, которую носил, низко сдвинув на лоб, и в потертом пальто с большими аккуратными заплатками на локтях. За это дети дразнили его "заплаточником", но, кажется, он их даже не замечал. Редко-редко он вдруг оглядывался и смотрел им вслед с нескрываемым удивлением. Тогда они стремительно уносились от него, хотя он никогда не ругался и не гнался за ними. Если с ним вступали в праздные разговоры, то он отвечал односложно и 531 быстро уходил прочь, нахохлившись, как птица на холоде. Но однажды Николай Николаевич появился на улицах городка не один. Он шел в сопровождении девочки лет двенадцати, какой-то необычно важный и гордый, непохожий на себя. Останавливался с каждым встречнымпоперечным и произносил одну и ту же фразу, показывая на девочку: "А это Лена... - И, внушительно помолчав, добавлял: - Моя внучка". Ну как будто рядом с ним была не девчонка, а какая-нибудь всемирно известная величина. А внучка его, Ленка, каждый раз отчаянно смущалась и не знала, куда деваться. Она была нескладным подростком, еще теленком на длинных ногах, с такими же длинными нелепыми руками. На спине у нее торчали, как крылышки, лопатки. Подвижное лицо украшал большой рог, с которого почти никогда не сходила доброжелательная улыбка. А волосы были заплетены в два тугих канатика. В первый же день своего появления в городке Ленка раз по сто появлялась на каждом из четырех балкончиков и с любопытством смотрела во все четыре стороны света. Ее в равной степени интересовали и север, и юг, и восток, и 532 запад. Жизнь Николая Николаевича после приезда Ленки почти не изменилась. Правда, теперь в магазин за творогом и молоком бегала Ленка, а сам он изредка покупал на базаре мясо, что раньше за ним не водилось. Осенью Ленка пошла в шестой класс. Вот тогда-то и произошла эта история, которая навсегда сделала Бессольцевых - Николая Николаевича и Ленку - знаменитыми людьми. Отзвук этих событий, как колокольный звон, долго еще носился над городком, отзываясь по-разному в жизни тех людей, которые были в них замешаны. Глава третья Весь городок был усыпан опавшими листьями - сады, дворы, тротуары, крыши домов. И даже небольшая площадь, именуемая главной, расположенная между универмагом и магазином "Хозтовары", сплошь была покрыта сухим и ломким листом. Единственная уборочная машина и не думала бороться с этим невиданным листопадом. Ее шофер Петька, молодой нахальный парень, открыв дверцу кабины и 533 свесив наружу ноги в громадных болотных сапогах, курил "Беломор" в ожидании частных просителей, которым надо было что-то подбросить из магазина домой. Грачи готовились в дальнюю дорогу. Несметными стаями носились они над городком, криками сгоняя с деревьев ленивых птенцов, присевших не вовремя отдохнуть. Ока вздулась и потемнела от осеннего паводка, хотя по ней еще шустро бегали последние катера. Старый паром вытащили на берег и крепко-накрепко привязали к древним могучим ветлам, чтобы его не унес неудержимый весенний разлив. И в этой кутерьме Ленка целыми днями носилась по городу. Она не уставала удивляться странностям жизни: грачи улетали, чтобы обязательно вернуться; паром вытаскивали из воды, чтобы весной вновь опустить на реку; деревья опадали, чтобы снова обрасти молодыми и крепкими листьями. Вот такая у нее была славная и интересная жизнь. И вдруг все это перестало существовать. Она не слышала голоса людей, не видела, куда ее ведут дороги, не замечала, что ест и что пьет. Случилось это в начале ноября, во время осенних каникул, а закончилось 534 в первый школьный день. Всего-то несколько дней и продолжалась эта история, а жизнь Ленке перевернула. В тот день Ленка долго бродила по городку, пока не оказалась в тополиной рощице около скульптуры "Уснувший мальчик". Мальчик лежал на спине, слегка подогнув ноги, вытянув руки вдоль тела и склонив голову к плечу. Он всегда был грустным, а сегодня показался Ленке на редкость печальным. Может быть, оттого, что слишком низко висели над землей тучи, или оттого, что на душе у Ленки было тревожно. Только она почувствовала себя одинокой и никому здесь не нужной, и ей захотелось немедленно уехать из этого городка... Николай Николаевич, мало что замечая вокруг, занимался своим любимым делом. Он стоял на табурете и легкими движениями мягкой волосяной щетки смахивал невидимые пылинки с картин. Это занятие было ему так по сердцу, что он даже напевал себе под нос. И когда в комнату вбежала Ленка, то он сначала не заметил, что она чем-то сильно возбуждена, что куртка у нее нараспашку, губы крепко сжаты, а в глазах отчаяние. 535 Ленка одним махом вытряхнула из портфеля учебники и тетради и беспорядочно начала впихивать в него свои вещи, которые попадались ей на глаза. - Тише!.. Тише!.. Безумная! Николай Николаевич провел - щеткой по золотому эполету Раевского. - Лучше оглянись вокруг! Посмотри, какая тебя окружает красота. Этим картинам больше ста лет, а они с каждым годом делаются все прекрасней и прекрасней... Ленка, не обращая внимания на дедушку, продолжала лихорадочно собираться. - Ничего ты в этом не смыслишь, скажу я тебе, Елена, хотя и не глупая девица. - Николай Николаевич грустно покачал головой. - Ну что ты топаешь как слон, только пыль выбиваешь из досок. - Дай мне денег на дорогу, - сказала Ленка, торопливо застегивая портфель. - А ты далеко собралась? - Теперь Николай Николаевич провел щеткой по многочисленным орденам генерала. - Я уезжаю. - А почему в такой спешке? - Он улыбнулся, и лицо его от этого непривычно помолодело. - Ты что, покидаешь тонущий корабль? 536 - У Димки Сомова сегодня день рождения, - в отчаянии ответила Ленка. - А тебя не пригласили, и поэтому ты решила уехать? Несерьезный ты человек, Елена. Суетишься. Переживаешь всякую ерунду... Бери пример с генерала Раевского... - Дедушка, дай мне, пожалуйста, денег на билет, - жалобно перебила Ленка. - А куда ты едешь, если не секрет? - Николай Николаевич впервые внимательно посмотрел на Ленку. - К родителям, - ответила Ленка. Портфель расстегнулся, и она со злостью вновь его застегнула. - К родителям?! - Вот тут Николай Николаевич забыл про свои картины и соскочил с табурета. - И не думай!.. - Он погрозил ей пальцем. Ишь ты выдумала! Чтобы я отсюда? Никуда!.. Никогда!.. Ни ногой! - А ты мне не нужен! - крикнула Ленка. - Я сама уеду! Одна! - А кто тебя отпустит?.. Какая самостоятельная! Они тебя привезли, они пусть и увозят. - Николай Николаевич провел блуждающим взором по картинам и сказал тихо-тихо: - Пойми, я только этим и жив. - Он протянул руку к Ленке: - Отдай портфель. Ленка отскочила, стала по другую сторону стола и крикнула: - Дай денег! 537 - Никуда! Ты поняла?.. Никуда ты не поедешь! - ответил Николай Николаевич. - И оставим в покое эти глупости. - Дай денег! - Ленка стала как бешеная. - А не то... я что-нибудь украду и продам. - В нашем-то доме? - Николай Николаевич рассмеялся. Смех Николая Николаевича обидел Ленку. Она беспомощно оглянулась, ища выхода из положения, и вдруг крикнула: - Я твою картину украду! - Бросила портфель и в лихорадке начала снимать со стены картину, которая висела к ней ближе других. - Картину?! - Николай Николаевич неожиданно быстро подошел к Ленке и отвесил ей такую пощечину, что она отлетела в угол комнаты, а сам в ужасе отступил. Ленка подхватила портфель и рванулась к двери. Николай Николаевич успел ее схватить. Она укусила его за руку, вырвалась и убежала. - Я тебе все равно не дам денег! - крикнул он ей вслед, натягивая пальто. - Не дам!.. Елена, остановись!.. Вот бешеная! - и, торопясь, не попадая рукой в рукава пальто, выбежал из дома. 538 Глава четвертая А в это время веселый шестиклассник Валька мчался по берегу реки, никак не рассчитывая на то, что вечером ему приклеят позорную кличку Живодер. Он был одет по-праздничному: в чистой рубашке и при галстуке. В руке крутил собачий поводок с ошейником, а носком сапога все время сшибал пустые консервные банки, разбросанные еще с лета там и сям нахальными туристами. Он старался попасть в птиц и кур, тихо блуждающих в кустарнике, или в котов, мирно ловящих последние лучи осеннего солнца. И если ему удавалось поразить какую-нибудь цель, то собственная ловкость вызывала в нем прилив бурной радости. Валька затормозил около старого дуба - из его дупла торчали две мальчишеских головы. - Вы что там делаете, мелюзга несчастная? - строго спросил Валька. - Мы ничего, - испуганно ответили те. - Мы в пожарников играем. - А ну вылазь! - Валька выразительно хлопнул поводком по голенищу резинового сапога, как какой-нибудь американский плантатор из девятнадцатого 539 века, хотя, между прочим, ничего не знал про них, ибо плохо разбирался в науке под названием история. - Собирай листья! Засовывай их в дупло! Живо!! Пошевеливайся!.. Мальчишки, ничего не понимая, собирали в охапку листья и засовывали их в дупло. Но вот они набили его доверху. Валька чиркнул спичкой и... бросил ее в дупло на листья - те тут же занялись пламенем. - Ты что?! - взбунтовались мальчишки и бросились к дереву. Но Валька перехватил их и не отпускал, пока пламя не разгорелось, хотя они бились у него в руках и ревели. Потом с криком: "Вперед!.. На пожар!.. Пожарники!.." - выпустил и удалился. Так он шел по земле, издавая вопли восторга, оставляя позади себя крики возмущенных жертв. Валька спешил на встречу со своими дружками, чтобы идти на день рождения к Димке Сомову. Он еще издали увидел их: Лохматого и Рыжего - они сидели на скамейке у речной пристани, - подскочил к ним, с размаху бухнулся рядом и спросил: - Ну что, баламуты, жрать охота? - зашелся мелким смехом и добавил: - И мне тоже!.. Как подумаю про сомовские пироги, слюнки текут. 540 - А я меду с молоком навернул, - ответил Лохматый и мечтательно добавил: - Липа в этом году долго цвела - мед вкусный. - А мне бабка ничего не дала, - вздохнул Валька. - Чего, говорит, переводить продукт, раз ты в гости идешь. - Хитрая у тебя бабка, - сказал Лохматый. - Хитрая-то хитрая, а свою жизнь под откос пустила, - ответил Валька. Ни кола ни двора. Вот Сомову хорошо. В рубашке родился. И родители деньгу зашибают, и красавчик, и голова работает на пятерки... Так и хочется ему мордочку почистить. - Завидущий ты, Валька, - сказал Лохматый. - А ты нет?.. - Валька усмехнулся. - Чего там... Все люди лопаются от зависти. Только одни про это говорят, а другие врут, что они не завистливые. - А мне-то чего завидовать? - удивился Лохматый. - Нам в лесничестве хорошо. Воля. И вообще я кого хочешь в бараний рог согну. - Ну и что? - Валька презрительно сплюнул. - Сила - не деньги. На нее масла не купишь. Лохматый неожиданно схватил Вальку одной рукой за шею и крепко сжал. - Отпусти! - завопил Валька. - Рыжий, что главное в человеке? - спросил Лохматый. - Сила! - встрепенулся Рыжий, выходя из глубокой задумчивости. 541 - А Валька ее не уважает, - сказал Лохматый. - Говорит, главное в человеке зависть. - Отпусти! - вопил Валька. - Уважаю я силу!.. Уважаю! Отпусти! Задушишь!.. Лохматый разжал руку и освободил Вальку. Тот на всякий случай отбежал в сторону. - Натрескался меду, - Валька потер шею. - Силища как у трактора. Не в отца... - Он что-то в злости хотел еще добавить, но передумал. - Ты моего отца не трожь, - угрюмо ответил Лохматый. - Он у меня весь изрешеченный и битый-перебитый всякой сволочью. - Смотрите! Шмакова идет! - сказал Рыжий. - Ну выступает! Лохматый и Валька оглянулись и обалдели. Шмакова была не одна, ее сопровождал Попов, но все смотрели на нее. Она не шла, а несла себя, можно сказать, плыла по воздуху. Попов рядом с нею был неказистым и неловким, потому что Шмакова нарядилась в новое белое платье, в новые белые туфли и повязала волосы белой лентой. Не по погоде, конечно, зато она блистала во всем своем великолепии. - Ну, Шмакова, ты даешь, - простонал Валька. - Тебя же в этих туфельках на руках надо нести. - Артистка эстрады, - сказал Лохматый. 542 - Сомов упадет, - констатировал Рыжий. - А мне на Сомова наплевать, - пропела Шмакова, очень довольная собой. - Что-то незаметно, - сказал Лохматый. - Хи-хи-хи! - вставил Валька. - Ха-ха-ха! - присоединился к ним Рыжий. Попов посмотрел на Шмакову, его круглая курносая физиономия приобрела жалобное выражение. - Ребя, не надо, а? - попросил Попов. - Лучше пошли к Сомову. Все радостно заорали, что пора к Сомову, но Лохматый перебил их и сказал, что надо подождать Миронову. - Наплевать нам на Миронову, - расхрабрился Валька. - Кто она такая Миронова?.. Кнопка. - Железная, - наставительно вставил Рыжий. - Кому сказано - подождем Миронову! - грозно повторил Лохматый. - Конечно, подождем, - испуганно согласился Валька. - Да и Васильева еще нет. И тут они увидели Васильева - худенького мальчишку в очках. - А меня ждать не надо, - сказал Васильев. - Я к Сомову не пойду. - Почему? - раздался чей-то голос. Все оглянулись и увидели Миронову. Она была, как всегда, аккуратно причесана и подчеркнуто скромно одета. Под курткой у нее было самое обыкновенное форменное коричневое платье. 543 - Привет, Миронова, - сказал Лохматый. - Здорово, Железная Кнопка, - угодливо вставил Валька. Миронова им не ответила. Она не спеша прошла вперед и встала перед Васильевым. - Так почему, ты, Васильев, не пойдешь к Сомову? - спросила она. - На хозяйство брошен, - неуверенно ответил Васильев и поднял над головой авоську с продуктами. - А если честно? Васильев молчал; толстые стекла очков делали его глаза большими и круглыми. - Ну что же ты молчишь? - не отставала от него Миронова. - Неохота мне к Сомову, - Васильев с вызовом посмотрел на Железную Кнопку. - Надоел он мне. - Надоел, говоришь? - Миронова выразительно посмотрела на Лохматого. Тот двинулся вперед - за ним остальные. Они окружили Васильева. - А за измену идеалам знаешь что полагается? - строго спросила Миронова. - Что? - Васильев посмотрел на нее круглыми глазами. - А вот что! - Лохматый развернулся и ударил Васильева. Удар был сильный - Васильев упал в одну сторону, а очки его отлетели в другую. Он уронил авоську и рассыпал продукты. Все ждали, что будет дальше. 544 Васильев встал на четвереньки и начал шарить рукой в поисках очков. Ему было трудно, но никто ему не помогал - его презирали за измену идеалам. А Валька наступил тяжелым сапогом на очки, и одно стекло хрустнуло. Васильев услышал этот хруст, дополз до Валькиной ноги, оттолкнул ее, поднял очки, встал, надел их и посмотрел на ребят: теперь у него один глаз был круглый и большой под стеклом, а второй сверкал маленькой беспомощной голубой точкой. - Озверели вы! - с неожиданной силой закричал Васильев. - Иди ты!.. - Лохматый толкнул его. - А то получишь добавку! Васильев запихивал в авоську рассыпанные продукты. - Дикари! - не унимался он. - До добра это вас не доведет! Лохматый не выдержал и рванул за Васильевым, а тот дал деру под общий довольный смех. - Поредело в нашем полку, - сказал Рыжий. - Зато мы едины, - резко оборвала Миронова. - Будем дружно, по-пионерски уплетать сомовские пироги! - рассмеялся Валька. - Все шутишь, - перебила его Миронова. - А мы ведь о серьезном. Они уже уходили крикливой, пестро одетой стайкой, когда глазастая Шмакова увидела Маргариту Ивановну, их классную. - Маргарита, - сказала она. 545 - В джинсах, - заметил Валька. - Оторвала в Москве. Небось на свадьбу подарили. - Махнем через изгородь, - предложил Рыжий. - А то начнет воспитывать... Праздник испортит. - Не буду я никуда прыгать, - сказала Миронова. - Себя уважать надо. - Лучше спрячемся и испугаем ее, - хихикнул Валька. - Это уже интересно, - подхватила Шмакова. Они разбежались кто куда. Последней, не торопясь, встала за дерево Миронова. А Маргарита Ивановна, не замечая никого, веселой походкой пересекла сквер и склонилась к окошку кассы речного пароходства. Валька вышел из укрытия, неслышно подбежал к учительнице и громко крикнул: - Здрасте, Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна от неожиданности вздрогнула и оглянулась: - А-а-а, это ты... Что у тебя за манера подкрадываться? - А вы испугались? - спросил Валька. - Испугались... Испугались... Ребята, Маргарита Ивановна испугалась, - паясничал он. - Просто я задумалась, - ответила Маргарита Ивановна и неловко покраснела, то ли от обиды на Валькину бесцеремонность, то ли оттого, что она действительно испугалась, но не хотела в этом признаваться. Ребята окружили ее, здороваясь. 546 - Какие вы все нарядные, - Маргарита Ивановна рассматривала их. - А Шмакова просто взрослая барышня. - Маргарита Ивановна, а вам нравится мое платье? - пристала к ней Шмакова. - Нравится, - ответила Маргарита Ивановна. - Кто тебе его сшил? - Известно кто! - с восторгом вмешался в разговор Попов. - Моя мамаша. - Под моим руководством, - сказала Шмакова и зло зашептала Попову: Кто тебя за язык тянул?.. А может, мне его из Москвы, из Дома моделей привезли. "Моя мамаша... Моя мамаша..." - А ты что же, Миронова, отстаешь от всех? - спросила Маргарита Ивановна. - Я?.. Тряпок не терплю. - Миронова с высокомерием посмотрела на своих друзей. - Извините, Маргарита Ивановна, мы опаздываем. - А вы куда? - Маргарита Ивановна была несколько ошарашена резкостью Мироновой. - К Сомову, - ответил за всех Рыжий. - Гуляем по случаю увядания. - Передайте ему привет. Скажите, что я ему желаю... - Маргарита Ивановна задумалась. - Сомов человек незаурядный, не останавливается на достигнутом. В главном смел, прямодушен, надежный товарищ... 547 - В самую точку, Маргарита Ивановна, - проникновенно сказала Шмакова. - Значит, я ему желаю... - А вы опять куда-то уезжаете? - перебил Рыжий Маргариту Ивановну. - Хочу показать мужу Поленово. Он же здесь еще ничего не видел. А времени у него мало, ему возвращаться в Москву. - Маргарита Ивановна посмотрела на часы. - Ой!.. Убегаю. Да, чуть не забыла про Сомова... И уже на ходу выкрикнула: - Пожелайте ему, чтобы он оставался таким, какой он сейчас... Всю жизнь таким... - И исчезла. - А с нами никак до Поленова не доберется... - начала Миронова, но последние слова замерли у нее на губах, потому что она увидела Ленку Бессольцеву. И Ленка увидела ребят - остановилась как вкопанная. И ребята увидели Ленку и в восторге замерли. - Перед нами исторический экспонат - Бессольцева! - Впервые губы Мироновой растянулись в сдержанную улыбку, а голос зазвенел: Она пришла за билетом!.. Она уезжает! Ленка резко повернулась ко всем спиной и подошла к кассе речного пароходства. 548 - Точно! - крикнул Лохматый. - Она уезжает! - Сила победила! - радостно поддержал его Рыжий. - А знаете, что мы ей посоветуем? - Миронова озарилась вдохновением: Чтобы она запомнила наш урок на всю жизнь. Валька, кривляясь, изгибаясь спиной, на цыпочках подбежал к Ленке и постучал костяшками пальцев по ее спине: - Бессольцева, ты запомнила наш урок? Ленка не отвечала. Она стояла не шелохнувшись. - Не отвечает, - разочарованно сказал Валька. - Выходит, не запомнила. - Может, оглохла? - пропищала Шмакова. - Так ты ее... встряхни. Валька поднял кулак, чтобы садануть Ленку по ее тоненькой худенькой спине. - А вот этого уже не надо, - остановила его Миронова, - ведь она уезжает. Значит, мы победили. Нам этого достаточно. - Пусть катится, откуда приехала! - крикнул Рыжий. И другие тоже заорали: - Нам такие не нужны! - Ябеда! - Чу-че-ло-о-о! - Валька схватил Ленку за руку и втащил в круг ребят. Они прыгали вокруг Ленки, плясали, паясничали и веселились, и каждый старался перещеголять другого: - Чу-че-ло-о-о! - Чу-че-ло-о-о! 549 - Ого-род-ное! - Рот до ушей! - Хоть завязочки пришей! Крутился разноцветный круг, а Ленка металась внутри его. В это время появился Николай Николаевич, увидел Ленку и ребят, прыгающих вокруг нее, и крикнул: - Вы что к ней пристали? Вот я вас!.. - Заплаточник! - завопил Рыжий. - Атас! Они бросились в разные стороны. Только Миронова осталась на месте, даже не шелохнулась, бровью не повела. Слова ее были полны презрения ко всем остальным: - Вы что, струсили? Этот решительный окрик остановил ребят. - Что же вы шестеро на одного! - Голос Николая Николаевича звучал почти трагически. - И не стыдно вам? - А чего нам стыдиться! - нахально вякнул Валька. - Мы ничего не украли. Все в законе. - Вы лучше свою внучку стыдите! - сказала Миронова. - Лену? - удивленно спросил Николай Николаевич. - За что? Ленка резко повернулась к дедушке, и он увидел ее лицо: искаженное, словно ее больно ударили. Он уже хотел крикнуть этим детям, чтобы они замолчали, чтобы побыстрее ушли и оставили их вдвоем. Но ему никто и не собирался ничего говорить, это было не в их правилах: 550 посвящать взрослых в свои дела. Лишь Миронова твердо и весело сказала на ходу: - У нее узнаете. Она вам все в красках расскажет. Они скрылись. Только некоторое время в тихом и прозрачном осеннем воздухе были слышны их крики: - Молодец Железная Кнопка! - Не испугалась Заплаточника! - Сила победила! А потом и голоса пропали, растворяясь вдали. А Ленка, бедная Ленка ткнулась Николаю Николаевичу лицом в грудь, чтобы спрятаться хотя бы на время от тех бед, которые свалились на нее, и притихла. Его внучку дразнили Чучелом и так ее доконали, что она решила уехать, подумал Николай Николаевич и почувствовал, как ее беда больно ударила его в сердце: он всегда тяжело переносил чужие беды. Это было трудно для жизни, но он не хотел расставаться с этой привычкой, не бросал тяжелую, но дорогую ношу. И это была его жизнь и спасение. Так подумал в этот момент Николай Николаевич, а вслух сказал, чтобы успокоить Ленку: - Ну что ты... - Он погладил ее мягкий нежный затылок. - Не обращай на 551 них внимания. - Голос у Николая Николаевича дрогнул, выдавая волнение. Учись у меня. Я всегда спокоен. Делаю свое дело - и спокоен. - Он почти крикнул с вызовом: - Ты слышала, они дразнили меня Заплаточником? Несчастные!.. Не понимают, что творят. - И вдруг тихо и нерешительно спросил: - А ты что сделала? За что они тебя так? Ленка вырвалась из его рук и отвернулась. "Не надо было у нее ничего спрашивать, не надо было", - подумал Николай Николаевич, но эти слова сами собой сорвались у него с языка. Ну что же она такое страшное сделала, что они оттолкнули ее от себя; презрели и гоняли, как зайца?.. - Ну ладно, ладно! - сказал Николай Николаевич. - Прости... Ты решила уехать - значит, тебе так надо. Я жил один... И дальше буду жить один. - Он помолчал, потому что смысл этих слов был ему неприятен. - Привык к тебе? Отвыкну... Тут он по своей старой привычке нахохлился, как птица под дождем, и натянул козырек кепки на глаза. - Все это для меня неожиданно, - продолжал Николай Николаевич. - Жили 552 рядом, а я толком в тебе ничего не понял. Не проник в твою душу вот что обидно. Он полез в карман, достал потертый кошелек и долго копался в нем, ожидая, вдруг Ленка что-нибудь скажет, ну например, что она передумала, что никуда не поедет и что он может спрятать свой кошелек обратно в карман. Он тянул время, тяжело вздыхал, но это ему не помогло - Ленка молчала. - На, - сказал Николай Николаевич, протягивая Ленке деньги. Купи два билета на завтра. Я провожу тебя до Москвы, до самолета. - А я так хотела на сегодня! - печально вздохнула Ленка. - На сегодня! На сейчас! - Но это безумие, - сопротивлялся Николай Николаевич. Посмотри, какие ты взяла вещи. Где твои учебники? А пальто? Там же снег давно, сразу заработаешь ангину! Он говорил, говорил, она его перебивала: "На сегодня, на сейчас!" -а он убеждал задержаться, хотя сам отлично понимал, что все его доводы полнейшая ерунда, а главное состояло в том, что ему страшно не хотелось, чтобы Ленка уезжала. И поэтому он оборвал свою речь на полуслове, наклонился к ней и признался просительным шепотом: 553 - Ну не могу я так сразу!.. Ну давай завтра. Ленка выхватила деньги из рук Николая Николаевича. - Ты слышала? Я согласен на завтра, - в последний раз попросил он. Николай Николаевич озадачил Ленку - ее ли это дедушка говорит? Она подняла глаза и увидела его спокойное, неподвижное лицо. Только шрам, идущий от виска к углу жестких, сухих, стариковских губ, предательски побелел, и потерянные глаза, спрятанные под козырьком кепки, выдавали его сильное волнение. - А у тебя заплатка на рукаве оторвалась, - вдруг заметила Ленка. - Надо пришить, - Николай Николаевич ощупал заплатку. Ленка увидела, что шрам на дедушкином лице снова стал еле заметным, и сказала: - Ты бы купил себе новое пальто. - У меня на это нет денег, - ответил тот. - Вот про тебя и говорят, что ты - жадина. - Ленка прикусила язык, но обидное слово уже выскочило, теперь его не поймаешь. - Жадина? - Николай Николаевич громко рассмеялся: - Смешно. - Он с большим вниманием стал разглядывать свое пальто. - Ты думаешь, что в нем ходить совсем уже неприлично?.. А знаешь, я это пальто люблю. В старых вещах есть что-то таинственное... Утром я надеваю пальто и вспоминаю, как мы с 554 твоей бабушкой много лет назад покупали его. Это она его выбирала... А ты говоришь - купи новое!.. Их взгляды опять встретились - нет, не встретились, а столкнулись, потому что каждый из них думал об отъезде. - Ну ладно, - сказала Ленка, - поеду завтра. - И купила два билета. Они пошли домой, сопровождаемые неизвестно откуда налетевшим дождем, омывающим сухую землю, - они даже не заметили, как он начался. Когда они вошли в комнату, то в открытую форточку влетела музыка и крики ребят. - У Сомовых гуляют. - Николай Николаевич спохватился, что сказал не то, и как бы невзначай закрыл форточку. Но музыка и крики были так громки, что и затворенная форточка не спасала. Тогда Николай Николаевич сел к пианино, что он делал чрезвычайно редко, и демонстративно открыл крышку. - Ну что ты так смотришь на меня? - спросил он у Ленки, перехватив ее взгляд. - Меня почему-то потянуло к музыке. И нечего меня гипнотизировать. Николай Николаевич заиграл громко и задиристо. Потом вдруг оборвал игру и молча, с немым укором посмотрел на Ленку. 555 - Не смотри на меня так! - не выдержала Ленка и крикнула: - Ну что ты один будешь тут делать?.. Бери картины с собой, и поедем вместе! - Что ты... Опомнись! - Николай Николаевич в волнении стал рассматривать картины. - Это невозможно. Они родились здесь... На этой земле... В этом городке... У этой реки... Здесь им вечно жить... Однажды во время войны я лежал в госпитале, и мне приснился сон, будто я мальчиком стою среди этих картин, а по ним солнечные зайчики бегают. Тогда я и решил: если останусь жив, навсегда вернусь в родной дом... Не сразу удалось, но все-таки добрался. А теперь мне кажется, что я и не уезжал, что я тут всегда... Ну, понимаешь, всегда-всегда... - Он как-то виновато и беззащитно улыбнулся. Многие сотни лет... Что моя жизнь продолжение чьей-то другой... Или многих других... Честно тебе говорю. Иногда мне даже кажется, что не мой прапрадед написал все эти картины, а я... Что не мой дед был фельдшером и построил в городе первую больницу, а тоже я... Только одной тебе могу в этом признаться. Другие не поймут, а ты поймешь, как надо... А когда ты сюда 556 приехала, я, старый дурак, размечтался, решил: и ты к родному месту прирастешь и проживешь здесь длинную череду лет среди этих картин. Пусть твои родители носятся по свету, а ты будешь жить в родном доме... Не вышло. Николай Николаевич вдруг подошел к Ленке я решительно сказал: - Послушай, давай кончим это дело. - Он старался говорить бодрым голосом. - Возвращайся в школу, и баста. Ленка пулей отлетела от Николая Николаевича, схватила свой несчастный портфель и бросилась к двери. Николай Николаевич загородил ей дорогу. - Отойди! - Такого остервенения в ее лице Николай Николаевич еще никогда не видел: губы и лицо у нее побелели, как мел. - Лучше отойди!.. Кому говорят!.. - и бросила в него портфель - он просвистел мимо его уха и шмякнулся о стену. Николай Николаевич с большим удивлением посмотрел на Ленку, отошел от двери и сел на диван. Ленка постояла немного в нерешительности, вся сжалась, виновато опустила голову и робко села рядом с ним. - А ты не сердись на меня... Ладно? - попросила она. - Не сердись. 557 Просто я какая-то чумовая. Всегда что-нибудь не то делаю. - Ленка заглянула Николаю Николаевичу в глаза. - Ты простил меня? Простил?.. - Ничего я не простил, - сердито ответил Николай Николаевич. - Нет, простил, простил! Я вижу по глазам, - обрадовалась она. Я... увлеклась... - Ничего себе "увлеклась", - ответил Николай Николаевич. Родному деду чуть голову не снесла. - А вот и неправда, - сказала Ленка. Ее лицо вдруг так необыкновенно преобразилось, что Николай Николаевич тоже улыбнулся. Оно стало открытым и радостным, рот растянулся до ушей, щеки округлились. - Я же мимо бросала! И вдруг лицо ее снова изменилось, стало каким-то отчаянным. - Только не перебивай меня. Ладно? А то я сорвусь и не смогу рассказывать. А так я тебе все-все расскажу, всю правду, без хитрости. - Хорошо, - обрадовался Николай Николаевич. - Ты успокойся и рассказывай... не спеша, подробно, так легче. - Еще раз перебьешь - уйду! - Губы у Ленки подтянулись и глаза сузились. - Я теперь не то, что раньше. Я - решительная. - И она начала рассказывать. 558 Глава пятая - Когда я пришла в школу первый раз, то Маргарита, наша классная, позвала в учительскую Рыжего и велела ему отвести меня в класс. Мы шли с Рыжим по коридору, и я всю дорогу хотела с ним подружиться: перехватывала его взгляд и улыбалась ему. А он в ответ давился от хохота. Конечно, у меня ведь дурацкая улыбка - до самых ушей. Поэтому и уши я тогда прятала под волосами. Когда мы подошли к классу, Рыжий не выдержал, сорвался вперед, влетел в дверь и заорал: "Ребята! У нас такая новенькая!.." - и зашелся хохотом. Ну, после этого я застыла на месте. Можно сказать, одеревенела. Со мной так часто бывало. Рыжий вылетел обратно, схватил меня за руку, втащил в класс и снова загоготал. И каждый на его месте сделал бы то же самое. Может, я на его месте вообще умерла бы от хохота. Никто ведь не виноват, что я такая нескладная. Я и на Рыжего не обиделась и даже была ему благодарна, что он втащил меня. Правда, как назло, я зацепилась ногой за дверь, врезалась в Рыжего, и 559 мы оба рухнули на пол. Платье у меня задралось, портфель вылетел из рук. Все, кто был в классе, окружили меня и с восторгом рассматривали. А я встала, и улыбочка снова растянула мой рот - не могу, когда меня в упор разглядывают. Валька закричал: "Рот до ушей, хоть завязочки пришей!" Васильев засунул пальцы в рот, растянул губы, корчил страшные рожи и кричал: "Я тоже так могу! У меня тоже рот до ушей, хоть завязочки пришей". А Лохматый, давясь от смеха, спросил: "Ты чья такая?" "Бессольцева я... Лена", - и я снова по-дурацки улыбнулась. Рыжий в восторге закричал: "Ребята!.. Это же внучка Заплаточника!" Ленка оборвала свой рассказ и покосилась на Николая Николаевича. - Ты давай, давай, не смущайся, - сказал Николай Николаевич. Я же тебе говорил, как я к этому отношусь. В высшей степени снисходительно и совсем не обижаюсь. - Ну, а я-то об этом не знала, - продолжала Ленка. - И вообще про твое прозвище ничего не знала... Ну, не была готова... "Мой дедушка, говорю, 560 Заплаточник?.. За что вы его так прозвали?.." "А чего плохого? - ответил Лохматый. - Меня, например, зовут Лохматый. Рыжего - Рыжий. А твоего деда - Заплаточник. Звучно?" "Звучно", - согласилась я. Я подумала, что они веселые и любят пошутить. "Значит, вы хорошо знаете моего дедушку?" - спросила я. "А как же, - сказал Лохматый. - Он у нас знаменитый". "Да, да... очень знаменитый, - подхватил Валька. - Как-то в личной беседе я спросил твоего дедушку, почему он не держит собак. И знаешь, что он мне ответил? "Я, говорит, не держу собак, чтобы не пугать людей". Я обрадовалась: "Вот, говорю, здорово". И другие ребята тоже подхватили: "Здорово, здорово!" "Мы эти его слова всегда помним, - продолжал Валька, - когда яблоки в его саду... Ну, как это называется?.." "Собираем", - подхватил Рыжий. Все почему-то снова захохотали. Ленка вдруг замолчала и посмотрела на Николая Николаевича. - Вот дура какая, - сказала она. - Только сейчас поняла, что они надо мной смеялись. - Ленка вся вытянулась, тоненькая, узенькая. - Мне надо было тогда тебя защитить... дедушка! - Ерунда, - ответил Николай Николаевич. - Мне даже нравилось, что они у 561 меня яблоки таскали. Я за ними часто подглядывал. Они шустрили по саду, бегали пригнувшись, набивали яблоки за пазуху. У нас с ними была вроде как игра. Я делал вид, что не вижу их, а они с отчаянной храбростью таскали яблоки, можно сказать, рисковали жизнью, но знали, что им за это ничего не будет. - Ты добрый! Я и тогда им ответила, что ты добрый. А Попов сказал: "Моя мамаша ему на пальто пришивала заплатки. Говорит: "Вы же отставной офицер. У вас пенсия. Вам неудобно с заплатками". А он - это, значит, ты, дедушка: "У меня лишних денег нет". "Ну ты, Попов, даешь! - крикнул Рыжий. - Ты что же, думаешь, что он жадный?" А Валька подхватил: "Он жадный?! Он моей бабке за картину отвалил триста рублей. Это, говорит, картина моего прапрапрапра..." Все развеселились и стали выдумывать, кто что мог: "Бабушки!" "Тетушки!" И тут я стала хохотать. Правда, смешно, что они нашего прапрадедушку переделали в прабабушку и в пратетушку? - спросила Ленка у Николая 562 Николаевича. - Хохочу я и хохочу, никак не могу остановиться. Я если хохочу, то обо всем забываю. Ленка неожиданно коротко рассмеялась, будто колокольчик звякнул и упал в траву, и снова сжала губы. - Это раньше я обо всем забывала, - поправилась Ленка и с угрозой добавила: - А теперь... - Она замолчала. Николай Николаевич терпеливо ждал продолжения ее рассказа. Он дал себе слово не перебивать ее. Да и самому ему хотелось разобраться во всей этой истории. И слушать Ленку было легко, потому что переливы ее голоса, выражение глаз, которые то затухали, как облитые водой горящие угли, то вновь пламенно и неожиданно вспыхивали, завораживали его. За всю свою долгую жизнь Николай Николаевич не видел подобного лица. От него веяло таинственной силой времени, как будто оно пришло к нему через века. Он это ощущал остро и постоянно. А может быть, это чувство возникло у него после появления в доме "Машки"? - Вообще-то я никогда бы не кончила смеяться, если бы не Валька, снова заговорила Ленка. - Ему было смешно, что ты купил у его бабки картину 563 за триста рублей. "Бабка, говорит, от радости чуть не померла. Думала, получит двадцатку, а он ей триста!.." Валька подбежал к доске и нарисовал квадрат, не больше портфеля. "Вот за такую махонькую картинку - три сотни! - визжал Валька. А на картинке была нарисована обыкновенная тетка с буханкой". - "Женщина с караваем хлеба", - строго и многозначительно вставил Николай Николаевич. - Я-то знаю, ты не волнуйся, я-то знаю все твои картины, оправдывалась Ленка и продолжала: "И еще передай своему деду, - закричал горластый Валька, - что мы его поздравляем, что у него такая внучка... Ну точно как он!" "Они с Заплаточником - два сапога пара!" - вставил Рыжий. А я почему-то подхватила: "Правильно, мы с дедушкой два сапога пара!" Николай Николаевич совершенно отчетливо представил себе, как Ленка, вероятно от растерянности, выкрикнула эти слова. И как бы радуясь им, она подпрыгнула на месте и завертела головой, как попугайчик, и уголки губ у нее закрутились вверх. Ему нравилась ее беспомощная и открытая улыбка. А для них это потеха - и только. Лохматый так и крикнул: 564 "По-те-ха! Ну и потешная ты, Бессольцева Лена!" А Рыжий, разумеется, подхватил: "Не потешная она. А чучело!" "Огородное!" - захлебнулся от восторга Валька. Конечно, они стали хохотать над Ленкой, выкаблучиваясь каждый на свой лад. Кто хватался за живот, кто дрыгал ногами, кто выкрикивал: "Ой, больше не могу". А Ленка, открытая душа, решила, что они просто веселились, что они смеялись над ее словами, над ее шуткой, а не над нею самою. Ленка заметила, что Николай Николаевич как-то подозрительно притаился, словно его что-то не устраивало в ее рассказе. - Дедушка, ты меня не слушаешь? - спросила она дрогнувшим голосом. - А почему? Николай Николаевич смущенно поднял на нее глаза, не зная, как поступить, - и правду ему говорить не хотелось, чтобы лишний раз не огорчать Ленку, и врать было трудно. - Не отвечай! - Ленку как молнией пронзило - она обо всем догадалась. Тебе меня жалко стало? Да? Они надо мной смеялись? Да?.. Уже тогда? - Она жалобно улыбнулась: - Подумать только, а я не догадалась. Все приняла за 565 чистую монету... Точно. Смеялись. Я вижу, вижу себя со стороны - ну просто я была какая-то дурочка... - И тихо добавила: - Правда, дурочка с мороза. Вдруг она повернулась к Николаю Николаевичу всем корпусом, и он увидел ее большие печальные глаза. - Дедушка! Милый! - Она схватила его за руку и поцеловала ее. Прости меня!.. - За что? - не понял Николай Николаевич. - За то, что я им верила, а они над тобой смеялись. - Разве ты в этом виновата? - сказал Николай Николаевич. - Да и они не виноваты, что смеялись надо мной. Их можно только пожалеть и постараться им помочь. - Может быть, ты их любишь? - Ленка с подозрением посмотрела на Николая Николаевича. Тот ответил не сразу - помолчал, подумал, потом сказал: - Конечно. - И Вальку? - возмутилась Ленка. - И Рыжего, и Лохматого?! - Каждого в отдельности - нет! - У Николая Николаевича от волнения перехватило горло, и он задохнулся. - А всех вместе - да, потому что они люди! - Если ты будешь психовать, - сказала Ленка, - то я перестану рассказывать. 566 - Да я не психую, - рассмеялся Николай Николаевич. - Подумаешь, даже задохнуться разок нельзя. А ты давай, давай дальше, я слушаю. - Ну, в общем, когда Рыжий обозвал меня чучелом, - сказала Ленка, - то его кто-то сильно толкнул в спину... и я увидела впервые Димку Сомова... Знаешь, он меня сразу удивил. Глаза синие-синие, а волосы белые. И лицо строгое. И какой-то он весь таинственный, как "Уснувший мальчик". А Рыжего он толкнул сильно, тот врезался в пузо верзилы Попова и бросился на Димку. Я хотела крикнуть, чтобы они не дрались из-за меня. Ну пусть я чучело, ну и что?.. Но они уже сцепились. Я зажмурилась. Я всегда так делала, когда начиналась драка. Я же тебе главного не сказала: я раньше трусихой была. Когда пугалась, то у меня отнимались ноги и руки. Пошевелиться не могла, как неживая. Только драки никакой не вышло. Я услышала спокойный голос Димки: "Сам ты чучело, и не огородное, а обыкновенно-рыжее". Я открыла глаза. Оказалось, Димка одной рукой скрутил Рыжего и держал его крепко. А тот и не думал вырываться, скорчил рожу и крикнул: "Я обыкновенно-рыжее чучело!" Над ним все стали смеяться, и он сам над собой смеялся громче всех. Да 567 ты же его видел, дедушка! - сказала Ленка. - Правда, он смешной?.. Ну просто цирковой клоун - ему и парика не надо, он же от рождения рыжий! В тот момент, когда мы смеялись над Рыжим, вбежала веселая Маргарита. В одной руке она держала классный журнал, а в другой сверток в цветном полиэтиленовом мешочке. "А, новенькая! - Она увидела меня. - Куда же тебя посадить?" Она пошарила глазами по рядам парт... и забыла про меня, потому что девчонки обступили ее и спросили, правда ли, что она выходит замуж. Маргарита ответила, что правда, засияла от счастья, торопливо разорвала мешочек, вытащила коробку конфет, открыла и поставила на стол. "От него?" - прошептала догадливая Шмакова. "От него, - Маргарита еще больше расцвела. - Угощайтесь", - и сделала величественный жест рукой. Все повскакали со своих мест и стали хватать эти конфеты и засовывать в рот. А Маргарита говорила: "По одной! По одной! А то всем не хватит". Я тоже схватила конфету. А Шмакова сунула одну конфету в рот, а вторую отдала Димке. Ну и галдеж поднялся! А девчонки забрасывали счастливую Маргариту вопросами: "Маргарита Ивановна, а кто ваш муж?" 568 "А у вас есть его фотокарточка?" "А он живет в Москве?" И тут в дверях появилась Миронова. Миронова у нас особенная, у нее очень сильная воля. "Что вы тут шумите после звонка?" - спросила Миронова. "Мы конфеты едим!" - крикнула Шмакова. "Во время урока?" - ехидно заметила Миронова и прошла на свое место. Шмакова протянула ей конфету: "Возьми и успокойся. Сама опоздала и еще выставляется". "Тихо! - сказала Маргарита. - Миронова права. По местам!" И все пошли по своим местам, а про меня Маргарита так и не вспомнила, и я не знала, куда мне сесть, остановилась около Димки и уставилась на него. Ну, у меня привычка такая: если мне кто-нибудь нравится, то я смотрю на него, смотрю, хотя знаю, что это неловко. Он на меня раз посмотрел, второй, а потом спросил, чего мне надо. А я ляпнула: "У тебя место свободное?" "Занято". Ну, думаю, влипла, сейчас он начнет надо мной смеяться. А он вдруг улыбнулся и спросил: "А что?" "Хотела сесть к тебе, - ответила я, а так как он все еще продолжал 569 улыбаться, то во мне какая-то храбрость появилась от его доброты, и я сказала: - Ты же меня спас". По-моему, ему мои слова понравились, потому что он сказал: "Ну что ж, сейчас попробуем, - и громко крикнул: - Шмакова, новенькая твое место хочет занять!" Шмакова услышала Димкины слова и здорово рассердилась. Она посмотрела в нашу сторону, потом медленно направилась к нам. Она приближалась, приближалась, и я видела, как у нее в глазах прыгали злые огоньки. Тут я испугалась. Я ведь не хотела, если место занято. А Шмакова подошла к нам, смерила меня презрительным взглядом и отвернулась. Конечно, она же красавица! А я? - Ленка безнадежно махнула рукой. - Ты тоже хоть куда, - посчитал своим долгом вмешаться Николай Николаевич. - Да брось ты меня успокаивать, - возмутилась Ленка. - Она же настоящая красавица! Платье у нее новенькое и сшито по фигуре. А у меня... какой-то маскировочный халат. - Маскировочный халат?.. - удивленно переспросил Николай Николаевич. Это, пожалуй, моя вина. Я недоучел, что платье должно быть по фигуре. 570 Извини. - И почти выкрикнул: - Зато у тебя глаза вдохновенные! И сердце чистое. Это посильнее, чем платье по фигуре. - Не хвали меня, пожалуйста, - сказала Ленка. - Я ведь плохая. Я на самом деле - предательница!.. Я это сейчас, сейчас поняла до самого донышка. Ленка замолчала. Николай Николаевич терпеливо ждал, когда она снова заговорит. В комнату в который раз ворвалась бесшабашная музыка: это все еще гуляли на дне рождения Димки Сомова. Они плясали, кричали, пели, а здесь, в доме у Бессольцевых, сидели два понурых человека, которые не знали, что им делать дальше и как им теперь жить. - Ну, и что там произошло со Шмаковой? - прервал молчание Николай Николаевич. - Со Шмаковой? - переспросила Ленка. - Ничего особенного не произошло она уступила мне место. "Уступаю, говорит, тебе мое место с большим удовольствием. - И схватила портфель. - Мне, говорит, здесь надоело. Парта какая-то кособокая. И вообще я люблю перемену мест. Так что, Димочка, чао какао! - А на прощание, наконец, посмотрела на меня, как будто только что заметила, презрительно фыркнула и тихо сказала: - Ну и чучело!" 571 Попов заорал, чтобы Шмакова села к нему, и та бросила ему портфель, а он его поймал, - вот с этого момента он стал ее рабом. Тут Маргарита объявила, что наша школа едет на осенние каникулы на экскурсию в Москву. "Значит, мы поедем вместе?" - выскочила догадливая Шмакова. "Вместе, вместе, - Маргарита улыбнулась. - Так что берите у родителей деньги и приносите". По этому поводу раздался такой вопль восторга, что Маргарита рассмеялась и зажала уши руками, чтобы не оглохнуть. Ну конечно же, всем хотелось поехать на каникулы в Москву. И я завопила, но потом осеклась, потому что Димка встретил это известие хладнокровно. А когда все замолчали, он вздохнул тяжело и сказал: "Опять на родительские... Надоело". "Что же ты предлагаешь? Не ездить в Москву?" - спросила Маргарита. "Нет, он этого не предлагает, - вмешалась Миронова. - Но он не знает, что он предлагает". "Прекрасно он знает, - раздался ласковый голосок Шмаковой. Это он перед новенькой выставляется". Все, конечно, тут же захихикали. Маргарита одернула Шмакову, а я, если честно, была почему-то рада ее 572 словам... Ну, в общем, не почему-то, а потому, что она сказала, что Димка передо мной выставлялся. А когда в классе снова наступила тишина, то Димка встал, победно оглядел ребят и сказал: "Давайте на поездку заработаем сами!" Тут меня словно подбросило, прямо не знаю почему. Я вскочила и заорала: "Маргарита Ивановна! Маргарита Ивановна! Можно я скажу?" Ох и видик у меня был, наверное, - восторженная дурочка. Но я о себе и не думала, у меня на душе было хорошо и хотелось сказать всем что-нибудь необыкновенное. "Мне дедушка много рассказывал про ваш город... У вас город особенный, старинный... Приедешь, навсегда останешься... Не променяешь ни на какие золотые горы. Правда здесь хорошо! И вы все такие хорошие! И предложение Сомова я поддерживаю!.." Я улыбнулась Димке и наконец уселась. "Ну, Сомов у нас, как всегда, молодец! - сказала Маргарита. - Мне его идея тоже очень понравилась... Конечно, вы уже взрослые ребята и вполне можете поработать, - продолжала она, - я вам, пожалуй, помогу. Только... не подведете?.." Тут все закричали: 573 "Что вы, Маргарита Ивановна! Вы только договоритесь!" "Мы будем работать дни и ночи!" "С утра до утра!.." И мы стали работать. Ходили в совхоз на сбор поздних огурцов и капусты. Ты не думай, мы не только за деньги работали. Мы и бесплатно. Например, в детском саду. И городской сквер убирали... Правда, это не всем понравилось. Может быть, именно из-за этого у нас и началась ссора. Валька, к примеру, как только мы шли на бесплатную работу, всегда убегал. Один раз в воскресенье рано утром Маргарита привела нас в совхозный сад на уборку осенних яблок. Все ребята пришли в резиновых сапогах, а я в туфлях - они сразу промокли от росы. Димка заметил это, снял сапоги, протянул мне и сказал, чтобы я переобулась. Вот был моментик - он стоял босой на мокрой холодной траве и протягивал мне сапоги с шерстяными носками. Я не решалась их взять. Ребята окружили нас и открыли рты от удивления. "Во, Сомов дает!" - засмеялся Лохматый. "Лыцарь", - подхватил Валька. "Львиное сердце!" - вставил Рыжий и зашелся мелким смехом от 574 собственного остроумия. "Долго мы еще будем стоять и женихаться? - вдруг зло оборвала их Шмакова. - Мы пришли, кажется, работать. Ведь так, Димочка?.." Кое-кто снова захихикал, а Димка не обратил на это никакого внимания, бросил мне сапоги и ушел. Я натянула Димкины носки - они были еще теплые от его ног - и влезла в сапоги. Знаешь, дедушка, как мне было весело! - Ленка рассмеялась: Весело-весело! Может, оттого, что Димка отдал мне сапоги? - Она хитро посмотрела на Николая Николаевича. - Нет, пожалуй, просто оттого, что в саду было очень красиво. Второй раз за этот день Николай Николаевич услышал ее смех. Ему нравилось, что она забыла про то, что эти ребята прозвали ее чучелом, что бросила в него портфелем только за то, что он предложил ей вернуться в школу... Она все-все забыла и снова была счастливой. А Ленка все еще смотрела куда-то вдаль, заглядывая в свое недавнее прошлое, которое ей явно было по душе. Перед нею возникла чудная картина... Сад, увитый паутиной. Сотни 575 кружевных гамаков, гамачков, подвесных дорог сплелись между яблонь, лежали в траве и накрывали кустарник. Ребята разбежались по саду, и каждый кричал, что у него самая интересная паутина. Их голоса, наподобие птичьих, радостно и возбужденно звенели среди деревьев. Потом все стали собирать яблоки. И Ленка собирала, а сама все время исподтишка следила за Димкой: как он ловко лазал по деревьям, как смело прыгал, как быстро пробегал из одного конца сада в другой в ослепительных красноватых лучах солнца. Они работали до самого обеда. А в конце работы развели костер и пекли яблоки. Рыжий - на спор - голыми руками вытаскивал из огня девчонкам печеные яблоки... - А потом, дедушка, случилась странная-странная история. Помнишь, мы работали на фабрике детской игрушки?.. Ну, мы там из папье-маше клеили морды зверей. Николай Николаевич кивнул. - Так вот, тогда на фабрике я впервые поняла, что люди не все 576 одинаковые. Да, да, не улыбайся. Я вдруг увидела, что то, что для меня хорошо, для Шмаковой, например, смешно, а для Мироновой просто глупо. Я должна была насторожиться, но я не обратила на это никакого внимания! Выражение лица у нее было до крайности удивленное. - Ну, слушай дальше, что из этого вышло... - Ленка возбужденно вздохнула и продолжала: Мы уже кончили работу. Я доклеила морду зайца, хотела для просушки поставить ее среди остальных на полку, которая тянулась вдоль стены, а потом передумала и примерила морду на себя. В это время вернулся Димка - он ходил получать деньги за нашу работу, ну и все, конечно, бросились на него: "Ну как, получил?" "Сколько?" "Выкладывай! Не томи! Душа горит!" Они его толкали, пытаясь влезть к нему в карман, приставали, канючили. "Рыжий! Тащи копилку!" - закричал Димка, отбиваясь от наседавших ребят. У нас в это время была уже копилка - такая здоровая зеленая кошка "с дыркой в голове. Рыжий поставил перед Димкой копилку... и началось! 577 Димка полез в карман, долго что-то там колдовал, наконец выхватил руку, помахал над головой красненькой десяткой и бросил ее в копилку. "Свои!" - заорал Лохматый. "Пять рублей!" - крикнул Димка и снова опустил их в копилку. "Кровные!" - восхищался Рыжий. "Трудовая копеечка!" - поддакнул ему Попов. Димка поднял над головой еще десятку и помахал ею в воздухе. Ленка показала, как Димка помахал деньгами. Ей не сиделось, она вскочила, каждая жилка на ее лице трепетала от восторга. Он крикнул: "Десятка!" - и бросил их в копилку. "Ух!" - ухнули все хором. Рыжий попросил у Димки, чтобы тот дал ему бросить монету в копилку. Димка дал ему рубль, и Рыжий бросил. И тогда все закричали: "И мне! И мне! И мне!" И он всем давал, и все по очереди бросали. А потом Димка протянул рубль мне и сказал: "Брось и ты, заяц". А я от радости, что он мне дал этот рубль, так схватила его, что он разорвался пополам - половинка осталась у Димки, половинка у меня. "Вот разиня! - возмутился Валька. - Это же деньги. Их рвать не надо!" Я испугалась и не знала, что делать. Но Димка, как всегда, пришел мне на помощь. 578 "Ничего, - успокоил он всех, - потом склеим. Бросай, заяц, обе половинки!" Я бросила. "И кончай работу! - приказал Димка. - Давайте халаты". Ребята сняли халаты и побросали их Димке. "А тебе, заяц, как самому храброму, я поручаю охрану этого замечательного сундука с драгоценностями", - сказал Димка, протянул мне копилку, а сам ушел относить халаты. Я схватила копилку и закричала: "Я храбрый заяц! Самый храбрый на свете заяц!" Рыжий "надел морду тигра и зарычал на меня: "Ры-ы-ы!" "Ой, не боюсь! Ой, не страшно!" - Я оттолкнула Рыжего. А Шмакова нацепила морду лисицы и пропела тоненьким голоском: "Зайка серенький, зайка беленький... Мы тебя перехитрим! Мы у тебя сундучок с драгоценностями отнимем!" - И она ущипнула меня. Я не ожидала этого - мы ведь играли - и крикнула: "Ты чего больно щиплешься?.." "А если не больно, то зачем же щипаться!" - рассмеялась Шмакова. А в это время другие ребята тоже нарядились в маски зверей, и меня уже плотным кольцом окружили морды волков, медведей, крокодилов. Они прыгали, рычали, наскакивали на меня и рвали из рук копилку. А какой-то медведь по-моему, это был Попов - крикнул как Шмакова: 579 "Зайка серенький, зайка беленький... Мы тебя перехитрим!" Волк - Валька несколько раз сильно дернул меня за косу. А я испугалась по-настоящему, как будто меня окружали не люди, а настоящие звери. "Не надо! Хватит!" - Я хотела снять маску, но у меня ничего не получалось, потому что они беспрерывно меня толкали. "Попался, зайчишка!" - пропела Шмакова. "Мы тебя, заяц, задере-ем!" - завопил Лохматый и крутнул меня. "Ры-ы-ы!" - дурным голосом прорычал Рыжий. "Димка-а-а!" - закричала я и грохнулась на пол, потому что у меня закружилась голова. Димка вбежал и спросил, чего я кричу. А я ему ответила, что испугалась. "Кого?" - не понял Димка. "Всех... зверей", - ответила я. "Подумаешь, и поиграть нельзя". - сказал Валька. "Зайка серенький... Зайка беленький... Мы тебя задерем! - хихикнула Шмакова. - Какая нервная!" "Чепуха! - мрачно заявила Миронова. - Просто кривляется. Пошли, ребята!.." И вся компания удалилась вслед за Железной Кнопкой, вполне довольная собой. А мне еще долго мерещилось, что Шмакова похожа на лису, Лохматый - на медведя, а Валька - на волка. 580 Мне было стыдно, что я так думала про ребят. Поэтому я догнала их на улице и всех угостила мороженым на свои деньги. И рассказала Шмаковой под честное слово свою тайну, что Димка похож на "Уснувшего мальчика". Она была очень довольна, хохотала и клялась, что никому не скажет, но мне почему-то казалось, что голос у нее был похож на тот, когда она пела: "Зайка серенький, зайка беленький..." Шмакова - лиса. Настоящая. И я подумала, что зря ей все рассказала... Ну ты же ее видел, дедушка. Правда, она лиса? А я тогда и не знала, что есть люди - лисы, медведи, волки... После я спросила у Димки: "Ты меня осуждаешь, что я испугалась ребят на фабрике?" "Что ты, - ответил он. - Испугаться каждый может". Вот видишь, какой Димка был человек - добрый, - сказала Ленка. -А потом он себя еще отчаянным храбрецом показал. Было это так... Мы возвращались с Димкой домой. И вдруг увидели Вальку. Он бежал трусцой нам навстречу, на поводке тянул собаку, маленькую такую, на кривых ногах и с большими лохматыми ушами. Валька заметил нас и нырнул за угол. Димка бросился за ним, а я за Димкой. Валька прижался к стене и смотрел на нас какими-то странными 581 глазами. "Какая у тебя собака хорошая. - Я погладила ее. - Только что это ее так колотит? Заболела она, что ли?" Валька не успел мне ответить, потому что Димка вцепился в него, вырвал собаку и выпустил. "Мой поводок! - заорал Валька, вырываясь из Димкиных рук. Петька!.. На помощь!" Я не поняла, почему Димка так ошалел и почему Валька кричал "поводок" и звал на помощь какого-то Петьку. Петька, старший брат Вальки, тут же появился. Он здоровый, ему скоро в армию. Я его сразу узнала, он шофер с уборочной машины. А Валька как увидел Петьку, заорал еще сильнее: "Петька, он мою собаку с поводком упустил!" Петька подтянул Димку к себе и вежливо сказал: "Ты уж извини, дружок, но я должен сделать тебе больно. Ты сам заслужил". И он так звезданул Димке по скуле, что тот пролетел мимо меня и шлепнулся на землю. "Заработал? - захохотал Валька. - Знай наших". "Всего доброго, дети", - сказал Петька. Они ушли не оглядываясь. А я не бросилась за ними, не вступилась за Димку, не позвала на помощь. Вот стыдно! 582 Ленка посмотрела на Николая Николаевича. - Я же тебе говорила, что раньше была трусихой. Это я теперь ничего не боюсь. Никогда больше не отступлю. Никог-да! Ни перед чем. А тогда я задрожала и подошла к Димке, когда Валька и Петька уже совсем скрылись. Другой бы на месте Димки обиделся, а Димка нет. "А я опять струсила", - созналась я. "Ничего. Смелость дело наживное. - Димка потер ушибленное место. - Я у него, подлеца, третью собаку отбиваю! Он их на живодерню поштучно за рублевку сдает". "Ну и тип этот Валька! С тех пор как он на меня в волчьей морде напал там, на фабрике, он мне все время кажется волком", - призналась я Димке. "Ну, это уж слишком", - ответил он. "Волк он, волк, - крикнула я, - раз для него самое главное деньги!" "А Петька похлеще Вальки, - сказал Димка. - Рыбу на реке глушит". "Жалко, - сказала я. - Я думала, вот стоит городок восемьсот лет, и все в нем хорошие... А Валька - живую жизнь своими руками на живодерню. Я про таких только читала. А ты, Димка... ты просто герой!" Я правда думала, что он герой. А он смутился: "Да брось ты!.." 583 "Нет, ты настоящий герой. Самый настоящий! - Потом вдруг набралась храбрости и спросила: - Можно, я буду с тобой дружить?.." - А сама даже испугалась собственной храбрости. "Ну давай", - согласился Димка. А я спросила его: "На всю-всю жизнь?" "Ну давай", - улыбнулся он. От восторга я... - Ленка на мгновение замолчала, - ну, в общем, поцеловала его в щеку. Просто от восторга, что он герой и что он теперь будет моим самым надежным и близким другом. Дедушка, я так тогда была рада! - Глаза у Ленки стали восторженными, голос громким. Она когда восторгалась чем-нибудь, то переставала стесняться, совсем не контролировала себя, и это ее свойство тоже очень нравилось Николаю Николаевичу. - А когда я его поцеловала, то я совсем не испугалась, а, представляешь себе, весело рассмеялась. Он очень удивился: "А это еще зачем?" "Так женщины, говорю, раньше благодарили рыцарей. - Я веселая была в тот момент и даже забыла, что у меня "рот до ушей, хоть завязочки пришей". А ты, Димка, рыцарь, ты же спас от Вальки собаку и меня. И она сейчас, 584 счастливая, рассказывает всем собакам города: "Ну и Сомов молодец!" В это время у меня над ухом раздался свист и хохот. Я оглянулась - перед нами стояли Петька и Валька. У них на поводке болтался тот же самый несчастный лопоухий пес, которого спас Димка. Оба довольные, хохотали, что снова поймали несчастную собаку и к тому же подслушали наш разговор. Волки, волки, а не люди! Я им прямо в лицо крикнула: "Это нечестно!.. Подслушивать..." "Барышня обиделась", - сказал Петька и сделал грустное лицо. "А ты, лыцарь, не обиделся?" - спросил Валька у Димки и нахально толкнул его плечом. При Петьке он был большой храбрец. А Димка как бросился на Вальку! Даже Петьки не испугался. Вот какой он был раньше! Только Петька перехватил его, поднял над землей, и Димка повис в воздухе, болтая ногами, - Петька ведь здоровый, на две головы выше Димки, и процедил, ну почти пропел сладким голоском, как Шмакова: "Давай, дружок, еще раз поцелуемся. - Захватил его лицо громадной ладонью, повертел голову, словно хотел ее отвинтить. Димка задыхался, потому что Петька закрыл ему ладонью рот и нос. - И прошу тебя, дружок, пел он 585 дальше, - не разглашай нашей маленькой тайны про эту собачку. Договорились?.." "Договорились", - промычал Димка сквозь пальцы Петьки, стараясь разжать железные тиски его ладони. "Ну, я рад, что ты все правильно понял", - ухмыльнулся Петька. И, волоча собаку под смех и выкрики Вальки, они снова ушли. А собака отчаянно упиралась, мотала головой и подымала пыль своими ушами. Мне ее так было жалко. Димка покосился на меня, погрозил кулаком вслед братьям и крикнул почему-то негромко: "У-у-у, Валька!.. Только сунься в школу!.. - А когда они отошли совсем далеко, он чуть прибавил голос: - Живодеры!" А я сложила руки рупором, чтобы было громче слышно, и заорала: "Жи-во-де-ры-ы-ы!" Петька остановился и посмотрел в нашу сторону... Нас как ветром сдуло, потому что Димка схватил меня за руку и мы убежали. А я расхрабрилась и говорю: "Правда, он услышал, как я кричала?" "Услышал, - ответил Димка, - но понимаешь, с этим надо быть поосторожней. Мы что?.. А он - что?!" "Он здоровый", - вздохнула я. 586 "Значит, не надо лезть на рожон". - Дедушка, - сказала Ленка, - ты представляешь, какая я была дура. Представляешь?! Я ему поддакнула. И вообще я все время ему поддакивала!.. Я знаю теперь: поддакивать - это плохо... Глава шестая Шестой класс дружной оравой ворвался в физический кабинет во главе с Димкой, который на ходу размахивал копилкой с деньгами. Он теперь везде и всюду был первым. Ему уступали дорогу, заглядывали в рот, когда он что-нибудь говорил, у него спрашивали совета по любому поводу. Ему верили, его любили - ведь он их сделал самостоятельными людьми. Все старшеклассники и даже выпускники ехали в Москву на родительские деньги, а они, благодаря Димке Сомову, на собственную трудовую копеечку. И вот они, веселые, милые, беззаботные, ворвались в физический кабинет, чтобы отсидеть свой последний урок... А потом каникулы - и Москва!.. И прочитали на доске объявление, написанное Маргаритой Ивановной, что вместо урока физики будет литература. Развернулись, чтобы идти в другой кабинет, но 587 столкнулись в дверях с Лохматым и Рыжим. Лохматый, хвастаясь своей богатырской силой, один втолкнул всех обратно в класс. И кто-то упал, а девчонки запищали. Лохматый и Рыжий были очень довольны своей победой и орали, перебивая друг друга: - Свобода-а-а! - Физика заболела-а-а! - Каникулы-ы-ы! Даешь кино! Димка сказал, чтобы они не орали, а прочли, что написано на доске. Лохматый и Рыжий стали читать по складам объявление на доске: - Ре-бя-та!.. У вас-с-с бу-дет уррро-оккк, - читали они в два голоса, ли-те-ра-ту-ры!.. Когда они читали подпись Маргариты Ивановны - а она подписалась двумя буквами "М.И.", - то заблеяли овечками. - Мээээ... Ииииии... Многим понравилось, как они читали, и со всех сторон понеслось блеяние: - Мэ-э-э-э! - И-и-и-и! - Мэргэритэ-э-э! Ивановнэ-э-э! - А после уроков у нас работа в детском саду, - объявил Димка, шефская. - Какая еще работа, - сказал Рыжий. - Завтра же каникулы!.. 588 - А мне родители вообще запретили работать, - пропела Шмакова. - Они говорят: "Лучше учись, а работать будем мы". - Мы еще только растем! - писклявым голоском вставил Рыжий. - У нас слабый организм! - рявкнул басом Лохматый. Они хохотали над собственным остроумием. - Ничего, поработаете. Нас там ждут, - снова начал Димка. - А вы, друзья-товарищи, - сказал он Лохматому и Рыжему, - если не нравится, валите отсюда! А мы дали обещание и выполним его. - Димочка хочет главным быть, - сказала Шмакова. - Начальник! - Точно! - захохотал Попов, заглядывая Шмаковой в лицо. - Ребя! Димка начальник!.. - А мы его сейчас по шапке, - Лохматый подошел к Димке. Надоел ты нам, Сомов, со своей копилкой... - Оглянулся на класс: - Верно я говорю? - Ох как верно! - простонал Рыжий. - В самую точку. Димка растерялся. Он никак не ожидал такого натиска. Он привык, что ему все смотрят в рот. А тут вдруг бунт! В это время в дверях появился Валька. Он облокотился плечом о косяк двери и небрежно объявил: - Я не ломовая лошадь, чтобы бесплатно вкалывать. У нас государство богатое. - Явился наконец! - Димка оживился. - Ребята, а вы знаете, чем 589 занимается наш Валька? Тихо!.. Сейчас я вас удивлю! Но тут за Валькиной спиной выросла голова, прикрытая кепкой. Это был сам страшный Петька. - Валечка, - сказал он, - я тебе портфельчик принес. - Он протянул Вальке портфель и прошел вихляющей походкой к учительскому столу. Здравствуйте, дорогие дети!.. - Повернулся к Димке, потрепал его рукой по щеке. - И ты, дружок, повторно здравствуй. - Он тяжело вздохнул. Подслушивать, конечно, нехорошо, но я слышал ваши разговоры и понял ваши разногласия... Оказывается, некоторые из вас стремятся работать, в то время как большая часть коллектива желает участвовать в культурномассовом развлечении, то есть посетить местный кинотеатр. Я думаю, что меньшинство должно уступить. Таков закон коллектива. Так что ваша проблема сущий пустяк. Он повернулся к доске и, что-то напевая себе под нос, стер объявление Маргариты. - Вот вы и свободны. Как ветер!.. Как моторная лодка, у которой мотор мощнее, чем у рыбохраны... Будьте счастливы, дети! А ты, дружок, сказал он 590 Димке, - не обижай, пожалуйста, моего меньшого. - Он погрозил Димке пальцем, улыбнулся всем и ушел. Ленка думала, что Димка тут же бросится на Вальку и всем все расскажет, но он почему-то промолчал. И тут Рыжий в полной тишине неуверенно произнес: - А может, правда какой-то неизвестный зашел и стер... - Ну, ты - умный! - обрадовался Валька. - Значит, мы этого не читали? - рассмеялась Шмакова. - Ребя!.. Не читали и не слыхали, - вставил Попов. - А Попик у нас сообразительный стал, - хвастливо пропела Шмакова. Моя школа... - Мы же Маргариту подведем! - пробовал остановить их Димка. - Заткнись, подпевала! - заорал Валька. - Даешь кино-о! Ребята повскакали со своих мест и бросились к дверям: - В кино! Даешь кино-о-о! Димка загородил им дорогу, но они смели бы его, им так хотелось в кино, если бы не крик Васильева: - А у меня нет денег! Вот тут-то по-настоящему все и началось. Димка почему-то вдруг забыл, что он только что, вот сию минуту, сам не пускал всех в кино, вырвался на середину класса и радостно закричал: - Васильев! Я тебе одолжу!.. И всем одолжу, у кого нет... - Голос у 591 Димки звучал звонко. - Значит, легенда такая - мы пошли проведать больную физичку! - У-у-у, Сомов - голова! - восхитился Рыжий. - Навестим больную! Это по-нашему! - Как тимуровцы! - захихикал Валька. И Ленка тоже восторженно захохотала: ей понравилось, что Димка такой находчивый. А он уже командовал, чтобы выходили из класса по двое. И первый рванулся к двери. За ним - Ленка. Она даже кого-то оттолкнула, чтобы не отстать от Димки. И тут им в спину ударил резкий голос Мироновой: - А я в кино не пойду! - Ты? - переспросил Димка. - Да, - ответила Миронова. - Смотрите, она против всех! - удивился Димка. - Против всех! - глаза у Мироновой засверкали. - А если мы тебя поколотим? - спросил Валька. - Попробуйте, - ответила Миронова и гордо расселась на своей парте. Все как-то сразу приумолкли - никто не решался поднять руку на Миронову. А Димка вдруг рассмеялся и Ленка следом за ним, хотя и не знала, чего он смеялся. И многие другие рассмеялись, с надеждой глядя на Димку. Не 592 зря же он смеялся. Значит, нашел выход из положения. - А сила у нас на что, Лохматый? - спросил Димка. - Сила - это главное! - восторженно ответил Лохматый, поднял Железную Кнопку на руки и под общий хохот вынес из класса... Ленка испуганно взглянула на Николая Николаевича. Она каждый раз так испуганно смотрела на него, когда искала помощи и поддержки, когда вспоминала что-нибудь такое, что теперь ей казалось ужасным. Робкий быстрый взгляд ее беспокойных глаз говорил Николаю Николаевичу: какая же я глупая, никчемная и жалкая... На лице Ленки опять жила ни на что не похожая, только ей одной данная, только от нее одной исходящая улыбка, Ленкина улыбка, которая сейчас просила за все прощение. А тем временем события приобретали несколько иной разворот, чем об этом знала Ленка. Дело в том, что Шмакова и Попов не пошли вместе со всеми в кино, а остались в классе. Они притаились за шкафом с приборами, а когда все убежали, вышли из укрытия. И еще на учительском столе стояла копилка, забытая Димкой. Шмакова, пританцовывая, ходила между партами - у нее было хорошее настроение. А Попов, как обычно, смотрел на нее во все глаза. 593 - Смотри, Димка забыл свой сундук с драгоценностями, - Шмакова подняла копилку. - Тяжелая. Если бы у меня было столько монет, я купила бы себе колечко. - Она повертела рукой, точно ее палец уже украшало желанное кольцо. - А я бы купил мотоцикл и два шлема, - вякнул Попов. - Неужели два? - спросила кокетливо Шмакова. - Зачем?.. - Хотя ей-то как раз было совершенно ясно, почему Попов мечтал о двух шлемах. Попов смутился, но не ответил. - А почему мы не пошли в кино? - спросил он, стараясь переменить тему разговора. - Я не пошла потому, что не захотела, - сказала Шмакова. - А я как ты, - рассмеялся Попов. - Послушай, Попов... Так зачем ты хотел купить два шлема? Она чувствовала над ним свою силу, и ей нравилось им командовать. Попова бросило в жар. - Ну? - повелительно спросила Шмакова. - Ну что ты тянешь? - Я... я... - выдавил Попов, пытаясь сознаться, и вдруг он услышал чьи-то спасительные шаги и прошептал: - Кто-то идет! Шмакова ориентировалась сразу. - Прячься! - приказала она Попову и сама влезла под парту. Попов втиснулся рядом с нею. В класс вошла Маргарита Ивановна, удивленно посмотрела на доску - от ее объявления осталась только подпись, две буквы: "М.И.". 594 Она медленно стерла их. - Мы уже пересекли школьный двор, - рассказывала Ленка, - когда Димка спохватился, что забыл копилку. "Деньги забывать нельзя, - сказал Валька. - А то их могут тю-тю!" "Я сбегаю!" - восторженно закричала я, рванулась, зацепилась ногой за ногу, грохнулась об асфальт и разнесла коленку в кровь. "Вот недотепа, - сказал Димка. - Ждите меня за углом", - и побежал в школу. "Не угодила", - хихикнул Валька. "А мне не больно!" - сказала я назло Вальке, хотя от обиды и боли чуть не заревела. "Ты сходи в медпункт", - предложила Железная Кнопка. Прихрамывая, я заковыляла к школе. Кто-то рассмеялся мне вслед - так я ковыляла, а мне было стыдно своей неловкости, и поэтому я тоже рассмеялась и захромала еще сильнее, чтобы посмешить всех. Когда я проходила мимо физического кабинета, то услышала голоса Маргариты и Димки и в ужасе остановилась. Значит, Димка попался. "Ты почему вернулся один? - спросила Маргарита. - А где же остальные?" "Ушли, - ответил Димка спокойно. - Физичка ведь заболела". "Но я же вам написала, что будет урок литературы". 595 "Разве?.. Кто-то, значит, стер". "Ну, у Димки и выдержка", - подумала я. "Не "кто-то", а вы, - резко ответила Маргарита, голос у нее стал чужой. - Не люблю, когда врут". А Димка ей в ответ, что и он не любит, когда врут. "Тогда сознавайся... Куда все "слиняли"? Так, кажется, вы это называете?.." Димка молчал. "Боишься правду сказать?" - не отставала Маргарита. Она его стыдила, стыдила, ругала, ругала... Сначала, что мы жалкие людишки. Потом - неблагородные и неблагодарные. И не понимаем хорошего отношения и человеческого участия. Перед самым отъездом... Обидно... Так обидно!.. Прямо нож в спину! Ну никак не ожидала... А у самой голос дрожал. Мне ее жалко стало. У нее праздник - свадьба, а мы ей нож в спину. А потом у нее голос окреп. Не знаю, чем он ее добил. Может быть, презрительной усмешкой уголком рта - у него такая усмешка. В общем, она его ругала, а он терпел до тех пор, пока она не назвала его трусом. "Я трус? - впервые подал голос Димка, и он зазвенел в моих ушах. Я-я-я-и?!" Так он громко крикнул, так возмутился, что она назвала его 596 трусом. Он ведь не был трусом. Ты же помнишь, как он у Вальки отбивал собак, как дрался с его старшим братом, с Петькой. Про Димку в школе легенды рассказывали. Он вытащил из горящего сарая кошку только потому, что маленькая девочка плакала - это была ее кошка. Все ее успокаивали, а в сарай, конечно, никто не лез... Представляешь, как он возмутился! Он кошек из огня вытаскивал, хотя их вовсе и не любил, но вытаскивал! А она ему: "Трус, жалкий, презренный трус!" Димка гордый человек. А она ему: "Жалкий, презренный трус!" Как пощечину отвесила. Наотмашь - хлоп! И звон-н-н по всему классу. Я стояла за дверью, а схватилась за щеку, будто мне отвесили пощечину. Николай Николаевич увидел, как Ленка схватилась за щеку, будто все это с Димкой произошло только что, сию минуту, и он не выдержал: - Да я знаю, знаю, что было дальше! Знаю. Тебе стало жалко Маргариту. Я тебя насквозь вижу - ты же благородная душа, ты вскочила в класс и все ей выложила!.. - Что ты, дедушка, это не я сказала, - Ленка почему-то перешла на шепот. - Димка ей сам выложил всю правду до конца. 597 - Так это он сказал Маргарите, а не ты? - удивился Николай Николаевич. - Почему же они тогда приставали к тебе?.. Ленка не ответила Николаю Николаевичу, она рассказывала все громче, все быстрее, взахлеб. Слова срывались с ее торопливых губ: - Когда Димка все сказал Маргарите, она отпала. По-моему, забыла и про свою свадьбу, и про жениха. Ни слова не ответила и выскочила из класса. Я заранее спряталась от нее. Ее каблуки щелкали по пустому коридору, как одинокие выстрелы. Потом она не выдержала и побежала, и стук каблуков участился и слился в сплошную пулеметную очередь: тра-та-та!.. И от Димки я тоже спряталась, когда он проскочил мимо меня, размахивая копилкой. В голове у меня все перемешалось, я выхватила носовой платок, перевязала им коленку - и за ним... А в это время в классе из-под парты высунулась хитрющая мордочка Шмаковой и совершенно ошеломленная физиономия Попова. Выражение их лиц удивительно точно передавало настроение: Шмакова была очень довольна, ее лицо озаряла странная многозначительная и таинственная улыбка, Попов же был 598 растерян и даже потрясен. - Видал? - Голос Шмаковой вздрагивал от возбуждения. - Ну, Димка! - Попов еще не знал, как относиться к происшествию, которое произошло у них на глазах, и с надеждой взирал на подружку. - А что теперь будет? - Родителей начнут таскать, - ответила Шмакова. - А мы с тобой в порядке. - Ох, у тебя и голова! - восхищенно сказал Попов. - Член правительства... Я им не завидую. - А я не завидую Сомову. - Шмакова снова улыбнулась и пропела "лисьим" голоском: - Они ему устроят кино... - Лохматый его - в бараний рог! - хихикнул Попов, желая угодить Шмаковой. - Интересно, что теперь скажет Бессольцева?.. - Шмакова задумалась, но вот какой-то четкий и ясный план созрел в ее голове. Она схватила портфель, крикнула Попову на ходу: - Быстрее!.. Посмотрим, как Димка будет сознаваться... Это же концерт! - и выскочила из класса. Попов, как всегда, следом за нею. - Я догнала Димку на улице, - продолжала Ленка. - Он вначале бежал 599 быстро, решительно, потом почему-то пошел медленно, а потом вовсе потащился... И даже несколько раз останавливался, словно вообще не спешил в кино. Наконец мы нагнали ребят. Я думала, Димка сразу все расскажет, и мы ни в какое кино не пойдем. А он - нет. Не рассказал. Может, не хотел им портить настроение? И все пошли в кино. В кино я все время думала про Димку и Маргариту, ничего не видела, никак не могла сосредоточиться и мороженое, которое мы ели, уронила на пол. После кино я опять ждала: вот сейчас Димка расскажет про Маргариту, вот сейчас Димка расскажет про Маргариту... Меня так колотило, что Железная Кнопка заметила и спросила, чего я так дрожу. Я ответила, что не знаю, а сама подумала: "Может, Димка не сказал ничего ребятам потому, что решил раньше посоветоваться со мной? Я же его ближайший друг". Потом все разбежались, и мы остались с Димкой вдвоем. И опять я ждала и думала: вот-вот он все расскажет. Шла и заглядывала ему в глаза. Но он ничего не сказал, а я не спросила. Потом я себя ругала, что была дурой. Ты подумай!.. Если бы я его 600 спросила, если бы я сказала, что я все знаю, то все-все было бы иначе. Дедушка, он правда думал, что он герой. Он еще не знал про себя, что он трус, так же как я не знала, что очень скоро стану предательницей. - Какая же ты предательница, если это сделал он? - спросил Николай Николаевич. - Самая настоящая. - Ленкино лицо вновь приобрело печальное выражение, сжалось, сморщилось, она боролась со слезами. - Хуже его в сто раз. Ты вот слушай, слушай и сам увидишь... Глава седьмая - На следующее утро, когда мы вошли с Димкой в класс, нас встретила веселая нарядная толпа. Не класс, а клумба с цветами. Все были готовы к путешествию. Только одна Миронова, как всегда, была в школьной форме. Когда появилась Маргарита, то все девчонки ей захлопали, потому что она была в новом красивом-красивом розовом платье с красным цветком - она же уезжала на свадьбу! Но Маргарита не обратила никакого внимания на наши восторги. 601 Я увидела ее лицо и испугалась. Посмотрела на Димку - вижу, и он испугался. Ну, подумала, сейчас нам влетит за вчерашнее. И отгадала. Маргарита держала в руке листок бумаги, который оказался приказом директора. Ты знаешь, что там было написано?.. "За сознательный срыв урока учащимся шестого класса в первой четверти снизить оценку по дисциплине. Классному руководителю Маргарите Ивановне Кузьминой объявить выговор. Довести обо всем случившемся до сведения родителей учащихся..." Вот что там было написано. А мы сидели разряженные в пух и прах. Мы же собирались в Москву. Проходы между партами были заставлены чемоданами. А на учительском столе возвышалась копилка. Мы мечтали разбить ее при Маргарите, чтобы взять эти деньги с собой на веселье. И тут мы услышали, что во двор въехали автобусы, а в школе раздался продолжительный звонок - это был сигнал к отъезду! Мы тоже сразу рванулись к своим чемоданам. А Маргарита как крикнула: "На места!" "А что вы так кричите? - с вызовом спросила у Маргариты Миронова. И потом осадила ее так, как только она одна умела: - Мы же люди, а не 602 служебные собаки". Сразу стало тихо-тихо, но никто не садился обратно, все стояли и ждали, что будет дальше. Маргарита буквально позеленела. Платье розовое, а сама зеленая. "Вы же еще обижаетесь, - возмутилась она. - Ну что вы стоите?.. Я же сказала - садитесь по своим местам". Все поползли к партам, а я почему-то села на свой чемодан. И конечно, упала вместе с ним. А следом другие чемоданы попадали. Грохот поднялся. "Бессольцева, не паясничай, - сказала Маргарита, - не поможет". "Я не паясничаю", - ответила я. На самом деле я не паясничала. Просто испугалась ее крика. Когда на меня кричат, я обязательно что-нибудь не то сделаю - у меня всегда так. А все этажи уже взорвались, как бомба, и десятки ног с топотом неслись по коридору и лестницам, и десятки голосов радостно галдели, проносясь мимо наших дверей. Какой-то умник всунул головы в наш класс и завопил: "Чего вы сидите?" И исчез. Рыжий не выдержал: "Маргарита Ивановна, мы на автобус не опоздаем?" Он так вежливо у нее спросил. 603 "Не опоздаете, - ответила Маргарита, - потому что вы никуда не поедете!" Вот тут, можно сказать, все онемели. Мы не едем в Москву! Этого никто не ожидал. "Как... не поедем?" - заикаясь, спросил Рыжий. Он был в ужасе. "Вы уже повеселились, - сказала Маргарита. - На "неуд" по дисциплине". Попов вскочил и схватил два чемодана - свой и Шмаковой. "А мы, говорит, в кино не ходили! Мы со Шмаковой ни при чем!" "Но и на урок вы не явились. Так что никто никуда не поедет!" А Попов стоял с чемоданами, и вид у него был дурацкий. "Поставь чемоданы!" - приказала Шмакова. И вот в это время вдруг раздался смех. Все вздрогнули. Кто это смеется в такой момент? Что за сумасшедший! А это - Васильев! Наш чудик. "А ты чего веселишься?" - спросила Маргарита. "Я догадался - вы нас просто пугаете!" "Я пугаю? - удивилась Маргарита. - С чего ты взял?" "А почему вы тогда в новом платье?" - спросил Васильев и засмеялся от собственной догадливости. - Я вижу, он хороший парень, твой Васильев, - заметил Николай Николаевич. - Он прихлебатель Лохматого и Железной Кнопки. Вот он кто. Ходит за ними тенью... Не перебивай меня, сам дальше увидишь, какой он хороший. Все 604 они такие хорошие, прямо золотые - ты увидишь!.. Ты лучше слушай, слушай!.. Значит, когда этот чудик сказал Маргарите, что она шутит, то она ему ответила, что вовсе не шутит. С чего ты это взял, мол, дурачок такойэтакий. "Я, говорит, в новом платье, потому что я еду в Москву. Это вы не едете!" У Васильева вытянулось лицо. "Это нечестно, - сказал он. - Директор объявил выговор вам и нам. А теперь вы едете, а мы нет. А мы же вместе собирались". А Маргарита как стала возмущаться: "Ты на самом деле так думаешь, Васильев? Или прикидываешься?" "На самом деле". "Ну, тогда я тебе все объясню, - с угрозой произнесла Маргарита. Яв кино не убегала, а пострадала из-за вас. Получила выговор. Вполне достаточно для меня. Я должна была раньше уехать в Москву, имела полное право, а я отложила свой отъезд. - Маргарита возмущалась и от этого из зеленой стала розовой, под цвет платья. - А из-за чего я отложила свой отъезд?.. Из-за вас, чтобы поставить вам три-четыре лишние пятерки, чтобы доказать, какой у меня необыкновенный класс. В Москве, говорит, на меня обиделись..." 605 Ну нам-то всем было понятно, кому она звонила и кто на нее обиделся жених. Она с этим женихом прямо обалдела. В день по сто раз про него вспоминала, даже когда не надо: "Жених, жених!.." И тут, когда Маргарита сказала про жениха и про пятерки, Железная Кнопка вскочила, сама побледнела, но спокойным-спокойным голосом, ленивым таким, объявила: "Нам не нужны ваши "лишние пятерки", так что вы зря не уехали, и на вас бы тогда никто не обиделся". Представляешь?.. Миронова кому хочешь все что угодно может сказать, если думает, что она права. Маргарита от ее слов обалдела. У нее чуть глаза не повисли на ниточках. Она прямо заикой стала. "Как же вам, говорит, не стыдно?.." "А чего нам стыдиться? - вставил Валька. - Мы ничего не украли". А Маргарита еще больше обалдела: "Ты что же, думаешь, что надо стыдиться только воровства?" "А чего же еще? - Валька засмеялся. - У нас все в законе". "Тогда, может быть, вы в кино сбежали нарочно, чтобы подвести меня?" в ужасе спросила Маргарита. "Конечно-о-о-о!" "Мы нарочно-оо-о-о!" 606 Они кричали эти слова, и им совсем не было жалко Маргариты. Они как с цепи сорвались. Это они от обиды на Маргариту и на себя, что оказались дураками - променяли Москву на кино. А Димка вертелся волчком, подбегал то к одному, то к другому, стараясь заткнуть ребятам рты, прямо летал по классу. А ребята орали: "Мы в Москву не хотим!.." "Нам бы двоек побольше!.." "Вот какие вы, оказывается, - сказала Маргарита. - Тогда мне с вами больше не о чем говорить". И пошла к выходу. "Маргарита Ивановна, постойте! - Димка пытался ее остановить. Они же шутят!.. - Он суетился возле нее, забегая вперед. - Мы же работали!.. В Москву на свои деньги... Я сейчас к директору... Он нас простит. Честное слово, мы больше не будем. Маргарита Ивановна, можно я к директору? - Он прижался спиной к двери и не выпускал ее. - Вы же нас потом сможете наказать, Маргарита Ивановна!" "Пусти, Сомов! - приказала Маргарита. - Ты поздно спохватился". "А что же нам делать с копилкой?" - спросил Димка. Маргарита крутнулась на каблуках, медленно вернулась, взяла копилку в 607 руки, подняла высоко над головой и... грохнула об пол! Представляешь! Ну, это было как извержение вулкана! Или как землетрясение!.. Лично у меня пол под ногами заходил ходуном. До сих пор мы еще на что-то надеялись, вроде чудика Васильева. А тут поняли: не видать нам Москвы как своих ушей. "Можете теперь ходить в кино хоть каждый день", - сказала Маргарита и удалилась. Все сидели тихо, но как только дверь захлопнулась, бросились к разбитой копилке. И началось... "Давайте ей назло разделим деньги и погуляем!" - крикнул Валька. А чудик Васильев еще хотел их остановить. Лохматый оттолкнул его и приказал: "Дели, Шмакова!" Шмакова собрала все деньги, перенесла их на стол и стала считать. "Ух, заработали!" - Валька глотал слюну, точно перед ним были не деньги, а вкусная еда. А Димка вдруг сорвался с места как бешеный и стал всех отталкивать: "Не трогайте! Я сейчас эти деньги сам соберу и достану новую копилку!" Он хватал деньги, рассовывал их по карманам, а сам говорил, говорил: "Мы еще заработаем и махнем в Москву на зимние!.." 608 А Валька вцепился в него и завопил, что эти деньги общие, что Димка всех грабит. Ну, тут на помощь Вальке бросились Лохматый и Рыжий. Они скрутили Димке руки, влезли в его карманы и вытащили деньги. А он, такой бедненький, бился у них в руках, изворачивался, выкручивался. Потом они его отпустили. "Дели, Шмакова!" - приказал Лохматый. "Шмакова, не надо! - Димка еле переводил дух. - Не слушай Лохматого!" "Не командуй, Димочка, - ласково пропела Шмакова. - Я же тебе не Бессольцева. - А сама косилась на Димку, ну нарочно поддразнивала его, ласково напевая: - Что же ты не дерешься, не отстаиваешь свои принципы?.. Ты же у нас честный и решительный. Ах ты, Димочка, Димочка! Командир ты наш главный... Откомандовался!.." Я же тебе говорила, что она настоящая лиса, поет сладким голосом, будто колыбельную, будто укачивает тебя своей лаской, а сама под дых бьет. И Димку она совсем убила - он сидел как побитая собака. Мне его было жалко. А Шмакова тем временем считала деньги - шевелила губами, точна листья шелестели по траве. Нос у нее удлинился, она и носом помогала себе считать. 609 Только один раз отвлеклась, когда краем глаза увидела, что Валька стащил рублевку и спрятал в карман. Тут она закричала не своим голосом, что Валька прикарманил рублевку. Лохматый схватил Вальку за шиворот, тот сразу вернул деньги и сделал вид, что обиделся, что, мол, они не поняли его шутки. "Не на такую напал. Знаем мы твои шутки, - зло отрезала Шмакова и снова радостно запела: - Все!.. Чин чином. Как в кассе - по двадцать три рэ!" На учительском столе лежало тридцать шесть стопок денег - по числу ребят в нашем классе. "Ну что же вы, работнички, рты раскрыли? Налетайте! - Шмакова аккуратно подцепила одну стопочку. - Прикоплю еще и куплю голубую куртку. Я в нашем универмаге видела. Обалденная!" За Шмаковой деньги схватил Валька... и тут же пересчитал. "Не доверяешь?" - усмехнулась Шмакова. "Деньги счет любят", - ответил Валька. Потом стали брать другие... Одни хватали, другие брали небрежно, третьи пересчитывали. Лохматый взял две стопки и одну отнес Мироновой. На столе остались Димкины деньги и мои. "А вам что, деньги не нужны?" - спросила Шмакова. "Они бессребреники", - хихикнул Валька. Димка стоял рядом со мной, и я чувствовала, как его бил озноб. Он 610 рванулся к столу, схватил свои деньги и заорал: "Жмоты несчастные!.. Подавитесь этими деньгами!.. - Он подскочил к Вальке: - На тебе!.. На!.." - и стал совать ему свои деньги. Я обрадовалась, что он снова храбрый, и тоже закричала: "И мои отдай!" Метнулась за деньгами и сунула их Димке. А он совал Вальке эти деньги, а они падали на пол и рассыпались, потому что Валька испуганно отступал от него, отталкивал его руки и твердил: "Да отстань ты от меня, псих!.." Васильев крикнул, что пусть все деньги вернут Димке и что правда можно поехать в Москву зимой. "Правильно, ребята! - подхватил Димка. - Сваливай сюда деньги!" И он подобрал деньги с пола и ссыпал их обратно на учительский стол. А я от него зарядилась храбростью, как электричеством. Меня прямо распирало от гордости за Димку: все-таки большинство ребят попрежнему его уважали. Я подумала, что сейчас самое время рассказать про Маргариту. Он ей все выложил не от трусости, а оттого, что был за правду. И я теперь тоже носилась по классу, подскакивала к ребятам и говорила: "Давайте деньги, давайте, возвращайте!" И кое-кто мне уже вернул, но я не 611 успела даже положить их на учительский стол, потому что тут нас подкосила Железная Кнопка. "Надоело, Сомов, - сказала она. - Ну что ты все болтаешь языком, болтаешь, а надо узнать главное". "Вы слышали, ребята, что она сказала? - У Димки еще блестели глаза. - Я болтаю... Я предлагаю заработать побольше денег и поехать на зимние каникулы в Москву... А она называет это болтовней! - Он подошел к Мироновой: - Ну скажи нам тогда ты, дорогая Железная Кнопка, если я болтаю, то что же ты считаешь главным?" Он склонился к ней и приложил к уху ладонь: мол, плохо вас расслышал, повторите. И я тоже повторяла, вслед за ним, каждое его движение и слово: "Ну скажи нам тогда ты, дорогая Железная Кнопка, что же ты считаешь главным?" - и приложила ладонь к уху. Но нам с Димкой наши остроумие и находчивость не помогли. Мы не испугали Железную Кнопку. Она - не я. Она сама кого хочешь испугает. Она мне нравится, только она очень беспощадная. "Ребята! - крикнула Железная Кнопка, не обращая на нас внимания. Знаете, что главное? Я поняла. Кто-то донес Маргарите, что стерли ее надпись на доске. Так что выходит - нас предали". 612 Она умная, Железная Кнопка, догадалась. А я, когда услышала ее слова: "Нас предали" - закачалась. Меня как обухом по голове стукнуло. Посмотрела на Димку, хотела ему крикнуть: "Ну чего же ты молчишь, потом поздно будет!" А у самой от страха язык окостенел. И Димка, вижу, сник. И блеск у него в глазах пропал, и храбрость куда-то улетучилась. Вот так Железная Кнопка взяла Димку на зубок и перекусила. Ну, тут и началось. Все ребята стали кричать. Они вопили как сумасшедшие: "Ну, мы его!.." "Найдем предателя!" "Среди нас окопался гад!" "Тихо!.. - заорал Лохматый. - Выходит, кто-то из наших наклепал Маргарите?.." "Выходит", - ответила Миронова. "А кто?" - спросил Лохматый. Стало тихо. "Кто предал? Кто же предал?" - думали ребята, поглядывая друг на друга. Это для них была тайна, и им во что бы то ни стало хотелось ее узнать. Теперь они были все заодно, и получалось, что все против нас. Они смотрели в рот Железной Кнопке: что она скажет дальше? 613 Железная Кнопка подозрительно осматривала нас - искала предателя. Глаза у нее были въедливые-въедливые, медленно двигались по нашим лицам. Она еще не добралась до нас с Димкой, а я уже дрожала от страха, потому что Железная Кнопка прожигала насквозь. А когда она посмотрела на Димку, то сказала странным голосом, растягивая слова: "Дим-ка-а-а... А ты же воз-вра-щал-ся..." На меня эта ее манера растягивать слова плохо действовала. Я сидела ни жива ни мертва. Нашу парту окружили несколько человек во главе с Мироновой, и по классу пошел шорох, что, конечно же, Димка возвращался за копилкой. "Точно! - Лохматый схватил Димку за грудки. - Ты возвращался? А ну признавайся!.. Нарвался ты на Маргариту?.. И все ей выложил?" "Он же у нас чистенький! - крикнул Валька. - У него совесть есть, мог и признаться". "А ведь главное не совесть, а сила! - Лохматый занес над Димкой здоровенный кулак. - Я вот тебя как стукну в лоб, ноги отлетят!.." "Ой, ой, - пропела Шмакова, - а он испугался. Ребята, а наш храбрый Димочка испугался. Вот номер!" - и затряслась от смеха. А Димка и правда испугался. И я тоже испугалась. Он вырвался: да 614 отстаньте, мол, с вашими глупостями, хотя это уже были не глупости. "Ребята, Димка что-то утаивает! - закричал Валька. - Это же факт, утаивает! Смотрите, смотрите, у него глаза бегают! - Он захохотал. Бегают! Ох, бегают!" "Отвяжитесь!.. Надоели, придурки! - вдруг каким-то чужим голосом выкрикнул Димка. - Из-за вас в Москву не попали!.. "Даешь кино! Даешь кино!" Вот вам ваше кино - боком вышло!" Димка растолкал кольцо ребят и пошел к выходу. Я - за ним. А Железная Кнопка так ехидно-ехидно, небрежно-небрежно, с легкой улыбочкой бросила нам вслед: "А я знаю... кто предатель!" Мы с Димкой остановились как вкопанные - прямо приросли к месту. Куда нам теперь было бежать, если Железная Кнопка все знала?.. С разных сторон понеслось: кто предатель да кто?.. Каждому охота была поскорее узнать его имя. Раззадорились - жаждали мести. А с другой стороны, они были правы. Разве кто-нибудь любит предателей?.. Их никто не любит. Никто. Их все презирают. Лохматый подскочил к Мироновой: "Говори, кто он?!" 615 Ну, решила я, сейчас Железная Кнопка бабахнет про Димку!.. Ну, думаю, теперь мы пропали! Ну теперь они разорвут нас на мелкие кусочки... Заметалась я, засуетилась, хотела спрятаться за Димку - посмотрела на него и не узнала! Передо мной стоял какой-то зеленый лунатик глаза у него из синих стали белыми. Не веришь? - Ленка посмотрела на Николая Николаевича. - Думаешь, не бывает белых глаз?.. Но они были белыми. Точно! И жалкая улыбочка ползала у него по губам, вроде моей. И у меня в ответ губы поползли к ушам - хорошенькая получилась парочка! Тут меня как молнией ударило, прямо пронзило! Я догадалась, что Димку перевернуло так от страха. Говорят же: "На нем лица не было от страха". Так вот, на Димке и не было лица. Маргарите-то он все сказал, он перед нею был герой, а теперь испугался. А я за него еще хотела спрятаться. Но когда поняла, что ему страшно, что он погибал на моих глазах, то я вдруг сразу перестала бояться. Почувствовала, что ничего не боюсь. Взяла его руку в свою и крепко сжала. Ну, чтобы он знал, что он в этом мире не один. И мне показалось, он понял это и вроде бы кивнул мне. 616 И тут я увидела, что у него глаза снова выкрасились в синий цвет. Я обрадовалась, решила, что это из-за меня, из-за того, что я взяла его за руку. А тем временем все ждали, что будет дальше. Только Железная Кнопка не спешила открывать нам свою тайну, она важно и таинственно молчала. "Ну, Миронова, не тяни!" - простонал Рыжий. Дедушка, - сказала Ленка. - А знаешь, я бы никогда не тянула так время, как Железная Кнопка, если бы знала про кого-нибудь страшную тайну. А может, ее поэтому и прозвали "Железной"? Это собственное открытие заставило Ленку замолчать - она о чем-то задумалась. Николай Николаевич улыбнулся, чтобы как-то, хотя бы улыбкой, смягчить тревожное состояние Ленкиной души. Но она не ответила на его улыбку, не приняла ее, она была там, вся в этой истории, которая так заставила ее страдать и которая до сих пор еще была не ясна ее дедушке. - А ты?.. - Ленка резко повернулась к нему всем корпусом. - Ты бы тянул время, если бы знал про кого-нибудь страшную тайну? 617 - Я бы не тянул, - строго ответил Николай Николаевич. - Никогда. Зачем зря мучить людей, зачем над ними издеваться и выворачивать и без того слабые их души наизнанку, если они даже виноваты. Можно презреть, наказать, помочь, но мучить нехорошо, стыдно, нельзя. Это ожесточает человека. Надо быть милосердным. - Милосердным? - спросила Ленка. Она задумалась над значением этого слова. - Знаешь, что такое "милосердный"? - продолжал Николай Николаевич. Это человек, у которого "милое" сердце. Доброе, значит. - А Железная Кнопка тянула, тянула, тянула! - сказала Ленка. "Дадим, говорит, ему три минуты на размышление". И посмотрела на часы. "Одна минута прошла", - счастливым голосом пропела Шмакова. Жуткая тишина сопровождала эти три минуты, это ожидание. Только иногда кто-то вскрикивал или хихикал, и все в страхе поглядывали друг на дружку, пытаясь заранее отгадать, кто же предатель. "Не сознается, ему же хуже будет, - зловеще произнесла Миронова. - Ну! - Она крикнула, как кнутом стеганула. - Ну же! Сознавайся, предатель!.. Сознаешься - тебе же самому лучше и легче будет!" 618 "Попов, - приказала Шмакова, - встань у дверей, а то "он" еще сбежит". Она почему-то засмеялась. Попов пересек класс и, радостно ухмыляясь, стал позади нас. "Две минуты!" - почти не разжимая губ, выдавила Миронова. Я посмотрела на Димку - он стоял как вкопанный. "Димка", - в ужасе прошептала я, чтобы подтолкнуть его. Мне хотелось заорать на него страшным голосом, ударить, чтобы сдвинуть с места, заставить признаться раньше, чем Железная Кнопка назовет его имя. "Три!" - прозвенел голос Мироновой. "Три, три, три!" - гудело в моей голове. У меня все поплыло перед глазами, я бы грохнулась, если бы Попов не подхватил меня. А когда я пришла в себя, то поняла, что Димка не успел еще сознаться, потому что он по-прежнему стоял рядом со мной и никто не обращал на нас никакого внимания. "Ну? - Лохматый рванулся к Мироновой, он хотел побыстрее схватить предателя. - Кто же он?.." А Миронова снова тянула время. И тут Димка наконец еле слышно прошептал: "Ребята..." Его услышала только Шмакова. "Что "ребята"? - Шмакова подскочила к Димке. - Тихо-о-о! Сомов хочет 619 нам что-то сообщить! Говори, Димочка! - сладким голосом пропела она. Говори!" Но в это время Железная Кнопка, не обратив внимания на Димку, произнесла фразу, которая сразу изменила всю обстановку. "Подходите ко мне по очереди, - приказала она. - Я буду проверять ваши пульсы, - и угрожающе добавила: - Посмотрим, как сейчас бьется пульс у предателя!" Все недоуменно переглянулись, у многих разочарованно вытянулись лица. Они готовы были схватить предателя, они жаждали мести, а тут какой-то пульс. "Так ты не знаешь "его"?" - хриплым голосом спросил Димка. Я увидела, как он обрадовался. Он рассмеялся, бедненький, от радости, что Железная Кнопка, оказывается, ничего не знала, что он получил отсрочку. "А может быть, кто-нибудь другой его знает?" - ухмыляясь, сказал Попов. "И другой тоже не знает, дорогой мой Попик, - сказала Шмакова. И мы не будем торопиться... - Она почти танцевала между рядами парт и пела: - Мы все-все постепенно узнаем... И как "его" зовут... И что "он" сказал Маргарите... И зачем "он" это сделал..." 620 "Подходите ко мне по очереди", - сказала Железная Кнопка. Первым к Железной Кнопке подошел Васильев. "Проверяй, - он протянул Мироновой руку. - Посмотрим, что у тебя получится". Миронова стала считать пульс у Васильева. А все остальные молча следили за ними, готовые по первому сигналу Железной Кнопки броситься на того, у кого пульс будет биться слишком быстро. "Нормальный, - сказала наконец Миронова. - Следующий..." Ребята один за другим подходили к Железной Кнопке, а она считала у них пульс и говорила: "Нормальный! Следующий!.." И все больше было тех, кто прошел проверку, и все меньше, кому осталось ее пройти. Потом, после Шмаковой, Железная Кнопка начала считать пульс у Попова... и на очереди остались только двое - Димка и я! Но тут Железная Кнопка отбросила руку Попова, вскочила - щеки у нее снова заалели - и объявила: "Пульс - сто!" "Пульс - сто!.. Пульс - сто! Пульс - сто!" - понеслось по рядам. "А сколько надо?" - спросил Лохматый. "Семьдесят! - Железная Кнопка победно оглядела класс. Попался, голубчик!" 621 "Ну, гадина!" - Лохматый схватил Попова и выкрутил ему руки. "Точно, это он! - заорал Рыжий и бросился к Лохматому на помощь. - Они же в кино со Шмаковой не ходили и в Москву хотели уехать вдвоем". Ребята мигом окружили Попова, и со всех сторон понеслось: "Ну и Попик! Ну и верзила!" "Ну и раб! Дать ему по носу!" "Да отстаньте вы от Попова", - вдруг совершенно спокойно сказал Димка. А я решила: наконец он все скажет. Я снова задрожала от страха: все-таки сознаваться страшно, хотя и надо. Но я раньше времени задрожала, он и не думал сознаваться. Он сказал: какая разница, Попов это сделал или не Попов, все равно Маргарита бы узнала, и что во всем виноваты мы сами, и нечего искать козла отпущения. "Большая разница, - возмутилась Железная Кнопка. - За предательство знаешь что бывает?" А Димка развеселился; он перестал бояться и, совсем как прежде, сказал: "Ах, ах, как страшно!" "Попов, рассказывай!" - приказала Железная Кнопка, демонстративно отворачиваясь от Димки. "А что? - Попов самодовольно хмыкнул и посмотрел на Шмакову. - И расскажу". 622 "Еще как расскажет, - улыбнулась Шмакова, - хотя кое-кому это и не понравится... - Она притворно вздохнула: - Но что поделаешь! На всех не угодить!" "Ребя! - Попов сиял. - Ребя, что было!.." Он так многозначительно посмотрел на Димку, что можно было подумать, что он все знает! И я посмотрела на Димку, и снова меня как молнией пронзило: его опять от страха всего перекорежило! Тогда я опять бросилась очертя голову вперед, чтобы помочь ему. "Послушайте! - закричала я. - Послушайте меня!.." "В чем дело? - возмутилась Железная Кнопка. - Что ты нам мешаешь?.." "Ну почему же мешает, - вмешалась Шмакова. - А может быть, она скажет что-нибудь по делу. Говори, Бессольцева... Мы ждем с нетерпением". "Ребята, - сказала я. - Это... это..." Я уставилась на Димку, сверлила его глазами, чтобы он понял, что ему уже пора сознаваться, что больше нет ни одной свободной секунды. Но он снова промолчал, он как будто не замечал моих взглядов. "Это... - я решилась сама назвать его имя, раз он не мог, - сделал..." И замолчала, хотя понимала, что для отступления уже все дороги отрезаны. Но у меня дыхание перехватило, никак я не могла назвать Димкино имя. 623 "Ты что замолчала? - насела на меня Шмакова. Она стояла передо мной в торжественной величественной позе, сложив руки на груди. - Ну говори же, говори, кто это сделал, по-твоему?" Дедушка! Посмотрела я на Шмакову и поняла: вот кто обрадуется, когда узнает про Димку. И вдруг я почему-то улыбнулась и сказала совсем не то, что собиралась... "Это сделала я!.." - Ах вот в чем дело, - сказал Николай Николаевич и как-то весь преобразился. Значит, Ленка всю вину взяла на себя. А он, старый леший, даже не подумал об этом. Кажется, она сможет прожить свою жизнь не хуже прочих Бессольцевых, ибо обладала теми чудными качествами характера, которые непременно требовали от нее участия в судьбах других людей и боли за них. Это открытие, так неожиданно посетившее Николая Николаевича, обрадовало его несказанно. Он встал и весело прошелся по комнате, напевая себе под нос, что случалось с ним крайне редко. - Что с тобой? - не поняла Ленка. - Со мной? - Николай Николаевич вполне радостно улыбнулся. Со мной 624 положительно ни-че-го!.. Продолжай, пожалуйста! Я внимательно слушаю тебя. - Когда я первый раз произнесла, ну, про то, что это сделала я, то многие не поверили своим ушам: что это, мол, она мелет. А я посмотрела на Димку, улыбнулась и повторила громко: "Это сделала я! Понятно?.. Я!" До чего же у них стали смешные лица! Рыжий открыл "варежку" и забыл ее закрыть. "Ты?" - Шмакова выпучила на меня глаза. И следом за нею Попов тоже выпучил. Лохматый стукнул меня по спине: "Вот тебе для начала!" А Васильев почему-то перепугался. "Не может этого быть", - говорит. "Может, может! - закричала я. - Это я!" - и зырк на Димку: мне было интересно, когда же он сознается. Васильев наклонился ко мне и тихо прошептал: "Я догадался... Ты их разыгрываешь?.." Я в ответ рассмеялась, и Васильев, вполне довольный, тоже рассмеялся. А Железная Кнопка сразу поверила. Она с жадностью посмотрела на меня, потом лицо ее ожесточилось, она не из тех, которые прощают. "Как же тебя угораздило, несчастное ты чучело?" - спросила она. "А так, угораздило, - весело ответила я. - Побежала в медпункт, чтобы 625 перевязать ногу, встретила Маргариту... и все ей рассказала", - а сама снова - зырк на Димку. Он, кажется, уже успокоился, а меня это обрадовало - значит, я снова помогла ему. Лохматый второй раз стукнул меня ребром ладони между лопаток, а я даже не вздрогнула. Васильев подмигнул мне и радостно завопил: "Во смелая!.. Лохматый, она тебя не боится!" А я правда не испугалась. Что-то случилось со мной новое. Сама себя не узнавала, ну точно это была не я. Так вот, когда я "созналась", то Железная Кнопка сразу взяла власть в свои руки, и все стали ей подчиняться. Она приказала закрыть двери. Валька схватил учительский стул, всунул в кольцо дверной ручки, хихикнул и радостно потер руки: "Ну, будет веселое дельце!" Мы сидели взаперти - вроде бы одни во всем мире. Там везде шла какая-то жизнь, во дворе счастливчики собирались в Москву, а мы здесь сидели одни в четырех стенах. Видно было, что никто толком не знал, что делать со мной дальше. Первым нашелся Валька - он понял, что меня надо бить. И швырнул в меня резинку: она ударилась в стенку и вмазалась Попову в лицо. 626 "А меня-то за что?" - завопил Попов. Все, конечно, засмеялись, весело получилось: целили в меня, а попали в бедного Попова. Ну и я тоже рассмеялась и Димке подмигнула: мол, а ты, дурачок, чего же не веселишься? Но Димка сидел мрачнее мрачного. И еще Железная Кнопка не пожелала веселиться. Она вскочила на парту: "Ребята, произошла страшная история. Среди нас появился предатель!.. Она обвела всех взглядом, щеки у нее покрылись румянцем возмущения. - Что мы будем с нею делать? Надо решать". А Васильев как завопит: "Сжечь ее на костре! Да свершится гражданская казнь!" "Точно! - обрадовался Рыжий. - Сжечь ее на костре!" Все снова рассмеялись, потому что Рыжий, когда кричал: "Сжечь ее на костре!" - то корчил смешные рожи. И я тоже рассмеялась и оглянулась на Димку и показала ему, что мне совсем не страшно. Но Железная Кнопка опять не поддалась общему веселью. "Лохматый, - приказала она, - выруби Рыжего, чтобы не кривлялся". Рыжий сам сразу сдался, он закричал: "Я как все!.. Я ей ничего не прощаю!.. - Подлетел ко мне: - У-уу, 627 трепло-о-о!" "Ладно, Рыжий, потом будешь орать, а сейчас помолчи. И забудь про свои дурацкие шутки, - сказала Железная Кнопка. - У нас серьезный разговор и серьезное дело". Знаешь, дедушка, - сказала Ленка, - у Мироновой очень сильная воля. Я тогда снова подумала: не зря ее прозвали Железной Кнопкой, не зря. "Так простим мы ее или не простим?" Глаза ее прямо испепеляли всех. И тут все заорали кто что: "Не простим!.." "Простим!.." А я еще ничего не понимала и закричала: "Не прощайте!.. Не прощайте!.." "Тихо!" - остановила всех Железная Кнопка. Миронова понимала, что все ждут, что же она скажет, и поэтому снова тянула по своей привычке, а потом с восторгом объявила: "Бессольцевой - бойкот!" И все дружно подхватили: "Бойкот! Бой-кот!" В это время кто-то дернул дверь из коридора, а потом застучал и закричал, чтобы мы немедленно открыли. Мы узнали голос Маргариты. Я испугалась, что она ворвется и выдаст Димку. А он еще сильнее меня 628 испугался. На цыпочках подбежал к двери, приложил палец к губам: мол, все молчите! Тут, конечно, мы притихли. И я, дурочка, тоже, как он, приложила палец к губам и вертела головой во все стороны, чтобы никто не издал ни шороха, ни звука. Маргарита стучала и стучала: "Немедленно откройте!" А Димка, бледный-бледный, ни кровинки в лице, стоял около дверей. Смотреть на него было невозможно - так он дрожал. А Маргарита не отставала: "Откройте, откройте!" Железная Кнопка подошла к Димке, оттолкнула его, открыла дверь, и перед нами появилась Маргарита. Она подозрительно спросила: "Какой еще бойкот?.. Что тут происходит?" Мы молчали. Но тут, на наше счастье, кто-то из коридора позвал: "Маргарита Ивановна!.. Вас Москва вызывает!" Ну, а когда Маргариту вызывает Москва, она обо всем забывает. Она рассеянно посмотрела на нас, словно забыла, чего она так стучала и что ей надо, улыбнулась, махнула рукой и убежала. Железная Кнопка невозмутимо закрыла дверь и спросила, обращаясь к классу: "Значит, Бессольцевой..." 629 И ей дружно ответили: "Бой-кот!" "Бойкот!" - крикнул Васильев, задыхаясь от смеха. "Никто, слышите, ни один человек не должен с нею разговаривать, требовала Железная Кнопка. - Пусть она почувствует наше всеобщее презрение!.. А тому, кто нарушит клятву, мы тоже объявим самый жестокий бойкот! Наш пароль: "Бойкот предателю!" "Даешь бойкот! - неслось с разных сторон. - Да здравствует справедливость!" "Ух, повеселимся! А, Сомов?!. - затрещал Валька. - Погоняем твою подружку!.. Давай, давай крикнем вместе: "Бой-кот Чу-че-лу!" - приставал он к Димке. - Чего же ты не кричишь?" Димка криво усмехнулся и промолчал. А все кругом заволновались, засуетились: "Как же? Сомов против бойкота?" "Сомов отделился от всех! Ай-ай-ай!.." "Ты что, Димочка, правда против бойкота? - спросила Шмакова. Нехорошо идти против коллектива, неправильно". Димка продолжал криво усмехаться, хотя ему было не до смеха. Валька понял, что Димка растерялся, что он засбоил, и прилип к нему: "Ну поднатужься, поднатужься, Сомик! - и хватал его руками, и тормошил, 630 и восторженно ржал, понимая, что добивает Димку. И прыгал, и танцевал вокруг него. - Ну давай, давай же вместе: "Бой-кот Чу-че-лу!.." - Ему нравилось так выкрикивать, и он почти пел: - "Бой-кот Чу-че-лу-у-у!" - и наседал, наседал на Димку. Я не выдержала; мне жалко было Димку, и я крикнула Вальке прямо в лицо: "Бой-кот!.. Бой-кот!.." Валька от неожиданности перепугался и отскочил: "Ты что, ошалела? Орешь в ухо!" А внизу во дворе в это время разворачивалась своя жизнь, и в этой жизни наступил торжественный момент шоферы автобусов завели - моторы. Этот гул достиг наших окон, и Шмакова закричала: "Автобусы уходят!" Мы прилипли к окнам и с завистью смотрели на бурлящий школьный двор, перебрасываясь редкими словами по адресу отъезжающих. "Смотрите, Маргарита с цветами... Ох, ох, довольная!.. - сказала Шмакова. - Какая важная... Невеста!" "Заметила нас... Улыбайтесь ей, улыбайтесь, - приказала всем Железная Кнопка и сама тоже улыбнулась. - Сделаем ей ручкой. - Она помахала рукой Маргарите. - Пусть не думает, старушка, что мы откинули копыта от 631 переживаний". "Уезжают... - голос у Рыжего задрожал. - А мы!.." В глазах у него стояли слезы. "Машет нам наша наседка, - противно хохотнул Валька. - Хорошо бы ей плюнуть на голову... Она стоит - ей шмяк по макушке!" "Ну и подонок ты!" - вдруг возмутился Лохматый. "Почему подонок? - ответил Валька. - А что она с нами сделала?" "Опять машет, - хмыкнул Лохматый. - Может, зовет нас, чтобы мы поздравили ее со свадьбой?" "Я мимо училки бежала и увидала в открытую дверь, как учителя там поздравляли Маргариту. Они пили чай с большим-большим тортом, вырвалось у меня. - Я всунула голову и сказала: "Маргарита Ивановна, а я вас тоже поздравляю". Они все смутились, даже смешно. А директор подавился чаем и закашлялся... И все после этого засмеялись... "Ты ловка, - заметила Железная Кнопка. - Предатель, да еще и подлиза". "Миронова, полегче на поворотах", - заступился за меня Васильев. - Ну, а Димка-то что? - почти крикнул Николай Николаевич. - Димка?.. Ничего. Он успокаивался - это было видно. Правда, когда Железная Кнопка сказала мне, что я подлиза и предатель, то он быстро 632 отвернулся от меня, чтобы я не перехватила его взгляд. А в это время Маргарита снова замахала нам рукой. И Шмакова тогда сказала: "Чего она размахалась, наша мельница?" "Ребята, - заорал как безумный Рыжий, - это она нас зовет!.. Она передумала!" "Передумала-а-а! Даешь Москву!" Их как ветром сдуло - они забыли и про меня, и про бойкот, и про Димку!.. Мы с Димкой остались вдвоем. Тебе нравится "Уснувший мальчик"? - спросила Ленка дедушку и быстро, не ожидая ответа Николая Николаевича, добавила: - Ты не отвечай. Не надо... А мне он очень нравится. Он на Димку похож. Только у "Уснувшего мальчика" улыбка испуганная, а у Димки надменная. А это большая разница. Раньше я этого не понимала. А теперь поняла, что я люблю испуганных людей. Ну, они вроде бы какие-то не такие, у них есть испуг за других. Ленка посмотрела на Николая Николаевича и застенчиво улыбнулась: - Ты мне тоже поэтому нравишься... А когда мы остались вдвоем в классе, то Димка стал вылитый "Уснувший мальчик", потому что он потерял свою надменность. Он так посмотрел на меня, как никогда. Грустногрустно. 633 По-моему, он хотел сказать мне что-то особенное, важное. Нет, не только то, что он всех выдал Маргарите, а что-то еще... Если бы я, дура, не рассмеялась, то он бы сказал. Видно было, что у него эти слова были на кончике языка. И все могло бы быть иначе. А я захохотала. Представляешь?.. Дура! Ну, он и бросился от меня бежать. А я за ним. Прыгала через две ступеньки, когда неслась по лестнице, и мне было веселовесело... В последний раз было весело. Ленка вновь замолчала. Лицо у нее изменилось. Для Николая Николаевича оно уже давно было открытой книгой. Когда он замечал, как горько опускались у нее уголки губ, то знал: она вспоминала что-то печальное. - Дедушка, неужели мне больше никогда не будет весело? спросила Ленка. - Неужели жизнь прошла? - Что ты!.. Что ты!.. - испугался Николай Николаевич. - Опомнись, Елена!.. Задумайся над смыслом своих слов. Мне скоро семьдесят, а я еще надеюсь, у меня есть еще многочисленные планы... - Он говорил невпопад. - То ли еще было в твоей жизни. Вот слушай! Однажды... Ты тогда единственный раз 634 приехала ко мне в гости, мама тебя привезла. Конечно, ты ничего не помнишь, маленькая была. И вот однажды ты исчезла из дома. Паника поднялась - пропала девка!.. Я тебя нашел около "Уснувшего мальчика". Ты ему одежду принесла. Ждала, когда он проснется, и хотела, чтобы он оделся и ушел с тобой. Ты все ждала, ждала, когда же он проснется!.. Я тебе говорю: пора домой. А ты как стала реветь: хочу, чтобы он проснулся, и баста!.. Еле унес тебя. Ленка сидела на диване, свернувшись калачиком. Ее колени упирались в бок Николая Николаевича, и тот почувствовал, как Ленку бьет мелкий озноб. - Ты не заболела? - спросил он. - Дрожишь. Николай Николаевич вышел из комнаты и вернулся с одеялом накрыл Ленку. "Как ее круто завернуло", - подумал он. Глава восьмая - Ну, в общем, когда мы выскочили с Димкой в школьный двор, продолжала Ленка, - то сразу стало понятно, что ничего Маргарита не передумала и ни в какую Москву мы не едем. 635 Во дворе был настоящий праздник. Галдеж. Ничего нельзя было разобрать. Ну просто стая грачей перед отлетом в южные страны. Все кричали, перебивая друг друга, пели, танцевали. Автобусы тарахтели, родители совали своим любимым детям пироги и яблоки, как будто провожали их на месяц, а не на несколько дней. А наш шестой молча сбился в кучу. Он был как застывший ледник в этом разбушевавшемся море. Мы с Димкой прибились к ребятам. А тут из школы вышли учителя, которые провожали Маргариту на свадьбу. Они что-то говорили ей, и до нас долетали их голоса: "Ни пуха!.." "Обязательно привези его! Одна не являйся!.." Маргарита смеялась, прощаясь с учителями, обнималась, целовалась и вдруг... заметила свой любимый шестой! Улыбка слетела с ее губ, ну точно вспомнила что-то неприятное. И она направилась в нашу сторону. "Маргарита Ивановна! - закричали ей вслед. - Куда же вы?.. Мы уезжаем!" "Сейчас!.. - Она старалась перекричать шум моторов и рокот толпы. Подождите!" Маргарита торопливо приближалась к нам, перебрасывая большой букет 636 цветов из одной руки в другую. Пальто нараспашку, чтобы всем было видно ее красивое платье. "Маргарита Ивановна! - рявкнула какая-то учительница в мегафон. Опоздаете на свадьбу!" Все стали смотреть на Маргариту, толпа на секунду затихла, а она смущенно отмахнулась и спросила у нас: "Так что это еще за история с бойкотом?" "С бойкотом? - переспросила находчивая Железная Кнопка. Ах, с бойкотом..." Она выразительно посмотрела на меня: только попробуй, мол, сознайся, несчастное чучело. "Ой, Маргарита Ивановна, - вмешалась Шмакова, - вы платье испачкали". Маргарита заволновалась и стала искать, где она испачкала платье. "Вот, - Шмакова показала ей пятно на груди. - Жалко. Такое красивое!" "Мар-га-ри-та Ива-нов-на!.. Мы уез-жа-ем!" - кричали учителя. Все уже сидели в автобусах и смотрели на нас и на Маргариту. А Маргарита отдала Шмаковой цветы и терла носовым платком пятно и разговаривала с нами. "Я не тебя, - говорит, - Миронова, спрашиваю, а Бессольцеву. Ну, Бессольцева, рассказывай, за что тебе объявили бойкот?" 637 Я не ответила, потому что поняла, что Маргарита тут же забыла про меня - она стояла вроде бы с нами, а на самом деле уже катила в автобусе в Москву к своему жениху. А может, уже видела себя в Москве, как она приехала, как ее встретил жених и они схватились за ручки и побежали во Дворец бракосочетания. Нет, я ее не осуждала, у нее было такое радостное и счастливое лицо, что мне самой весело стало. "И где меня угораздило посадить пятно?" - сказала Маргарита, продолжая тереть его носовым платком. "Может быть, это торт?" - ехидно вставила Шмакова. "Торт? - переспросила Маргарита. - Тогда пропало платье. Она вспомнила про меня: - Ну, отвечай же, Бессольцева!" Лохматый прижал мне кулак к ребрам, чтобы держать в страхе. А мне от этого стало смешно - я щекотки боюсь. "Это мы играем", - выдавила я, задыхаясь от смеха. "Ну вроде как в "замри", - пояснил Васильев. "А чего ты смеешься, Бессольцева? - строго сказала Маргарита. По-моему, у тебя для этого нет никаких оснований". "Я щекотки боюсь", - объяснила я. "Щекотки? - Маргарита сделала круглые глаза. - А кто тебя щекочет? Что за ерунда?.." 638 "Не знаю". Ну, тут Маргарита психанула: "Что за дурацкие ответы! Совсем вы распустились!.. Вот я приеду возьмусь за вас! - Она выхватила цветы у Шмаковой. - Обязательно возьмусь!" И убежала. Автобусы медленно и плавно проплыли мимо нас. Кто-то помахал нам рукой, кто-то состроил ехидную рожу, и еще мы увидели, как улыбающаяся Маргарита устраивалась на переднем сиденье с цветами. Двор сразу опустел. Только что он казался тесным и маленьким, а теперь сразу стал большим. Все уехали, а мы остались вместе с малышами из младших классов. До сих пор я не понимала, просто не думала про это, что все уезжают, а мы остаемся, и виновата в этом вроде бы я. А теперь подумала. В это время весь наш класс понуро поплелся обратно в школу за чемоданами, а компания Мироновой окружила нас. И у всех были одинаковые глаза: злые, колючие, чужие - все они были против меня! Может, я впервые вздрогнула... Страшно, когда один против всех, даже если ты прав. И тут началось, тут понеслось... Валька заорал: 639 "У-у-у, змея! Нашипела!" Так заорал, что вокруг все посторонние услышали, - он был самый горластый в нашем классе. Все, кто не успел уйти, кто был во дворе, стали оглядываться. Первоклашки, которых еще не брали на экскурсии, подняли писк и визг: "Где змея?.. Где змея?.." "Вот она! Вот она, детки! Смотрите! - Рыжий толкнул меня. Гремучая! Не подходите к ней, а то укусит!" Малыши застыли от ужаса. Они же первый раз в жизни видели гремучую змею в образе человека. Ребята наступали на нас с Димкой и наступали, выкрикивая: "Подлиза!" "Доносчик!" Димка засуетился: "Ребята, вы чего?.. Мы же еще не разобрались!" "Разобрались, - отрезала Железная Кнопка. - И твердо решили никакой пощады!" А Васильев перепугался: "Так это серьезно?.. Бессольцева, ты это сделала?! Скажи, скажи им, что ты пошутила". "Какие уж тут шутки! - пропела Шмакова. - Правда, Димочка?" Димка не ответил. "Сжечь ее на костре!" - заорал Рыжий. Но теперь над его словами никто не рассмеялся. "Ну бойкот, ну зачем же так!" - суетился Димка. 640 "Я говорил, говорил, - восторженно заголосил Валька, - он с нею заодно! Ух, Сомов, ты у нас заработаешь!.." "В круг! - приказала Железная Кнопка. - Крепче держите друг друга за руки, чтобы они не выскочили!" Они сцепились руками, круг превратился в колесо, которое должно было переехать меня и Димку. "Что же такое получается, - не унимался Валька, - Сомов против бойкота, и ему все сходит с рук? А?.. Бойкот Сомову!" "Тихо! - Железная Кнопка вошла в круг и спросила Димку: Сомов, ты против бойкота Бессольцевой?" Меня она вообще не замечала. Димка посмотрел на меня и снова промолчал. "Молчит - значит, против!" - крикнул Рыжий. "Тогда и ему бойкот!" - решила Железная Кнопка. "Мне? - испугался Димка. - Бойкот?.." "Допрыгался!" - захохотал Валька. "С этой минуты, Сомов, ты перестаешь для нас существовать", сказала Миронова. "Был Сомов и испарился!" - веселилась Шмакова. "Миронова, послушай..." - начал Димка. Но та отвернулась от него. "Шмакова, и ты против меня?" - удивился Димка. "Конечно, - ответила Шмакова. - Я с предателями не вожусь". "Бей их!" - Валька бросился на Димку. От страха я закрыла глаза. 641 Васильев разорвал круг и схватил Вальку, прежде чем он налетел на нас. Димка рванул меня за руку и мы убежали. Ленка улыбнулась: - Он почти вынес меня на руках... Да, да... Оказался силачом! - Ну конечно, - съехидничал, как мальчишка, Николай Николаевич. - Он у тебя самый сильный и самый храбрый. Ленка не заметила ехидства Николая Николаевича. - А когда мы вырвались, - продолжала она, - то услышали за собой топот. Они кричали нам вслед, и я узнавала их голоса. "В погоню-ю-ю!" это Миронова. "Бей их!" - Валька. И Шмакова: "Бойко-о-от!" Их крики нас подгоняли, мы бежали изо всех сил, не оглядываясь. Мы добежали до парикмахерской и остановились передохнуть. Я почти успокоилась. Мне было весело, что Димка меня спас. Сначала я его, потом он меня - разве не здорово. Случайно я заглянула в зеркало парикмахерской и не узнала себя это была я и вроде не я. У меня было другое лицо. Парикмахерша тетя Клава, мать Рыжего, выглянула из дверей, посмотрела на нас, улыбнулась и сказала мне: "Красивая, красивая..." Тут между мной и Димкой произошел очень важный разговор. "Когда ты успела все рассказать Маргарите?" - сказал Димка. 642 "Я?.. Маргарите?.." - спросила я. И замолчала, раз он такой дурак и не понял, что я это сделала исключительно из-за него. Я снова посмотрела в зеркало и почему-то пропела: "Мар-га-ри-та-а-а!.." "Ну что ты не отвечаешь?" - строго спросил Димка. "Мар-га-ри-та-та-та-та! - пропела я, танцуя. - Ты заметил ее глаза? Она говорила с нами, а сама... видела только его - своего жениха. А платье у нее какое красивое! Я, когда вырасту, обязательно сошью себе такое же!" "Слушай, - перебил меня Димка, - хватит мне зубы заговаривать! Говори, когда ты ей все рассказала?" "А я ей ничего не говорила!" Я снова отвернулась к зеркалу и подумала: если научусь поджимать губы, то буду ничего себе. Димка стоял позади меня, но там, в зеркале, наши лица были рядом. Интересно было смотреть на нас двоих со стороны - как будто мы с ним снялись на одну фотографию. "А кому, говорит, ты сказала?" "Ни-ко-му!" И поджала губы, и улыбнулась так, чтобы рот не расползался до ушей. "Как никому?.." "Так! Ни-ко-му! - Я медленно повернулась к нему, сделала 643 круглые-круглые глаза и не забыла, поджала губы. Я теперь решила всегда быть красавицей. - Не веришь, и не надо". "Ну хорошо, тогда объясни, зачем ты про себя сказала все это ребятам?" - спросил Димка. "Захотела и сказала. - Я снова красиво улыбнулась. - Я сначала не собиралась. Но вдруг кто-то открыл мне рот. И моим голосом произнес: "Это сделала я!" Он испуганно посмотрел на меня. "Ну что ты так смотришь на меня? - говорю и так спокойно добавляю, чтобы он не умер от разрыва сердца: - Я же тогда стояла под дверью и все слышала". Мой ответ его потряс - он закачался как пьяный, еле удержался на ногах. "Так ты из-за меня?!" - Наконец-то он догадался, брови у него от удивления полезли вверх. "Нет, - ответила я. - Из-за Александра Сергеевича Пушкина". "Ну ты даешь... - Он места себе не находил. - Из-за меня!.. А что же теперь делать?" "Что хочешь", - беззаботно ответила я. Теперь, когда я все рассказала Димке, совсем перестала бояться. Мне стало радостно, что он знает, что я его спасла. 644 "Они нас затравят", - мрачно произнес Димка. "А я не боюсь, - ответила я. - Мы же вдвоем?" "Вдвоем! - И вдруг рванулся, прямо как бешеный: - Пошли к ребятам! Я им все расскажу!.." "А вон они! - Я их увидела издали и закричала: - Ребята!" Они выбежали из-за угла, но крика моего не услышали и нас не заметили. Димка почему-то закрыл мне рот рукой и тащил в открытые двери парикмахерской. Тетя Клава посмотрела на нас с большим удивлением. Она хотела, видно, спросить, что это Димка закрыл мне рот и тащит, но не успела, потому что за окнами парикмахерской замелькала наша погоня: Миронова, Лохматый, Рыжий, Шмакова, Попов... "Толик!" Тетя Клава увидела через окно Рыжего. "Они здесь! - донесся до нас голос Вальки. - У меня собачий нюх". "Ну, - подумала я, - сейчас они нас найдут, схватят, вытащат на белый свет... Заорут: "Бей ее!" А Димка тут все про меня и расскажет!.. Вот смеху будет", - думала я и поэтому радовалась. С этого момента начинается все самое печальное. Если бы я была не дура, то сразу бы все поняла. Но я надеялась и была как слепая. Ну, в общем, 645 посмотрела я на Димку, а он опять испугался. Его опять всего перевернуло. Глаза у него бегали, губы дрожали... У него, знаешь, все шло волнами. То сюда, то туда. Поэтому мне и жалко его было. Когда никого нет - он храбрец. Как появились ребята - самый последний трус... Ну, в общем, стояли мы за занавеской, не шевелились. А тетя Клава быстро-быстро затопала к двери, чтобы схватить своего любимого сыночка. Но как она ни спешила, а Димка все же изловчился и успел ее попросить, чтобы она нас не выдавала. Таким дрожащим голоском: "Тетя Клава, не выдавайте нас... Мы от них спрятались. Игра у нас такая". Тетя Клава кивнула на ходу, что все поняла, открыла дверь и крикнула: "Толик! Ты почему не уехал?" "Нас не взяли", - ответил Рыжий. Он стоял в трех метрах от нас. Я видела даже его лицо, оно выглядывало из-за плеча тети Клавы. Я подумала, что сейчас обязательно чихну, ведь всегда, если ктонибудь прятался, он чихал или кашлял в самое неподходящее время. Но у меня не кашлялось и не чихалось. 646 Дедушка! Я теперь знаешь как жалею, что не чихнула нарочно. А то бы Рыжий услышал, всех позвал... И Димка вынужден был бы все рассказать... От одного чиха, подумать только, многое бы изменилось. Когда Рыжий выложил матери, что нас не взяли, она прямо отпала, отступила от него и лицо закрыла руками. "Вот беда! А я отцу позвонила. Предупредила, что ты выехал". "А он что?" - быстро спросил Рыжий. "Сказал, что рад и ждет", - ответила тетя Клава. "Ждет?.. - Я увидела, как Рыжий изменился в лице - у него вдруг запылали щеки. - Ждет меня?!" "Конечно, тебя. А то кого же. - Тетя Клава потрепала Рыжего по голове. - А ты не верил, что он будет тебе рад". Я покосилась на Димку - неудобно было, что мы подслушиваем чужой разговор. Рыжий же не знал, что мы его слышим. Я толкнула локтем Димку и хотела выйти из укрытия, но Димка прижал меня к стене. "Так, может, он сам тогда приедет? - как-то тихо и неуверенно спросил Рыжий. - Вот было бы здорово!" "Ну что ты. - Тетя Клава вздохнула: - Сам он никогда не приедет". "Почему?.. - Я никогда не слышала, чтобы у Рыжего был такой печальный, отчаянный голос. - Мы же три года не виделись! И ты сама сказала, что он 647 рад, что ждет". "Не соберется, - тетя Клава вздохнула. - У него работа". "Соберется! Соберется! Соберется!" - вдруг закричал Рыжий. "Ты что, Толик?.. - Мне было видно, как тетя Клава обняла сына. Ну не плачь!" "Рыжий! - донесся голос Лохматого. - Их здесь нет! Бежим!" "Ну я им покажу! - Рыжий вырвался из рук матери. - Ну у меня Чучело попляшет!.." "Толик! Толик!" - закричала тетя Клава, но Толика и след простыл. Тетя Клава вошла в парикмахерскую и столкнулась с нами - она, видно, забыла про нас. "А-а-а, вы еще здесь! - сказала она. - Постойте, постойте, вы же из одного класса с моим Толиком?" "Из одного", - выдавил Димка. "А почему вас в Москву не взяли?" - спросила тетя Клава. Мы с Димкой переглянулись. "Ну, потому... - ответил Димка, - потому, что мы вчера сбежали с урока в кино". "Вот бессовестные! - тетя Клава покачала головой. - Вот негодники!" Мы не стали ее слушать и выскочили из парикмахерской. Димка вдруг почему-то положил свою руку вот сюда. Ленка показала Николаю Николаевичу, как Димка положил руку ей на плечо. 648 - Ну, как будто мы взрослые, парень и девушка. - Она улыбнулась и посмотрела на Николая Николаевича: - Вот когда тебе было двенадцать, ты обнимал девушку? - Я?.. В двенадцать? - Николай Николаевич совершенно потерялся от этого вопроса. Он хотел соврать Ленке, что, конечно, обнимал, но потом почувствовал, что покраснел, как мальчишка, - врать он совсем не умел, - и сознался, что не обнимал. - Вот видишь, - победно сказала Ленка, - а Димка меня обнял. Днем. При всех. При солнце и при людях. Рука у него была горячая-горячая. Я так от этого обалдела, что рот у меня сам собой полез к ушам, и я забыла, что решила быть красавицей. Я была рада, что Димка меня обнял, только я жутко смутилась, ноги у меня не двигались, а я вся съежилась, чтобы стать поменьше. А когда мы так вышли на нашу улицу, то Димкина сестра, зловредная Светка, увидела, что мы идем обнявшись, и как завопит: "Жених и невеста! Тили-тили тесто! Жених и невеста! Тилитили-тили тесто!" 649 "Вот дура, - сказал Димка. - Ты не обращай на нее внимания!" Я оглянулась на Светку и сказала: "Ну крикни, крикни еще раз!" "Ленка - невеста! Ленка - невеста! - истошно заорала Светка. - А Димка - жених!" - и бросилась наутек. Мы остались на месте. Знаешь, дедушка, мне почему-то понравилось, что Светка меня дразнила. Ленка повернулась к Николаю Николаевичу: - Это плохо? - Почему же плохо, - ответил Николай Николаевич, - это в какой-то степени замечательно. - Вот и я так подумала, - в восторге сказала Ленка. - Точно как ты. И мне захотелось сделать что-нибудь сверхособенное. "Знаешь, Димка, говорю, знаешь... Я сейчас пойду в парикмахерскую к тете Клаве!" "Зачем?" - испугался он. "Я хочу сделать прическу!.. А то все косы, косы..." "Это ты здорово придумала, - обрадовался он. - Пошли. Я тебя провожу". И мы на виду у Светки развернулись и побежали в город. - Ну, а Димка-то что? - почти крикнул Николай Николаевич. Он что-нибудь сказал насчет ребят? - Что ты кричишь? - ответила Ленка. - Конечно... Сказал. То есть он ничего не сказал... Он только успокоился. 650 - Успокоился? - переспросил Николай Николаевич. - Какая радость! - Успокоился, - кивнула Ленка, по-прежнему не замечая ехидства Николая Николаевича. "Понимаешь, - говорит он мне, - я подумал, что ребята мне не поверят, если я сейчас сразу сознаюсь. Скажут, что я просто тебя выручаю. Их надо подготовить. Лучше я сделаю это без тебя. - Он посмотрел на меня. А ты как думаешь?" - Ну-ну! - сказал Николай Николаевич. - Это уже совсем интересно. Что же ты ему ответила? - Я думаю, как ты! - сказала я. - Остроумный ответ, - сказал Николай Николаевич. - Ну, а он-то что? - Он был тихий-тихий. Спокойный-спокойный... По-моему, ему здорово понравились мои слова. А меня это тогда очень обрадовало - значит, я снова, в который раз, помогла ему. - Ничего себе - тихий-тихий, - вдруг возмутился Николай Николаевич. Тебя, понимаешь, бьют, колошматят, а он - молчок?! Он так был возмущен, что даже вскочил, пробежался по комнате и застонал. 651 - А чего ты хохочешь? - Ленка внимательно посмотрела на Николая Николаевича. - Я хохочу?! - ответил Николай Николаевич. - Я рыдаю, к твоему сведению. Какой тихий... Тишайший мальчик!.. Паинька! Да за ним нужен глаз да глаз. Я это чувствую! А то он, того и гляди, горло перережет. - Ты меня осуждаешь за то, что я пожалела Димку, потому что он... предатель? - спросила Ленка. - Прощать - пожалуйста!.. Но не предателей, - ответил Николай Николаевич. - Лично я не люблю подлецов. - Ты же сам говорил, что надо быть милосердным! - защищалась Ленка. - Говорил! Говорил! - снова закричал Николай Николаевич. - И никогда от этого не откажусь! Но ты считаешь себя милосердной только потому, что пожалела подлеца?.. Это же смешно! - Он не подлец! Не подлец! Он тогда еще не был подлецом!.. ответила Ленка и перешла на шепот: - Я в тот момент не могла иначе... Я рада, что помогла ему... - А чего же ты тогда уезжаешь? - спросил Николай Николаевич. Ленка посмотрела на него, как мышь, загнанная в угол. Но Николай Николаевич так разошелся, что уже не мог остановиться: 652 - Да никакая ты не милосердная! Ты только Димке все прощаешь... А остальным?.. - Остальные вредные! - крикнула Ленка. - Злые! Они волки и лисы - вот кто они такие! Если бы не они, он бы давно сознался. - А я не верю, что в вашем классе все вредные! - сказал Николай Николаевич. - Быть этого не может. - Не веришь? - Ленка с остервенением посмотрела на Николая Николаевича. - Не верю! - твердо ответил тот. Теперь они стояли друг против друга, оба с горящими от гнева глазами, словно собирались драться. Николай Николаевич наступал на Ленку, а та отступала, пока не уперлась спиной в стенку, - дедушка ей не верил, и это ее потрясло! - Не веришь? - тихо переспросила она и подняла на него глаза, еще надеясь, что не найдет в его лице подтверждения тех слов, которые он произнес. Николай Николаевич в отчаянии помотал головой: "Не верю", хотя готов уже был отказаться от своих слов из жалости к ней. А с другой стороны, что ему было делать? Поддакивать ей во всем? А до чего это бы ее довело? Еще 653 побежала бы к этому маленькому мерзавцу и простила его! Вот именно, поддакивать тоже нельзя - должна быть четкая позиция. И вообще что такое "поддакивать" - это же угодничество?.. Нет, такое не в его правилах. - Они все гады на одно лицо! - закричала Ленка. - Ты в этом скоро убедишься! - Никогда не поверю! - Глаза Николая Николаевича стали жесткими и холодными, а шрам на щеке вспыхнул ослепительной белой полосой. - Никогда! - Ты с ними заодно! Ничего не знаешь и уже против меня! - вся сжалась в комочек Ленка. - Не хочу тебя видеть!.. Уеду! Уеду! - И бросилась бежать. Николай Николаевич рванулся за нею и схватил ее плечо. Думал, она начнет вырываться, а она повернулась к нему, и лицо ее, которое только что было в яростном огне, стало детским, прекрасным, будто ей всего лет восемь. Только в глазах происходила мученическая работа - она что-то усиленно соображала. - Ну давай успокоимся. - Николай Николаевич нежно прижал ее к груди, ощупал теплый затылок. - Ты же у нас молодец! - Провел рукой по тоненькой 654 шее, и это больно ударило его. Шея у нее была просто прутик, соломинка. Сядем... - Он потянул за собой упирающуюся Ленку и усадил на диван. - И ты мне все по порядку расскажешь дальше. Обещаю не перебивать тебя, а то на самом деле я сделаю какие-нибудь преждевременные выводы... - Он обнял ее, положив ладонь на острую косточку ее плеча, и крепко сжал. - Хотя я от своих слов и не отказываюсь. Ленка молчала. - Знаешь, пожалуй, я поставлю чайник. - Николай Николаевич встал. Выпьем чаю. Как говорит одна моя знакомая, очень веселая старушка: "Замечаю, что от чаю много пользы получаю!" Но Ленка твердо остановила его: - Не хочу чая! Николай Николаевич посмотрел на нее. - И рассказывать больше не буду, - и вышла в соседнюю комнату. А Николай Николаевич, при всем печальном своем настроении, подумал про Ленку, что она необыкновенный человек - какая страсть, какая тяга к справедливости. Как он ее во многом понимал! Действительно, они два сапога пара. И смутился: ему стало неловко, что он так думал о самом себе. Правда, радовался Николай Николаевич раньше времени. Ленка хоть и не 655 убежала из дому, хоть и сказала с ним несколько слов после их бурного спора, но потом забралась с ногами на диван, забилась в угол и замолчала надолго. Николай Николаевич шутил, заигрывал с ней, рассказывал разные смешные истории - ничего не помогало. Ленка молчала. Тогда он тяжело вздохнул, надел рабочую куртку и принялся за повседневные дела, считая, что в работе и настроение наладится. Николай Николаевич принес со двора охапку дров и бросил их с размаха на пол, чего никогда раньше не делал. Поленья загрохотали, падая друг на друга, и разорвали на мгновение неестественно тягостную тишину. Но и тут Ленка промолчала. Он развел огонь, так что жар уходил пылающим столбом вверх. "Унтермарк" - круглая печь, обтянутая железом, крашенным в черный цвет, стоявшая от пола до потолка, трещала и дрожала от полыхающего в ней огня. И Николаю Николаевичу казалось, что этот раскаленный звенящий столб может рвануть ввысь, пробить потолок и уйти в небо космической ракетой. Может быть, эта ракета унесет Ленкину печаль к вечным звездам, к туманной луне, к ясному солнцу?.. 656 Но ничего такого не произошло. И чуда не случилось. Огонь в печи потихоньку затухал, играя сначала ярко-красными, а потом мерцающе-синими углями. Николай Николаевич в совершенной растерянности развел руками. Непонятно было, что же делать с Ленкиной печалью? А потом он топил остальные печи, блуждая по комнатам, всматриваясь в картины, которые висели везде, от пола до потолка. На них были изображены люди - теперь таких уже не встретишь. У них были продолговатые строгие лица и большие вразлет глаза. Они молча следили за тем, как Николай Николаевич суетился, согнувшись возле печей, подбрасывая в них дрова и не давая огню погаснуть. Ведь если бы его предок, крепостной художник Бессольцев, не написал этих картин и если бы остальные Бессольцевы, из поколения в поколение, не сохранили бы их, то мир остался бы без этих живых лиц и никто бы никогда не узнал, что эти люди жили на нашей земле. Последнее время Николай Николаевич все чаще думал об этом. И его жизнь, в общем краткая и поэтому печальная, как каждая человеческая жизнь, вдруг стала длинной, она как бы продолжалась целые века. 657 Сейчас, подбрасывая березовые поленья в печь, обогревавшую три небольшие задние комнаты дома, он вспомнил, как однажды проснулся утром и понял, что он жил здесь вечно, хотя и вернулся в родной дом всего десять лет назад. Но так плотно легли на его жизнь все события прошлого семьи Бессольцевых и городка, что сплелись в крепкий узел, который никому уже не удастся ни развязать, ни разрубить. И он пошел от картины к картине, неслышно переговариваясь со всеми этими людьми на холстах, пока не дошел до "Машки", в который раз рассматривая ее и восхищаясь. Николай Николаевич перевел взгляд на Ленку - до чего же они похожи с Машкой. Машка стояла в проеме дверей прозрачно-белая, в домотканой рубахе до полу. Девочка, видно, собиралась выбежать из темной избы на яркий солнечный свет двора, но в последний момент почему-то неожиданно остановилась в дверях и резко повернула голову. Остриженная наголо. Может быть, после болезни? Рот у нее был полуоткрыт, точно она только что произнесла какое-то слово, 658 которое вот-вот должно было долететь до слуха Николая Николаевича. Именно поэтому, когда он подходил к Машке, всегда старался не шуметь и прислушивался. Честно, Николай Николаевич кое в чем подозревал Машку. Ну, что она имела родственное влияние на Ленку, как на своего потомка, потому что уже на следующий день после того, как он принес "Машку", он слышал, как Ленка кому-то сказала: - Не смотри на меня так. Я все равно этого делать не буду. Ни за что! Николай Николаевич быстро вошел в комнату, ему было интересно, кто же пришел к Ленке, но там никого не было. Николай Николаевич спросил Ленку, с кем она разговаривала. А она смутилась и ничего не ответила. Но ему-то было ясно с кем - с Машкой. А еще через два дня - Николай Николаевич хорошо это помнил, потому что было 7 Ноября и он ранним утром первый на их улице вывесил флаг на воротах, а потом стал готовить праздничный завтрак, - зазвонил телефон, Ленка так стремительно бросилась к нему, что он не успел руку протянуть к аппарату, 659 хотя стоял рядом. Она схватила трубку, сказала "Алло?" и брякнула ее на рычаг. Николай Николаевич догадался, что это был Димка, и быстро скрылся в мезонине, чтобы дать им свободно поговорить. И услышал, к своему великому удивлению, как Ленка... запела песенку. Но самое потрясающее там внизу, так ему показалось, звучали два голоса, а не один. Как будто Ленка пела, а ей кто-то подпевал. Или это ветер завывал в трубах, или это скрипели высохшие половицы?.. Или это души умерших пришли к ним в гости и подают свои голоса? Николай Николаевич засмеялся, стоя в окружении картин. - Ты с кем там поешь? - крикнул он вниз в проем лестницы. Песня оборвалась, потом Ленка рассмеялась и крикнула в ответ: - С Машкой. Это все было в прошлом. В милом, счастливом прошлом, а теперь оборвалось, расстроилось, разлетелось на куски. Надо было как-то вырваться из заколдованного круга. Только осторожно, внимательно, не теряя тропы, предупреждал себя Николай Николаевич. Он поднялся в мезонин и, как, бывало, Ленка, вышел поочередно на каждый из четырех балкончиков и посмотрел на четыре стороны света, надеясь, что какая-нибудь из сторон надоумит его. Но из этого ничего не вышло. 660 Николай Николаевич спустился в сад. Он стал пилить сухие ветки с деревьев и замазывать свежие раны коричневой краской, оставшейся после ремонта крыши. Он подумал, что эта работа может привлечь Ленку, но она не пришла к нему на помощь. Значит, ей не захотелось макать кисть в банку с краской и проводить по светлому срезу дерева, образуя яркое пятно на сером стволе яблони?.. Плохо дело! Работая в саду, Николай Николаевич все время следил за Ленкой. Она вышла один раз из дома, и он тут же появился за ней тенью. Куда она - туда и он. Все хотел сорвать слово с ее молчаливых губ, разговорить ее, рассмешить... Но она упорно молчала. Вроде онемела. Он поймал ее грустный, испуганный взгляд. Его ножом по сердцу резануло - так захотелось ей помочь, так бесконечно захотелось ее спасти, он бросился к ней. Но Ленка прошла мимо, ее голова мелькнула среди черных от дождей веток и исчезла. После этого Николай Николаевич бросил работу в саду, вернулся в дом, лег на кровать, накрывшись с головой одеялом, надеясь передохнуть и 661 проснуться с каким-то твердым и определенным решением. Его сон был короток и тревожен. Ему показалось или, может быть, приснилось, что кто-то тихонько позвал его и потянул почему-то за нос. Он сразу открыл глаза - перед ним стояла Ленка. Николай Николаевич заморгал глазами - закрыл и открыл - пусто, никакой Ленки. Исчезла. Никого. "Ну, подумал он, - дошел до ручки, чего только не приснится испуганному человеку..." Николай Николаевич перевернулся на другой бок, на всякий случай уцепился рукой за нос, чтобы никто его не хватал во сне, и только задремал, как снова кто-то тихонько позвал его. Тут ему окончательно расхотелось спать, и он вскочил - это его так страх подбросил: что это Ленки не слышно и чем она занимается? Он осторожно прокрался в Ленкину комнату, чтобы убедиться, что она цела и невредима. Ленка тоже спала - устала за этот многотрудный день. Уже наступили сумерки, и редкий осенний туман неслышно бил в окно. И в этом вечернем освещении Ленкино лицо показалось ему необычно одухотворенным: лицо милое, прямо лик святой. 662 "И любовь такой красавицы, такого чудного человека, - с возмущением подумал Николай Николаевич, - отверг этот несчастный, жалкий Димка Сомов!" Николай Николаевич медленно и тихо отступал к двери, он не дышал, он парил над полом, чтобы не спугнуть Ленкин сон и не нарушить прекрасной картины. На пороге он оглянулся в последний раз, чтобы полюбоваться на Ленку, и... застыл в изумлении: она смотрела на него вполне бессонными глазами. Более того, Ленка следила за Николаем Николаевичем, как кошка за мышью, которая вот-вот собиралась его сцапать, - не хватало только, чтобы она подумала, что он следил за нею. - Мне приснилось, понимаешь, что кто-то потянул меня за нос, сказал, извиняясь, Николай Николаевич. Он решил рассмешить ее этим сообщением - и рассмешил. - За нос? - Она рассмеялась. - И еще мне приснилось, что человек, который тянул меня за нос, была ты! - Николай Николаевич внимательно посмотрел на Ленку. - Я? - Ленка опять засмеялась. Николаю Николаевичу нравилось, когда Ленка так смеялась будто колокольчик звякнул и упал в траву. 663 И тут до Николая Николаевича совершенно неожиданно дошло, что Ленка разговаривала с ним. Значит, простила?.. - А может, ты правда приходила ко мне? - осторожно спросил Николай Николаевич. Ленка кивнула. - И тащила меня за нос? Ленка снова кивнула. - Возмутительно! Как ты посмела? Ты могла оставить меня без носа. Или оцарапать, что тоже малоприятно. - Я хотела тебя разбудить... А знаешь, почему? - Она посмотрела на него так, точно собиралась открыть какую-то тайну. - Ты оказался прав никакая я не милосердная. Помнишь, я тебе про Рыжего рассказывала, что он как цирковой клоун, что ему и парика не нужно, что он от рождения рыжий. И все ребята над ним хохотали, и я хохотала, и он сам над собой смеялся громче всех, и у него от хохота даже слезы стояли в глазах. Помнишь? - Конечно, помню, - ответил Николай Николаевич. - А почему он такой, - с беспокойством спросила Ленка, - как ты думаешь? - Потому что рыжий. Все кричат: "Рыжий! Рыжий!.." А он боится этого и 664 старается не выделяться. Все орут, и он орет, все бьют, и он бьет, если ему даже не хочется. Я знал таких людей. - Дедушка, а вдруг он не хохотал над собой, а плакал... - Ленка в ужасе замолчала. - А вдруг у него слезы в глазах стояли не от хохота, а от обиды?.. А я над ним смеялась. - Может быть, ты еще в ком-нибудь ошибалась? - спросил Николай Николаевич. - Ты думаешь? - Она глубоко задумалась. - В ком же? Ленка по-новому открывала для себя смысл происходящего. Ее подвижное лицо сразу изменилось - оно приобрело растерянное выражение, оно говорило: как же это произошло, что она издевалась над Рыжим только потому, что он рыжий?! Брови у нее трагически сломались, уголки губ опустились. Она повернулась к Николаю Николаевичу, и он увидел в сероваторозовом свете угасающего дня ее большие печальные глаза. Глава девятая Димка поджидал Ленку около парикмахерской, пока та делала прическу, 665 чтобы поразить весь мир. Он стоял, облокотившись на поручень витрины, и с большим любопытством читал журнал "Юный техник". Потом он увидел Миронову и Шмакову. Они разговаривали, медленно приближаясь к нему. Димка, раньше чем он сам успел что-то подумать, почему-то спрятался за угол парикмахерской. Почему? Отчего? Ему это было не вполне понятно, и он уже собрался выйти из укрытия, но вспомнил, что его родители еще не знали, что он не уехал в Москву. Он побежал домой, чтобы сообщить им об этом. По дороге он подумал, что нехорошо, что он бросил Ленку, не предупредив. Она выйдет из парикмахерской с новой прической, радостная, веселая, а его нет. А вдруг она нарвется на этих ненормальных и они снова станут к ней приставать, побьют ее - с них станется. Он решительно повернул обратно, и столкнулся нос к носу с Валькой, и почувствовал, что как-то засбоил, растерялся, чего раньше с ним никогда не бывало. - А где твоя дорогая подружка? - спросил Валька. - А я почем знаю, - вырвалось у Димки, хотя он и не собирался так отвечать. - Ты же за ней охотишься, а не я, - и побежал дальше, стараясь не 666 думать о Ленке. А пока бежал, представил себе, как смело откроет ребятам тайну своего "предательства". Вот будет хохот!.. Ему-то они ничего не сделают, он сможет им доказать, что был прав. Он скажет им, что Ленка хотела его выручить, потому что подумала, будто он испугался. А он промолчал, потому что решил, что ей надо подзакалить волю в борьбе с трудностями. А тут такой случай!.. Эта неожиданная мысль ему очень понравилась. Через минуту он уже был уверен, что все так было в действительности. Димка подпрыгнул от радости и повернул назад, к парикмахерской. Как он летел, как он спешил!.. Правда, недолго. Остановился и подумал, что все это, пожалуй, он сделает в другой раз. И снова направился домой. И снова остановился: чего доброго, ребята схватят Ленку и напугают без него. "Да ничего они ей не сделают, - успокоил он себя. - Небось сейчас уже разошлись по домам и трескают свои обеды". Димка почувствовал голод, вспомнил, что сегодня на обед курица с лапшой, которую он любил, и он самым решительным шагом заспешил домой. 667 А в это же самое время некоторые из его одноклассников и не думали об обеде. Они были озабочены пропажей Сомова и Бессольцевой. Миронова и Шмакова отдыхали возле парикмахерской. Они ждали мальчишек, которые разбежались в разные стороны в поисках пропавших. - Бегали-бегали... Ловили-ловили... - вздохнула Шмакова. - Никого не поймали... А они сейчас где-нибудь веселятся и посмеиваются над нами. - Поймаем, - мрачно ответила Железная Кнопка. - Ножки мои бедные... - пожаловалась Шмакова. - Вскочила сегодня в шесть. Весь дом подняла. Собиралась... Голову вымыла. Мамка мне новое платье приготовила. Деньжат подбросила потихоньку от отца. Она у меня добренькая. Составили целый список покупок... Собралась... А что ты мечтала купить в Москве? - Ничего, - Железная Кнопка цедила слова нехотя, еле разжимая губы. - Послушай, Миронова, а почему ты такая? - Шмакова с большим любопытством посмотрела на Железную Кнопку. - Какая? - Ну не как все девчонки... Мама у тебя жутко модная. Женщина моей мечты... 668 - Что с вас взять, - резко перебила Железная Кнопка. - Смотри, сколько нас осталось? По пальцам можно пересчитать... Из всего класса. И это после того, как мы объявили бойкот предателю. А если бы не я, вы бы уже все сидели дома. Шмакова улыбнулась: ее не так-то легко было сбить. - Вчера я встретила твою маму, - вновь начала она. - Идет в синей кожаной курточке. Между прочим, под цвет глаз. Я отвалилась. Мечтательно закатила глазки: - Наверное, кучу денег заплатила? - Не интересовалась... Шмакова, давай о чем-нибудь другом. - Ну ладно-ладно, не злись! Послушай!.. Вот ты такая честная и правильная, а против Чучела. Мы с тобой девочки умные, все понимаем. Чучело что сделала?.. Просто сказала Маргарите, как все было. А ты ее казнишь!.. Хорошо ли это? - Тут дело ясное - она предала нас по-тихому. - Щеки у Железной Кнопки заалели. - Думала, никто не узнает. А если даже узнает, то что ей будет?.. Ничего. Она же рассказала "всю правду", как ты говоришь. Но и правда бывает разная. Ее правда - просто предательство. Не повезло ей, на меня напала. Каждый должен получать по заслугам. 669 - Идейная ты, - сказала Шмакова. - А ты? - Я - другое дело. У меня к ней свой счет. - Мелковато, - процедила сквозь зубы Железная Кнопка. - Курочка по зернышку клюет. Шмаковой нравилось, что она знает об этой истории больше всех, и она с нетерпением и злорадством ждала, чем же это все кончится. Ах, как здорово получилось, что она оказалась в тот момент под партой и все слышала! У нее тогда сердечко чуть не выскочило от волнения из груди - так она была рада, что попался этот выскочка Димка Сомов. Не будет строить из себя главного. Вот только непонятно было - почему эта страшила Бессольцева взяла всю вину на себя?.. Скорее всего, она действительно встретила Маргариту в коридоре и снова все ей рассказала. Счастливчик Димочка! Но все равно интересно наблюдать, как он выкручивается и боится. Как он дрожал в классе, когда Железная Кнопка объявила, что знает имя предателя. Как дрожал, что Маргарита все расскажет ребятам. Достанется ему еще на орехи! Шмакова улыбнулась своим тайным мыслям, представляя всю бездну падения Сомова и всю беспросветность положения Бессольцевой. 670 - У меня ко всем один счет, - Железная Кнопка вскочила, глаза ее загорелись неподдельным пламенем негодования. - Живешь не по правде расплата! Никто не должен оставаться безнаказанным. И никто не уйдет от ответа. Ни-ког-да! - И тихо, почти шепотом закончила: - К кому бы это ни относилось, даже к родным. - Точно, идейная ты. - Шмакова почему-то рассмеялась. Прибежали Рыжий и Лохматый. - Ну? - нетерпеливо повернулась к ним Железная Кнопка. - Дома их нет, - сказал Рыжий. - И на реке не видно, - сказал Лохматый. Следом за ними появился Валька. - Разрешите доложить, товарищ Железная Кнопка, - он вытянулся по стойке "смирно". - Встретил Сомова. Одного. Спросил, где Бессольцева. Он ответил, что не знает. По-моему, врет. - Какие-то вы все кисленькие, - с презрением вздохнула Шмакова. Обыкновенное дело провалили - одну дурочку не смогли поймать. Мальчишки понуро молчали. - Смотрите, Васильев, - сказал Рыжий. - А, перебежчик явился, - с пренебрежением произнесла Железная Кнопка. - Проучить его надо. Они молча и неподвижно следили, как Васильев приближался к ним. А когда 671 он приблизился, Лохматый лениво встал и толкнул его. - Ты чего? - возмутился Васильев. - Офонарел? Лохматый схватил его и выкрутил руки. - Ты перебежчик, - сказала Железная Кнопка. - Мы тебе делаем предупреждение. - Я перебежчик? - удивился Васильев. - А куда же я перебегал? - А кто ты? - Валька больно наступил Васильеву на ногу. - Ты же их выпустил? - Лохматый, не ломай руку. Ну что ты прешь со своей мускулатурой?.. Лицо у Васильева покраснело от натуги, на лбу выступили капельки пота, но он никак не мог вырваться из крепких рук Лохматого. - Я тоже против предательства! - пытался им объяснить Васильев. - Но зачем же ее бить?.. Она же девчонка. Мы даже не выслушали ее. - Ну и что?! - возмутился Рыжий. - Раз попалась, гадина, получай! - Рыжий, а ты - молоток! - Лохматый, похваляясь силой, сильно тряхнул Васильева. - А что? - Рыжий смутился. - Меня в Москве ждали... Я ей этого не прощу. - Его ждали в Москве! Какой прынц! Ему там встречу готовили с флагами и разноцветными шариками и обедом из трех блюд, - паясничал Валька. - Кто тебя 672 ждал в Москве, несчастный ты Рыжик... - А что - и ждал! - ответил Рыжий и тихо добавил: - Отец. - Отец! - Валька задохнулся от хохота. - А что же ты тогда носишь материнскую фамилию, если у тебя есть отец?.. А-а-а, попался!.. И торжествующим голосом крикнул Рыжему в лицо: - Трепло! Рыжий ничего не ответил, встал и, опустив низко голову, понуро отошел в сторону. - Заткнись! - наклонился Лохматый к Вальке. - А чего он заливает, - ответил Валька. - Каждому ясно, что у него нету отца. - Я кому сказал, захлопни варежку! - уже с угрозой произнес Лохматый. Но тут из-за угла парикмахерской вынырнула долговязая фигура сияющего Попова. Все сразу забыли о своих ссорах и уставились на него. Им всем было интересно, чего он так сияет. Может, он нашел Бессольцеву? - Ребя! - радостно сообщил Попов. - Димкин отец пригнал новенького "Жигуленка". - А Бессольцева где? - спросила Железная Кнопка. - Бессольцевой нету, - продолжал Попов с восторгом. - А "Жигуленок" новой модели - "ВАЗ-21011". - Семь тысяч двести шестьдесят один рэ! - застонал от зависти Валька. 673 Теперь нам Сомова не одолеть. - Чепуха! - сказала Железная Кнопка. - Мы еще с Димкой разберемся. - Это еще зачем? - Шмакова подозрительно посмотрела на Миронову. - Объясняю, - ответила Железная Кнопка. - Все должно быть честно. У нас борьба справедливая. Мы предложим Сомову отказаться от Бессольцевой. Ну, а если он не согласится... - Да наплевал на вас Сомов! - усмехнулся Валька. - Мы ему про бойкот, а он сел в экипаж и уехал... Попробуй догони!.. В этот самый момент дверь парикмахерской открылась, и совершенно неожиданно для всех оттуда выплыла Ленка. Ее нельзя было узнать так она преобразилась. Вместо косичек у нее была настоящая прическа, волосы непослушными мелкими колечками доходили до худеньких торчащих лопаток. Все ребята прямо обалдели от Ленкиного появления - на ловца, как говорится, в зверь бежит. - Ничего себе выступает! - с завистью сказала Шмакова. Первым пришел в себя Валька. Он сделал осторожный шаг к жертве и процедил, не разжимая губ: - Заходи с разных сторон! - и они двинулись на Ленку. 674 Ленка тоже заметила ребят и бросилась было обратно. Только поздно: дорога отступления уже была перерезана - Рыжий стоял, облокотившись о дверной косяк парикмахерской, лущил семечки и лениво поплевывал себе под ноги. Ленка пугливо заметалась; глаза туда, глаза сюда: где же Димка? Он ведь тут ее ждал. Ребята подкрадывались к ней не спеша. Понимали, что ей некуда бежать, и не торопились. Один Васильев растерянно стоял в стороне. - А кто это там стоит? - крикнул Валька. - Что это за писаная красавица? Рыжий посмотрел из-под козырька и спросил, кривляясь: - Игде, игде? - Ребята, да она нас не замечает! - возмущенно закричал Лохматый, потрясая кулаками. - Какая гордая!.. - Леночка, это же мы, твои одноклассники! - пропела Шмакова. - А мы ей сделаем больно! Мы же вооружены... - Валька вытащил из кармана стеклянную трубочку, набил ее горохом. - "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", - пропел он, прицелился и выстрелил. Ленка схватилась за щеку, ей показалось, что ее ужалила пчела. - Заметила! - удовлетворенно хмыкнул Лохматый. 675 Ленка стояла как пригвожденная у белой стены парикмахерской, а Валька преспокойно ее расстреливал... в нос, в щеку, в губы!.. Ей хотелось зареветь от боли и обиды, но она почему-то продолжала неподвижно стоять, непроизвольно хватаясь за места, куда попадали горошины. А всем от этого было смешно, что она, как заводной человечек, которого дергали за ниточки, делала самые неожиданные и резкие движения. Дверь парикмахерской снова хлопнула, и на пороге появилась тетя Клава. Ее лицо было полно гнева. Она увидела своего сына, своего Толика, и хотела ему высказать то, что у нее накипело в душе: такой-сякой, хулиган, сбежал в кино, не попал в Москву, - но слова не успели сорваться с ее губ, потому что очередная порция горошин, предназначенная для Ленки, больно уколола тетю Клаву в руку. - Ты что хулиганишь? - набросилась она на Вальку. - Ах ты шпана бессовестная! - Тетя Клава, я не в вас, - оправдывался Валька, увертываясь от тети Клавы. - Я в нее! - Он показал на Ленку: - Она змея. Нашипела! - Ничего не понимаю, - все еще раздраженно сказала тетя Клава. Что у вас происходит? 676 - Она гадина, а ты делаешь ей прически! - закричал Рыжий и хотел садануть Ленку. - Ты что?! - Тетя Клава была в ужасе. - Толик!.. - Она схватила сына за руку. - Не мешай нам! - Рыжий вырвался из рук матери. - Мы же просто играем! - улыбаясь объяснил Валька. - Тетя Клава! Валька и Лохматый схватили Ленку и потащили ее куда-то в сторону. Ленка упиралась. Она боялась уходить от тети Клавы. - Подымите ее! - приказала Железная Кнопка. - И несите как принцессу! Она же у нас красавица, - Шмакова засмеялась. - Рот до ушей, хоть завязочки пришей! - Крикнула Попову: - А ты чего застыл? Попов бросился на помощь Лохматому и Вальке, и они пытались втроем поднять Ленку. Та отчаянно сопротивлялась, и колечки волос метались и прыгали у нее на голове. - Димка-а-а! - сорвалась Ленка. Она закричала таким же истошным голосом, как на игрушечной фабрике, когда испугалась их звериных масок. Но на этот раз на ее отчаянный и печальный зов Димка не откликнулся. - А ну оставьте ее! - решительно вмешалась тетя Клава, расталкивая 677 ребят. - Что за дурацкие игры! Вы ей прическу испортите! И вдруг Васильев бросился на помощь тете Клаве, - откуда сила взялась! - раскидал в разные стороны Лохматого, Рыжего, Вальку и Попова и с криком: "Девчонок не бить!". - вырвал Ленку из рук ребят. Ленка оттолкнула Шмакову, которая стояла у нее на дороге, и побежала... Пересекла площадь и скрылась за углом. Все остальное произошло в одно мгновение. Лохматый сбил с ног Васильева. Миронова бросилась вдогонку за Ленкой, а остальные с криком и свистом унеслись за нею. - Толик! - закричала тетя Клава. - Вернись!.. Толик!.. Но Толик, конечно, не вернулся, увлекаемый злым ветром погони. Тетя Клава печально покачала головой: - Вот несчастье, не попали в Москву. Поди попробуй пойми их. Кто прав, кто виноват?.. - Она посмотрела на Васильева. - Ты не знаешь, за что они так на нее? - Не знаю, - мрачно ответил Васильев, отряхиваясь после падения. - Я так и думала... Вы все всегда ничего не знаете. - Тетя Клава скрылась в парикмахерской. И тут вновь появился Димка... и увидел Васильева. - А где остальные? - спросил он, едва отдышавшись. - Остальные?.. Известно где. Бессольцеву погнали. - Погнали?.. Эх, черт, не успел я, - сказал Димка. - А то у меня был к 678 ним один разговор... - Про Бессольцеву? - спросил Васильев. - Про нее, - небрежно и самоуверенно ответил Димка. - Я бы им все карты перепутал. - А что хотел сказать? - заинтересовался Васильев. - Пока секрет, - Димка победно ухмыльнулся. - Значит, ты ей поможешь? - обрадовался Васильев. - Конечно, помогу, - кивнул Димка. - Неужели она предатель? - Васильев в сильном волнении посмотрел на Димку. - А ты не веришь? - осторожно спросил Димка. - Факты - вещь упрямая, - ответил Васильев. - Но я все равно почему-то не верю. - Она тебе нравится? - вдруг спросил Димка. Васильев смутился - круглые большие глаза за толстыми то расплата. Лохматый стеклами очков отвернулись в сторону. - Молчишь? - продолжал Димка. - Значит, нравится. - Миронова чокнулась: раз виноват, рубит, как гильотина. - И чего они на нее так взъелись? - осторожно спросил Димка. - Не на нее, а на предателя. Они никому бы этого не простили. Васильев криво усмехнулся: - Даже тебе! - Ну, я-то их не боюсь, - ответил Димка и вдруг почему-то добавил: 679 Послушай, Васильев, а может, ей лучше уехать? - Уехать? - Васильеву это предложение явно не понравилось. Совсем?! - Ну ты даешь, - сказал Димка. - Человек погибает, а тебе, видишь ли, расставаться с нею неохота. - Он замолчал, задумался. - Я бы ей обязательно об этом сказал. Но мне неудобно... Слушай, Васильев, сделай это ты! Надо же ее выручить. - Вот дура! - сказал Васильев. - Ну зачем она это сделала? - Он посмотрел на Сомова: - Ну зачем?! В это время издалека, откуда-то сверху, из чистого, прозрачного высокого неба, какое бывает только в сухой погожий осенний день, донесся крик: - Чу-че-ло! - Пре-да-тель!.. Димка и Васильев переглянулись. - Мы здесь сидим, беседуем... А ее, может, там колотят! - вдруг крикнул Димка и бросился бежать. Васильев сорвался за ним следом. Глава десятая - Ты представляешь, - сказала Ленка, - они гнали меня по городу. На 680 виду у всех. Бежать мне было трудно... Тебя никогда не гоняли, как зайца?.. Николай Николаевич промолчал, хотя его тоже гоняли и он знал, как это трудно. Во время войны он бежал из плена. Его отправили на полевые работы куда-то под Гамбург, и он снова бежал. Утром в лесу его обнаружили дети, он заснул от слабости или, может быть, просто потерял сознание от голода. Он проснулся от неясного шороха и тихого разговора по-немецки. Открыл глаза и увидел детей - они были вооружены палками. Он попытался улыбнуться им, встал и, не оглядываясь, пошел по лесной тропинке. А они загалдели, ринулись следом, забегая вперед и толкаясь позади него. Тогда он побежал, а они засвистели и заулюлюкали, победно размахивая палками. И так они гнали его, пока он не упал. - Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, раз побежал - значит, виноват. Теперь я ученая - надо отбиваться, если даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала. А они меня гнали: "Чу-че-ло-о-о!" 681 Прохожие смотрели на меня: каждому охота поглазеть на чучело. Тогда я переходила на шаг, ну чтобы получилось, что вроде бы не я убегала и вроде бы не мне кричали. Один раз они меня нагнали, и Валька схватил меня за руку. Но я вырвалась и вбежала в нашу улицу. А вся эта стая - за мной! И тут я увидела Димку - он бежал за нами следом. Он летел на всех парусах. Он спешил, чтобы спасти меня. Он ведь тогда еще думал, что он храбрый. А я вскочила в калитку. Последнее, что я заметила, - это то, что стая окружила Димку, и последнее, что я услышала, - это их победный хохот. Тебя дома не было, и я обрадовалась. А то мне пришлось бы рассказать тебе обо всем. Я прильнула к щели в калитке. "Что же, думаю, Димка там делает, почему меня не догнал?" - и увидела, что ребята уходили вверх по улице и Димка шел среди них и о чем-то говорил, размахивая руками, что-то доказывал... Ну молодец, решился. Я сразу стала счастливой: вот сейчас им, думаю, стыдно, что они меня травили. Живого человека - как зайца! 682 Сначала я ждала Димку у ворот. Ждала-ждала, все глаза проглядела. Когда стемнело, пошла домой и там ждала-ждала... Потом не вытерпела, сил у меня ждать больше не было, понимаешь, дедушка, и позвонила Димке. К телефону подошла Светка. "А Димки дома нет, - сказала она и быстро протараторила: Жених и невеста, тили-тили тесто!" Я засмеялась. "А я прическу сделала, - говорю ей, - тетя Клава сказала, что я теперь красавица". Повесила трубку и стала веселиться, прыгала по комнате, танцевала под слова: "Тили-тили-тесто, жених и невеста!" В это время кто-то постучал в окно. "Димка!" - закричала я и бросилась открывать окно. В окно всунулась громадная медвежья морда. Ну прямо настоящий медведь! И как зарычит: "Ры-ы-ы!" Конечно, я испугалась - и всякий бы испугался, - отскочила от окна, погасила свет, чтобы меня с улицы не было видно. А сама прижалась к стене и дрожу. И тут хлопнула дверь, и пришел ты, - сказала Ленка. - А я как закричала: "Кто там?.." Помнишь? Николай Николаевич кивнул, что помнил. Он очень хорошо помнил этот 683 день, потому что именно тогда он случайно заехал в деревню Вертушино, зашел к бабушке Колкиной, и та отдала ему "Машку". Он и не мечтал об этом никогда, просто нет-нет да заезжал в Вертушино, чтобы побыть у Колкиной и полюбоваться на картину. Это был небольшой холст, написанный с какой-то невероятной открытостью, - в этой девочке трепетала жизнь, и почему-то было очень страшно за нее, так она была не защищена перед миром. "Может быть, потому, что она после болезни и острижена?" - подумал он тогда. Николаю Николаевичу посчастливилось найти эту вещь несколько лет назад, сразу, как он вернулся в родные места. Но ему и в голову не приходило заполучить ее. Старушка жила тихо и одиноко, и с жизнью ее связывали немногие привычные любимые вещи. Бабушка Колкина редко покидала свою родную деревню, хотя Николай Николаевич и приглашал ее к себе в гости. Но однажды она появилась у него не предупредив, объявила, что приехала в районную поликлинику, за здоровьем, хотя врачам не доверяла и лекарств почему-то опасалась. Николай Николаевич с радостью встретил старуху. И та долго и достойно 684 пила чай, а потом, как бы между прочим, пошла по комнатам, бросая быстрые взгляды туда-сюда по степам... Прошло довольно много времени. И вдруг случилось невероятное. Бабушка Колкина передала Николаю Николаевичу через общих знакомых, чтобы приезжал. Николай Николаевич заспешил. Он тут же отправился в дорогу и застал осунувшуюся старуху в постели, хотя дом был вымыт и вычищен, как перед большим праздником. - Милый, - сказала бабушка Колкина нежным, певучим, но слабым голосом, - этой картинке место в твоем доме. Я тебе ее дарю. Николай Николаевич стал отказываться, растерялся, предлагал, в конце концов, деньги. - Денег не предлагай, - перебила бабушка Колкина, - не обижай старуху. Насчет подарка - так я давно решила. А если захочу когда-нибудь на нее взглянуть, то сама приеду к тебе. Николай Николаевич вспомнил, что десять лет назад, когда он впервые попал к Колкиной в дом, то она ему обрадовалась и сказала: "Вот умру, девчонку отдам тебе". В тот день, когда он получил "Машку", он был счастлив как ребенок и 685 спешил домой на всех парусах - ему хотелось, нестерпимо хотелось побыстрее добраться до дому и повесить картину на стену. Еще в автобусе, когда он ехал из деревни, прижимая к себе холст, завернутый в старенькое льняное полотенце, вышитое крестом, им овладел совершенно идиотский страх, что картина куда-то испарилась, что "Машка" исчезла, а в руке у него просто чистый холст. Николай Николаевич сам над собою смеялся: ну не сумасшедший же он? Тем не менее, как только вышел из автобуса, сразу же, отойдя чуть в сторонку, быстро развязал картину и успокоился... Он спешил домой, почти не разбирая дороги, попадая в лужи, натыкаясь на случайных прохожих. И вот тут, когда он ворвался в дом, когда внес "Машку" как драгоценность, его вернул к жизни Ленкин крик: - Кто там?.. Николай Николаевич ответил радостно: - Посмотри, что я принес!.. - Тихо! - ответила ему Ленка откуда-то из темноты. - Ты почему сидишь без света? - спросил Николай Николаевич и от волнения, в спешке, забыл, где находится выключатель. Он уронил в темноте стул, чертыхнулся и, наконец, зажег свет и увидел испуганную Ленку. 686 Удивительно, до чего же он был недогадлив: просмотреть человека, который бок о бок жил с ним. Более того, горячо любимого и самого близкого человека, внучку, родную кровь. На что это похоже? - Там за окном... медведь, - сказала она. - Медведь?.. Белый или серо-буро-малиновый? - радостно пошутил он. - А я тебе говорю, там человек какой-то... - шепотом сообщила Ленка. Он нацепил на голову морду медведя и хотел влезть к нам в окно. После этого Николай Николаевич все же подошел к окну, открыл его, выглянул, чтобы успокоить ее, и сказал: - Никого нет. В темноте что хочешь привидится. А ты испугалась, дурочка. А еще внучка майора, который прошел всю войну. - Ты сам боишься чужих собак, - сказала Ленка в свое оправдание. - А кто же не боится чужих собак? - весело ответил он. - А вот черта лысого и медведей я не боюсь. И больше не слышал, о чем она говорила, потому что развернул полотенце и достал картину. Николай Николаевич думал, как он сейчас поразит Ленку. - Ты взгляни, взгляни, Елена!.. Самая главная мечта его заключалась в том, что он хотел, чтобы Ленка полюбила дом и картины, которые его населяли, как он сам все это любил. 687 - Ты взгляни, взгляни, - твердил Николай Николаевич. - Какая нам вышла удача... Бабушка Колкина отдала, точнее, подарила нам картину. Я хотел заплатить за нее деньги - ни в какую, подарила! Чудная, милая, восхитительная бабушка Колкина!.. Какие редкостные люди нас окружают, Елена!.. Над этим стоит задуматься. А?.. И он поставил картину перед Ленкой, с восторгом наблюдая за выражением ее лица. Наконец он не выдержал: - Да проснись ты!.. Ну, как она тебе?.. Правда, хороша? - Девчонка вроде меня, - ответила Ленка. Николай Николаевич сначала не понял, что она имела в виду. Посмотрел на картину. Потом на Ленку и... увидел, что она чем-то стала непохожа на самое себя. Какая-то непривычная. Наконец догадался - Ленка была без кос. - А где твои косы? - спросил он. - Я прическу... только на каникулы, - заикаясь, объяснила Ленка. Николай Николаевич обрадовался. Он увидел, что Ленка стала больше похожа на эту девочку на холсте. - Елена! - закричал он так, что она вздрогнула. - Ты просто ее двойник... Самый настоящий... Тот же цвет глаз... Рот... - Рот до ушей, хоть завязочки пришей, - с грустью сказала Ленка. Может, ее тоже так дразнили... Тогда не я первая. 688 - Вот именно, - обрадовался Николай Николаевич. - Ну, улыбнись, улыбнись!.. Ты замечательно улыбаешься! Ленка застенчиво улыбнулась, и уголки ее губ привычно поползли к ушам. Николай Николаевич схватил холст, перевернул его и на тыльной стороне увидел размашистую надпись, сделанную черной краской: "Год 70". - Как же я сразу не догадался, старый дурак. Столько лет смотрел на нее - и не догадался. Отец мне рассказывал эту историю... Она, - он показал на "Машку", - подарила эту картину какой-то своей любимой ученице. А когда ту арестовали жандармы как участницу группы "Народная воля", картина затерялась... Последняя его работа. Николай Николаевич помолчал, потом испуганно-величественно, еще не веря до конца в это чудо, объявил: - Елена, я схожу с ума... Возможно... Даже более того, я уверен в этом... Девчонка - сестра моего деда, баба Маша. Машка... Машенька... Мария Николаевна Бессольцева. Знаменитая особа. Жертвенница. Святая душа. Ее жениха убили в русско-турецкую войну. Под Плевной. А она после его смерти не пожелала выходить замуж, ей тогда было всего восемнадцать, и всю 689 жизнь прожила одна. Но как прожила! Она основала женскую гимназию в городке. А первые ее выпускницы все до единой уехали работать учителями в близлежащие деревни. Говорят, они ей во всем подражали: так же одевались, как она, так же разговаривали, так же жили. Какие были люди! Какие были особенные люди! Все делали не ради славы, а для народной пользы. В первую империалистическую здесь у нас была эпидемия тифа. И мой отец, следовательно, ее племянник, был на этой эпидемии и тоже заразился тифом, и его положили в тифозный барак. Однажды ночью он пришел домой. Маша ему открывает, а он стоит перед нею в нижнем белье, босой. А дело было зимой. Оказалось, что он пришел в беспамятье. И вот Мария Николаевна взвалила его на плечи и понесла обратно. Пять километров по глубокому снегу тащила - тифозный барак был за городом. Там и осталась - выходила племянника. Потом за другими стала ухаживать, за самыми тяжелыми ходила, многие ей своей жизнью были обязаны. Я ее хорошо помню. Она жила в твоей комнатке... Когда она умерла, ее хоронил весь город. 690 Николай Николаевич бегал по комнате, потирал руки, задыхался, не обращая на это внимания, хватался за сердце, не понимая, что оно у него болит. - Боже мой! - продолжал бушевать он. - Как ты удивительно на нее похожа и как ты удивительно вовремя приехала... А я удивительно вовремя оказался в деревне Вертушино у бабушки Колкиной!.. Теперь наше дело действительно подходит к концу. Теперь мы собрали с тобой почти все его картины и можем хвастаться, устраивать пиры и приглашать на демонстрацию наших сокровищ любознательных музейных работников. Они станут охать и ахать и говорить: "Вы открыли нового малоизвестного художника". А мы будем с тобой сидеть длинными зимними вечерами дома и строить планы. - Какие планы? - спросила Ленка. - Самые разнообразные. - Николай Николаевич улыбался, не замечая Ленкиного печального настроения, которое совсем не совпадало с его весельем. - Нам о многом надо посоветоваться. И вот в это время в окне вновь появилась голова рычащего медведя. - Медведь! - завопила Ленка и вскочила на стул. 691 В этот вечер Николай Николаевич был удивительно ловок и удачлив. Он стоял у окна, успел схватиться за медвежью морду, и она осталась у него в руке... Но в следующий момент - это он помнил очень хорошо - его посетило некоторое смущение, потому что на месте медвежьей морды перед ними появилось перекошенное от страха, какое-то жалкое и ничтожное Димкино лицо. Помнится, он тогда подумал, что такое творится с Димкой, и перевел взгляд на Ленку, чтобы узнать у нее, что все это значит. И вот тут он удивился еще больше. Ленка стояла перед ним ни жива ни мертва... - Вот тебе и весь медведь, - произнес Николай Николаевич. - Одной рукой я отвернул ему голову. - Он небрежно бросил медвежью морду на диван. Николай Николаевич произнес свою фразу беспечно, хотя в этот момент ему впервые почудилось, что произошло что-то не то, ну, может быть, шутка с медвежьей мордой была слишком жестокой. Он тогда постарался отвлечь и развеселить Ленку, потому что почувствовал, что здесь какое-то серьезное дело, но потом так увлекся "Машкой", что все забыл. Ленка же не обращала на него никакого внимания, она уже вернулась к жизни, она кричала в окно, звала Димку: 692 - Димка! Димка-а-а!.. Ей никто не отвечал. Ленка в отчаянии повернулась к Николаю Николаевичу, ища у него помощи: - Дедушка!.. Они держат его силой! Они заставили его пугать меня! Ленка металась около окна. - Я знаю! Я вижу, вижу: они связали ему руки! Дедушка, крикни на них страшным голосом! Николай Николаевич выглянул в окно и увидел небольшую группу ребят, стоящих в слабом электрическом освещении неподалеку от их дома. Среди них, странно сжавшись, ссутулившись, стоял и Димка. Он то появлялся, то исчезал, прячась за чьи-то спины. - Димка-а-а! - снова позвала Ленка. - Чего же он не отвечает? - спросил Николай Николаевич. Может, его там нет? - Он так сказал, чтобы успокоить ее, хотя сам отлично видел Димку. - Я вижу!.. Вижу "го! Ты их не знаешь! Они могли ему тряпку в рот запихнуть! Дедушка, ну крикни!.. Спаси его! Николай Николаевич набрал полные легкие воздуха и выдохнул: - А ну живо отпустите Димку! В ответ раздался хохот. Группа удалялась со свистом и громкими взрывами смеха. - Чучело! - прокричал кто-то, сложив руки рупором. 693 - Заплаточник! - подхватил другой. - Два сапога пара! - И снова затихло. Ленка схватила куртку и бросилась к двери. Николай Николаевич попытался ее остановить. Но разве можно было это сделать - с ее страстным характером, с ее предельной преданностью в дружбе, с ее самоотдачей другим людям?.. - Пусти! Пусти! - Ленка рвалась из рук Николая Николаевича, извиваясь всем телом, захлебываясь от волнения словами и скороговоркой выкрикивая: Он там может задохнуться... с тряпкой во рту!.. А ты... меня... не пускаешь! - И конечно, в конце концов она вырвалась и убежала. Николай Николаевич высунулся в окно. - Лена! - позвал он и прислушался. Он ее не увидел, только из темноты доносился ее возбужденный голос: - Ну, Миронова! Ну, Валька! - Лена-а-а! - снова позвал Николай Николаевич, без всякой надежды на ее ответ. Так оно и вышло: никто ему не ответил. Николай Николаевич хотел тут же идти за нею - это он помнил точно, - но взгляд его натолкнулся на Машку. Он замер, застыл - его поразил тогда цвет 694 неба на картине: красновато-синий, мрачный, тяжелый, предгрозовой, он был виден в проеме дверей, и легкая, невесомая, ослепительно светлая фигурка Машки на этом тревожном фоне почти взлетела над землей. Он стоял неподвижно, как в забытьи. Где-то звякнуло разбитое стекло, это смутно отложилось в его памяти, но не более того. Где-то кто-то кричал: - Вон она! Вон!.. Держите!.. Все это он тоже слышал, но никак не подумал, что именно Ленка разбила чье-то стекло и именно ее преследовали людские голоса. Николай Николаевич сел к столу, достал свою заветную тетрадь. Ему нестерпимо хотелось закрепить на бумаге и свое счастье и свою радость. Он жил в тот момент только своей жизнью, как это ни ужасно показалось ему теперь, но все было так! Ленка с ее делами и заботами совершенно выскочила у него из головы. Он услышал разговор под своим окном. - Ее нет в комнате, а он что-то царапает на бумаге, - сказал первый голос. - Бросим камень... Вот будет переполох! Ответим ударом на удар! - А если это не она? - спросил второй голос. - Да видела я - точно, она. Ревнует тебя - окна бьет, - вмешалась 695 какая-то девчонка. Но Николай Николаевич и на это не обратил никакого внимания. Он тогда даже не пошевелился - прекрасное настроение отделило его на время от реальной жизни. Он листал свою тетрадь, в которой были записаны все его картины: где и когда куплены, когда написаны, точно или предположительно. Здесь у него были длинные записи размышлений и догадок на этот счет: кто изображен на той или иной картине, как этот человек попал к художнику и почему он решил писать его портрет. В результате возникали интереснейшие истории о разных людях. Николай Николаевич уже успел записать: "Получена в подарок в начале ноября 1978 года...", но вошла Ленка - платье и куртка в грязи, закрыла глаза, как-то странно прислонилась к косяку дверей и сползла по нему на пол. Николай Николаевич бросился к ней, помог встать, дотащил до дивана, уложил, досадливо перекинув медвежью морду на стул. Старый мечтатель, он спускался на землю. Вот тогда Николай Николаевич испугался перед ним лежала Ленка, бледная, ни кровинки в лице. 696 - Что с тобой? - Николай Николаевич опустился на колени у дивана. Лена!.. Николай Николаевич думал, что она ему не ответит, а она громко, жалобно, взахлеб произнесла: - Дедушка, он меня обманул!.. - Обманул? - переспросил Николай Николаевич. - Да!.. Да!.. Обманул. Я в окно заглянула, а у него Миронова и всевсе. Они там все-все вместе!.. Ты подумай, дедушка!.. Телек смотрели и чай пили, - сказала она с таким ужасом, как будто сообщала о чем-то сверхъестественно страшном. - Я думала, у него руки связаны и тряпка во рту, а они... чай пили... - Ну и что же? - Николай Николаевич улыбнулся, хотя у него впервые за последние годы вдруг заболело сердце. - Давай и мы попьем чаю. - Ну какой чай, дедушка!.. Я должна тебе сказать, что я такое сделала... У меня, знаешь, в голове все помутилось. Взяла я камень и бросила в них. Окно разбилось... - и Ленка заплакала. - Окно разбила... Да, я что-то слышал... Ты поплачь, поплачь. Сразу легче станет. - Николай Николаевич сразу не мог понять, что теперь делать и что говорить. - А я все-таки поставлю чайник. Он вышел из комнаты и быстро вернулся. 697 Но Ленка уже лежала с закрытыми глазами: то ли притворялась, то ли спала на самом деле. Николай Николаевич долго стоял посреди комнаты, потом взял со стула медвежью морду, положил ее на стол, а сам сел на освободившееся место и теперь уже без всякой радости, а скорее машинально дописал в свою тетрадь: "...в деревне Вертушино у Натальи Федоровны Колкиной картину художника Н.И.Бессольцева, на которой изображена его внучка Маша в возрасте 10-11 лет. Это последняя работа художника, сделанная незадолго до его смерти". Глава одиннадцатая - На следующий день после праздников я стирала платье, - снова начала свой рассказ Ленка. - Когда я бросила камень в Димкино окно, то упала в лужу и вся перепачкалась. Я стирала платье и все думала, думала про Димку. И вдруг поняла: ненавижу его! Тут мне кровь как бросилась в голову, я влетела в комнату и стала хватать свои вещи, чтобы уехать. "Вот тогда он попляшет!.. Будет мне письма 698 писать, - думала я, - а я ему не отвечу! Хоть десять писем в день, хоть сто штук! Ни за что не отвечу никогда!" А сама носилась по комнате и хватала, хватала свои вещи и запихивала в портфель. И вдруг увидела в окно, что в наш сад вошел Димка! Я схватила платье и выбежала в сад, вроде надо его высушить. Ну, в общем, выскочила в сад, вешаю платье, а у самой сердце знаешь как прыгало! Димка подошел и остановился позади меня. Я сделала вид, что не слышу, что он стоит и дышит мне в затылок. Наконец не выдержала и оглянулась. Он стоял передо мной, низко опустив голову. Постоял так и выдавил: "Ты знаешь, кто я?" Я старалась изо всех сил быть спокойной, а главное, независимой. Такая гордая и неприступная! А когда он мне сказал: "Ты знаешь, кто я?", то улыбнулась уголком рта, я же владела собой, хотя на самом деле я совсем не владела. "Кажется, я тебя узнаю... Ты вроде бы Димка Сомов?.." медленно отчеканила я, чтобы он не заметил, что у меня голос дрожит; потом взглянула на него - вижу, он волнуется больше меня. "Если бы ты знала, кто я на самом деле, то не улыбалась бы и не 699 шутила... - Он на секунду замолчал, а потом тихо-тихо произнес, одними губами прошептал: - Потому что я подлый!.. Самый подлый трус!.." Дедушка! - Ленка схватила Николая Николаевича за руку. - Как он это сказал, все лицо у него пошло пятнами. Ярко-красными!.. Как будто кто-то его раскрасил красной краской. Он прямо полыхал, а глаза метались, бегали в этом жутком пламени. "Ну, - подумала я, - тебя надо спасать, ты же погибнешь, ты же сгоришь в этом страшном огне". "Ты трус? - говорю я ему. - Никакой ты не трус! Ты же у Вальки собак отбивал!.. Ты даже Петьки не побоялся!.. Ты же Маргарите всю правду выложил!.." А он: "Нет, нет, нет! Права Маргарита: я жалкий, последний трус! Ты говоришь, я сознался Маргарите?.. А знаешь, почему? Потому что я хотел себе доказать, что ничего не боюсь. А я боюсь, боюсь... Подраться с кем-нибудь мне не страшно, а вот сказать всем правду я не могу. Подумал: скажу Маргарите, а в кино все выложу ребятам и докажу себе, что я не трус. А когда увидел их, чего-то вдруг испугался. Ну, успокоил себя, утром скажу, в школе. Сразу 700 перед всеми ребятами и перед Маргаритой. И не буду ловчить и выкручиваться. А утром - приказ директора. И я опять струсил. Потом после приказа директора дождался, когда Маргарита ушла, и снова собрался... Нет, не смог. И потом, когда тебе бойкот объявили, тоже перетрухнул. А вечером с этой медвежьей мордой... Пришел к ребятам, чтобы им все рассказать и... Нет, я подлец!" Он поднял на меня глаза. Дедушка, они были полны слез! "Но теперь я всем-всем все скажу! - сказал Димка. - Вот увидишь! Ты мне веришь?" "Верю", - ответила я. "А если веришь, потерпи!" "Я потерплю". "Я им все-все скажу, - продолжал Димка. - И тебя к ним отведу. Как только ты захочешь, так и отведу. Решишь и сразу приходи ко мне. Я буду ждать тебя. Придешь?" А я обрадовалась: "Приду, говорю, обязательно", - и сама, дурочка, расцвела. Димка подошел ко мне... и поцеловал! Представляешь - по-це-ловал! произнесла Ленка по складам. - Ты не удивляешься? - Удивляюсь, - быстро ответил Николай Николаевич. - Я очень удивляюсь. 701 - Вот и я удивилась! Говорит, что трус, а сам совершает такие отчаянные поступки. Ты мне ответь, должна была я после этого снова поверить в него? - Должна была, - сказал Николай Николаевич. - И молодец, что поверила. Верить надо до конца. - Когда он меня поцеловал, то я сначала засмеялась. А потом как окаменела. Может быть, я простояла бы так до утра, если бы не раздался крик Вальки. "Попался, Сомик! - заорал он. - Наконец-то!.. Пришел тебе конец!.. Можно играть похоронный марш... Та-ра-ра-ра, - завыл он, потом рассмеялся и крикнул: - Всем расскажу, что ты ходишь к Бессольцевой!" А сам в это время стаскивал с веревки мое платье. Я рванулась к нему, а он отбежал. "Чучело, привет! - и помахал моим платьем над головой. - Принесешь медвежью морду получишь платье". "Ну гад!" - закричал Димка и бросился за Валькой. Тот метнулся к забору, взобрался на него, лягнул Димку ногой и спрыгнул на ту сторону. "Отдай платье! - крикнул Димка. - А то получишь!" "Плевал я на тебя! - закричал Валька из-за забора. - Теперь ты у меня 702 попляшешь. Теперь я всем расскажу, как ты около Чучела крутился!.. Ах, простите, извините, поцелуйчик мой примите!" Он снова захохотал и скрылся. "Не волнуйся, - сказал мне Димка. Он был как в лихорадке. - Я отберу платье! Скоро!.. Сегодня!.. Сейчас же!.. И всем все скажу! Все! Все! Всем!.." Он сорвался с места. "Подожди!" - закричала я. Димка остановился, а я убежала и принесла ему медвежью морду. "Верни! Я с тобой!" - сказала я. "Нет, я сам. - Он вдруг совсем успокоился, лицо его стало прежним, давно мне знакомым. - Ты еще там испугаешься... А здорово твой дед снял с меня эту морду..." Он взял у меня медвежью морду. "Да, он ловкий", - сказала я. Мне показалось, что мы с ним не расставались, что никто не гонял меня по улице, не кричал "Чучело и гадина", не пугал медвежьей мордой. "А он знает?.. - спросил Димка. - Твой дедушка... про меня?" "Что ты! Это же наш секрет", - сказала я. По-моему, ему понравился мой ответ. Мы помолчали. "Ну, жди меня", - решился наконец Димка, помахал мне на прощанье медвежьей мордой - получилось смешно - и ушел. Он шел к калитке легкой походкой человека, у которого хорошо на душе, 703 ну как будто ничего его не мучает и не тяготит. На меня напал страх. Я подумала, что зря отпустила Димку одного. "Ну, думаю, они Димку изобьют, ну, думаю, достанется ему на орехи", - и погнала следом за ним. Димку я не догнала. Перед самым моим носом он нырнул в сарай, где собралась мироновская компания. Я нашла дыру в прогнившей стене и прижалась к ней. Подумала, что Димке без меня сознаться будет легче, а если понадобится - я рядом, тут же прилечу на помощь. Они там были все в сборе и хохотали над Рыжим, прямо катались со смеха. Только Миронова с безразличным видом стояла в стороне и думала о чем-то своем. А все из-за чего?.. Рыжий напялил мое платье, которое стащил Валька, и потешал их. Ну им и было весело. Я тоже хихикнула: всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночье платье. А тут я услышала их крики: "Ну ты артист, Рыжий!" "Точно, Чучело!" "Она - наша красавица!" "Рот до ушей, хоть завязочки пришей!" 704 После этого я поняла, что Рыжий-то изображал меня: цеплялся ногой за ногу, падал, крутил головой, вытягивал шею и улыбался, растягивая губы до ушей. У него здорово похоже получалось, - с грустью сказала Ленка. Ну правда, он настоящий артист. - Ну, а Димка-то что? - осторожно спросил Николай Николаевич. Он давно уже не теребил Ленку, потому что ему было ясно и про Димку, и про Ленку. Он знал, на что можно надеяться и на что надежда совсем плохая, и предвидел Димкину жалкую ничтожную жизнь. - Димка? Ничего, - ответила Ленка. - Вошел в сарай и остановился. Он, наверное, в последний раз думал, что он храбрый и что он не испугается. - Уж чувствую, куда идет дело, - заметил Николай Николаевич и печально покачал головой. - Ты больше меня не перебивай, - попросила Ленка, глаза у нее сузились, как будто она к чему-то присматривалась. - А то мне трудно будет... Скоро уже конец... Ты потерпи и послушай. Димка вышел вперед. "Держи, - долетел до меня его срывающийся от волнения голос, и он бросил Вальке медвежью морду. - А ты, Рыжий, снимай платье". 705 Димка стал срывать с Рыжего платье. А тот оттолкнул его и крикнул: "Ой, не трогай! Я боюсь щекотки!" Все снова захохотали, потому что Рыжий подделался под мой голос. Железная Кнопка, не меняя позы и не поворачивая головы в сторону Димки, сказала: "Сомов, чем к Рыжему приставать, лучше скажи, где ты был сейчас?" Димка сделал вид, что не слышал вопроса, что он очень увлекся спасением моего платья. Он за это платье хватался, как утопающий за соломинку. "Хватит дурачиться, говорит, чужое платье разорвешь!" - и сильно рванул Рыжего на себя. "Рыжий, он тебя обижает! Сделай ему больно, - кривлялся Валька. Лягни его копытом". Рыжий послушно ударил Димку. А Лохматый подскочил к ним сзади, и они вдвоем с Рыжим скрутили Димке руки. Валька радостно заржал: "Попался, Сомик!.. Ух, как хорошо! Ты что же не ответил Мироновой, где ты сейчас был? А?.. Железная Кнопка, он же тебе не ответил! Не желает. Ну скажи, скажи, Сомик, где ты был и что ты там делал? - Он хохотал и 706 заливался. - Ребята, новость первый сорт! Сомик был у Чучела! - Он завизжал и закрутился на одной ноге, захлебываясь от восторга. - И знаете, что они делали?.. Це-ло-ва-лись!" "Целовались? - заинтересовалась Шмакова. - С Бессольцевой? Не сочиняй!.." "Так наклонился к Чучелу, - продолжал Валька, - и чмок ее... в губки. Он подскочил к Димке. - На два фронта работаешь?" "Замолчи!" - крикнул Димка и попытался вырваться из рук Лохматого. А подлый Валька воспользовался, что Димка беззащитный, и ударил его. "Предатель! - говорит. Стукнул его еще раз, захохотал ему в лицо и произнес по слогам: - Пре-да-тель!" "Я предатель? - возмутился Димка. - Ах ты, шкура, живодер несчастный! Ребята, знаете, чем занимается наш Валька?.." "Заткни варежку, трепло!" - перебил его Валька и снова стукнул Димку удобно драться, когда противника держат за руки. Тут Димка озверел, размотал Лохматого и Рыжего и саданул Вальку так, что тот пролетел через весь сарай и упал к ногам невозмутимой Железной Кнопки. 707 Валька здорово струхнул, а когда увидел, что Димка не бросился следом за ним, находчиво протер рукавом куртки туфельку Мироновой и, заглядывая ей преданно в глаза, сказал: "Ты, Сомов, поосторожнее. Нас много, а ты один. Верно, ребята? Мы из тебя знаешь что сделаем?.. Котлетку!" "Точно, котлетку!" - сказал Лохматый и сделал шаг к Димке. "Конечно, котлетку!" - подхватил Рыжий. Сначала они втроем наступали на Димку, а потом к ним и Попов присоединился. Ему Шмакова приказала. Представляешь, четверо на одного? Я рванулась к нему на помощь: именно из-за этого я здесь, и, выходит, не зря. А Димка схватил здоровенный шест и, размахивая им, крикнул: "Ну, подходите! Ну!.. Попробуйте!.." Я от радости запрыгала; думаю, пока моя помощь Димке не нужна, вон он как с ними расправился. Знаешь, дедушка, как я тогда обрадовалась - Димка стал прежним. Ты бы видел их лица! Он поднял палку над головой и крикнул: "Ну, подходи!" А они боятся - ни с места!.. А он стоит с палкой, как будто у него в руках меч: "Ну, попробуй-те!" 708 Ленка звонко рассмеялась, лицо ее неожиданно расцвело, глаза заискрились. И Николай Николаевич, глядя на Ленку, улыбнулся до чего же она прекрасна, как она умеет сильно любить и как умеет даже в падшем человеке заметить мгновение его величия. - Димка стал наступать на них, - продолжала Ленка. - Наступал, наступал... А они пятились, пятились... И Димка оказался перед Железной Кнопкой!.. Она загородила ему дорогу. "Отдай палку!" - приказала Миронова. "Герои! - презрительно сказал Димка. - Спрятались за девчонку!" Он бросил палку к ногам Железной Кнопки. Валька подскочил и на всякий случай тут же схватил ее. И в это время между Мироновой и Димкой произошел разговор, который я никогда не забуду, который решил все. Ну не вообще, а для меня все. Понимаешь? "Ты что у нее делал?" - спросила Миронова. "Что хотел, то и делал", - ответил Димка. "Скажите, какой храбрец!" - вмешался Валька. Он вертел палкой и кружился позади Димки. "Ты пожалел ее?" - продолжала свой допрос Миронова. "Предположим, пожалел". А Миронова ему: 709 "Эх ты, хлюпик!" Жестко так, жестко сказала и с отвращением отвернулась от него. И тут Димка набрался, наконец, храбрости: "Ну, а если это сделала не она?" Миронова его добила: "Манная ты каша с киселем!" - и коротко засмеялась, как щелкнула кнутом. Димка сорвался со своего голоса и бухнул: "Ну, а если это сделал я?!" - и с вызовом улыбнулся, оглядывая всех. "Ты?! - Впервые за все это время Железная Кнопка явно удивилась и внимательно посмотрела на Димку. - Это уже любопытно!" Они сразу на него набросились, окружили, затанцевали вокруг, запрыгали. Валька заорал с восторгом: "А вдруг правда он!" А Шмакова: "А что, вполне возможно!" А Попов: "И еще как!" А Лохматый: "Тогда нам тебя жаль!" А Рыжий: "Вот будет подарочек главному хирургу товарищу Сомову!" "И эта дурочка, Бессольцева, его покрывала!" - догадалась Железная Кнопка. Наступила тишина - все молча смотрели на Димку. 710 Он как-то криво ухмыльнулся. Его лицо меня испугало; может быть, он еще сам не знал, что он сделает в следующий момент, а лицо уже стало как в классе, когда глаза у него побелели от страха. "И пошутить, говорит, нельзя. - А сам засуетился, заулыбался. Шуток не понимаете". Миронова и не понимала таких шуток. "Ты мне в глаза, говорит, в глаза смотри!" Димка оттолкнул ее: он не захотел смотреть ей в глаза. "Отстань!.. Я же сказал - это шутка. - Он неестественно рассмеялся: Шут-ка!" И вдруг весело подмигнул всем. А меня как обухом по голове, как подмигнул он им, все поплыло перед глазами и голова закружилась. А Железная Кнопка кричала свое: "Ты мне в глаза смотри!.." Лохматый сжал Димкину голову ладонями, чтобы он ею не вертел, чтобы Железная Кнопка могла заглянуть ему в глаза. А все старались перекричать друг друга: "Ты пульс, пульс, Миронова, у него послушай!.." "Попался, Димочка! - сказала Шмакова. - Теперь выкручивайся!" И вдруг они все одновременно пошли на Димку. Я бросилась в сарай, чтобы он увидел меня, чтобы не боялся, что он один. Я даже про подмигивание его в тот момент забыла. 711 Они его прижали к стене - мне его не было видно, только долетал из свалки его захлебывающийся голос: "Вы обалдели! Я решил... помочь... Бессольцевой... Ее жалко. Вы что, не люди?" Я кусалась, царапалась, пока не добралась до него. Думала, что еще не пропал, раз жалел меня. Я дралась и вопила: "Пустите меня! Пустите!" "Смотрите, Чучело! - почему-то шепотом произнес Рыжий. - Сама пришла?" "Сама", - сказала я. "И не боишься?" - спросил Лохматый. "Не боюсь. - Я повернулась к Димке, улыбнулась ему и сказала: Я не могла больше тебя ждать, вот и пришла". Димка молчал. Я ему улыбалась, чтобы подбодрить его, улыбалась до тех пор, пока он тоже не разжал губ. Жалко так улыбнулся, но все-таки... Валька захохотал: "По-моему, они объясняются в... дружбе". "Подожди, Валька, - сказала Железная Кнопка. - Бессольцева, ты зачем к нам пришла?" Я ей не ответила - не хотела ничего сама говорить, хотела, чтобы Димка. Но Димка продолжал молчать. 712 "Давайте устроим им очную ставку, - предложила находчивая Шмакова. Это же очень интересно". "Бессольцева, - начала Железная Кнопка, - так кто же из вас предатель? - Она перевела взгляд с меня на Димку, потом с Димки на меня. Ты или Сомов?" Я посмотрела на Димку и сказала: "Конечно... я". "Ребята! - заорал Рыжий. - Она прибежала просить прощения! Я догадался! Я умный..." "Допекли! - понеслось с разных сторон. - Наконец-то!" "Так я и думала, - сказала Железная Кнопка. - Сомов ее пожалел. Я же говорила - он хлюпик. - Она повернулась ко мне - лицо ее запылало справедливым гневом. - Ну, что же ты молчишь? Падай на колени!.. Кайся!.. А мы послушаем! Может быть, ты нас так разжалобишь, что и мы тебя простим". Я подождала, пока она замолчала, и сказала Рыжему: "Снимай платье!" "Пожалуйста, - заторопился Рыжий. Он снял платье и протянул мне. На..." А когда я хотела его взять, кинул через мою голову Лохматому. Ничего не 713 понимая, я бросилась к Лохматому, а он подразнил меня платьем, покрутил им перед моим носом и перекинул Вальке... И понеслось по кругу! Валька - Шмаковой, Шмакова - Попову, тот еще кому-то... И каждый дразнил меня. Быстрее, быстрее! Мне стало жарко, я носилась как угорелая, и прыгала, и хватала их за руки, но платье перехватить не могла. Быстрее, еще быстрее! Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе. Мне бы надо остановиться и уйти, наплевать на это платье и на них на всех наплевать, но я, как последняя дурочка, металась между ними, старалась их победить. Не ради себя, ради Димки. И вдруг кто-то из круга бросил платье Димке, и тот поймал его. Я почувствовала, как все они напряженно затихли. Миронова сказала: "Вот вам и очная ставка. Наконец-то мы узнаем всю правду!" Я подошла к Димке, протянула руку за платьем и улыбнулась ему: "Ну, пошли?.. Поговоришь с ними в другой раз". Он не двигался с места и платье мне не отдал, но улыбнулся в ответ. И я ему еще раз улыбнулась, а руку все время держала протянутой... Так мы стояли 714 и улыбались друг другу. И вдруг... он швырнул платье через мою голову! Я совсем растерялась, просто не поняла, что произошло, открыла рот с глупой своей улыбочкой и следила, как мое платье, совершив точно намеченную траекторию полета, упало в руки самой Железной Кнопки. "Ура-а-а!" - заорали все. "Молодец, Сомов!" - похвалила его Железная Кнопка. И тут я ударила Димку по лицу! Дедушка!.. Я ударила Димку по лицу вот этой рукой! - Ленка протянула руку Николаю Николаевичу. - А лицо, когда по нему бьешь, мягкое и теплое... Я до сих пор помню его на своей ладони. Как будто держишь в руке бьющуюся птицу. В горестном и немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, и тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, причинявших ей глубоко внутри острую, живую боль. Николаю Николаевичу стало нестерпимо стыдно. Ведь он тоже ударил. И кого - Ленку! Ведь всякому было понятно, что картину она не продаст. Тоже сорвался! - Ты меня, Елена, прости... - Николай Николаевич дотронулся до щеки. Никогда никого не бил. Твоего отца вырастил - пальцем не тронул. - Он 715 показал на стены, увешанные картинами. - И все из-за этого, виновато улыбнулся. - А ты будь милосердна к падшему. - А я тебя уже давно простила, - сказала Ленка. И Николай Николаевич сокрушенно подумал, что даже на старости лет вполне разумный человек, вроде него, совершает непоправимые ошибки. ..."Сжечь ее на костре!" - закричал Рыжий. "Хватайте ее! - приказала Железная Кнопка. - И тащите в сад! Она размахивала моим платьем. - Ждите вас там. Мы скоро!" Мальчишки набросились на меня. "За ноги ее! - орал Валька. - За ноги!.." Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я лягалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. Железная Кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой, вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: "ЧУЧЕЛО ПРЕДАТЕЛЬ". Ленка замолчала и как-то вся угасла. Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее 716 сил. - А они веселились вокруг чучела, - сказала Ленка. - Прыгали и хохотали: "Ух, наша красавица-а-а!" "Дождалась!" "Я придумала! Я придумала! - Шмакова от радости запрыгала. Пусть Димка подожжет костер!.." После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала: если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру. А Валька в это время - он повсюду успевал первым - воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост. "У меня спичек нет", - тихо сказал Димка. "Зато у меня есть!" - Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу. Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла - ждала в последний раз! Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: "Ребята, Ленка ни в чем не виновата... Все я!" "Поджигай!" - приказала Железная Кнопка. Я не выдержала и закричала: "Димка! Не надо, Димка-а-а-а!.." А он по-прежнему стоял около чучела - мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому, что чучело было 717 на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий. "Ну, Сомов! - сказала Железная Кнопка. - Иди же, наконец, до конца!" Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону. Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Дедушка! Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками - мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось! Первым опомнился Димка. "Ты что, очумела? - Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. - Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?" Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками - только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и 718 стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр. "Куртку сожжешь, - запищала Шмакова. - Будешь отвечать!" "Она тронулась!" - крикнул Рыжий и бросился от меня наутек. А другие кричали: "Так ей и надо! Предатель!.." "Вот чумовая!" "Братцы, по домам!.." Они разбежались. А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое. Сначала я лежала с закрытыми глазами. Потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза - у чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву. Потом до меня долетел голос Железной Кнопки. "Ты что остановился? - спросила она кого-то. - Тебе опять ее жалко?.." Я подняла голову и увидела Миронову и Димку. Помню, в этот момент мне показалось, что я сижу в глубокомглубоком колодце, а Миронова говорит где-то над моей головой. Голос у нее был резкий 719 и больно ударял по ушам. "Все-таки, говорит, ты малодушный человек. Она же предатель! Понимать это надо". Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Не знаю, сколько я так пролежала - может, час, а может, и минуту, только я почувствовала, что кто-то следит за мной. Я оглянулась и снова увидела в зарослях Димку. Он отвел в сторону кустарник, за которым прятался, и медленно подошел ко мне. Дедушка, знаешь... - сказала Ленка печальным голосом, - я пришла на костер одним человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим. Вот тогда-то я подумала, что моя жизнь кончилась. - А Димка-то что? - еле слышно прошептал Николай Николаевич. - А Димка? Объяснил мне, как все было и как будет дальше. "Я им сказал, говорит, что это я. А они не поверили. Ты же слышала..." По-моему, я ему что-то ответила, а может, и ничего. Не помню. А он: "Теперь мне поверят. Вот увидишь. Я не отступлю, пока они мне не поверят". Он был такой, как всегда. Ну точно ничего не произошло. Стоял передо мной аккуратный, чистенький, от костра раскраснелся. Говорил, говорил про 720 "поверят и не поверят", про то, что они привыкнут к этому и все поймут. А я слушала его, слушала... Потом улыбнулась. Теперь понимаю почему: от неловкости и стыда за него. А он, когда увидел, что я улыбаюсь, еще больше осмелел, голос его окреп и уже звенел, улетал вверх вместе с искрами затухающего костра... Того самого костра, который он только что поджигал, чтобы так предать и унизить меня. "Они будут валяться у тебя в ногах, - говорил он. - Я заставлю их это сделать!" Я начала снимать платье с чучела. Оно было прожжено в нескольких местах. Когда я стаскивала его, то обожглась. Не заметила, что солома под платьем все еще тлела. Я крикнула от боли. Видик у меня был, наверное, жалкий, потому что Димка так расхрабрился, что протянул руку и дотронулся до моей щеки: "У тебя кровь". Я отскочила от него как ужаленная: "Нет! Не трогай меня!.. Не смей!" - Ну и правильно сделала, - сказал Николай Николаевич. - Я бы на твоем месте тоже больше ему не поверил. 721 - Дедушка, я подумала, почувствовала, что если он до меня дотронется, то это будет так больно, как огнем. Не могла я больше с ним стоять ни одной минуты, и не знала, куда мне идти, и не хотела никого видеть... Пошла через кусты к реке, нашла старую перевернутую лодку, забралась под нее и долго сидела там на холодном и мокром песке. - Плакала? - спросил Николай Николаевич. - Угу, - ответила Ленка. - На мокром песке слез не видно. - А я тогда все обегал. Думал: куда пропала девка? - Я слышала, как ты меня звал, но я не могла вылезти. Может, я оттуда никогда бы не вылезла, если бы ко мне не вползла какая-то собачонка. Жалкая такая, хуже меня. Она стала лизать мне руки, и я поняла, что она голодная. Вот и вылезла, привела ее домой и покормила. Глава двенадцатая - На следующее утро надо было идти в школу. Каникулы кончились. Но я сходила домой к Маргарите, узнала, что она не приехала, и не пошла. Целый день я просидела на пристани, смотрела на реку и караулила Маргариту. У меня прямо глаза устали от смотрения; пришла одна "Ракета", 722 потом вторая, а Маргариты все не было и не было. Потом я ее увидела - светлое пальто нараспашку, под ним свадебное платье, то самое, которое она испортила тортом. Я как сумасшедшая бросилась к ней навстречу: "Мар-га-ри-та Ивановна!" - догнала, схватила за руку. Она оглянулась... и оказалась не Маргаритой. Потом, наконец, я увидела настоящую Маргариту. Сначала на берег спрыгнул мужчина. Он протянул кому-то руку... И появилась Маргарита. Она сошла с катера, как королева с раззолоченного трона. Красивая-красивая, она в сто раз стала красивее за эту неделю. Я смотрела на них, как они подымались на крутой берег по лестнице: впереди Маргарита, позади ее муж с чемоданом, - и улыбалась им. Я издали помахала Маргарите рукой. Они были уже совсем близко от меня. Я слышала, как Маргарита спросила у своего мужа, не тяжело ли ему тащить чемодан, а он ответил, что ему не тяжело, но не интересно, что он лучше бы понес на руках ее, Маргариту. Она рассмеялась. И я рассмеялась и опять помахала ей рукой, но они почему-то прошли мимо меня. Я обалдела: ведь я стояла совсем рядом; но потом догадалась, что они 723 просто меня не заметили. Смотрели друг на друга и ничего вокруг не видели. Я обогнала их и медленно пошла навстречу... Теперь они шли рядом. Он держал ее под руку и что-то шептал ей на ухо. А она склонилась к нему и внимательно слушала и продолжала улыбаться. Ну конечно, они снова прошли мимо меня и не заметили. Так я проводила их до самого дома. На следующее утро я все-таки пришла в школу. Нарочно вошла в класс после звонка, вслед за Маргаритой. Когда я появилась в дверях, все повернули головы в мою сторону, как заводные куклы. Кто-то невидимый дернул веревочку, и они одновременно повернулись: мелькнуло насмерть перепуганное лицо Димки, ехидное - Шмаковой, суровое - Железной Кнопки... А я уставилась на Маргариту. "Здравствуйте, говорю, Маргарита Ивановна". А сама жду, дрожу, что она сейчас спросит про бойкот. А я ей отвечу: "Вы не меня спрашивайте, а их..." Это я так заранее придумала ответ. И начнется... А Маргарита мне: "Здравствуй, здравствуй, Бессольцева... Что ты начинаешь новую четверть 724 с опоздания? Нехорошо. Проходи", - и склонилась к журналу. Я подошла вплотную к учительскому столу и остановилась ждала, когда же она посмотрит на меня. Наконец она подняла глаза, увидела, что я стою, и спросила: "Ты что-то хочешь сказать?.." "Я вас так ждала, Маргарита Ивановна", - ответила я. "Меня? - удивилась Маргарита. - Спасибо. Но... почему это вдруг?" И, не дождавшись ответа, она встала, подошла к окну и помахала кому-то рукой. Все девчонки тотчас это заметили и высыпали к окну. "Муж, муж, муж", - понеслось по классу. "Маргарита Ивановна, - пропела Шмакова, - там ваш муж сидит на скамейке?" "Да, - ответила Маргарита. - Мой муж". "Как интересно, - снова пропела Шмакова. - А вы нас с ним познакомите?" "Познакомлю". - Маргарита хотела сдержать улыбку, но губы не слушались ее - они сами заулыбались. А я смотрела на нее, смотрела... "А сейчас, говорит, займемся делом, - Маргарита перехватила мой взгляд. - Ты что уставилась на меня, Бессольцева?.. Я что, так изменилась?.." "Нет, не изменились... Просто я рада, что вы приехали", - ответила я. Она молчала, в лице у нее уже появилось нетерпение - вот, думает, 725 дурочка с приветом, привязалась. А я свое: "Вы когда уезжали, сказали нам: "Вот я вернусь!.." Последние слова я почти крикнула. "Тогда я на вас рассердилась", - сказала Маргарита. Я радостно закивала головой: ну, думаю, началось... "А сейчас, - Маргарита весело махнула рукой, - вы уже и так наказаны, а кто старое помянет, тому глаз вон!.. - Она рассмеялась: - Садись, Бессольцева, на свое место, и начнем занятия". "Я не сяду!" - крикнула я. Маргарита подняла брови дугой: мол, что это еще за фокусы? "Я уезжаю, говорю, навсегда. Просто зашла попрощаться". Посмотрела на всех - значит, все-таки они меня победили. "Все равно, подумала, никогда ничего не скажу сама". Но от этого мне стало грустно. Так хотелось справедливости, а ее не было! И чтобы не зареветь перед ними, выбежала из класса. "Бессольцева, подожди!" - позвала меня Маргарита. Но я не стала ее ждать. А чего мне было ее ждать, если они не захотели во всем разобраться, если Димка предал меня сто раз и если я решила уехать... Дедушка! Ты же видишь, я все вытерпела, все-все!.. - Ты молодец, - сказал Николай Николаевич. 726 - Костер вытерпела, - продолжала Ленка. - Думала, дождусь Маргариты, и наступит справедливость. А она вернулась - и ничего не помнит. - Замуж вышла, - сказал Николай Николаевич. - От счастья все и забыла. - А разве так можно? - спросила Ленка. - Бедные, бедные люди!.. - Николай Николаевич замолчал и прислушался к веселой музыке, которая по-прежнему доносилась из дома Сомовых. - Бедные люди!.. Честно тебе скажу, Елена, мне их жалко. Они потом будут плакать. - Только не Железная Кнопка и не ее дружки, - ответила Ленка. - Именно они и будут рыдать, - сказал Николай Николаевич. - А ты молодец. Я даже не предполагал, что ты у меня такой молодец. - Никакой я не молодец, - вдруг сказала Ленка, и в глазах ее появились слезы. - Послушай, дедушка!.. Я хочу признаться... - Она перешла на шепот: Я тоже, как Димка... предатель! Ты не улыбайся. Сейчас узнаешь, кто я, закачаешься!.. Я тебя предала! - Ленка в ужасе и страхе посмотрела на Николая Николаевича и проговорила, с трудом выталкивая слова: Я тебя стыдилась... что ты ходишь... в заплатках... в старых калошах. Сначала я этого не видела, ну, не обращала внимания. Ну дедушка и дедушка. А потом 727 Димка как-то меня спросил, почему ты ходишь как нищий? Над ним, говорит, из-за этого все смеются и дразнят Заплаточником. Тут я присмотрелась к тебе и увидела, что ты на самом деле весь в заплатках... И пальто, и пиджак, и брюки... И ботинки чиненые-перечиненые, с железными подковками на каблуках, чтобы не снашивались. Ленка замолчала. - Ты думаешь, что я бросилась на Димку с кулаками, когда он мне это сказал? Думаешь, встала на твою защиту? Думаешь, объяснила ему, что ты все деньги тратишь на картины?.. Нет, дедушка! Нет... Не бросилась! Наоборот, начала тебя стыдиться. Как увижу на улице - шмыг в подворотню и провожаю глазами, пока ты не скроешься за углом. А ты, бывало, идешь так медленно... Цок-цок железными подковками при каждом шаге... Видно, думаешь о чем-то своем, и вид у тебя одинокий, как будто тебя все бросили. - Неправда, - сказал Николай Николаевич, - у меня вид величественный. Я на людях всегда грудь колесом. - Но ведь я исподтишка за тобой следила, ты же не знал, что тебе надо делать грудь колесом, - виновато сказала Ленка. - Получается вроде нож в 728 спину?.. - Фантазерка ты! - Николай Николаевич быстро нагнулся и стал перевязывать шнурок на ботинке. Ему захотелось спрятать от Ленки глаза, которые совсем по непонятной для него причине (впервые за последние десять лет) наполнялись слезами. Раньше он, бывало, плакал, когда терял на фронте друзей, когда хоронил жену, а последние десять лет он этого за собой не замечал. - Послушай, дедушка! - Ленка в ужасе вся подалась вперед. - А может, ты когда-нибудь замечал, что я от тебя прячусь?.. - Не замечал я этого, - твердо ответил Николай Николаевич и выпрямился. - Ни разу не замечал. - Замечал, замечал!.. А я еще думала, что я милосердная. А какая я милосердная, если тебя стыдилась? - И произнесла, словно открыла для себя страшную истину: - Значит, если бы ты действительно был нищим, оборванным и голодным, то я бы тогда просто убежала от тебя? Эта простая и ясная мысль совершенно потрясла Ленку. - Предательница я, говорю тебе, пре-да-тель-ни-ца!.. Мало они меня еще гоняли!.. - Да ничего мне не было обидно. Ну разве что совсем немножко, ответил 729 Николай Николаевич. - Я всегда знал, что пройдет время, и ты меня отлично поймешь. Неважно когда... Через год или через десять лет, уже после моей смерти. И не казни себя за это. Вот у меня есть фронтовой товарищ. Старый человек, а тоже не сразу меня понял. Приехал он ко мне в гости и стал кричать, что я позорю звание офицера Советской Армии, хожу оборванцем, хуже хиппи. "Как, говорит, ты мог так низко опуститься? У тебя пенсия сто восемьдесят целковых. Народ тебя кормит и поит, а ты его позоришь! Бери, говорит, пример с меня". Сам он чистенький-чистенький, одет как с иголочки. Психовал, бушевал... А тут как раз ко мне приехали две сотрудницы краеведческого музея и стали уговаривать продать им портрет генерала Раевского: "Мы заплатим вам две тысячи рублей". Мой товарищ для интереса спросил: "Это что же, в старых деньгах две тысячи?" "Почему в старых, - ответили барышни из краеведческого музея, - в новых две тысячи, а в старых - двадцать". Мой товарищ прямо со стула стал падать, глаза у него на лоб полезли. Ну я им, конечно, отказал. Они уехали. А товарищ ругал меня и все 730 подсчитывал, что я мог бы на эти деньги купить и на курорт поехал бы, чтобы здоровье поправить... Я ему объясняю, что не имею права этого делать, что эти картины принадлежат не только мне, а всему нашему роду: моему сыну, тебе, твоим будущим детям!.. Он опять в крик: "Тоже мне столбовые дворяне!" "Крепостные, - сказал я ему. - Художник Бессольцев был крепостной помещика Леонтьева. А ты велишь его картины продавать". Тут мой товарищ смутился, покраснел, хлопнул дверью и ушел. Через час вернулся и протянул мне сверток. "Не обижайся, старина, однополчанин может и помочь своему другу". Я развернул сверток, а там новое пальто. Примерил я его, похвалил, сказал ему спасибо. А когда он уехал, пошел в универмаг, сдал пальто и отправил ему деньги. Ну, думал, он меня разнесет за это. Ничего подобного, все понял - и извинился. - Дедушка, ты не думай, - вдруг сказала Ленка. - Я полюбила твои картины. Очень. Мне от них уезжать трудно. - Значит, ты как я, - обрадовался Николай Николаевич. - Ты обязательно 731 сюда вернешься. - И многим другим твои картины нравятся. - Ленка улыбнулась Николаю Николаевичу и сказала его словами: - Честно тебе говорю. - Ты о ком это? - с любопытством спросил Николай Николаевич. - Однажды заходил Васильев... "У вас как в музее, говорит. Жалко, что никто этого не видит". - А ты что? - "Как не видит, говорю. Эти картины многие смотрели... И многие еще будут смотреть". Николай Николаевич почему-то очень взволновался от Ленкиных слов. Он подошел к картине, на которой был изображен генерал Раевский, и долго-долго смотрел на нее, как будто видел впервые, потом сказал: - Это ты верно ему ответила. - У него был вид человека, который решился на какой-то отчаянный шаг. - Ты даже не представляешь, как ты ему верно ответила! На улице уже стемнело. И в комнате было сумеречно, но ни Ленка, ни Николай Николаевич не зажигали огня. Ленка продолжала собираться в дорогу. Она светлым пятном передвигалась по комнате, складывая вещи в чемодан. Признание, которое она, отчаявшись, 732 сделала дедушке, нисколько не успокоило ее, наоборот, еще больше обострило в ней чувство непрошедшей обиды. Ленке казалось, что эта обида будет жить в ней не месяц, не год, а всю-всю жизнь, такую долгую, нескончаемую жизнь. Быстрее отсюда! Из этих мест, от этих людей. Все они лисы, волки и шакалы! Как трудно, невозможно трудно ждать до завтра! У соседей по-прежнему гремела музыка. Это подстегивало ее метания по дому. Потом Димкины гости вышли на улицу, и Ленка услышала их возбужденные голоса. Они кричали и радовались тому, что Димкин отец катал их по очереди на своих новеньких "Жигулях". А Димка командовал, кто поедет первым, а кто вторым. Им было весело, они были все вместе, а она тут одна - загнанная в мышеловку мышь. И они были правы, а она - виноватая! Может быть, ей надо выйти и крикнуть все про Димку, и он остался бы один, а она была бы вместе с ними?! Но тут же в ней возникло яростное сопротивление, - не подвластное ей, не позволяющее все это сделать. Что это было? Гордость, обида на Димку?.. 733 Нет, это было чувство невозможности и нежелания губить другого человека. Даже если этот человек виноват. Она кидала в чемодан одну вещь за другой, потому что сборы эти были для нее спасением. Именно в этот момент на пороге комнаты бесшумно выросла темная фигура, и мальчишеский голос произнес: - Здрасте! Николай Николаевич зажег свет - перед ними стоял Васильев. - А вот и он, - сказала Ленка. - Легок на помине. Дедушка, это Васильев. - Здрасте, - поздоровался Васильев второй раз и покосился на чемодан. У вас там дверь была открыта... - Заходи, заходи, - обрадовался Николай Николаевич. - Мы только что о тебе разговаривали. Лена мне сказала, что тебе нравятся наши картины. Николай Николаевич вскочил и прямо вцепился в Васильева. Ведь он пришел сам - значит, он к Ленке относился хорошо? - Нравятся, - мрачно ответил Васильев и снова покосился на чемодан. - А какие из картин тебе нравятся больше всего? - не унимался Николай Николаевич. - Вот эта, - Васильев ткнул пальцем в Раевского, чтобы отделаться от 734 Николая Николаевича. - А кто он такой? - спросил он почти машинально. Сам же в это время, не отрываясь, следил за Ленкой. Николай Николаевич обрадовался: - Как же... Это герой Отечественной войны 1812 года, генерал Раевский. Здесь поблизости от нашего городка было имение дочери Кутузова. Генерал Раевский приезжал туда, и мой прапрадед написал его портрет. Это был знаменитый человек. В Бородинском сражении участвовал. Когда разгромили восстание декабристов, то царь Николай вызвал его на допрос, чтобы узнать, почему он их не выдал, - ведь он был под присягой и знал о тайном обществе. - Николай Николаевич выпрямился и торжественно произнес слова Раевского: "Государь, - сказал генерал Александр Раевский, - честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще". Ленку эти слова удивили - она перестала складывать чемодан и спросила у Николая Николаевича: - Как он сказал? Генерал Раевский? - Ну, в общем, он сказал, что без чести не проживешь, - ответил Николай Николаевич. 735 Васильев посмотрел на Ленку и вдруг спросил: - Значит, уезжаешь?.. Значит, ты все-таки... предатель? - Он усмехнулся: - А как же насчет чести, про которую толковал генерал Раевский? - Это неправда! - возмутился Николай Николаевич. - Лена не предатель! - А почему же она тогда уезжает? - наступал Васильев. - Не твое дело! - ответила Ленка. - Струсила! - жестко сказал Васильев. - И убегаешь!.. - Я струсила?! - Ленка выскочила из комнаты. Теперь ее голос раздавался издалека: - Я ничего не боюсь!.. Я всем все скажу!.. Дедушка, не слушай его! Я никого не боюсь!.. Я докажу! Всем! Всем!.. - Она снова вбежала в комнату, на ней было то самое платье, которое горело на чучеле, и тихо сказала: Всем докажу, что никого не боюсь, хоть я и чучело! - повернулась и вышла из дома. Васильев рванулся за нею, но Николай Николаевич задержал его. - Я хотел ее догнать, - сказал Васильев. - Может, ей надо помочь? - Теперь уже не надо. Теперь, я думаю, она сама знает, как ей быть. Николай Николаевич поманил его пальцем и тихо добавил: - В сущности, ты неплохой парень... Но какой-то... прокурор, что ли. - А все-таки почему она уезжает? - упрямо переспросил Васильев. Николай Николаевич посмотрел на Васильева: на его худенькое 736 мальчишеское лицо, на очки с одним стеклом, на крепко сжатые губы, на весь его правый и убежденный вид и вдруг почему-то разозлился. - Давай, Васильев, шагай! - Он подтолкнул Васильева к выходу. Ты мне в какой-то степени надоел! - Закрыл дверь, потом снова распахнул и крикнул ему вслед: - Ты прав во всем!.. И значит, ты счастливый человек!.. И так стукнул в сердцах дверью, что весь дом загудел колоколом - бом! Николай Николаевич поднялся в мезонин и вышел на балкончик. Он всматривался в темноту, надеясь увидеть Ленку. И увидел. Ее быстрая фигурка мелькнула среди темных стволов деревьев, более отчетливо проявилась на чистом горизонте, когда пересекала улицу, и скрылась за углом. "Куда она побежала?" - с беспокойством подумал Николай Николаевич. Конечно, догадаться он не мог и, чтобы успокоить себя в ожидании Ленки, стал, как обычно, размышлять о жизни своего дома и его бывших обитателях, которых нет, но которые в этот момент тесно обступили его со всех сторон. Взрослые и дети. Почему-то братья и сестры на всю его жизнь остались в нем детьми. Хотя он знал их до самой их старости или до ранней смерти. 737 Николай Николаевич почти осязаемо чувствовал тепло их рук и горячее дыхание, слышал их крики, смех, перебранки, споры до хрипоты. Они снова, как всегда, были вместе с ним. Может быть, потому он так обрадовался Ленке, что она как две капли воды была похожа на Машку. Это было звено, которого ему недоставало для счастья, это было звено, слившее жизнь всего его дома воедино. Ленка!.. Она ощупью выбирала путь в жизни, но как безошибочно! Сердце горит, голова пылает, требует мести, а поступки достойнейшие. И вдруг Николай Николаевич почувствовал в себе, в своих окрепших мускулах небывалую доселе силу. Может быть, произошло первое в мире чудо и годы не старили его, а укрепляли? Он засмеялся. Его всегда смешило сочетание в нем самом трезвой оценки действительной жизни и какой-то наивной детской мечты - например, что его жизнь вечна. Глава тринадцатая Ленка выбежала из дома и подлетела к сомовской калитке. Потом развернулась и побежала вниз по улице, не оглядываясь на собственный дом. 738 Если бы она оглянулась, то сначала увидела бы, как из их калитки выскочил Васильев, словно его оттуда вышвырнули, а затем на одном из балкончиков появился Николай Николаевич. Но Ленка ни разу не оглянулась. Она спешила, она летела, она бежала... в парикмахерскую. Ленка твердо решила доказать всем, что она ничего и никого не боится даже чучелом быть не боится. Вот для этого она и бежала в парикмахерскую, чтобы остричься наголо и стать настоящим страшилищем. Она ворвалась в парикмахерскую, еле переводя дыхание. Тетя Клава сидела в одиночестве и читала книгу. Подняла на Ленку усталые глаза и недружелюбно сказала: - А-а-а, это ты! - И отвернулась. - Здрасте, тетя Клава, - сказала Ленка. Тетя Клава ничего не ответила, посмотрела на часы, встала и начала складывать в ящик ножницы, расчески, электрическую машинку. Она явно собиралась уходить. - Снова решила сделать прическу? Значит, понравилось... Только ничего не выйдет, - заметила тетя Клава как-то ехидно. - Вы не хотите меня стричь? - спросила Ленка. - Не хочу, - ответила тетя Клава, продолжая убирать инструменты. 739 Рабочий день закончился. - Потому что я предательница? - Я не имею права выбора клиента, - ответила тетя Клава. - Нравится он мне лично или нет, обязана обслужить. - И вдруг сорвалась, голос у нее задрожал: - У моего Толика отец в Москве. Он его три долгих года не видел. Толик ночи не спал, придумывал, как они встретятся, о чем будут разговаривать и куда пойдут... Я ему: "А может, у отца работа?" А он мне, глупенький: "Пусть с работы ради меня отпросится... Родной же сын приехал!.." Я так хотела, чтобы он подружился с отцом. А ты моего рыженького под самый корень срезала. - Не срезала я его, - сказала Ленка и, сама не ожидая этого, впервые созналась, потому что у нее не было другого выхода. - Это не я их предала. - Ну зачем же ты врешь? - возмутилась тетя Клава. - Из-за какой-то прически. Ну ты детка из клетки. - Я не вру! Я этого еще никому не говорила... Вам первой. Я на себя чужую вину взяла. - Зачем же ты это сделала? - Тетя Клава недоверчиво покосилась на нее. - Помочь хотела... одному человеку, - ответила Ленка. 740 - А он что же? - осторожно спросила тетя Клава. - Сказал, что сознается... немного погодя. Чтобы я потерпела... И не сознался. - А ты? - тетя Клава в ужасе посмотрела на Ленку. - А я все молчу, - ответила Ленка. - Ой, несчастная твоя головушка! - запричитала сразу тетя Клава. -А может, лучше расскажешь все ребятам? Они поймут... - Но она тут же поняла, что это не выход для Ленки, и быстро отступилась: - Ну ладно, ладно, я тебя учить не буду, не моего ума это дело. Сама в жизни много глупостей наделала. - Решительно надела халат и достала инструменты, гремя ими. - Только ты его не прощай!.. - Повернулась к ней гневным лицом: - Дай слово, что не простишь! Ленка промолчала. - Ты что молчишь? - Тетя Клава возмущенно наступала на Ленку, вооруженная ножницами и расческой. - Может, ты его уже простила? - Ни за что! - ответила Ленка. - Садись в кресло, - приказала тетя Клава. - Ты будь гордой! Ктото же должен не прощать!.. Милая моя, золотая, я из тебя такую красотку сделаю! Он закачается!.. А ты плюй на них, на мужиков, направо и налево... Тетя Клава развязала ленточки в Ленкиных косах. 741 - Косы можно не распускать, - сказала Ленка. - Это почему же? - А меня... наголо. - Это что еще за фокусы! - возмутилась тетя Клава. - Что ты за казнь египетскую себе придумала? - Меня Чучелом дразнят, - сказала Ленка. - Ну и что? - ответила тетя Клава. - А моего Толика - Рыжим. - Я хочу, чтобы все видели, что я страшилище!.. Что я настоящее чучело! - Ну уж нет! Лучше я тебя красоткой сделаю. - Тетя Клава улыбнулась. Хорошая прическа знаешь как помогает!.. - Она принялась расчесывать Ленкины волосы. - Вот увидишь! Я тебя сейчас причешу, постараюсь, и у тебя настроение изменится. - А я - чучело! - Ленка вскочила. - И не боюсь этого! Я всем это докажу!.. - Она схватила ножницы и как начала кромсать свои волосы! - Ты что, ненормальная?! - Тетя Клава бросилась к Ленке. Остановись!.. Ленка бегала по парикмахерской, увиливая от тети Клавы, шмыгая между кресел, кромсала свои волосы и кричала: - А я чу-че-ло!.. А я чу-че-ло!.. Наконец тетя Клава поймала Ленку, хотя было уже поздно: та успела выстричь несколько прядей волос. - Что же ты наделала? - Тетя Клава прижала Ленку к себе и укачивала как 742 маленькую. - Лопушок ты несчастный... А рыженький мой был раньше добрым. Честное слово! Сердце душевное... А на тебя закричал: "Гадина!" Домой в тот день пришел взъерошенный, грубил. А потом, не поверишь, заплакал вдруг мой Толик совсем как маленький. - А я раньше не знала, что его Толиком зовут, - грустно сказала Ленка. - Толиком... Толиком... - Тетя Клава подвела Ленку к креслу. Садись, милая, я тебя остригу, как хочешь остригу. Ленка села в кресло, и тетя Клава накрыла ее простыней. А тем временем праздник у Димки Сомова приближался к концу. Часть ребят разошлась, и осталась только мироновская компания, самые близкие друзья. - Давайте гулять до утра, - предложила Шмакова. - Шмакова дело предлагает! - закричал Попов. - А, ребя?.. У Попова Шмакова всегда предлагала "дело". - Лохматый, ты ночуешь у меня, - сказал Рыжий. - Везуха! - ответил Лохматый. - Не надо тащиться в лесничество. Валька подскочил к проигрывателю и врубил его на полную мощность. - Чтобы у Бессольцевых стекла звенели! - хохотнул он. Хорошо веселимся!.. 743 Шмакова схватила за руку Димку, и они начали танцевать. Шмакова крутилась, извивалась - танцы были ее стихия. И вот тут открылась дверь, и... явился новый, совершенно неожиданный гость. В комнату ворвалась Ленка. Но какая!.. Неузнаваемая!.. Вязаная шапочка натянута до бровей, куртка нараспашку, а под нею знаменитое обгорелое платье. Но дело было не в том, как она одета, а в том, какое у нее было необыкновенное лицо, преображенное до неузнаваемости ее смелым поступком. Раньше лицо у нее бывало добрым, милым, отчаянным, жалким, а теперь оно было вдохновенно-решительным. И всем сразу стало ясно, что она пришла к ним затем, чтобы сделать то, что хочет. И помешать ей никто не сможет. Они все это поняли и замерли. Только что смеялись, хохотали, танцевали, а тут окаменели. Ждали, что же будет дальше. А Ленка не торопилась. - Братцы, чего же вы не танцуете? - спросила Ленка. - Давайте!.. Прыгайте!.. - Она начала танцевать, кривляясь и паясничая. Но тут пластинка кончилась, музыка оборвалась, и наступила тишина. - Жалко, не потанцевали. - Ленка посмотрела на ребят и впервые, 744 встречаясь с ними взглядом, не дрогнула. Она почувствовала в своей душе давно забытый покой. - Какие вы все красивые!.. - Прошлась по комнате, оглядывая каждого, как будто очень давно их не видела. - Не дети, а картинка! Ленка остановилась посреди комнаты. - А я - чучело! - Резко сдернула шапочку, открывая всему миру свою остриженную голову. Чу-че-ло! - Ленка похлопала себя по голове. Хороший кочанчик! И рот до ушей, хоть завязочки пришей. Правда, Шмакова? Ленка улыбалась, и уголки губ у нее поползли вверх, а она старалась их разодрать посильнее, чтобы они как-нибудь достали до ушей. При этом она крутила головой, чтобы всем было видно, какое она настоящее страшное чучело! Все по-прежнему молчали. Можно сказать, что они только безмолвно ахнули. Ленка же поначалу в горячке вообще забыла про Димку, а тут она увидела, какой он стоял бледный и испуганный. "Вот уж его перекосило так перекосило", - подумала она, плавно приблизилась к нему и сказала: - Извините-простите!.. Забыла вас поздравить с днем рождения. Вот 745 дурочка! Пришла, можно сказать, за этим и забыла. Димка стоял в какой-то неестественной позе, повернувшись к Ленке боком, изо всех сил стараясь не встретиться с нею глазами. - А ты почему, Сомов, от меня отворачиваешься? - Ленка хлопнула Димку по плечу. - Что же ты так дрожишь, бедненький?.. Похудел. Неужели страдаешь, что я оказалась предателем? А?.. Конечно, тяжело. Ты такой смелый и честный, а дружил с нехорошей девочкой, с которой никому не следует дружить! Она ябеда!.. Доносчик!.. Гадина-а-а! - Она подошла к Рыжему. - Твои слова, Рыженький! - А я и не отказываюсь, - сказал Рыжий. - Мои слова. - Придет время, Толик, - откажешься, - ответила Ленка. Но на эти Ленкины слова Рыжий ничего не ответил. Да Ленка и не ждала от него ответа. Она уже устремилась дальше, к Мироновой, заглянула ей в глаза и сказала: - Привет, Железная Кнопка! Ей хотелось с каждым столкнуться, на каждом проверить свою храбрость. - Привет, если не шутишь, - ответила Миронова. - А что дальше? - Удивляюсь я тебе, - вздохнула Ленка, - вот что. - Чему же ты удивляешься, если не секрет? Миронова была не Рыжий, она не сдавала своих позиций. 746 - Тому, что ты такая правильная, а водишься с Валькой. А он живодер. Ай-ай-ай!.. По рублю сдает собак на живодерню. Вот так борец за справедливость! - Ну ты, полегче! - встрепенулся Валька. - Что это ты плетешь про Вальку? - спросил с угрозой Лохматый. - А что, разве ты, мордастенький, перестал с бедных собачек сдирать шкуры? - Ленка дернула Вальку за галстук и повернулась к Лохматому: - Ну садани меня, чтобы я замолчала! Ну докажи, что сила - это самое главное в жизни! - И саданет! Саданет! - закричал Валька. - Наговариваешь на меня! Трепло! - замахнулся он на Ленку. - Ой, боюсь! - Ленка засмеялась, но не дрогнула и не отступила. А Валька побоялся ее стукнуть. Всегда бил метко, а тут струхнул. - Ну, до свидания!.. - Ленка помахала всем рукой. - Что-то мне стало с вами скучно. Радуйтесь... Вы же добились своего! Вы - победители!.. Завтра я уезжаю. Так что давайте хором - раз, два, три: "В нашем клас-се больше не-ту Чу-че-ла!.." Ну!.. Милые!.. Ну чего же вы языки проглотили? Ленка сорвала у Шмаковой цветок с платья и приколола себе на куртку. Медленно застегнулась. Натянула шапку до бровей, пряча свою стриженую 747 голову. Помолчала. Потом серьезно и грустно сказала: - Честно говоря, жалко мне вас. Бедные вы, бедные люди, - и ушла. Исчезла, испарилась Ленка, будто ее здесь и не было. В комнате стояла жуткая, неправдоподобная тишина. И вдруг Лохматый рванулся вперед и схватил Вальку за руку: - Чего это Бессольцева про тебя тут плела? - Да выдумала она все! - закричал, вырываясь, Валька. - Кому поверил? Змее? - А это что? - Лохматый выдернул из Валькиного кармана поводок с ошейником. - А это что?! - Он потряс поводком перед носом насмерть перепуганного Вальки. - Это?.. - Валька на всякий случай отступал под напором Лохматого. Это?.. - Орудие живодера! Вот что это! - крикнул Рыжий. Лохматый бросился к Вальке, а тот рванулся в сторону и заметался вокруг стола. Он бегал, швыряя под ноги Лохматому стулья, но еще не сдавался, а выкрикивал на ходу слова угрозы: - Я Петьке скажу! У него дружки!.. Тебя скрутят! Можешь у своего отца спросить!.. Он тебе расскажет!.. - Лохматый, это они! - догадался Рыжий. - Ребята, это они!.. Значит, 748 это Петькины дружки прострелили руку твоему отцу, когда он у них лося отбивал! Точно!.. - Так это вы! - взревел Лохматый и, сметая все на своем пути, бросился на Вальку. Валька рванулся к двери, чтобы спастись бегством, но Рыжий подставил ему ножку - он упал, и Лохматый навалился на него. Наконец Валька все же изловчился, вырвался, вскочил, чтобы бежать, но оказался... на поводке, на собственном поводке, на котором он водил собак на живодерню. Ошейник плотным кольцом облегал Валькину шею, а конец поводка крепко держал в руке Лохматый, и лицо его было мрачным и беспощадным. - Ты что?.. - Валька заплакал. - Ты что?.. Ребята, - взмолился он, ребята! Лохматый меня удавит!.. - Выйдем отсюда, - сказал Лохматый и потянул поводок, не глядя на Вальку. Валька больше всего боялся выйти куда-то с Лохматым, он упирался и лебезил, он хватал поводок и выкрикивал: - Ребята, разве так можно? Ребята!.. Человек на поводке?! Но никто не заступился за Вальку. Тогда Валька взмолился: - Лохматый, - умолял он, - я больше не буду! Это все Петька! Вот и 749 Димку спроси!.. Он его знает, он скажет - Петька зверь! - Кому говорят, выйдем! - Лохматый сильно потянул за поводок. Валька не устоял. Он упал на колени и подполз к Мироновой: - Миронова, что же ты молчишь? Заступись!.. Я больше не буду! - Отпусти его, Лохматый, - сказала Миронова. Лохматый помедлил секунду, а потом швырнул поводок Вальке в лицо. - А ты встань! - брезгливо сказала Миронова Вальке. - Не ползай. Валька вскочил и, снимая дрожащими руками ошейник, быстро проговорил: - Ребята, все по закону... Собак беру бродячих... - Уходи! - приказала Железная Кнопка. - Не годишься ты для нашего дела. - Почему? - удивился Валька. - Разве я с вами не заодно? Разве я не гонял Чучело? - Ты - заодно?.. - Железная Кнопка наступала на Вальку: - Ты, живодер, с нами заодно?! Валька сложил поводок в карман, нахально ухмыльнулся и вышел из комнаты. Потом застучал в окно, крикнул притворно-ласковым голосом: - Детишки, пора в кроватки! - захохотал и исчез. Лохматый стоял, низко опустив голову, крепко сжав кулаки, которые ему всегда помогали, а сейчас почему-то не помогли. Все остальные подавленно молчали. 750 - Не ожидала я такого от Чучела, - нарушила наконец тишину Железная Кнопка. - Всем врезала. Не каждый из вас на это способен. Жалко, что она оказалась предателем, а то бы я с ней подружилась... А вы все хлюпики. Сами не знаете, что хотите. Вот так, ребятки. Ну, привет. - А как же пирожные? - остановил ее Димка. - Мы же еще чай не попили. - Пирожные? Сейчас самое время... - Точно, - подхватил Димка, хотя вид у него при этом был неуверенный. - Кушайте на здоровье, а мне и без сладкого тошно, - и Миронова ушла, ни на кого не глядя. - Миронова, подожди! - крикнул ей вслед Лохматый. - Я с тобой. - Ты же ко мне собирался? - остановил его Рыжий. - Передумал, - на ходу ответил Лохматый, - домой охота. - Тогда и я с вами, - сказал Рыжий и бросился следом за Мироновой и Лохматым. Хлопнула дверь - они ушли. В комнате остались только сам новорожденный да Шмакова с Поповым. - Может, зря мы с тобой никому... ничего?.. - тихо спросил Попов у Шмаковой. - А?.. - Ты про что? - насторожился Димка. Шмакова улыбнулась - она предчувствовала близкую развязку всей этой 751 затянувшейся запутанной истории и поняла, что наконец настал ее победный час. - Мы с Поповым, - радостно пропела Шмакова, - представляешь, Димочка... - хитро скосила глаза на Димку, ей нравилось наблюдать за ним: он то бледнел, то краснел. - Мы тогда с Поповым... - Она засмеялась и многозначительно замолчала, продолжая что-то мурлыкать себе под нос. - Что вы... с Поповым? - спросил Димка. Шмакова не торопилась с ответом - ведь ее ответ должен был потрясти Димку, и так хотелось его помучить, чтобы разом отомстить за все. Настроение у нее было прекрасным, кажется, ее план полностью удался: Димка уничтожен, а следовательно, вновь завоеван и покорен. Теперь она из него будет вить веревки, сделает своим верным рабом вместо Попова. А то ей этот верзила порядком надоел - скучный какой-то и зануда. - Так что вы с Поповым? - переспросил Димка. - Мы? - Шмакова засияла. Она не отрывала глаз от Димкиного лица. - Мы под партой сидели. Вот что! Димка как-то глупо улыбнулся и спросил: - Когда сидели? - хотя все уже понял. 752 - Когда ты с Маргаритой так мило беседовал, - рассмеялась Шмакова. - Под партой? - Димку бросило в жар. - Вы?.. Когда Маргарита?.. - Под партой... Мы... Когда Маргарита! - особенно восторженно пропела Шмакова. Эта новость раздавила Димку. Острый страх и тоска сжали его бедное сердце - оно у него затрепетало, забилось, как у несчастного мышонка, попавшего в лапы беспощадной кошки. Что ему было делать? Что?! То ли заплакать на манер Вальки и броситься перед Шмаковой и Поповым на колени и просить пощады. То ли сбежать из дому, немедленно уехать куданибудь далеко-далеко, чтобы его никто и никогда не увидел из этих людей. И где-нибудь там зажить новой, достойной, храброй жизнью, о которой он всегда мечтал. У него и раньше мелькали подобные мысли. Но каждый раз они тут же обрывались, потому что он понимал, что ничего подобного сделать не сможет. Димка представил на одно мгновение, что идет каким-то темным переулком в чужом городе. Холодно, пронзительный осенний ветер рвет на нем куртку, в лицо хлещет дождь... 753 У него нет знакомых в этом городе, и никто его не позовет в дом, чтобы обогреть и накормить. Ему нестерпимо жалко стало себя... - А почему же вы тогда молчали? - пролепетал Димка, как всегда в такие минуты до неузнаваемости меняясь в лице. - А мы и дальше будем молчать, - ответила Шмакова. - Правда, Попик? - Будем молчать?.. - Димка жалко улыбнулся, ничего не понимая, хотя уже на что-то надеясь. - Ребя, надо все рассказать, - мрачно произнес Попов. Шмакова взяла с тарелки пирожное и приказала Попову: - Открой рот! Попов послушно открыл рот. Шмакова всунула ему в рот пирожное и сказала, отряхивая пальцы от крошек: - Помолчи и пожуй, а то подавишься... Все так запуталось, что и не разберешь ничего. Если мы теперь откроемся, нас тоже по головке не погладят. Понимаешь, Попик? Так что мы теперь все трое одной веревочкой связаны. Должны крепко друг за дружку держаться. - Она подошла к проигрывателю и поставила пластинку. - Потанцуем, повеселимся в тесном кругу. Надо же догулять! Дни рождения бывают не каждый день. - Она улыбнулась Димке: 754 Димочка, дай мне мое любимое. - "Корзиночку"? - заикаясь, спросил Димка, взял пирожное и торопливо отдал Шмаковой. Попов шумно выдохнул: - Все! - Он встал. - Ребя! Мочи моей больше нету! - И выбежал из комнаты, громыхая тяжелыми ботинками и натыкаясь по пути на опрокинутые стулья. - Куда это он? - испугался Димка. - Не боись. Он у меня верный человек. Видно, решил подышать свежим воздухом. - Шмакова откусила пирожное и пропела: - Пирожное прелесть! Мать делала? Димка понуро сел на диван. Шмакова же, вполне довольная собой, своей окончательной победой над Димкой и Бессольцевой, упоенно танцевала, дожевывая "корзиночку" и таинственно улыбаясь. Глава четырнадцатая Николай Николаевич проснулся на рассвете, когда на горизонте уж появилась светло-серая полоска. Точнее, не проснулся, а встал, потому что не 755 спал почти всю ночь. Он умылся холодной водой, плеская ее большими пригоршнями в лицо, чтобы освежиться. Аккуратно побрился, автоматически надел свой костюм. Потом критически оглядел себя. Да, Ленка права! Какое же на нем все старое совсем не смотрится. Надо бы переодеться. Но так как его гардероб был скуден, то он вдруг решил надеть свою старую военную форму. Он достал ее из шкафа, вышел на балкончик, чтобы получше разглядеть. Форма оказалась в полном порядке. Он несколько раз встряхнул ее, почистил щеткой и не поленился пройтись по костюму утюгом. Орденские планки, которые в три ряда украшали грудь кителя, ему не понравились - от времени они сильно потускнели и стерлись, и это было нехорошо. Он снял их и решил сегодня же купить новые. Потом Николай Николаевич быстро переоделся; суровый и сосредоточенный, сел к столу и что-то долго писал и переписывал. Написанное сложил и спрятал в нагрудный карман. Только после этого Николай Николаевич заглянул в комнату Ленки. Ее непривычная, стриженая и поэтому такая маленькая и беззащитная голова 756 покойно лежала на белой подушке - она крепко спала. Николай Николаевич посмотрел на часы: было уже восемь. Он решил, что Ленку будить не стоит, пусть поспит: катер уходил в одиннадцать. Неужели он уедет отсюда, и неужели это все произойдет сегодня!.. Николай Николаевич вдруг заторопился, решительно накинул на плечи свое знаменитое пальто и, неслышно прикрыв двери, вышел из дома... Через час старый дом Бессольцевых содрогался от сильного и тревожного стука, будто какой-то великан бил по нему огромной кувалдой. Этот стук разбудил Ленку. Она рывком села на кровати; еще ничего не понимая, повернулась к окну и увидела, как чья-то рука приложила поперек ее окна доску. В комнате сразу стало меньше света. И снова раздался сильный, резко бьющий по голове стук. Она поняла: дедушка заколачивал свой дом! Происшествие, так поразившее Ленку, выбросило ее из кровати, и она, как была, в ночной рубахе, выскочила на улицу. Ленка не почувствовала утреннего холода, пронзившего ее тело, и даже не ощутила, что босая ступает по мокрой осенней траве. Она ничего этого не заметила, потому что глаза ее видели только Николая Николаевича, стоявшего к ней спиной на лестнице-стремянке и заколачивающего 757 окна дома. Как завороженная следила Ленка за его неистовой рукой с топором, которая размеренно ходила туда-сюда и била наотмашь, вколачивая гвозди в старые бревна. Одна за другой доски неумолимо ложились поперек окон. Ленка подняла голову вверх - все четыре ее любимых балкончика, которые выходили на четыре стороны света, были уже заколочены. Это особенно сильно ее опечалило. - Дедушка, - крикнула Ленка, - что ты делаешь? Николай Николаевич оглянулся, увидел испуганную стриженую Ленку в длинной белой рубахе, босую и какую-то легкую, летящую, в его возбужденном сознании мелькнуло: "Совсем как Машка!" - и крикнул ей: - Еще гвоздей! - Ты уезжаешь? Со мной? - спросила Ленка, не трогаясь с места. - Ты бросаешь свой дом?! - Кому говорят - еще гвоздей! - Он так повелительно крикнул, что ее как ветром сдуло. - И оденься! Сумасшедшая! Когда Ленка одевалась, то у нее зуб на зуб не попадал. Нет, не от холода, а оттого, что дедушка решил все бросить и уехать с нею. Решил бросить свой город! Свой дом!! Свои картины!!! 758 Ленка схватила ящик с гвоздями и поволокла его к дедушке. Николай Николаевич взял из ящика гвозди и заколотил два последних окна. Дом Бессольцевых снова оглох и ослеп. Николай Николаевич, тяжело ступая, слез со стремянки. Ленка ткнулась ему в грудь и заревела. Теперь, когда работа была закончена, он как-то протяжно вздохнул - он боялся, у него не будет сил взглянуть на свой заколоченный дом. - Ну хватит! - сказал Николай Николаевич. - Что мы с тобой, как два дурачка, разревелись у всех на виду! Мы что, хороним кого-нибудь?.. Наоборот - мы живы! Мы живем на полную катушку! Мы совершим еще что-то замечательное! Потом, наскоро позавтракав, отключили электричество и газ, перекрыли воду в садовой колонке и закрыли все двери на замки. Погрузили два чемодана и мешок яблок на садовую тележку. Сверху Николай Николаевич положил картину, аккуратно завернутую в старое полотенце, вышитое крестом еще бабушкой Колкиной, - это была их "Машка". И они пошли на пристань, подгоняемые внутренней тоской, которую оба старались скрыть друг от друга. - Дедушка, - сказала Ленка, помогая Николаю Николаевичу везти тележку, - ты здорово придумал с "Машкой". - Она схватила картину: Лучше я ее 759 понесу. Повесим ее на самое видное место. И нам не будет скучно. Посмотрим на Машку и все картины вспомним. - Заглянула ему в глаза: Правда, дедушка?.. - Правда, Елена! - ответил Николай Николаевич и чему-то рассмеялся. - А чего ты смеешься? - не поняла Ленка. - Что радуешься? - У меня для этого масса причин, - возбужденно ответил Николай Николаевич. - Сейчас сядем на катер, и я тебе их подробно изложу. Вот тут-то они и услышали знакомые тревожные крики: - Держи! Держи-и-и-и! Следом раздался свист и улюлюканье погони. Ленка привычно втянула голову в плечи. Николай Николаевич заметил это и спросил: - Ты что, опять испугалась? Забыла, какая ты храбрая?.. Ленка кивнула, прислушиваясь к приближающимся крикам. - А ты не забывай, - строго сказал Николай Николаевич. - Я стараюсь, - сказала Ленка. Она приготовилась к встрече с несокрушимой Железной Кнопкой и ее дружками. А что, если они сейчас устроят ей "почетные проводы", будут кричать на нее "Чучело" на виду у всех пассажиров катера?.. Что тогда? Легкий озноб прошел по ее телу, но все же она собралась и твердо решила: если они это сделают, то она бросится драться. Она не отступит. Нет, не 760 отступит!.. - Подержи, пожалуйста! - Ленка отдала Николаю Николаевичу сверток с картиной и медленно, как-то по-новому, откинув голову назад, пошла навстречу приближающимся крикам. Но затем произошло нечто неожиданное - она увидела бежавшего Димку! А следом за ним, во главе с Мироновой и Лохматым, вылетел почти весь шестой класс - может быть, человек двадцать, - они гнали Димку! А она испугалась вот смешно. Димка бежал неловко, трусцой, как курица с подбитым крылом, прижимаясь к забору, чтобы его меньше было видно, и поминутно оглядывался назад с побелевшим от страха лицом. Зато у преследователей глаза горели яростным огнем, щеки пылали нервным румянцем людей, которые имели право на подлинный гнев. Кто-то схватил Димку за руку, кто-то подставил ножку. Он упал, тут же вскочил, вырвался из цепких рук преследователей и побежал дальше, сверкая пятками. Все шквалом пронеслись мимо Николая Николаевича и Ленки, не замечая их. Они кричали: 761 - Держи его!.. - К школе! Гони к школе!.. - Попался, гад!.. Они исчезли так же быстро, как и появились. - Дедушка, - одними губами произнесла Ленка, - значит, Димка все-таки сознался? - Выходит, сознался, - ответил Николай Николаевич. - А что теперь будет? - спросила Ленка, уставившись на Николая Николаевича испуганными глазами. - Что будет? Теперь они из тебя сделают героя. - Да?.. - Ленка откровенно засмеялась. - Что же мне делать? - Ну, играй победу! - Николай Николаевич почему-то с грустью и удивлением посмотрел на Ленку. - Ну, торжествуй! - Я сбегаю, - сказала Ленка, - посмотрю... - Не надо, Елена! - попросил Николай Николаевич. - Лежачего не бьют. - Но я торжествую! - почему-то с вызовом крикнула Ленка. - Я играю победу! - Елена, подожди! - попытался остановить ее Николай Николаевич. Но Ленка не послушала его и бросилась следом за ребятами к школе. Николай же Николаевич неловко потянул тележку, перевернул ее чемоданы, мешок с яблоками и картина упали. Он быстро поднял тележку, сложил все обратно, откатил ее в сторону, взял картину и заспешил за Ленкой. 762 Ленка вбежала в класс, когда Димка под натиском ребят, спасаясь от них, взобрался на подоконник. - Бей его! - заорал Валька и схватил Димку за ногу, чтобы стащить с подоконника. - Не примазывайся! - с презрением оборвала его Железная Кнопка. - Не суйся к нам со своими грязными руками! Лохматый саданул Вальку, и тот отскочил в сторону. А ребята стали медленно наступать на Димку, как когда-то наступали на Ленку. - Пустите меня! - крикнул он. - А то я... - он беспомощно оглянулся в поисках спасения, - выпрыгну в окно! - Не выпрыгнешь! - сказала Миронова. - Ножку сломаешь, а это больно. Димка загнанными глазами посмотрел на Железную Кнопку, весь как-то в отчаянии вытянулся и распахнул окно... Все: "Ах!" - и отпрянули. Вот в это время в класс и вбежала Ленка. Никто ее не видел, потому что они все стояли к ней спиной. Все их внимание было приковано к Димке. - Слезь с окна! - тихо и спокойно произнесла Ленка. Димка резко оглянулся, увидел Ленку... и спрыгнул с подоконника. - Наша красавица пришла! - пропела Шмакова, хотя в ее голосе 763 чувствовалась какая-то неуверенность. Ребята веселой гурьбой окружили Ленку: - Привет, Чучело! - Здорово! - Наше вам!.. - Оказывается, ты молодец, Бессольцева! - Лохматый хлопнул Ленку по плечу. - Разрешите пожать вашу лапку, - паясничал, как всегда, Рыжий, пожимая Ленкину руку. - Вот хорошо, что ты еще не уехала, - сама Железная Кнопка, улыбаясь, приближалась к Ленке. - Что же ты нам сразу все не сказала?.. Впрочем, это твое личное дело. А Димка тем временем сообразил, что все про него забыли, проскользнул по стенке за спинами ребят к двери, взялся за ее ручку, осторожно нажал, чтобы открыть без скрипа и сбежать... Ах, как ему хотелось исчезнуть именно сейчас, пока Ленка не уехала, а потом, когда она уедет, когда он не будет видеть ее осуждающих глаз, он что-нибудь придумает, обязательно придумает... В последний момент он оглянулся, столкнулся взглядом с Ленкой - и замер. Он стоял один у стены, опустив глаза. 764 - Посмотри на него! - сказала Железная Кнопка Ленке. Голос у нее задрожал от негодования. - Даже глаз не может поднять! - Да, незавидная картинка, - сказал Васильев. - Облез малость. Ленка медленно приближалась к Димке. Железная Кнопка шла рядом с Ленкой, говорила ей: - Я понимаю, тебе трудно... Ты ему верила... зато теперь увидела его истинное лицо! Ленка подошла к Димке вплотную - стоило ей протянуть руку, и она дотронулась бы до его плеча. - Садани его по роже! - крикнул Лохматый. Димка резко повернулся к Ленке спиной. - Я говорила, говорила! - Железная Кнопка была в восторге. Голос ее звучал победно. - Час расплаты никого не минует!.. Справедливость восторжествовала! Да здравствует справедливость! - Она вскочила на парту. Ре-бя-та! Сомову - самый жестокий бойкот! И все закричали: - Бойкот! Сомову - бойкот! Железная Кнопка подняла руку: - Кто за бойкот? И все ребята подняли за нею руки - целый лес рук витал над их головами. А многие так жаждали справедливости, что подняли сразу по две руки. 765 "Вот и все, - подумала Ленка, - вот Димка и дождался своего конца". А ребята тянули руки, тянули, и окружили Димку, и оторвали его от стены, и вот-вот он должен был исчезнуть для Ленки в кольце непроходимого леса рук, собственного ужаса и ее торжества и победы. Все были за бойкот! Только одна Ленка не подняла руки. - А ты? - удивилась Железная Кнопка. - А я - нет, - просто сказала Ленка и виновато, как прежде, улыбнулась. - Ты его простила? - спросил потрясенный Васильев. - Вот дурочка, - сказала Шмакова. - Он же тебя предал! Ленка стояла у доски, прижавшись стриженым затылком к ее черной холодной поверхности. Ветер прошлого хлестал ее по лицу: "Чуче-ло-о-о, пре-да-тель!.. Сжечь на костре-е-е-е!" - Но почему, почему ты против?! - Железной Кнопке хотелось понять, что мешало этой Бессольцевой объявить Димке бойкот. - Именно ты против. Тебя никогда нельзя понять... Объясни! - Я была на костре, - ответила Ленка. - И по улице меня гоняли. Ая никогда никого не буду гонять... И никогда никого не буду травить. Хоть убейте! 766 - Какая храбрая! - Шмакова зловеще хихикнула: - Одна против всех! - Раз так, то и Чучелу бойкот! - заорал Валька. - Ату-у-у их! - Он свистнул. Но свист его погас, потому что никто его не поддержал. В это время появилась веселая и нарядная Маргарита Ивановна. - Это что еще за собрание? Вы что, звонка не слышали? - сказала она. Живо по местам! У меня потрясающая новость... - Маргарита Ивановна заметила Ленку: - Ты еще не уехала? Это прекрасно! - Ее взгляд остановился на Ленкиной стриженой голове. - Ты что, заболела?.. - Она спалила волосы у костра, - сказал Васильев, - и остриглась. - У костра? - переспросила Маргарита Ивановна. - У какого костра? Но потрясающая новость, которую Маргарита Ивановна хотела всем сообщить, била в ней ключом, и она сразу забыла или, точнее, привыкла к тому, что Ленка острижена, потому что опалила волосы у какого-то костра. - Ребята, ребята! Внимание!.. - Она постучала костяшками пальцев по столу, чтобы всех утихомирить. Вни-ма-ние!.. Слушайте! - Голос Маргариты Ивановны звенел необыкновенно радостно: - Сейчас нам Лена Бессольцева расскажет потрясающую новость. - Какую новость? - не поняла Ленка. 767 - Так ты ничего не знаешь? - удивилась Маргарита Ивановна. Разве тебе дедушка ничего не сказал? Быть не может!.. Ну хорошо! Тогда я вам все скажу сама. - Она прошлась между рядами, вернулась к учительскому столу. - Ребята! Я только что узнала, что всем нам хорошо известный Николай Николаевич Бессольцев, дедушка Лены, подарил городу свой дом и коллекцию картин, которую собирали многие поколения Бессольцевых и которая принадлежит кисти их предка, художника, жившего в девятнадцатом веке!.. Теперь у нас тоже будет городской музей! - Музей?! - Ленка была потрясена. - А сколько ему заплатили? - с любопытством спросил Валька. - Я же объяснила - он это все подарил! - вновь радостно сказала Маргарита Ивановна. - Даром? Все-все даром?.. - Конечно, - ответила Маргарита Ивановна. - Понимаете, какое это прекрасное начало для большого и благородного дела. Валька растерялся. Смысл жизни терял для него основу. Он хотел заработать много-много денег, он считал это самым большим счастьем, потому что на деньги он купил бы себе автомашину, цветной телевизор, моторную лодку 768 и зажил бы в собственное удовольствие. И вдруг "кто-то", по доброй воле, отказывался от всех своих богатств. От дома, который стоит тысячи. От картин, которые, говорят, стоят "мильен". И, весь класс ахнул. Ребята, конечно, не понимали истинного значения картин, которые Николай Николаевич отдал городу, но знаменитый дом на холме они знали с самого детства. Он, хотя и был для них сказочным дворцом, про который они знали столько замечательных историй, существовал для них реально. И то, что теперь дом Бессольцевых принадлежит городу, произвело на них ошеломляющее впечатление. Они с восторгом и с большим удивлением смотрели на Ленку, как на человека, имеющего отношение к чему-то им непонятному, но чудесному. В классе было так тихо, так бесконечно тихо, что нерешительный стук в дверь прозвучал особенно отчетливо. - Да-да, войдите! - сказала Маргарита Ивановна. Дверь приоткрылась, и в проеме появилась фигура Николая Николаевича. В руке он держал что-то завернутое в полотенце. И весь класс, повинуясь какому-то новому, непонятному чувству, неслышно встал перед Николаем 769 Николаевичем. - Извините, - сказал он. - Я вынужден прервать вас... Лена, мы опаздываем на катер. - Товарищ Бессольцев... Николай Николаевич! - Маргарита Ивановна схватила его за руку и втащила в класс. - Это вы?! Входите, пожалуйста. - Мы уходим, уходим... - сказал Николай Николаевич. - Мы не будем вам мешать. - Позвольте передать вам... - Маргарита Ивановна разволновалась, наше восхищение... Вы такой человек! Такой человек!.. Я впервые в жизни встретила такого замечательного человека. Спасибо вам! Честное слово, я сейчас разревусь... - Извините, - Николай Николаевич был крайне смущен. "Значит, они уже все узнали, - подумал Николай Николаевич. Значит, кто-то на хвосте уже разнес эту новость по всему городу". Ему стало радостно и грустно одновременно: ему так хотелось сообщить об этом Ленке самому. Дело в том, что когда Николай Николаевич отдавал свое заявление по поводу дома и картин в райисполкоме, то там оказалась его старая знакомая, директор местной музыкальной школы. И она краем уха услышала, о чем он 770 говорил, дождалась его в коридоре, подлетела к нему и спросила подчеркнуто вежливо и немного витиевато: - Николай Николаевич, быть может, вы будете столь любезны, что разрешите не делать из вашего заявления тайны?.. Он кивнул, что вроде бы разрешает, потому что увидел, что она очень взволнована, и обрадовался этому. Однако в следующий момент подумал, что лучше ей этого не разрешать, но ее уже не было в коридоре, в одно мгновение она куда-то исчезла. - Дедушка, ты из-за меня?! - спросила Ленка. - Все картины?! Как же ты будешь жить без них?.. - Не только из-за тебя, хотя и ты сыграла в этом не последнюю роль, громко и свободно ответил Николай Николаевич. Он сделал непривычно широкий жест рукой и стал вдруг раскованным, легким, праздничным, красивым. - Это давнишняя моя мечта. Вчера она снова посетила меня. И вот... Николай Николаевич замолчал и долго-долго молчал, так долго, что успел рассмотреть более пристально, чем всегда, лица ребят, которые сидели перед ним и с которыми у него были такие сложные отношения. Но разве все это имело значение, когда он вышел на такой ясный и 771 простой путь? Николай Николаевич улыбнулся - нет, не им, а себе, своим мыслям, своей адской жизненной силе, которая билась у него в груди. Он смотрел на их лица, стараясь заглянуть в глаза, и увидел, что во многих из них бьется пытливая мысль, а у некоторых безразличие, а у иных даже злость и непонимание. Но ведь есть такие, у которых бьется, бьется и пробивается пытливая мысль, и это будет всегда! И вдруг, мгновенно осененный, вдруг понявший, что это необходимо сделать, он поднял над головой картину, по-прежнему завернутую в полотенце, вышитое крестом, и сказал: - Эта картина мне очень дорога. Тут изображена наша старинная согражданка. - Николай Николаевич строго посмотрел на Маргариту Ивановну. Она была вашей предшественницей, учительницей русской словесности здесь, в городке... сто лет тому назад. - Он улыбнулся: - Не думайте, что это было так уж давно... Она всего лишь моя бабушка... - И добавил просто и тихо: Эту картину я дарю вашей школе. - Дедушка! - сказала Ленка в страхе и в немом преклонении перед поступком Николая Николаевича. - Де-душ-ка! 772 Нет, даже она не могла понять в эту секунду величие своего деда Николая Николаевича Бессольцева. - Идем! - Николай Николаевич крепко взял Ленку за руку. Катер нас ждать не будет, хотя, может быть, мы с тобой и стали знаменитыми людьми. - Я вас провожу, - вдруг объявила Маргарита Ивановна. - Что вы, - возразил Николай Николаевич, - это лишнее. Маргарита Ивановна смутилась и покраснела: - Заодно провожу и мужа... Он у меня этим же катером уезжает. И они все трое вышли из класса. В последний раз мелькнула Ленкина стриженая голова, в последний раз Николай Николаевич сверкнул своими большими заплатками на рукавах пальто, и они исчезли, сопровождаемые полным безмолвием. - На каких людей мы руку подняли! - нарушил тишину Васильев и тяжело вздохнул: - Э-э-эх! - Все из-за Сомова! - Лохматый подлетел к Димке, крепко сжав кулаки. - У-у-у, - понеслось со всех сторон, - Со-мо-о-ов! Одни из них забыли, что они сами тоже гоняли Ленку. Другие забыли, что жили, как будто вся эта история их не касается. Третьи, что хотели заступиться за Ленку, да не успели... Каждый, конечно, чувствовал какую-то 773 неловкость перед самим собой, перед другими, но в этом трудно признаваться, и все они дружно и единогласно обвиняли одного Сомова. - Бойкот - Сомову! - крикнула Железная Кнопка. - Голосуем! Но голосования снова не вышло, потому что в дверь просунулось жизнерадостное и возбужденное лицо Маргариты Ивановны: - Директор мне разрешил. Я только туда и обратно. А вы здесь сидите тихо. - Она хотела уже исчезнуть, но почему-то спросила: - Да, что это вы кричали про бойкот? Опять?.. Кому? За что? - Вашему Сомову! Вот кому! - Миронова впервые за все время этой борьбы побледнела от волнения. - Он дважды предатель! - Сомов - предатель?.. - Маргарита Ивановна по-прежнему стояла в дверях. - Ничего не понимаю. - Он рассказывал вам, что мы сбежали в кино? - спросила Миронова. - Ну, рассказывал, - Маргарита Ивановна улыбнулась. Она подумала про то, что они совсем еще дети, играют в каких-то предателей. - А мы-то думали, что это сделала Бессольцева! - Гоняли ее, били! Смеялись над нею, - сказал Васильев. - А Сомов молчал. - И вы молчали, Маргарита Ивановна, - вдруг тихо, но внятно и беспощадно произнесла Миронова. 774 - Я молчала?.. - Маргарита Ивановна испуганно посмотрела на Миронову и вошла в класс, прикрыв двери. - Я думала, Сомов вам все рассказал... - Она посмотрела на Димку: - Как же так вышло, Сомов?.. Димка ей ничего не ответил и не поднял головы. - Ждите, Сомов вам ответит, - сказал Васильев. - Маргарита Ивановна, катер уйдет! - крикнул Валька. - И муж ваш тю-тю! - Катер?.. - спохватилась Маргарита Ивановна. - Подождите! Я быстро, я сейчас... - Она хотела уйти, но почему-то не ушла. - Давайте спокойно разберемся!.. Значит, Сомов все скрыл? Но при чем тут Бессольцева?.. - Потому что она взяла всю вину на себя, - объяснила Миронова. Она хотела помочь Сомову... А он ее предал! - Вот почему она меня так ждала, - в ужасе догадалась Маргарита Ивановна. - Она думала, что я вам все расскажу, а я забыла... Все забыла. Маргарита Ивановна вдруг поняла, что произошла чудовищная история, что Лена Бессольцева рассчитывала на ее помощь. А она все-все забыла. Это открытие настолько ее потрясло, что она на какое-то время совершенно забыла о ребятах, которые кричали и шумели по поводу Димки Сомова. Собственное ничтожество - вот что занимало ее воображение... 775 - Так кто за бойкот? - Миронова в который раз подняла вверх руку. - Лично я отваливаю, - неожиданно сказал Рыжий. - Сомова презираю... Когда Попов вчера рассказал нам про Ленку, меня чуть кондрашка не хватила. Но объявлять ему бойкот теперь я не буду... Раз Ленка против, то и я против. Я всегда был как все. Все били, я бил. Потому что я Рыжий и боялся выделиться. - Он почти кричал или почти плакал: голос у него все время срывался. - А теперь - точка! Хоть с утра до ночи орите: "Рыжий!" я все буду делать по-своему, как считаю нужным. - И впервые, может быть, за всю свою жизнь освобожденно вздохнул. Маргарита Ивановна мельком, незаметно взглянула на часы: до отправления катера оставалось десять минут. Она подумала, что ей надо немедленно бежать. Муж будет ее ждать, волноваться, что-нибудь сочинит невероятное, вроде того, что она его разлюбила... А она не могла, не могла уйти!.. - Как же ты все скрыл?.. - неожиданно чужим высоким голосом спросила у Димки Маргарита Ивановна. - Как?! - Она в гневе схватила его за плечи и сильно встряхнула: - Отвечай! Тебе не удастся отмолчаться. Придется все 776 рассказать! - А что, я один молчал?.. - вырвалось у Димки. - Вон Шмакова и Попов тоже все знали. Весь класс в один голос выдохнул: - Как?! И Шмакова?! - Ребя... - признался Попов. - Она тоже. Мы вместе с ней под партой сидели. - И ты молчал? - спросила Миронова у Попова. - Из-за Шмаковой? - Из-за меня, - Шмакова улыбнулась. - А другой человек в это время страдал и мучился, - сказал Рыжий. - А мне было интересно, - ответила Шмакова, - когда же Димочка сознается... А он юлил... вилял! - Она повернулась к Димке: - А мы с Поповым, между прочим, Димочка, никого не предавали. Лохматый подскочил к Шмаковой и замахнулся: - Ух, Шмакова! Попов бросился на Лохматого и схватил его за руку: - Поосторожней! - И сказал громко, чтобы все слышали: - Ребя! Она добрая! - Какая она добрая! - Лохматый оттолкнул Попова, но почему-то не стал с ним драться. - Ты вглядись в нее, олух! - Ну, не добрая я! - зло сказала Шмакова. - На добрых воду возят. - Она наговаривает на себя, - сказал Попов. - Не нуждаюсь я в твоей защите, Попик, - сказала Шмакова. - И сидеть я 777 с тобой не хочу. - Она взяла свой портфель. - И вообще я люблю перемену мест, - почти весело, с вызовом пропела она своим обычным голосом. - Сяду я к бедному Димочке, а то его все бросили, - и она села на Ленкино место. Попов пошел за нею следом, будто он был привязан к ней невидимой веревочкой: куда она, туда и его веревочка тащила. Он дошел до сомовской парты и остановился. Не знал, что делать дальше. Молча стоял над Шмаковой. - А я хотел быть сильным, - сказал Лохматый и посмотрел на свой кулак. - Думал, останусь в лесу, как отец. И будут меня все бояться. Все Вальки... И все Петьки... Вот и порядок настанет. - Он ткнул себя в лицо кулаком. Хорошо бы себе морду набить... - Ребя! - вдруг закричал Попов. - Что же это такое происходит?.. Шмакова к Сомову села, а он - предатель!.. - Верно, - сказала Миронова. - Бойкот предателю! - Она подняла руку: Голосую... Кто "за"?.. Никто не последовал ее примеру. Только Попов поднял руку, подержал, уронил и медленно вернулся на свое место. 778 - Эх, вы! - Железная Кнопка с презрением посмотрела на класс. Ну тогда я одна объявляю Сомову бойкот. Самый беспощадный! Вы слышите? Я вам покажу, как надо бороться до конца! Никто никогда не уйдет от расплаты!.. Она каждого настигнет, как Сомова! - Голос у Мироновой сорвался, и она заплакала. - Железная Кнопка плачет, - сказала Шмакова. - Где-то произошло землетрясение. - Все из-за нее! Из-за нее! - твердила Миронова, вытирая слезы. Из-за матери моей... Она считает, что каждый может жить как хочет... и делать, что хочет... И ничего ни с кого не спросится. Лишь бы все было шитокрыто!.. И вы такие же! Все! Все! Такие же!.. - Каждый свою выгоду ищет! - радостно крикнул Валька. - Что, неправда? - А Бессольцевы? - спросил Васильев. - Бессольцевы!.. - Валька презрительно ухмыльнулся: - Так они же чудики, а мы обыкновенные. - Это ты обыкновенный?! Или я?.. А может, скажешь, Сомов тоже обыкновенный?.. Мы детки из клетки, - мрачно сказал Рыжий. - Вот кто мы! Нас надо в зверинце показывать... За деньги. 779 Маргарита Ивановна молча слушала ребят. Но чем она больше их слушала, тем ужаснее себя чувствовала - какой же она оказалась глупой, мелкой эгоисткой. Все-все забыла из-за собственного счастья. Она подошла к Мироновой и положила руку на ее вздрагивающее плечо. Миронова рывком сбросила руку и жестко сказала: - А вам... лучше уйти!.. А то мужа прозеваете. - Не надо так, - сказала Маргарита Ивановна. А сама подумала - поделом ей. Что заслужила, то и получила, хотя сама себя тут же поймала на мысли, что она внутренне старается как-то себя оправдать. На реке раздалась сирена отъезжающего катера. Сирена долетела до класса и несколько секунд вибрировала низким хриплым гудком. - Сигнал! - Маргарита Ивановна подошла к окну: - Катер ушел. Все до единого бросились к окнам. Только Сомов не шелохнулся. Они стояли у окон, надеясь в последний раз увидеть катер, на котором уезжала Ленка Бессольцева - чучело огородное, - которая так перевернула их жизнь. Рыжий отошел от окна, взял оставленную Николаем Николаевичем картину, развернул полотенце, и вдруг его лицо невероятно преобразилось, и он яростно 780 закричал: - Она!.. Она!.. Все невольно оглянулись на него: - Где!.. - Кто она?.. - Она... Ленка! - Рыжий показал на картину. - Как две капли, - прошептал Лохматый и заорал: - Чучело! - Врешь! - сказал Васильев. - Бессольцева! Да, Машка была очень похожа на Ленку: голова на тонкой шейке, ранний весенний цветок. Вся незащищенная, но какая-то светлая и открытая. Все молча смотрели на картину. И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода. Потому что терпеть больше не было сил. Рыжий вдруг встал, подошел к доске и крупными печатными неровными буквами, спешащими в разные стороны, написал: "Чучело, прости нас!" 781