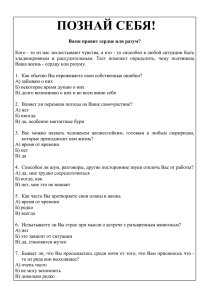05_philosophia igry - Белорусский государственный
advertisement

Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет АНДРЕЕВ АН. ФИЛОСОФИЯ ИГРЫ, или СТАТУС СКВО ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ МИНСК 2012 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРА ЦИВИЛИЗАЦИИ .................................................................................3 ПАРАМОНОВ: «КОНЕЦ СТИЛЯ» – КОНЕЦ МЫШЛЕНИЯ?...................................................6 ЛИШНИЕ ЛЮДИ............................................................................................................................26 ЛИШНИЙ И НИЩИЙ: РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ...................................................29 ОТ «МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» К «СИБИРСКОМУ ЦИРЮЛЬНИКУ»: БЛЕСТЯЩАЯ ДЕГРАДАЦИЯ НИКИТЫ МИХАЛКОВА ....................................................................................39 ХАЙДЕГГЕР, ИЛИ МЫШЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ Ж…Философская увертюра ................................47 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЦИВИЛИЗАЦИИ ..............................................51 Штрих первый: ТЕРРОРИЗМ И КУЛЬТУРА................................................................................51 Штрих второй: ФУТБОЛ И КУЛЬТУРА .......................................................................................57 Штрих третий: ОДИН ОБЩИЙ РОМАН, или ЧТО НАМ ГЕКУБА ПОСЛЕ ГЕКАТОМБ? ....61 ИГРА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОТНОШЕНИЯ ..........................................................67 ФИЛОСОФИЯ КАК ИГРА ...........................................................................................................74 МЕХАНИЗМ ДЕГУМАНИЗАЦИИ ИСКУССТВА ....................................................................79 МУЗЕЙ КАК РЕЗЕРВАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ....................................................................................85 ХРИСТИАНСТВО КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ................................................................93 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАЗУМА ................................................................................98 ФИЛОСОФИЯ РАЗЛИЧИЯ ПОЛОВ, или СТАТУС СКВО ......................................................103 ЭТОТ ДЕНЬ – ПОБЕДЫ! ..............................................................................................................120 ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ЖИТЬ?.....................................................................................................136 ПРОКЛЯТЬЕ НАУКИ – ИМИТАЦИЯ НАУКИ .........................................................................141 ГЛОБАЛИЗМ КАК РЕЗУЛЬТАТ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ..145 ЗВЕЗДА ПЕНТАГОН ....................................................................................................................154 А МОЖЕТ БЫТЬ, Я И РИФМУЮ ЗРЯ?......................................................................................167 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗАКОНЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ..........................................................176 3 ВВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРА ЦИВИЛИЗАЦИИ Субъект и объект цивилизации – человек как существо биопсихосоциальное. Человек как существо биопсихосоциодуховное – это уже объект и субъект культуры. Гении «культуры цивилизации» воспели и оплакали «биосоциала»; человека разумного, духовно-социального (хотя и рожденного матушкой природой) культура по-настоящему еще и не познавала. Стоит понять это, как логика развития цивилизации и культуры видится почти элементарной. А самое главное – логика развития человека, возможности и перспективы его развития. Разными словами, терминами, освещающими разные аспекты с разных сторон, мы говорим об одном и том же. Два языка культуры, психика и сознание, два типа управления информацией, цивилизация и культура, натура и культура, женское и мужское, литература и философия, искусство и наука, образы и понятия, приспособление и познание, душа и ум – все это суть два разных информационных комплекса, взаимосвязанных и взаимозависимых, составляющих так называемое человеческое измерение. По закону целостности, по закону сохранения информации, говоришь об одном – имеешь в виду все остальное. Чтобы понять (воспринять) одно – необходимо разбираться во всем. Вот почему так сложно понять элементарное. Человек – информационная пирамида. Сгусток многослойной и многоуровневой информации. Венец Вселенной. Как это следует понимать? Закон сохранения информации – это закон сведения частных проявлений ко все более общим. В этом смысле диалектический переход количества в качество – это модус закона сохранения информации. Химическая информация порождает биологическую, биологическая – психическую, психическая – духовную. Это и есть структура информационной пирамиды. Тут вам и механика, и органика. А теперь учтем, что, скажем, психическая и уж тем более, духовная информация в свою очередь являются пирамидами в пирамиде. Просто человек, любой человек – это невероятная информационная целостность. Научи его говорить, читать, писать – это уже феномен. Приличный человек – на порядок выше. А разумный человек, личность – это в полном и точном смысле Венец Вселенной. Более высокой организации «информационной материи» просто не существует (по крайней мере, людям об этом ничего не известно). Следовательно, что должно быть главным объектом изучения во Вселенной? Человек, превратившийся в личность. Не физика и химия – а физика и химия в их отношении к духовности. Что мы имеем в реальности? 4 Цивилизация эксплуатирует человека как биосоциальное существо; его информационные и, так сказать, «духовные» возможности в принципе известны. Пора бы переходить к культуре. Но закон сохранения информации предполагает и некое сопротивление информации более низкого порядка при переходе на более высокий уровень. Это вполне естественно: управление информацией с более высоких этажей представляет собой подчинение (буквально: силовое завоевание) низших информационных слоев высшим. Вот почему тело подчиняется душе, душа – разуму (по норме, в идеале). Но ведь и разум зависит от души: феномен «помутнения» разума, феномен информационного сбоя, не такая уж и редкость. Это означает, что с появлением разума де факто, по логике порядка вещей, началась «война» (силовое столкновение) против психологического управления информацией. Иное дело, что со стороны разума как более высокой и «ответственной» за все точки пирамиды гарантируется некий неприкосновенный порог гуманности; психика же в силу своей информационной ограниченности или, если угодно, беспринципности будет сражаться до последнего. До смерти. Для разума (впервые в жизни!) жизнь не есть предмет торга, ее приоритет, ее информационная ценность абсолютны; для психики как высшего уровня самой органики, собственно, жизни как таковой, жизнь ничего не стоит. Не к психике, душе и всевозможным душевным проявлениям (как-то: милосердию, состраданию и т.п.) надо апеллировать человеку, а – к разуму. Вот точно и локально обозначенная проблема: проблема перехода от цивилизации к культуре – это проблема перехода от психологического к разумному типу управления информацией. От человека – к личности. При этом ожидаемое сопротивление психики, вооруженной интеллектом, видится как почти непреодолимое. Такова проблема человека в информационной плоскости. Все это означает: мы еще только начинаем жить, не понимая, что живем вчерашним днем. А будущее – вот оно, рукой подать. Все идет своим чередом, естественно и последовательно. Человек биопсихосоциальный создал то, что, собственно, и мог, и призван был создать: цивилизацию. Это его информационный предел. Здесь некого ругать, ибо не за что: когда не ведают, что творят, персональная ответственность просто не может возникнуть. Другая сторона информационных возможностей универсума: человек, возможно, не желая того, вплотную подошел к созданию личности. Хочется похвалить его за это, однако и здесь не проявляется его персональных усилий. Пока что это безликий и бесконтрольный процесс. И тем не менее сквозь тьму цивилизации пробиваются ростки культуры. Культура цивилизации становится реальностью. Вот эта маргинальность, информационная подвижность и переход сквозь границы информационного качества (от душе – к разуму), постоянная утрата некой самотождественности, размывание природы субъекта (то ли человек, то ли личность? и не кощунственно ли противопоставлять эти «субъекты» 5 один одному, душу – уму? разве они не едино суть?) смущают не только душу, но и разум. Эта вершина пирамиды дается нам с большим трудом. Но уж если сражаться, то сражаться всерьез. У разума есть подлинный стимул: защита жизни отныне становится прерогативой разума, культуры, личности. Неважно, что человек этого не понимает и не поймет никогда. Важно то, что большие цели рождают большой энтузиазм. Ведь став личностью, человек не перестал быть человеком, равно как, скажем, став взрослым, мы не перестаем быть детьми или подростками, или юношами. В принципе в любой момент мы можем побыть детьми, актуализировать в себе «тот», давно пережитый и освоенный, информационный комплекс. А потом без ущерба для души и сознания возвращаемся в свои нынешние берега. Мы едины от сотворения мира, и в то же время – несем в себе разные, «душераздирающие» и «умопомрачительные» начала. Здесь нет загадки, здесь есть проблема понимания. Человеком всегда двигали великие иллюзии, но никогда еще они в такой степени не были похожи на тень истины. Либо назад, в пещеру, либо вперед, к личности. Личность, конечно, создаст свою «Библию», свой свод писаных и неписаных законов, отражающий потребности новой информационной реальности, – создаст, если осилит своего главного «врага» – человека. Пока что личность вынуждена чтить чуждое ей Евангелие. Как говорится в эпоху цивилизации, со своим уставом нечего соваться в чужой монастырь. Из культурного будущего (которого может и не быть, но которое в принципе возможно, согласно закону сохранения информации) контрапунктом доносится: а соваться-таки надо. Гибко, тонко, не мытьем, так катаньем – но надо. Это и есть главная заповедь культуры цивилизации. 6 ПАРАМОНОВ: «КОНЕЦ СТИЛЯ» – КОНЕЦ МЫШЛЕНИЯ? 1 Книга Б.М. Парамонова «Конец стиля» (М. – С-Пб., 1999), несмотря на бравую недиалектичность названия (впрочем, идеально отражающего содержание), читается захватывающе, как детектив, то есть как интеллектуальный ребус. Чем привлекло меня вышеозначенное сочинение? Во-первых, хочется отдать должное (а отдавать должное – моя слабость) лихой раскованности, даже бесшабашности, местами почти свободе мыслей и концептов. Привлекло прямо-таки завидное умение дерзко называть вещи своими именами, «остранивать», заземлять красоту, эту циничную содержанку. Не книга, а восхитительный сеанс окончательной детабуизации, снятия ограничений, срывания масок и смирительных рубашек с культуры. А где стыдливо покоились фиговые листочки (их, кстати, и срывать не надо: опадают при лёгком прикосновении)? Интимные места человечества хорошо известны: секс, еврейство, тоталитаризм (как-то: фашизм, коммунизм), святость искусства, культуры (бога почтенный Борис Михайлович почему-то старается обходить стороной. Так есть бог или нет, Борис Михайлович?). Получился этакий эротический контакт с культурой. Во-вторых, сам «свободный», преодолевший цензуру культурных репрессий и табу тон является как бы вызовом моей концепции, рядом с книгой Парамонова превращающейся в реликтово-репрессивного монстра. «Моей» – можно было бы и пережить. Но для меня «моя» означает «не моя», а научная, претендующая на объективность, ничья. Если бы я не прочитал «Конец стиля», то наивно сказал бы «вызовом культуре», но теперь-то я понимаю, что вызов культуре и есть условие освобождения человека. Становится мучительно больно за бесцельно прожитые. Собственно, меня и не просили беспокоиться и постоять «за культуру», однако слишком уж лакомый кусок передо мной. Не устоял. Надеюсь, Борис Михайлович меня поймёт: эгоизм он числит большим достоинством человека, собственно, единственным. Вот и я туда же. Впрочем, может быть и такое, гораздо менее (или более?) романтическое объяснение: комплекс провинциала. С другой стороны, когда караван культуры повернёт назад, хромой верблюд окажется первым. Где провинция, где столица? Кто знает? Думаю, моя растерянность импонировала бы Парамонову как еще одно доказательство нежизнеспособности репрессивной культуры, загнавшей себя в тупик. Слабым утешением остаётся то, что никто не смеётся в этом мире последним. Психоаналитизм уместен там, где исследовать приходится феномен «чистой» идеологии, т.е. постигать то, как реальные потребности прикрываются фальшивой мотивировкой, сублимируются. Тогда флер идеологии развеивается «как сон, как утренний туман», и мы вновь лицезреем прелести натуры, натурхама или, без экспрессии, человека. Тот ли 7 перед нами случай, когда на каждого мудреца Фрейда найдётся свой психоаналитик? Уместен и оправдан ли разговор о концептах, мифологемах и философемах Парамонова в психоаналитическом ключе? Иначе: что перед нами: дурной сон идеологии или ... Или – это не обязательно собственно интеллектуальная система идей, собственно философия, теория познания; это может быть и некий отважный реализм, который противостоит всем идеологиям, но сам не является их преодолением, просто выигрышная оппозиция культуре – натурой (собой, собственным жизненным опытом: «Худшее из лицемерий – отрицать свой собственный опыт» («Дом в пригороде»)). Что ни говори, а Парамонов занял круговую оборону (часто тактика такой обороны – нападение), ибо тема и исток этого блестящего ума (фундаментальные умы редко бывают столь блестящи: не всё золото, что блестит; кстати, в книге это доходчиво разъяснено) – культуроборчество. Сам баррикадный импульс ассоциируется с чем-то вроде «ты борешься, Боря, – следовательно, ты не прав». Жизнь выше морали, искусства, культуры – вот тема Парамонова. Живой человек (а всякий писатель и поэт, даже философ – живой человек, и творчество в известном смысле есть проекция живой плоти в знаки), «живой» (см. замечательную главу об Эренбурге «Портрет еврея») в отличие от пригнетенного и изувеченного культурой так влечёт биофила Парамонова. И вот его культуроборческое сознание выискивает жемчужные зёрна жизни в навозе культуры, в «говне» мысли, как изволил выразиться острый на язык автор. Этим объясняется зачастую поразительное мелкотемье для столь масштабного замаха. Гора рождает мышь, но зато какую мышь: способную колотить золотые яйца. Начать с того, что автор выступает за демократию-постмодерн как способ нивелирования культуры в совершенно недемократическом, элитарном – концептуальном, следовательно, культурном – ключе. Значит, его вряд ли поймут те, кому это адресовано. Зато книга интересна тем, кто не равнодушен к культуре мысли, кто разделяет с Парамоновым слабость подвергать критическому рассмотрению всё, даже антипатии к большевикам и симпатии к постмодерну. Книга в своём роде великолепна и неуязвима. Следуя принципу «остранения», смещая угол зрения и, соответственно, семантические пласты (вслед за Шкловским остранение трактуется «как способ обновлённого переживания бытия»), автор всегда будет прав, ибо разные пласты действительно-таки присутствуют. Остранение эффективно работает только применительно к идеологии, в том числе и в первую очередь – к искусству. Это забава, основанная на возможности сдвига идеологического восприятия в иную столь же идеологическую плоскость, и потому она действительно может считаться «странным» способом познания. «Остранение» выступает каким-то неполноценным видом познания: оно ничего не объясняет, а только оглупляет процесс познания; надо быть «сдвинутым», чтобы так познавать, и приготовиться к тому, что итогом познания будет серия сдвигов, не более того. 8 Нерепрессивность культуры, строго говоря, понимается как возможность сдвига, идеологических подвижек. При этом в остранение, понимаемое не только как технология, но и стратегия, заложен вектор движения: от иллюзий – к реальности. Спектр же и логика сдвиговостранений не интересуют эту постмодернистскую потеху, ибо «спектральный» анализ отдаёт уже репрессией, внесением порядка пусть и в бесконечную, но всё же поддающуюся упорядочению «странную» стихию. Таким образом, «остранение» можно интерпретировать как в свою очередь идеологическую функцию сознания, функцию освобождения из идеолого-репрессивного плена – с целью познания? Нет, с целью освобождения. На этом точка. Логика реальности осознаётся как приговор искусству, словно искусство не является моментом реальности, плотью от плоти, пусть даже искусство действительно искажает или, если угодно, сублимирует реальность. Если искусство есть, значит, оно кому-то нужно. Это не каприз, а потребность. А потребность нельзя взять и отменить (как водится под предлогом борьбы с репрессиями). Остранение (его апологеты-парадоксалисты должны оценить иронию ситуации: они первые угодили в ловушку, уготованную для простаков от репрессивной культуры) выступает недиалектическим актом дискредитации искусства как феномена ложного, вредного, вуалирующего суть человека и тем самым отвлекающего его от прямого назначения , а именно: борьбы за существование, за хлеб насущный. Вспоминается Пётр Великий, который варварскими способами боролся против варварства, тож прорубая окно в Европу. Дискредитация, однако, не есть познание, также как и остроумие с эрудицией не есть аргумент (тут мы немного забежали вперёд). Если «остранить» сам принцип «остранения» («пусть странен я, не странен кто ж?»), мы с грустью увидим в нём давно известную элементарную диалектическую сноровку, не более того. Грусть, понятное дело, надо расценивать как форму сочувствия Колумбу от культуры, вдруг обнаружившего, что открытый им материк давно известен, нанесён на карту, обжит и освоен. И всё, о чём так хлопочет Борис Михайлович, становится действительно смешно, как он и старается в этом уверить всех, а прежде всего самого себя. Sorry. Парамонов впечатляет шизофреническим умом и сумасшедшей адекватностью его воплощения. Блестящие выпады и эскапады делают этого супервиртуоза, интеллектуального д’Артаньяна неподражаемым. Он обаятелен даже в глупости, даже в идиотизме (что при желании можно считать признаком ума). Он сумел поставить дело так, что его и заподозрить в глупости – компрометантно. Себе дороже. И всё же Борис Михайлович прежде гениален, а потом (потому) умён. Иначе говоря, он (по большому счёту) схож, типологически подобен тем культурным героям, которых он неутомимо и методично, хотя и несколько однообразно, одним и тем же финтом свергает с пьедесталов. Возникает впечатление, что сам он как человек, чрезмерно ангажированный культурой, мстит ей за то, что она отвлекает его от дела жизни (т.е. от самой жизни). Пафос его 9 довольно-таки ядовитой книги – деконструктивен, смертоносен, несмотря на то, что метит он в культурные оковы, удушающие жизнь. Жизнию жизнь поправ? Культура – штука тонкая, и связь её с натурой, с которой они срослись пуповинами, настолько банально кровна, что истребляя культуру – испепеляешь жизнь. Стоит ли играть головой Гоголя в футбол («головой Гоголя нужно играть в футбол», настаивает Учитель, загадочно выступающий за искоренение самого института «учительства»)? Не приходило ли в голову Парамонову то простое соображение, что её, голову, можно использовать и по-прямому назначению – думать? Однако объяснимся. «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно», по словам поэта, представителя, правда, репрессивной культуры. Над чем же смеётся раскрепощенный Борис Михайлович? Надо всем, кроме, кажется, антисемитизма и того фантома, который и он с почтением именует Бог. Злой пересмешник, Парамонов сам попадает в смешную ситуацию, когда то ли он смеётся, то ли над ним смеются (и это не тот случай, когда способность смеяться над собой – первый признак ума: над тобой смеются не вслед за тобой, умным, а опережая тебя, недалёкого). Смеяться надо всем – значит игнорировать гениальную дифференциацию Спинозы: не смеяться – а понимать; это значит смешивать научное и эмоционально-оценочное (идеологическое) отношение, т.е. ставить телегу впереди лошади, что, согласимся, смешно. Генеральная, сквозная установка книги элементарна, как хлопоты кобеля: культура – ложь, а правда – в инстинктах. Вот почему русский неоницшеанец неутомимо ёрничает: дескать, все, все кривлянья и гримасы культуры сводятся (через психоанализ или же минуя таковой) к простым и честным импульсам, исходящим из зоны жизни, из нерепрессивной тяги «потрахаться», то есть из того, что находится по ту сторону морали, по ту сторону добра и зла. При этом диалектика взаимоотношений репрессивной – нерепрессивной культур его мало интересует, оттого так скудна палитра эмоций: от зубоскальства до скалозубства. Самое интересное – прав Борис Михайлович, но как-то так прав на 50 %, что сразу и не поймёшь, правду говорит он или врёт (бессознательно, конечно, врёт, оказываясь сапожником (психоаналитиком) без сапог (во власти бессознательного)). А всё из-за пренебрежения культурой. Та данность, что человек есть скотина и грязное животное – хорошо известна (виноват, известна, но плохо усвоена, и в этом смысле просветительский культурный подвиг Парамонова следует оценить по-достоинству). Но вот остановиться на «этом», сложить лапы и в «эпатажном» стиле покуражиться, объявив признание «этого» единственно возможным прогрессом – не есть ли это перебор, то самое классическое расшибание лба, когда требуется-то всего лишь соблюсти ритуал моления? Понять культуру – не значит отвергнуть культуру. Сама эссеистическая форма уместна там, где речь идёт о научно-популярном изложении 10 материала (для тех, конечно, кто видит разницу между наукой и её адаптацией к человеку из народа, излюбленному герою антибольшевика Парамонова). Борис Михайлович даже и весьма популярен (положение обязывает?), и даже сама «темнота» изложения снискивает ему популярность (народ охотно верит тому, чего не понимает). А как обстоит дело с научной стороной популяризируемых взглядов? Мне по душе метод Парамонова: за деревьями видеть лес, за частным – общее. Поэт действительно всегда больше, чем поэт, ибо в его творчестве сказывается больше, чем он сказал (поэзия ведь глуповата, и поэт не ведает, что творит). Отдавая должное Борису Парамонову как поэту культуроборчества, воспользуемся возможностями метода. 2 Архетип ситуации, бесконечно воспроизводимый в книге (все разные культурные сюжеты – об одном и том же): культура, тем более культура высокая (речь идёт в основном о художественной культуре), есть гнусная и лицемерная сублимация. Она заслоняет жизнь, уводит от жизни, неверно её интерпретирует. Фокусы психики причудливо отливаются в монолит идеологии, и потому венцом теории познания выступает психоанализ, распутывающий эти психоклубки и показывающий их виртуальную природу. «Ах, Вася, скажите, отчего это соловей поёт? – Жрать хочет, оттого и поёт»: таков, в интерпретации Парамонова (цитата – из Зощенко), немудрёный культурный механизм сублимации. Или (из Чехова): «Если зайца долго бить по голове (репрессировать – А.А.), он и спички научится зажигать» (т.е. овладеет неким культурным навыком). Вывод: «бедный заяц Бердяев» («– 121», статья о взаимоотношении гомосексуальности с культурой). Смысл: бердяевский вариант экзистенциальной философии – «вариант гомосексуальной маскировки». Соответственно, «творчество – это индивидуальная смелость, превращающая комплекс в норму». В таком случае какова ценность сублимации, творчества художественного, и даже научного? А никакой, естественно. (Тут нужна не смелость мысли, а смелость «голого короля», уверенного, что «сдвиг» есть норма.) Никакой. «Творчество при таком понимании демистифицируется, любая жизнедеятельность, требующая усилий, становится ему равна.» Хочется воскликнуть: «Ой ли, Борис Михайлович? Любая ли? Равна ли?" Но мы сохраним, как нам и предписано, мину серьёзно-репрессивную, не будем выбиваться из стиля, не станем скоморошничать, а спросим ответственно: а как Вы измеряете тщету духовных усилий золотаря, золотопромышленника и златоуста? Вы что же, всерьёз полагаете, что деньги, этот всеобщий эквивалент, не пахнут? «Жизнь выше морали» и «жизнь, имеющая моральное измерение, которое не подавляет жизнь, сообщая ей, вопреки умозрительным опасениям, высшее витальное качество» 11 (это уже моя позиция) – всё едино? Весь мир бардак, все люди, понимаешь, не люди, так что ли? И Вы предлагаете закрыть проблему уже самим фактом наличия жизни? Вначале была жизнь, а слово было о жизни, и слово было глупым, потому как сублимированным. И всё? Как говорят в таких случаях, не густо. А еще культурные люди выражаются так: мне кажется, коллега несколько неправ, утверждая, что Земля имеет форму чемодана. Мне тоже, признаться, кажется, что Борис Михайлович несколько того, хватил лишку. В сущности, перед нами либо религиозное сознание в его авангардном варианте (так сказать, дань просвещенному времени), либо вульгарный материализм, который вполне может быть формой сознания религиозного. Парадокс-с. Послушаем, однако, Парамонова дальше (цитаты, и предыдущие, и несколько последующих, взяты из программного эссе, давшего название всей книге): «Ценность человека определяется фактом его эмпирического существования, и демократия не считает себя вправе предъявлять ему дальнейшие – культурные – требования, вырабатывать в нём нормальное, нормативное «я». Фактичность и есть ценность, это данное, а не заданное, наличествующее, а не долженствующее быть». Звучит прогрессивно. А вот ещё: «Стиль бесчеловечен. Стиль идеологичен, как всякое мировоззрение, но демократия принципиально отвергает мировоззрение, идеологию, она занята исключительно решением текущих проблем, её метод – частичная социальная инженерия (Карл Поппер)». Что мне здесь нравится, так это честность. О масштабности личности Бориса Парамонова можно судить уже по масштабности заблуждений. Цель литературы «как формы сознания» – её конец («Ной и хамы»). Или вот ещё цитата («Ион, Иона, Ионыч (конец русской литературы)»): «Литература – русский коллективный невроз», и «патогенная его подоснова несомненна». После таких автопсихоаналитических пассажей, надо полагать, Парамонов – это никакая не литература, книга его не книга, да и поэт он не настолько, чтобы прописаться там, где «местопребывание поэзии». Обсудим и это. А вот уже, судя по всему, осиновый кол в гроб литературы как культуры («Голая королева»): «Высота художественной культуры находится в прямо пропорциональной связи с угнетённостью и отсталостью масс» («Пушкин стоит псковского оброка»: преподносится как цинизм «барственного эстета» Герцена; на самом деле читай «не стоит». Стоит – или не стоит, или – или: вот по какой познавательной технологии изготавливался кол. Грубая работа.) «В высокой культуре страдают и народ и творец»; «современная культура» же «борется со страданиями, хочет избавить людей от страданий. И это избавление происходит за счёт духовных вершин: меньше страданий, но меньше и вершин». Читая такое, хочется воскликнуть: Парамонов себя под Лениным чистит – не в смысле стиля, нет, в смысле овладевания всем идейным богатством мировой культуры. Но зная, как Парамонов относится к Ленину и культуре, я удержусь от восклицания. Вот такой «демократический 12 поворот» темы (глава из цитируемой работы называется «Демократия как эстетическая проблема»). «Эстетика демократии – (...) то, что называют «постмодернизм». Отсюда следует («Красное и серое»): Коммерциализация искусства – громадный культурный сдвиг» (чем хуже для духа – тем лучше для человека, ибо, как выяснилось, человек и дух – не едины суть). Или: «Учитесь торговать – и вы спасётесь», т.е. искупите культурные грехи («Поэт как буржуа»). Продолжим «Красное и серое»: «нерепрессивная культура» видит свою задачу в том, чтобы превратить человека «не в гражданина, а в потребителя». «Высокий художник служил эксплуатации потому, что закреплял нормативность культуры в творчестве красоты. (Нет, всё же обширна тень Ильича! – А.А.) А жизнь некрасива, и в этом качестве имеет право на существование. Это и есть радикальнейшее из прав человека: право быть собой в своей эмпирической ограниченности, жить вне репрессий нормы». Вот она, «радикальная смена духовных вех» («Бессмертный Егорушка»). Ей-богу, Борис Парамонов с его тягой к отчётливости и недвусмысленности формулировок мог бы претендовать в культуре на большее, нежели на «интеллектуальный эпатаж». В таком идейном контексте Парамонова интересует Гоголь как отец «заброшенного дитя России – Чичикова», «поэта-буржуа»; Чехов как «самый настоящий мелкий буржуа» и «провозвестник буржуазной культуры» (призывающий «дуть в рутину»); Зощенко, проза которого – «ступень в становлении русского демократического сознания», ибо он был «певцом человека труда», «потребителя», человека, взятого «в своей эмпирической ограниченности»; Леонов, вызывающий «невольное восхищение», любопытен тем, что «разочаровался он в художестве как высшей форме культурного бытия» и из «самого художества, из этого священного безумия, сделал форму доходной деятельности!» («Бессмертный Егорушка»). И Шкловский, и Стивен Спилберг, и Эренбург, и Чапек, и Цветаева интересны в непоэтической, допоэтической, некой первозданно-жизненной ипостаси, как вариации на тему «жизнь не только вне морали, но и вне культуры» («Солдатка»). Вырисовывается цепочка, замыкающаяся в круг: постмодерн, где реализован «конец стиля», – демократия как проекция постмодерна ( и даже – христианства, религии в широком смысле, см. «Пантеон: демократия как религиозная проблема": «в нашем контексте демократия обретает если не религиозный смысл, то соотнесённость с религиозными содержаниями»), – потребитель как субъект демократии, – еврейство как идеальная – пластичная, счастливо избегающая определённости – человеческая субстанция, без зазора стыкующаяся с демократией, плюрализмом, потребительством и постмодерном, – культура, где «приватизация бытия» разрывает цепи репрессивных норм и оборачивается «концом стиля» – где властвует антикультура, натура... «Флора и фауна дают урок постмодернизма» («Конец стиля»). 13 Таков «культурный проект» Парамонова, хотя сам он в стиле «диалектического материализма» скромно отводит себе стороннее место в истории (в парадоксальном соответствии с антимарксистским постулатом: «личность формируется утратой исторического горизонта», здесь и сейчас): «моё «разрушение эстетики» – только посильная констатация свершившихся фактов (жизнь идёт своим путём, отвергая навязываемое ей «высокой культурой» – А.А.), а моя ересь в том, что я эти факты не осуждаю, а приветствую». Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую... Как не поэт? Поэт, поэт – уже в силу диалектики единичного и всеобщего: каждый человек поэт, еврей и демократ. И коммунист. И скромничать нечего: книга – «о поистине фундаментальных сюжетах бытия и культуры» («Зощенко в театре»). Радикальный нюанс в качестве контрверсии: осуждение равно как и приветствование фактов и называется идеологией. Несмотря на то, что Борис Парамонов пытается философской скороговоркой фундаментально, именно культурно легализовать свой проект, рассуждая о «демократическом мышлении» и «демократизации знания», суть которых сводится к «проблеме редукции», т.е. «сведении высшего к низшему», что парадоксально именуется прогрессом (психоанализ Фрейда понимается как механизм и инструмент подобной редукции «духа к сексу») («Голая королева») – несмотря на это мы имеем дело с классическим феноменом идеологии, с маскировкой «под науку» и со всеми вытекающими отсюда репрессиями. «Время не переспоришь», считает чуткий к веяниям эпохи Парамонов, и считает это убойным аргументом. Поэт, конечно, поэт. Спорить со временем не следует: к чему бесплодно спорить с веком (а вот это сказано уже не поэтически, умновато для поэзии)? Время надо понимать. 3 Конец стиля, конец организации и определённого порядка, который источает определённый смысл, – означает конец разумного отношения. А конец разумного отношения (чаемый закат «репрессивной культуры») означает начало свободной от «репрессий» разума – но подчинённой зависимости от неразума, инстинктов, эпохе. Природа не терпит пустоты. Отмена культурной репрессии означает репрессию натуры. «Где начинается эклектика, там зарождается свобода» («Конец стиля»). Всё это, видите ль, слова, слова, слова, т.е. постмодерн. Эклектика как форма свободы от культурного порядка одновременно есть форма зависимости от хаоса натуры, иными словами от порядка куда более бесчеловечного. В постмодернистских эпатажах, претендующих на суперноваторство, поражает прежде всего дефицит новизны. (Кстати, эпатаж, эксгибиционизм – это ведь не столько культурная, сколько психоаналитическая проблема. Однако оставим сей скользкий сюжет. Кстати, Борис Михайлович на нем несколько раз самоуверенно поскользнулся, а может и упал. Но оставим.) 14 Вдоволь нахохотавшись над психической, иррациональной (выдаваемой, заметьте, за разумную) потребностью в отыскании ограниченного числа простых и вместе фундаментальных законов, «норм», исходя из которых можно было бы распутывать все сложности мира, постмодернисты попали под власть другой психической потребности: отречься от разумного отношения и остаться с чувством вселенского абсурда, т.е. с чувством жизни. Или – или. Что же в этом принципиально нового или революционного? Не нова не только «проблема», но и выход из метафизически сработанной ловушки указан уже давно. Его усматривают в диалектике конечного и бесконечного, единичного и общего, простого и сложного, порядка и хаоса и, следовательно, репрессивной и «нерепрессивной» культуры. Диалектически воспитанный ум (иначе: взращенный в традициях репрессивной культуры; то, что называют умом, можно вырастить только в культуре, детище ума – т.е. в среде по определению репрессивной, круто замешанной на стремлении к порядку, если угодно, на желании за деревьями увидеть лес), верный принципу единства, взаимоперехода и взаимодополнительности противоположностей, не допустит абсолютизации ни одной из них и не станет одну интерпретировать полностью через другую или, напротив, закрывать глаза на их взаимопроникновение. Постмодернисты допустили такое – и оказались в ситуации намного более смешной, нежели та, над которой они потешаются: «конец стиля» и «конец репрессивной культуры» они приняли за чистую монету. Для них условием победоносного шествия нерепрессивной культуры стало отсутствие культуры репрессивной. Вот и поспешил наплевать в колодец, из которого ещё пить и пить («петь» в его понимании), неосторожный, поверивший, по сути, в конец света Борис Михайлович Парамонов. И напрасно. Если уж говорить о новаторстве постмодернизма, то заключается оно в новых акцентах в рамках «старой», традиционной теории познания, а именно: диалектические превращения, как обнаружили пересмешники, граничат с абсурдом и то и дело трансформируются в него, как курица и яйцо. Постмодернистский ум – это ум, вкусивший диалектики, но не справившийся с ней, изувеченный ею и, в результате, ум капитулировавший, объявивший внерациональное (нерепрессивное) постижение (ощущение) реальности Абсолютом. Согласимся: сводить всё к матрице универсалий и не считаться с «генетикой» особенного и единичного, этой священной для любого постмодерниста категории, – грубая интеллектуальная халтура; но не видеть за отдельным закон всеобщего (за деревьями – лес) – это невежество. Вот у Парамонова много, очень много деревьев, а лес жидковат. Патологическая эрудиция, избыток информации явно ослабили методологическую (репрессивную, однако) узду. Вот уж поистине: все разумные дороги ведут в пучину бессознательного. Бессознательное никогда не врёт; но оно никогда не скажет правды. Тривиальность концепции, отменившей концептуальность как таковую, порождена младенческим лепетом интеллекта. А мало интеллекта в определённом смысле означает много стиля, художества, красоты. Со стилем 15 трудно быть последовательным, ибо последовательность в данном случае означает диалектичность, ту самую божественную непоследовательность, которой так не хватает «воителю» Парамонову. У него искусство выступает всегда и только противовесом жизни, т.е. как феномен идеологии. Борис Михайлович в упор не замечает того, что как феномен эстетики, той самой чистой эстетики, которая, вроде бы так нравится Парамонову, демократическому эстету, как «игра», «божественный пустяк» – искусство целиком и полностью на стороне жизни. Таким образом, прежде чем грубо манипулировать функциями искусства (демонстрировать, в сущности, тот же социологизированный, т.е. марксистский подход, только с точностью до наоборот, вывернутый наизнанку, а изнанка социума есть не что иное, как «флора и фауна»), следует разобраться с природой художественного сознания. Таковая природа и в Америке природа, демократии или фашизмы, евреи, русские и гомосексуалисты (а также коммунисты) не могут изменить природы. «Путь разума завёл меня в беду, теперь путём безумия пойду...» Счастливого пути, как говорится. В качестве напутствия хочется сказать следующее. Конец стиля ещё не означает конец эстетического, а вот конец эстетического именно означает конец стиля. Не торопитесь, а то успеете. Конец стиля – начало научного отношения, в свете которого игры в репрессивную или демократическую (нерепрессивную?) культуру гроша ломаного не стоят. Абсурд, хаос, ненорма как были, так и остались моментом диалектики – моментом, цементирующим порядок, а «репрессированные культуристы», оказавшиеся на свободе, качают свою интеллектуальную мышцу просто так, в стиле «силы ради силы», ничуть не ностальгируя (боже упаси!) по нормативности порядка. А если и ностальгируют, то это уже бессознательно, и разум здесь не при чём. Возразим: само бессознательное вычислено по технологи разума и является ничем иным, как моментом сознания, сам постмодерн с его открытием «репрессивной» культуры есть продукт (хотя и неполноценный) разума... Впрочем, всерьёз дискутировать с постмодерном, «репрессировать» вольный, свободный от пут разума народ, абсолютизирующий психический, иррациональный компонент свободы, всё равно что преподавать логику в дурдоме. Сумасшедшие всегда правы. 4 Я в восхищении от философских замашек (может быть, лучше сказать манер? Нет, манеры – это пристало барственному интеллектуалу Герцену, у демократов должны быть замашки: сохраним диктат стиля) Бориса Парамонова, который с вальяжностью маэстро, постмодерново, мгновенно разгребает вековые философские завалы. В случае если теория какого-нибудь Гегеля противоречит его, Парамонова, младо- (и мало-) интеллектуальной концепции, тем хуже для теории какого-нибудь Гегеля. Просто, походя, не 16 оставляет камня на камне. Творит чудеса, я бы сказал, имея в виду именно то, что сказал: творит чудеса, фантомы, не имеющие отношения к реальности. Ведь по большому счёту основная претензия к культуре – обвинение её в репрессивности, заданности (из лучших, конечно, побуждений) – это претензия к тому компоненту культуры, который называется разум. Отнюдь не коммунизм или фашизм с их бесчеловечностью так беспокоят Бориса Михайловича (это была бы мораль), а то, что общества эти были сработаны «под идею». Неважно, хорошую или плохую, идея плоха уже тем, что она идея – субстанция, противостоящая жизни. Идея – это порядок и иерархия. Вот против внесения в жизнь какого-то бы ни было, пусть мало-мальского порядка и направлена главная идея книги Парамонова. И тут «один из самых оригинальных и острых мыслителей современности» (так указано на обложке остроумной книги) выступает с самыми банальными нападками на культуру. Он, обжёгшись на молоке идеологии, даже в искусстве видит прежде всего идеи, отсюда – фобийная тяга к искусству как «игре». Его культурными героями-мыслителями становятся невразумительные Бахтин, Шкловский, Хайдеггер, в мыслители попадают женщина (Палья), русские религиозные путаники – всё публика, так или иначе дискредитировавшая мысль, рациональный подход как таковой. Особенно, конечно, нравится психоанализ: жрать хочет человек, потому и поёт (то бишь думает). Психоанализ тем хорош, что, подумав, приходит к заключению: думать всегда вторично, производно, факультативно. Первичны базовые инстинкты. Секс стал едва ли не главным героем книги, в смысле главным контрагентом, противостоящим интеллекту. Редукция «мозга к паху» (с восторгом цитирует Парамонов поэта) – вот тема книги. Ну, что ж, это действительно главная тема культуры, только с поправкой: не мозг с пахом являются главными «субъектами» и «производителями» культуры, полюсами, смыкающимися в целостность (редукция по Парамонову – это какая-то ньютоновская механика, скрещённая с павловской физиологией), а психика и сознание, душа и ум, моделирующее и рефлектирующее сознание. И до сих пор именно искусство, продукт сознания моделирующего, противостояло собственно мыслительной деятельности, а у Парамонова оно же, искусство, и стало главным носителем идей, умом и сознанием. Какой-то озадачивающий, совсем уж редуцированный парадоксализм. Таким образом, под одну гребёнку сострижено всё в культуре, где только шевелятся зародыши мыслей. Собственно, кастрирована сама культура. И остроумие провозглашено де факто высшей формой мышления. Теоретически книга не дотягивает даже до корректной постановки основной проблемы культуры. Однако ларчик открывается просто: остроумие – результат сведения «мозга к паху», новоявленный фиговый листочек. Нападая на «идею», Парамонов оказывается в компании с теми, кого он клеймит как идеологов (например, Толстым Л.Н. или Достоевским, автором легенды о Великом Инквизиторе), и становится в оппозицию к тем, кого 17 насильно записывает в свои союзники (к тем же Пушкину и Чехову). Это был бы длинный разговор, к тому же разговор о моей концепции, поэтому ограничусь тезисами, разбросанными в статье. Вернёмся к жидковатой философии Бориса Михайловича. В одном месте книги он проговаривается: «Я попытаюсь сейчас объяснить философию Лосева своими словами, без эйдологии и диалектики; самое смешное, что это вполне возможно». Самое смешное здесь то, что это кажется возможным. «Тёмные методологии» не интересуют Парамонова, его интересует исключительно свет, идущий от инстинктов, от «паха». Другими словами, самое смешное – дилетантизм мышления, идущий от установки на вторичность мышления. Гораздо важнее – знать, нежели понимать. Поэтому «фронт культуры» Парамонова – необъятен: от «какого-нибудь Антисфена», который «оказывается интересней и нужней Сократа», до Вуди Аллена и Тимура Кибирова. И Парамонов везде побеждает. За счёт поверхностности, отсутствия глубины, за счёт того, что не додумал до конца. Пирровы победы. И вот здесь «парадоксалист» Парамонов оказался прав (я бы сказал, он перехитрил самого себя): та культура, которая ему кажется единственно возможной, которую он побеждает (культура произвольно творящего, субъективного, моделирующего сознания), действительно заслуживает критического рассмотрения (но опять же – не отрицания). Художественная культура, культура «искажения», должна быть осознана в качестве таковой. Но чтобы верно понять мотивы и сверхзадачу искажения, надо диалектически совместить его с объективным, научным, неискажающим познанием. Парамонов же, как «клоун» Лосев («Долгая и счастливая жизнь клоуна»), делает трюк: формально отрицает отрицание, не обогащая первое – вторым. Получается «дурное» отрицание. Боюсь, всё то, что я мог бы ещё сказать о бумерангах познания, будет творчески мыслящим людом воспринято как «морализаторство» (в переводе с научного языка культуры на свой, родной, образно-символический; если на то пошло, ни эллина, ни иудея – а две культурные «породы»: какие-нибудь Сократ, Антисфен, Спиноза и т.п., с одной стороны, и легионы идеологов-художников – с другой. Но это так, к слову.). В той же работе сказано: «самую высокую культуру можно понимать как некую высокую клоунаду, то есть игру. Такие трактовки культуры неоднократно давались самыми высокими мыслителями человечества». Надо понимать: самоликвидация культуры, следовательно, разума – высшее достижение того же разума. Или: разум годится лишь на то, чтобы уразуметь, что всё в мире неразумно, некультурно. Вот, очевидно, роковой импульс и точка отсчёта (концептуальная «печка») умственных усилий Парамонова, подвигнувшие его на культурный хадж в Мекку психоанализа: разъяснить неразумным, насколько они, редукционисты, мудры. Скажите после этого, что Борис Михайлович не дружит с диалектикой. Здесь всё проще: он её не понимает. Перефразируя «вычеканенный» самим автором афоризм, перечеканим: любая мысль ценна ровно настолько, насколько она мысль. В сущности, Парамонов выполняет ту же миссию в 18 культуре, что и Наташа Ростова: делает нашу жизнь не «лучше», но «более отвечающей замыслу о человеке» («Пантеон: демократия как религиозная проблема») – и, что важнее всего, делает это не путём познания, а путём эмпирического приспособления, типично женским, извилистым, внешне парадоксальным, а по сути ортодоксально-прямолинейным способом. Откуда у автора такая деструктивная тяга к редукции и авторедукции в «фактичность», в эмпиризм, в «жизнь, к «серым рыбкам», вспять по эволюционной спирали, в зоологию (не в омут ли психоанализа меня опять заводит)? Всякий очень культурный человек, а тем более человек, всю жизнь «по призванию» ковырявшийся на ниве культуры, не может не испытывать глубокого разочарования, глядя на выращенные им плоды. Даже у мастеров культуры – жалок результат, что уж говорить о рядовых тружениках, серых рыбах-с. Натурально, хочется плюнуть в морду культуре за профуканную жизнь. Культура – дура, вот и культуротворец чувствует себя в дураках. С кем поведёшься... «Что мне «это» дало?» – лежит в подтексте плевка. Чувствуешь – я бы семижды семи раз выделил это слово: не понимаешь, а чувствуешь – себя обманутым, словно жизнь, какая-то настоящая, завидно содержательная, прошла стороной, пока ты там ковырялся. «И вдруг мелькает мысль-заря: а может быть я и рифмую зря?» Это Маяковский. А вот Парамонов: «Вопрос ставится: а зачем романы писать?» («Рэпперы в Дарлингтон-холл»). Другая жизнь проходит на какой-то другой ниве. Возникает желание свести счёты, разоблачить грандиозную мистификацию («сама культура «карикатурна» «, там же, в «Рэпперах»), а на эту благую цель жизни не жалко. Мне отмщение, как бы, и аз воздам. Такова логика чувств. Понимаешь-то совсем иное (если способен понимать: тут никакой репрессии): что никакого обмана и не было. Просто сама жизнь человека есть жестокая мистификация (по меркам человеческим, разумеется): вся культура есть отрицание белокурой бестии, но живёт эта самая культура именно за счёт бестиарности. Поняв закон жизни, ещё больше уважаешь культуру, ненавидя и любя. Словом, в своём святом гневе супротив культуры бывшие создатели культурных ценностей, культуртрегеры, оказываются в положении этаких шалунов: малыш уж отморозил пальчик (или там что-нибудь ещё), ему и больно и смешно. У него «вава», рана, нанесённая культурой. Еще раз повторю: и чувства естественны, и эмоциональная реакция на них. Неестественно одно – логика разума, которая тоже должна быть естественной, нормальной. Тот забавный факт, что «так нас природа сотворила, к противуречию склонна», можно, по принципу остранения, считать диалектикой. И тогда окажется, что мы ходим вокруг да около, не решаясь сказать главное: речь идёт о двух разных культурах – художественной и собственно научной, в основе которых лежат, соответственно, моделирующий и рефлектирующий типы сознания. В рамках культуры «художественной», обижающейся (несущей свою информацию на языке образов-моделей), остранение означает переход в иную «веру», со всем 19 сознательным обнажением игрового момента такого перехода (по Спинозе «и плакать, и смеяться, и ненавидеть»); если же мы «остраниваем» одну культуру не другой верой в рамках одной культуры, а другой культурой, один язык культуры, образный, другим, абстрактно-логическим языком понятий, то мы тем самым переводим «игру» в план научный (по Спинозе: не плакать – а понимать), где смех является тем самым смехом без причины. Парамонов (по большому счёту) говорит с нами языком моделирующего сознания, привлекая при этом материал (концепты), неподъёмный для «художества». Он, конечно, анализирует, что само по себе отдаёт наукой, но делает это литературно, даже художественно. Вот меня и заинтересовал феномен Бориса Парамонова как человека, личности (выступающей за полезное обезличивание), остановившейся у последней черты: не у той черты, за которой кончается культура и начинается натура (этот сюжет затаскан и малопродуктивен в познавательном отношении, ибо весьма приблизителен, спекулятивен, напоминая что-то вроде: то ли он украл, то ли у него украли), а за которой кончается одно, моделирующее сознание (культура, если угодно), и начинается другое, рефлектирующее. Вся неоднозначность (читай амбивалентность) такой классически маргинальной позиции сказывается в том, что он, будучи вышколенным интеллектуальным постмодернистом, балансирует на грани мысли и чувства, на грани двух культур. Само по себе это ни хорошо, ни плохо. Плохо то, что он допускает (бессознательно?) подмену одного сознания другим, анализ научный – «анализом», заказанным идеологией. И результат подобной как бы научной позиции, обрушивающейся на идеологию культуроцентризма (по задумке – на идеологию как таковую), – идеология культуроборчества. Над чем посмеешься, тому и послужишь. Результат серьёзных культурных усилий – всего лишь очередное художественно-идеологическое остранение. Культурфилософсая интенция книги – быть живым, живым и только, до конца. Только живым означает: перестать быть культурным, перестать думать. Вот тут-то и возникает сакраментальный вопрос: мастером какой культуры является Парамонов, какой культуре так пассионарно он сопротивляется, какую культуру предлагает он вынести ногами вперёд? Художественную? Научно-гуманитарную (находящуюся, кстати, в лежачем положении, когда её бить удобно, но не принято)? Жизнь выше любых, всех и всяческих идеологий, «вещество жизни» почему-то отторгает идеологию: на этом простом основании Парамонов решил, что он, жизнелюб, находится вне идеологий. На самом деле получился очередной миф, миф о том, что жизнь может обойтись без мифа. Не может, и доказательство тому – книга культуроборческого Прометеямифотворца Парамонова, замаскировавшегося под серое. Не самый худший цвет, согласен, но суть в другом: маскировка, имитация это или «правда жизни», просто правда? Писатели, поэты и прочие сублиматоры суть не кто иные, как самые ярые защитники жизни, ибо чувственно (психологически) воспринимать – 20 уже поклоняться Эросу. Не покушаются они на Эрос (провозгласить, заметим, можно всё что угодно), хотя бы потому, что невозможно сделать это средствами искусства. Танатос – это анализ, тот самый «конец стиля». Накаркал, на каждом шагу накаркал себе Борис Михайлович. Ведь он, многоопытный человековед, продемонстрировал тип сознания культурного дикаря. Я бы покривил душой, если бы воскликнул: столько знать и при этом мало что понимать в том, что знаешь. Это более, чем естественно. Это культурная (идеологическая) форма приспособления к себе любимому, многознайке. Борис Михайлович Парамонов прикидывается «просто Васей», но на самом деле поёт как тот соловей, что жрать хочет. Петь отнюдь не всегда значит притворяться, что ты не хочешь есть. В данном случае – петь, чтобы жить, а не жить, чтобы петь. Ведь как рассуждает автор? Литература должна стать средством к существованию, способом добывать «жратву», чтобы петь не хотелось. Петь, творить культуру – если не стыдно, то лицемерно. Вот сверхчестностью сверхчеловека продиктованные строки: «Что делать – мне нравятся люди, умеющие быть богатыми» («Бессмертный Егорушка»). Как говорится, дело вкуса. Кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка. Быть богатым – быть вне культуры: тут как бы и психоанализа не надо. Всё как бы ясно. Кроме одного: зачем писать элитарную по проблематике книгу, которая явно не принесёт богатства, жратвы? Зачем «петь»? Нет ли в пении момента, который невозможно редуцировать к «паху» и «жрачке»? Есть такой момент, конечно, и момент этот: искусство больше, чем натура, но явно меньше, нежели культура. Идеология несводима к результату, который может дать и обеспечить психоанализ, она вообще не может быть познаваема только психоанализом. Дело в том, что идеология далеко не тождественна «бессознательному», хотя «оно» является существенным компонентом всякой идеологии. Другой не менее, а часто и более существенный компонент – нечто прямо противоположное бессознательному, но в то же время в значительной степени определяемое им: концепция, система идей, как бы (по форме) собственно сознание. Принципиально важно то, что оба идеологических компонента несводимы один к другому при всей их взаимозависимости и неравноправности. (Заметим, что соотношение компонентов и их «удельный вес» в разных типах идеологий – разные.) Идеология как тип сознания, моделирующего сознания не может быть исключительным предметом психоанализа. С другой стороны, идеология не исчерпывается «прямоговорением» («творчество обессмысливается, перестаёт быть нужным как творчество, как метафора и миф, подменяется (выделено мной – А.А.) прямоговорением» («-121»). Прямоговорение, если под ним разуметь абстрактно-понятийное, обходящееся без посредничества образов «говорение», – это логическое воздействие на сознание. «Миф и метафора» – это воздействие на чувства и подсознание. С какой это стати «творчество перестаёт быть нужным» и «подменяется»? Потому что Парамонову 21 захотелось редуцировать и усечь человека, обойтись одним полушарием? Подмена и есть классическая репрессия. Отсюда следует совсем не то, что следует у Парамонова, а у него следует: «главное духовное событие» эпохи – «превращение художника в коммерсанта» («Бессмертный Егорушка»; речь, правда, идёт об «истории русской культуры советского периода», но содержание этого периода осознаётся как основное содержание эпохи «обуржуазивания», эпохи «смены типов культуры», «высшей» на «низшую», «культуры» на «цивилизацию» («Голая королева»)). Главное духовное событие эпохи – изживание идеологической иллюзии, мифа о том, что человек может обойтись без культуры, без «метафоры и мифа», одним только утилитаризмом и плоским рационализмом; с другой стороны, изживание мифа, согласно которому человек может обойтись только мифом и метафорой, религией и искусством, без теории познания и философии сознания. Убогий рационализм уже затеял две мировые войны, его же логика неуклонно подталкивает к третьей – и это будет реальная цена «слов», пустяков, идеологического трёпа и стёба. Репрессии необходимы, но репрессии, понимаемые как «осознанная необходимость», а потому становящиеся репрессиями во имя жизни, т.е. во имя того, чего ради их стремятся отменить. Получается своего рода «демократический императив»: не можешь думать – не думай, будь рыбой, но оставь Гоголя и Сократа в покое. Таким образом, идеология «подведомственна» теории познания, но уж никак не психоанализу. Получается буквально: «мозг к паху». Плохо получается, потому что неверно. Вот тот маленький, на непросвещённый взгляд, теоретический прокол, который делает культурный проект Парамонова пустым, постмодерновым, словами, стилем, остранением. В культурно-философском смысле – грош ему цена, в рыночно-базарном – не знаю (но желаю, чтобы восторжествовал закон компенсации), в эстетическом – впечатляет: приятно, любопытно. Местами глубоко. Но эта тема увела бы нас в сторону, в мою сторону. 5 А теперь обратимся к излюбленным русским коррелятам, русским сюжетам, русским идеям Парамонова. Боже сохрани записывать Бориса Михайловича в патриоты, он этого не заслужил, и я не хочу его обидеть, но отчего не предположить, что судьба России не вовсе безразлична Парамонову? А в отношении России всё, что сказано в книге – совершенно справедливо. Именно так: менталитету русских не хватает «еврейства», жизни – Чичикова, Лопахина и повара (он же лакей) Смердякова, общественному устройству – демократии, искусству – деидеологизации (тут, правда, идеологическая заморочка; любому искусству не хватает деидеологизации (а если хватает – то это уже не искусство), даже еврейскому). Но всё, что справедливо в отношении России, в отношении искусства и тем паче культуры более, чем несправедливо: это попросту 22 неверно. Миф. Вот мы и попытались демистифицировать культурную концепцию Парамонова. «Конец стиля», как и все художественные книги, справедлива, верна и полезна в определённом отношении, словно яд змеи; в другом отношении та же книга (тот же яд) – опасны. Да, России нужны Чичиковы и Лопахины – именно потому, что у России есть Гоголь и Чехов (или, если угодно, потому, что «Мёртвые души» – поэма, а в «Вишнёвом саде», кроме Лопахина, мужика «от сохи» или «лопаты», есть ещё ранимая Раневская Любовь). Для равновесия, для баланса нужны – ради жизни в конечном итоге. А Гегель России не нужен? Наличие дураков и отсутствие дорог – следствие, но не причина. Причина причин коренится в том, что мы даже не замечаем отсутствия «состава мысли» в общественном теле. Вот будут «невтоны» и «гегели» – будут и «лопахины», ибо «лопахины», «чичиковы» и «бендеры» есть карикатура на Гегеля, а не альтернатива Гоголю. Плоский рационализм и прагматизм появляются не потому, что головой Гоголя начинают играть в футбол, а потому что ею думают. Банально шевелят мозгами. А путь к высокой мысли – пусть себе потом карикатурно травестируется, было бы что окарикатуривать!– лежит через высокую литературу и культуру. Иного пути нет. Таким образом, литература, «пение» являются залогом появления мыслящих, в том числе и плоско мыслящих, существ. Да, России, государству и обществу, сегодня не хватает плоского рационализма, того самого одномерного прагматизма, который призван убить литературу. И убьёт, конечно. Но вот этого как раз делать не следует, так как смерть литературы и конец стиля – это капут радикальный. Надо понять: России не хватает бюргерского рационализма – а вот литературе и культуре он противопоказан. Как-то по-русски спутал жизнь с литературой Парамонов, какой-то русский постмодерн демонстрирует он нам: обжёгшись на молоке дует на воду. Негоже отравившись идеологией, переносить свой гнев на всю культуру. При потрясающем русском чутье на противоречие, на то, что соловей «жрать хочет, оттого и поёт», Борис Парамонов убедительно радует нас ещё более русским талантом: имманентной неспособностью подняться (умственно) над тотальной противоречивостью мира, постичь адекватную сложности мира «тотальную диалектику» и с её помощью примириться с жизнью, понимая, что именно идеология несёт в первую очередь жизнеохранительные функции, а потому незачем рубить сук, на котором сидишь. Но рубить сук – это так по-русски, что хочется сделать это уже ради сохранения чистоты стиля. Вот и я сейчас по-русски гвоздаю того, кто сегодня являет собой заметную вершину русской мысли. Ну, что ж, во-первых, по-европейски скажу, что при всём уважении к Борису Михайловичу (над статьёй-то ведь работаю) – истина дороже; во-вторых, я общаюсь не с живым человеком (дай Бог ему здоровья), а с представительной и знаковой культурной фигурой, символом, олицетворяющим русскую позицию из-за бугра, да что там – передовую позицию с бугра. А теперь опять по-русски: простите, если что не 23 так (намекаю на то, что у меня нет умысла переходить на личность; я не преследую такой цели, думаю, и бессознательно, хотя и не отрицаю своей возможной подверженности законам психоанализа: я человек, мне тоже жрать хочется, но хочется делать это с достоинством, и неизвестно, чего больше хочется). Главное, что делает Парамонова русским (даже если он еврей) – это догматическая идеология необольшевизма. За что боролся – на то и напоролся (без злорадства, не по-русски). Абсолютизировать маргинальность, текучесть и неоднозначность бытия – это неомифологизм. Не хватает главного элемента грубого «реализма», к которому так склонен неоциник Парамонов: диалектики, разъясняющей взаимообусловленность и взаимопритяжение противоположностей. Культура, конечно, ложь, да в ней намёк... Парамонов со столь милым его сердцу типично русским шараханьем и анархизмом не уловил намёка. Глупое, хотя и понятное, желание обойтись без культуры – это и есть тот самый «махровый идеализм», переходящий в оголтелый идеологизм, протест против которого и был импульсом творчества самого Бориса Парамонова. А всё потому, что он некритически обожествил практику, сделал ставку не на теоретический разум – а на здравый (практический) смысл, поверил собственным глазам, а не умопостигаемым выкладкам ума культурного (собственно ума, дружащего при этом со здравым смыслом). Познать реальность – это не только пощупать и вкусить её прелести; познать – объективно отразить. Все, все «пороки» репрессируемой им культуры присущи самому прозелиту: страсть, пафос разоблачения, неофитская ослеплённость. Странно. До смешного напоминает соломинки в глазах другого и брёвна в своих. Может, Борис Михайлович по праву художественно одарённого человека видит то, что хочет видеть? В этом нет сомнения. Человек есть существо идеологическое, и это не столько каприз, глупость или неполноценность, сколько форма приспособления к себе, имеющему душу, psyche, психику, в лабиринтах которой бодро ориентируется Парамонов. Человек плохо познаёт себя, это правда, и Парамонов сполна это доказал; но он же убедил, что человек блестяще приспосабливается к тому, что он плохо себя познаёт. Скрытый посыл, подлинный message книги прост и лукав, как базовый инстинкт: а не думай! Психология, как ей и положено, прорывается в идеологию, и если вы пожелаете реконструировать истинный смысл сублимированного – пожалуйста, от идеологии через психологию к корню жизни, здоровой объединяющей программе: пожрать и поспать. Человека, как представляется Парамонову, ничем не возвысишь: ни лживой идеологией, ни суровой правдой. Так правда хоть честнее – это и есть последнее утешение циника. Борис Михайлович забыл или не усвоил, все силы истратив на благородную склоку с призраком коммунизма, что человека возвышает мышление. Парамонов хочет заставить думать брюхо. Этот незатейливый по функции орган, возможно, и предпочтительнее, чем 24 простодушное сердце, но брюхо, сытое иль голодное, к науке глухо. Уж если прорываться за идеологическое пространство, то последовательно, до конца, не во имя новой идеологии и не идеологическим инструментарием. Не только фактами и прецедентами. А то, что Америка, страна «серых рыб», живёт хорошо, и, напротив, посткоммунистическая и предчёртегознаеткакая Россия поживает плохо – с этим спорить нечего. Это факт, всего лишь печальный факт, не более (хотя и не менее) того. Но это не ответ на вопрос, что есть человек. А ведь «Конец стиля» интересуется началом человека. Так сказать, «в моём конце моё начало». На «начале» же методом редукции и остановились. Не бодро. Парамонов обнаружил, что реальная жизнь и искусство – разные вещи. Так оно и есть! Искусство – большой обман: и это так, истинно так. И не делает оно людей лучше – и это бесспорно! (Кстати, понять такое – не пустячок. Но тут нюанс: оно не делает лучше не потому, что «навязывает» идеи, а потому, что недостаточно прорабатывает навязываемые идеи, не ведает, что творит.) Однако оно заставляет «полюблять жизнь» (Л. Толстой). Вот в чём точка пересечения искусства и жизни – перекрёсток, незамеченный увлечённым своей миссией автором «Конца стиля» (по общему смыслу название книги поразительно напоминает «конец света»). А из-за того факта, что культура «репрессивна», устраивать культуроборчество, репрессировать репрессию... Это опять же идеология, рядящаяся (по законам художественного сознания) в белые одежды научного исследования. Жизнь, конечно, «выше» искусства, но последнее как сублимация есть продление жизни, ментальный эквивалент витального, и бороться с искусством – уничтожать жизнь. И, наконец, последний момент. Как быть с человечеством, с малыми сими, которые, если прав я, а не Парамонов, их рупор и Мессия, их Ильич и Иисус Христос в одном лице, так никогда и не познают высокого смысла высокой культуры? Это же так негуманно – заставлять мыслить. Нарушение прав человека, и больше ничего. А малых сих просят не беспокоиться. Пусть себе «почёсываются». Им даже смысл редукции, ради них затеянной, не объяснишь. Культуру как объективную данность мало интересует, «почёсывается» человек или не думает чесаться. Культура с присущими ей свойствами регуляции жизни просто есть, как небо и земля, а значит, существует и возможность её постижения. Только плата за постижение – «высокая болезнь»: горе от ума. И в этом смысле опять же прав Парамонов, сермяжной, ильичёвой правдой: на кой хрен нам горе? Ты от страданий нас избавь. Так вот вам и опиум, избавляйтесь: не думайте. Перед нами, в сущности, народная книга, а Парамонов, почти как Герцен, будит нас во все колокола, чтобы мы очередную революцию не проспали. «Будем помнить, что подавляющее большинство из нас – серенькие рыбки; вспомним песню времён русской гражданской войны: цыплёнок тоже хочет жить» («Серые рыбки»). Жить – это святое, пусть живут и рыбки, и цыплёнок, и заяц да здравствует. Так ведь им что подай: 25 пусть гора культуры идёт к маленькому Магомету, пусть культура перестанет быть высокой, а то нам, сирым, так её никогда и не понять. Таков глас народа. Ну, а чего хочет народ... А чего он, собственно, хочет? Пожрать он хочет. Вася, конечно, прав. Если Борис Михайлович и клоун, то высокий клоун. Прямо-таки Клоун (без иронии). Я аплодирую его искусству не думать самому и убедить почтеннейшую публику, что он-то и есть тот самый «оригинальный и острый». Смотрите, кто пришёл. Браво, маэстро в колпаке. Что спасает книгу Бориса Парамонова, что позволяет всерьёз отнестись к ней, то есть не всерьёз считать его сторонником радикального, ортодоксального постмодерна (если таковой имеется в природе; постмодерн по определению должен быть слегка конструктивен, малость диалектичен)? А то же, что и искусство вообще: стиль. В «Конце стиля» впечатляет прежде всего наличие стиля. Книга цельна, ирония в ней органична и уместна, как хрустящий солёный огурец после стопки. Почему? Именно ирония адекватна амбивалентности затронутого материала, и Борис Михайлович выступает «поэтом – аналитиком» культуроборчества, больше, чем поэтом, что в данном случае означает: он, аналитически охаивая культуру, «стиль», выступает защитником культуры, «стилистом», поэтом. Он стремится называть вещи своими именами, но талантливо умеет лишь давать вещам другие имена. А это и есть точка пересечения высокой «артистической» культуры, низкой жизни и культуры мышления. 07.10. 1999г. 26 ЛИШНИЕ ЛЮДИ Фауст Мне скучно, бес. Мефистофель Что делать, Фауст? (…) Вся тварь разумная скучает: (…) И всяк скучая да живет – И всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты. (…) Ты с жизни взял возможну дань, А был ли счастлив? ***** «Да скука, вот беда, мой друг» (ответ Онегина Ленскому) ***** Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно. Печорин ***** Скучная история. Чехов. ***** Ничто не ново под луной. Екклесиаст. Лишние люди – это умные особи мужеского полу, ориентированные на высшие культурные ценности. Рецепт вечного воспроизводства этих гомункулусов (наследственным путем, непосредственно, «лишний» ген не передается) хорошо известен. Вот вариант Печорина: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» «Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей», – вторит умный повествователь «Евгения Онегина». Мысль всегда с неизбежностью рождает презрение к жизни. Это очень просто объяснить (не уверен, правда, что так же легко понять, ибо восприятие требует адекватного напряжения мысли). «Жить в полном смысле этого слова» – значит бездумно наслаждаться, пребывать в кайфе, вкушая незамысловатые прелести бытия, как-то: поесть, поспать, посмотреть, послушать, понюхать, поосязать... Здесь нет законов, этих плодов ума, или, если угодно, существует единственый «закон-тайга» (в варианте западной, далеко ушедшей от нас культуры, – «закон джунглей»). Пока человек живет – человеческих проблем нет или их крайне мало, ибо в работе только тело и «душа» (целостно-органически сомкнутая с телом психика, инстанция полусоматическая, продолженное тело). Но как только человек начинает мыслить, это проклятое мыслетворчество сразу же превращается в суд над 27 собой, любимым. В трезвое, безжалостное судилище, словно над другим, посторонним. Рано или поздно мыслящий понимает, что бездумное существование – это растительная жизнь, мало чем отличающаяся от прозябания скота, не выделившегося из природы. Но человек, благодаря сознанию (будь оно трижды проклято, божественное!), уже не совсем природное существо, уже отчасти культурное, ориентированное на законы и законный порядок, привнесенные мыслью. А мысль даже чувства, даже душу делает иными – умными, тонкими, широкими, ранимыми… Человек становится двойной природы: дитя культуры и натуры, космоса и рукотворного космоса, сознания и психики. Человек, который понимает это, который чтит добровольно принятые законы культуры, подчиняется целесообразности, регулируемой уже не джунглями, и становится в полном смысле этого слова лишним, чужим для жизни. Он «презирает» людей, не выделившихся из природы, за то, что они обезьяны более, нежели люди. Они подражают людям, но не являются таковыми в полном смысле этого слова. Однако понимая это, «лишний» осознает также, что жить ему приходится среди людей-обезьян, ведь лишний он, а не они. Они – дети космоса, младенцы и шалуны, и малые сии не ведают, что творят. Какой спрос с этих братьев меньших? Проклятье разума их миновало, почти не коснулось. Так, по мелочам. Но ведь малые сии уверены как раз в обратном: в том, что они чрезвычайно культурны. Они тщательно пережевывают – гамбургеры из Макдональдса, пьют – какое пиво, культурпродукт, они смакуют!; спят – какой дизайн, какая секс-индустрия: это вам не варвары, здесь джунглями и не пахнет, здесь parfum, la femme, будуар и клозет; они смотрят (ибо главный закон культуры – хлеба, а потом зрелищ – они усвоили с пеленок) футбол и бокс, слушают рок и попсу, нюхают, осязают… Культурная оболочка – а обслуживание все той же базы: зверя в человеке. Конечно, мы уже имеем дело не с психикой в чистом виде, а с ее детищем от брака с культурой – идеологией. Именно так: психика + немного мысли = идеология. Но «людям» кажется, что их мифы, религии и свобода потреблять являют собой вершины мыслительной деятельности. Строго говоря, лишние презирают собратьев своих не за скотоподобие (мы же не презираем кошек и собак, напротив, заботимся о них), а за то, что те считают себя умными и культурными. Лишние презирают хама в человеке, а хам – это ведь тоже дитя культуры. Со временем, когда культуры в количественном оношении становится много, все невероятно усложняется. Уже обычные, «нормальные» люди, простые парни и девчонки, без заморочек и комплексов, начинают презирать шибко умных, яйцеголовых очкариков, рефлектирующих (мыслящих) интеллигентов, выдумавших для парней демократию и первыми павших ее жертвой. Умный становится сумасшедшим, от ума – горе, если умный – значит бедный, позор семьи. Такими стали правила жизни. 28 Уже умные начинают стесняться ума и «косить под быдло». Интеллектуальные опарыши активно потребляют вещество жизни, оттесняя умников к периферии кормушки, туда, где пожиже и попостнее. Вот такая сложилась духовная среда обитания. Девиз сегодняшнего дня: сумей заинтересовать опарыша, объясни на пальцах, чтоб он, не отвлекаясь от пива и чипсов, усек суть. Заставь его раскошелиться. Давай, напрягайся! Развлекай. Не можешь? Тогда не мешай смотреть и слушать. Если ты мямлишь что-то не в смысле хлеба или зрелищ – просят не беспокоиться. Моцартов и пушкиных – на паперть. А чего ты, собственно? Сними очки, расслабься. Будь как все. Не хочешь? Твои проблемы. Не можешь? Чудак, слабак, а скорее всего – дурак. Лишнему становится скучно. Что делать? Логика дураков примитивна, а потому скучна. Футбол скучен не потому, что он плох, а потому что, наряду с религией, становится пищей духовной… Скучно разъяснять, почему лишним становится скучно. Человеческое предназначение – невостребованная материя, а жить без мысли и не тужить – пройденный этап. Лишний может помочь только сам себе, он сам должен позаботиться о том, чтобы не было скучно. Не стоит радикально истреблять в себе опарыша: они правы уж тем, что жизнеспособны. Иногда самое умное заключается в том, чтобы не думать, а действовать. Скука – это продукт высокой мысли и нежелания мыслить одновременно. Лишний должен быть выше опарышей – но и выше скуки; ему следует быть довольным жизнью. А это значит всего-то решить вопрос о совмещении натуры и культуры. Высшие культурные ценности – абсолютны, и тут уже опарышей просят не волноваться. Однако приносить жизнь в жертву ценностям – абсолютная глупость, ибо жизнь – одна из абсолютных культурных ценностей. Опарышам этого не понять, а лишним надо не «скучать» и «презирать» (это романтическая, незрелая стадия феномена «горе от ума»), а радоваться жизни. Надо вырабатывать такое мироощущение – с помощью разума, умения мыслить. Природа лишних – маргинальность, амбивалентность, их сила – в слабости. Хорошо бы смотреть футбол, отложив Пушкина, а за пивом обсуждать проблемы бытия. Надо быть опарышем по форме, чтобы не истребить в себе одухотворяющее начало. Максимализм лишних становится, согласно диалектическим законам культуры, которую они так чтут, банальной глупостью. А глупость как свидетельство недомыслия унижает человека, превращая его в опарыша, питающегося чипсами идеологии. Новый лишний, презирай и скучай весело. Носи свой крест улыбаясь. Если уж стремиться к высокому, то следует быть выше не только суеты опарышей, но и выше скуки, и даже презрения. 2000 29 ЛИШНИЙ И НИЩИЙ: РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 1. КОНЕЦ КУЛЬТУРЕ (апокалипсис нашего времени) В конце ХХ века становится понятно, чем же было начало конца второго тысячелетия. Это была эпоха начала конца культуры. Весь ХХ век прошел под знаменами тех, кто сплачивался в борьбе против высокой культуры. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – это ведь, как выясняется сегодня, не только классово-социальный призыв объединиться в борьбе за социальную справедливость; это полемический вызов простых парней от станка эксплуатирующей их «верхушке» общества, это вызов бицепсов – голове (в русском варианте: сила есть – ума не надо), натуры – культуре. Это призыв сменить культурную парадигму и ориентацию на простые, всем понятные, и совсем не культурные вещи. Без культуры, догадался пролетариат, вполне можно прожить. Психологическое содержание социалистического призыва куда важнее идейно-политического: хватит жировать аристократии, в сравнении с которой постоянно чувствуешь себя вторым сортом, быдлом, – будя, дайте дохнуть народу, высвободите его не только от политической, но и от культурной диктатуры «высоколобых», от тисков культуры. Пусть кухарка управляет государством, простой народ берет власть в свои руки. А ведь у простого народа все просто. Тех, кто «занимается культурой», назвали интеллигенцией, отделили от себя как от станового хребта общества и создали для дармоедов (или, по другой версии, для работников умственного, то есть что ни говори, неполноценного труда) систему резерваций. Стали размножаться «союзы»: «Союз писателей», «Союз композиторов», «Союз художников»… Не забыли и про журналистов, кинематографистов – словом, сплотили людей в союзы, занимающиеся высокими образцами художественной культуры. Их подкармливали, разумеется, поскольку заработать на жизнь своим «искусством» они просто не могли, а пролетариат демонстрировал волю к гуманизму и великодушие, пролетариат еще не забыл своего голодного детства. Разумеется, имел место надлежащий идеологический контроль: они ели хлеб пролетариата, и последний вправе был потребовать служить себе верой и правдой. Кто платит, тот и заказывает… Нормально. Культура стала ручной, что и было формой вырождения культуры. Так или иначе даже культура, обслуживающая простые потребности простого народа, стала существовать в заповедниках, в специально отведенных местах. Фактически культуре приказали стать массовой, хотя союзы небездарных людей этому слегка сопротивлялись. Позднее союз союзов – Советский Союз – назвали «империей зла», имея в виду несвободный характер процветающей в нем массовой культуры. Что же 30 происходило в империи добра и свободы? Может быть, там процветала высокая культура? Отнюдь. Доля высокой культуры в империи зла, как ни странно, была более высокой, нежели там, где можно было творить любую культуру (к этому тезису мы еще вернемся). Свободное общество избрало иной лозунг и девиз: «Потребители всех стран! Объединяйтесь вокруг «Макдональдса», худпопсы и футбола!» Когда-то, еще в докультурные времена, выражались более лаконично и доходчиво: хлеба и зрелищ. Вряд ли потребители догадывались, что не они первые открыли извечный человеческий закон: чем меньше думаешь, тем приятнее жить. Они вообще не поощряли эту слабость умников: думать. Они были опьянены свободой. В свободном обществе не могло быть резерваций и привилегированных культурный территорий (за исключением поселений индейцев или негритянских гетто), поэтому служителей высокого отпустили на вольные хлеба. И это стало другим социальным ноу-хау, другой формой вырождения культуры, ибо зависимость от хлеба (то есть независимость) быстро обернулась зависимостью от кошелька простых парней с простыми вкусами и потребностями. Свободные союзы творческих людей элитарно посопротивлялись, как бы презирая вкусы толпы, но по здравом размышлении, развитом еще той культурой старой доброй Европы, примкнули к демократической волне эгалитарности. У культуры появился выбор: гнусная гибель по-коммунистически или доблестное угасание из прагматических соображений, добровольно, за ненадобностью? Все было сделано по-европейски. Культурная эвтаназия осуществилась при надлежащей опеке гуманистического общества, в кратчайшие сроки и без мучений. Культура радостно сканала, словно последний могиканин, вдали от людских глаз, никого не беспокоя. Почила в бозе. Это ведь не то что быть идеологически изнасилованной большевиками. Свободное общество в очередной раз потрясло мир своим человеколюбием и здравым смыслом. Просто такова жизнь, культура оказалась не нужна, бесполезна, невостребована. И никто в этом не виноват. Свободное общество в здравом уме и трезвой памяти отвергло высокую культуру как нечто несовместимое с демократическими ценностями. А теперь спросим себя: чего мы лишились, лишившись культуры? Что такое культура и высшие культурные ценности? Если от культуры можно отказаться – от нее нужно отказаться. А если нельзя, ибо отказ приведет к гибели неразумного человечества, следовательно, культуру необходимо пестовать и лелеять. Давайте подумаем. Не станем лукавить: требование правильного мышления, равно как и установка «не мудрствовать лукаво», не лицемерить – императивы высокой культуры. Только культурой можно познать культуру. Точка отсчета в культуре – начало регуляции от ума, более-менее сознательное управление процессом жизнедеятельности на социальном и индивидуальном уровнях, желание подумать, если угодно. Именно с этого духовного момента 31 начинается человеческая история – собственно, комедия и вперемешку с трагедией. Само понятие такой истории соотносится с понятием перспективы. Какая перспектива у теленка, бессмысленно жующего траву, а потом становящегося кормом для травы? Природный цикл есть – а истории нет. История появляется при наличии духовно – не скажем ответственного, скажем: определенного – субъекта. Так вот при наличии определенной ответственности возникает проблема проблем: можно ли отмахнуться от уровня понимания, от уровня мышления, которые реально достигнуты поколениями «непростых» людей, но мешают «просто жить», быть теленком? Если подумать, то альтернатива очевидна: или вечно оставаться теленком – или стремиться стать личностью. Не теленком. Будущее как категория, полученная в результате мышления, – за личностью, за мыслящими людьми. Будущее духовно уже промеряно, обозначено, однако движения в сторону будущего – нет; есть условный прогресс (чего? кого? куда? зачем?): приспособление под нежелание понимать. Демократия сжирает сама себя, и трудно поставить ей это в вину, ибо происходит все спонтанно и бессознательно, по-телячьи. Или, если продолжить параллель с матерью-природой: так свиньи пожирают свой приплод. Демократия, не ведая что творит, лопает свою перспективу – личность. Значит, необходима какая-то такая республика, где бы ценности демократии распространялись и на ценности культуры. Необходима, если прямо сказать, забегая при этом вперед, аристократическая республика (не в смысле отсылки к историческому прецеденту, а в смысле метафоры, соединения ключевых значений), где будут защищены интересы познания, а не брюхо, – следовательно, интересы личности, ориентированной на высшие культурные ценности. Формой правления в аристократической республике станет диктатура культуры, естественная правопреемница подмявшей под себя весь цивилизованный мир диктатуры натуры. Нужна экология личности и культуры, ибо только тогда появится экология природы. Дышать нечем: с одной стороны – трубы и грязный воздух, с другой – духовный вакуум. Духовный климат и ландшафт сегодня резко поменялись: культура (альтернатива натуре) если не исчезла, то интенсивно исчезает. Что это, шаг назад, к природе, в утробу, а может, в золотой век человечества? Не будем лицемерить: это гибельное соскальзывание в бездну – по той простой причине, что без культурной регуляции сегодня уже не выжить. Слишком далеко зашло дело в культурном отношении. Вместе с водой, как говорят в народе, можно выплеснуть и ребенка, культурного младенца. Я прекрасно понимаю, вполне отдаю себе отчет, что зуд подведения итогов может быть спровоцирован ожидаемым концом света, важностью и «круглостью» дат – то есть самым что ни на есть массовым психозом, бессознательным, антикультурным импульсом. Конец ХХ столетия, конец второго тысячелетия… Почему бы и не объявить конец культуре? 32 Однако факты – упрямая вещь. Конец культуры – это факт. Конец культуры не означает, конечно, что ее уже нет и никогда больше не будет. Будет, конечно, будет, если человечество изволит жить дальше. Конец культуры означает конец культурной среды, нарушение связей и функций, связывающих отдельных культурных героев и персонажей в некое информационное, духовно оформленное пространство. Проще сказать, вам некуда придти сегодня с качественным духовным продуктом и заинтересовать потребителя. Подобного потребителя в сколько-нибудь массовом масштабе просто не стало. Культурная среда рассыпалась на отдельные сегменты, клочки и обрывочки. Носителями культуры стали лишние, невостребованные обществом люди. Теоретически появляется всемирная паутина, практически она связывает кого угодно с кем угодно, но только не творцов культуры и благодарную публику. Культурные запросы публики, граждан республик, опустились ниже допустимого культурой уровня. И главное: конец культуре означает, что культура не влияет на ход общественного развития. Мы развиваемся как и раньше, при царе Горохе, когда еще не было никакой всемирной паутины: куда кривая вывезет, как бог на душу положит, по хотению, но не по уму. Паутина есть – а ума не прибавляется. Информация стала заменять ум, а ум, строго говоря, ничто заменить не может. 2. ЛИШНИЙ И НИЩИЙ Учить культуре сегодня – значит учить тому, чего в жизни не бывает, а вовсе не тому, что составляет самую суть жизни. Культуры не стало. Как может культура прореагировать на весть о своей кончине? Как и всякий живой организм, культуру может порадовать только одно: слух о кончине оказался преждевременным. Но для этого надо быть, присутствовать в жизни. Сопротивляться же для культуры означает следующее: выдвигать все новые и новые культурные проекты, в которых обосновывается старое как мир: жизни без культуры не обойтись. Для умного достаточно, а дурак всегда был убежден, что культура – это некое излишество, без которого превосходно можно обойтись умным людям. Итак, очередной взгляд культуры на самое себя. Начнем с подведения итогов. 1. Демократия суть проекция натуры на культурные формы социума. 2. Идеалы, регламент, порядок, иерархия, верх и низ, идущие от «идеи порядка», – проекция культуры (в том числе и на демократию – в той мере, в какой названная проекция там присутствует и поощряется). Демократия, отвергнув или «победив» культуру, оказалась один на один со странной проблемой: она считает себя венцом истории, и даже концом истории. Позвольте, что же это получается: венец истории – вот он, торжествует, а субъекта истории, носителя развитого сознания по-прежнему не обнаруживается? 33 История – ведь это, напомню, траектория культуры. Выходит, что демократия вовсе не чужда аристократических амбиций – быть коронованной культурой? Если это так, то зачем же было спешно объявлять отсутствие культуры – благом вселенским, ибо культура, в отличие от некультурной демократии, репрессивна, склонна ранжировать все ценности? Демократия – это какая-то бессознательная история и в качестве таковой de facto провозгласила себя альтернативой культуре; последняя же изжила себя в эпоху демократии. Это бы понятно. Но! Эти всякие de facto – в теории, продукте презренной культуры, между прочим. На деле, на самом деле демократия мнит себя формой культуры, высокой, самой высокой культуры. Демократия может существовать только в рамках и формах массовой культуры, для которой зияет только одна историческая перспектива: высокая культура. Однако высокая культура означает хоть и конструктивное – но все же отрицание демократии как формы малосовместимой с культурными интенциями. С точки зрения культуры, форма должна коррелировать с содержанием, одного без другого не бывает. Получается тупик или замкнутый круг (по демократическим понятиям). Как вырваться из него? Демократия не терпит тупиков, она рвется на свободу. Дайте, дайте ей свободу. Пожалуйста. Но прежде не лишним будет деликатный нюанс: свободу (речь идет о гуманистической категории) может дать репрессивная культура, это, опять же, ее епархии продукт. Натуре свобода не нужна, там свобода не имеет цены: начинается тогда, когда ты приступаешь к еде, и заканчивается там, где начинают есть тебя. Берите, если хотите (и если сможете: культура – это не столько хочу, сколько умею и могу). Вот вам духовный побег по-русски: богу – богово, нищему духом – демократию, аристократу духа – прелести лишнего. Лишний и нищий: вот русский культурный проект. Демократия – это своего рода возвращение к истокам, движение по эволюционной спирали вспять, в утробу космоса. Если с помощью некоего культурного усилия вообразить себе спираль вверх, то от демократии она продолжит свои витки … куда? Страшно подумать. И напрасно. Если думать страшно, значит, вы не думаете, а боитесь. А если подумать, то двигаться надо от демократии. Движение «от» возможно только в сторону противоположную, в сторону недемократии, не власти народа (что, кстати, не означает «не в интересах народа»). Усовершенствованная (никуда не денешься: ограниченная) демократия, когда у простого народа перестают спрашивать, чего ему хочется (ибо ему, дитю природы, вечному культурному младенцу, всегда будет хотеться одного и того же: пожрать, поспать, повеселиться), – это именно в интересах человека (следовательно, и народа). «Простой» (некультурный: не в смысле невоспитанный, а в смысле не имеющий культурно-духовных потребностей) человек не видит дальше своего носа, поэтому его интерес ограничивается рамками прилегающего жизненного пространства, и его культура – это 34 культура потреблять. Движение в сторону культуры, от природы – это движение от «простого» к сложному. А «сложное» – это наиболее простой способ выживать. Вот почему движение к культуре – в интересах всех и каждого в отдельности. Вопрос, в сущности, стоит очень просто: либо диктат демоса (вариант диктата натуры), либо – культуры (личности; диктат личности у нас могут понять по-народному, поэтому уточним: речь идет не о культе личности как о культе диктатора, а о диктате культурных потребностей, разумно регулирующем всякое силовое диктаторство). Между прочим, это и есть подлинный плюрализм, который начинается не с выбора между фишбургером и чизбургером, а с определения гуманитарной ориентации: на натуру или на культуру. Если бы меня попросили предельно коротко изложить суть проекта, я бы ответил так. Я предлагаю признать как данность тот очевидный факт, что личность представляет собой сложную информационную структуру, что есть люди (народ), которые в ничтожно малой степени являются личностями и ненавидят личность (тип человека) как своего кровного врага. Причем это некая фактическая данность, из которой я из гуманных соображений изымаю моральную оценку: таков порядок вещей, в котором никто не виноват. Человека нельзя обозвать «народом». Он такой – и все. Будьте любезны принять к сведению. Так вот я предлагаю ориентироваться именно на личность. Я не говорю, что цель – всех сделать личностями. Это прямой путь к тому самому культу личности, к политической диктатуре серой личности. Я о векторе, о тенденции, о выходе их тупика. Ведь не все же станут богачами, хотя почти все к этому стремятся; это никого не смущает. Так вот и я о личности как о духовном богатстве. Опять нюанс (что поделаешь: в диалектической культуре дьявол сокрыт в нюансах, всего лишь смена акцентов приводит к радикально противоположным результатам): я говорю о культурной ориентации не потому, что она лучше «натуральной», в нравственном смысле лучше, то есть мой проект не нравственными побуждениями как таковыми обусловлен (хотя и ими, безусловно, тоже). Это был бы вариант некоего культуроцентризма: пусть весь мир провалится в тартарары, если он не хочет быть нравственным и культурным. Нравственный фанатизм – жестокая культурная утопия. Я говорю о культурной ориентации потому, что здесь просматривается выход из тупика, культурный прогресс становится одновременно жизненно важным прогрессом, и вследствие того – нравственным. Нравственные первородство и абсолют меня мало интересует, ибо в такой догматической постановке вопроса мало культуры. Еще проще и короче: я предлагаю ориентироваться на то качество мышления, которое в принципе сформировано культурой, не на бессознательное мышление (приспособительное мышление, выполняющее функции психологии), а на сознательное управление. При этом я исхожу из того, что ориентироваться следует не на утопический идеал, не на то, чего 35 нет и не было в жизни (пока), а на реальный идеал, на вполне возможную модель реальности, элементы которой не выдуманы, а из жизни взяты. Народ не поменяешь, но можно поменять отношение к нему. В стихийное социальное развитие, в живую жизнь социума можно и нужно привнести момент относительной идейной регуляции, а именно: более четко и приоритетно обозначить культурный вектор. Иной вектор – при всех технических достижениях и наворотах – это способ думать желудком и гениталиями. Ума в технике ровно столько, сколько интеллекта. Между прочим, в этой связи следует пересмотреть отношение к теории и практике коммунизма, печальный опыт построения которого стал триумфом демократии: и в том смысле, что коммунизм родился из демократического импульса, и в том, что рухнул на радость демократам. Чему так рукоплещет демократия, отчего так ликуют ее идеологические служаки? А тому и оттого, что не сработала культурная регуляция, к которой я так регрессивно призываю. Общество, сработанное под благородную идею, лопнуло, ибо идеи идеями, а социальный закон «волевые негодяи становятся вождями» отменить невозможно в любом обществе. Кроме того, все делалось не столько от имени народа (от имени демоса – это ритуал, обряд, идеологический трюк, по форме – под идею), сколько от имени потребностей народа (de facto). Этого демократы предпочитают не замечать, иначе ставится под сомнение чистота их идеи. А надо бы стартовать не только от священных потребностей народа, но и от презренных потребностей культурного субъекта. Короче говоря, наличие идеи – это далеко не все. Под идею общество действительно не создашь, это именно технология утопии. Природа возьмет свое. Вместе с тем социум, базирующийся на идеологии потребления, активно изживает свой позитивный капитал (на горе демократии). Нужен иной тип общества, иная идеология, учитывающая, конечно, потребности масс (куда без этого: массы – священная корова демократии) и одновременно противоречащая им. Вот эта модель, этот тип социума требуют творчества, огромных социальных наработок, ноу-хау. Первый, коммунистический, опыт провалился. Но в данном случае важно не то, что он провалился, а то, что он был. Он был и есть выражение потребности общества в культурном прогрессе. Коммунизм – рухнул, но потребность-то никуда не исчезла. Да здравствует коммунизм? Кто знает… Но вот на то, что эта потребность впервые столь масштабно и обнаженно, я бы сказал, по-дилетантски, была явлена и реализована в России, можно посмотреть и другими глазами: это был своего рода культурный подвиг, которым стоит гордиться. Это опыт в копилке человечества дорогого стоит. Всему великому – великая цена: это не цинизм, это диалектика. Иное дело, иной, тоже диалектический, поворот темы: светлый лик будущего обернулся трагической изнанкой настоящего. Это так. Однако никто не говорит о причинах столь легкого и радикальнейшего (с точки зрения демократии – вечного) краха сверхидеологической сверхдержавы. А они, причины эти, в том, что 36 потребности масс при коммунизме хоть и ставились во главу угла (по ритуалу), на деле часто ущемлялись. Заигрывать с массой и одновременной «травить» ее культурой в отдельно взятой стране, когда духовные лидеры человечества эту самую культуру цинично истребляли, оказалось нереально. Надо уметь травить культурой. Но пока что умеют только заигрывать. Массы всех стран объединились. Коммунизм, объявивший себя форпостом культуры, бесславно сканал. Какая мораль содержится в этом историческом сюжете культуры? Новый тип общества будет возможен тогда, когда мы в достаточной степени примем к сведению, что человек – неисправимый скот и хам, и никакой коммунизм не в силах его «переделать»; но человек порождает и свою противоположность, личность, которая стремится защитить хама от его неразумных вожделений. Природа человека включает в себя и культуру: вот чего не хочет замечать демократия, вот где шанс не скажу коммунизма, но уж точно – «постреспубликанского» образования, культурно-генетически связанного с амбициозно заявившим о своей культурной миссии коммунизмом. Социум должен приспосабливаться не только к природной составляющей человека, к натурпродукту, но и к культурной составляющей. Вот этой новой гармонии пока не наблюдается, а культура «толкает» именно к новому типу гармонии. Путь к ней – не будем питать иллюзий – как всегда у людей: через кровь и грязь. Детская болезнь «честного» капитализма, равно как и идеального, «правильного» социализма, проходит. Мы получаем иммунитет как против одного, так и против другого. На самом деле одно другого стоит, одно вытекает из другого, и альтернативой одному и другому является нечто третье. Все «измы» были стадиями бессознательного социального движения, а речь идет о сознательном выборе перспективной модели. Мы все еще боимся взять ответственность за себя – на себя, идем вослед за природой, успокаивая себя успехами в технической революции, в покорении природы. Мы покоряем природу – а она нас. Интересное кино получается. Техническая революция, как ни странно, тесно связана с нежеланием думать, ответственно мыслить, обсуждать такие категории, как, например, судьба человека. Проще сотворить ядерный смерч, чем понять себя, проще потреблять, чем ограничивать себя. Ключ к будущему лежит в теории сознания и познания. Прорывы в теории уже намечаются, а сцепки с практикой – нет. Мы лицезреем холостые обороты: теория сама по себе, практика – тоже, натура, давно получившая культурное измерение, все еще не осознает кровных уз с культурой. Будущее – за смыслом, будущее есть становление смысла, добытого сознанием из универсума, а не из себя самого. Будущее за объективным познанием, а не за приспособлением. Бессознательное приспособление – вне времени или как период простирается до момента доминации сознания. Культ потребления, пропагандируемый как вариант приемлемой ныне культуры, это именно антикультурный процесс жизнедеятельности, и альтернатива ему – разумное потребление. А тут вновь призывы, скроенные 37 из тех же лоскутов инстинктов: давайте все жить как золотой миллиард, где создан рай для потребителей. Массовый психоз массовой культуры, подогреваемый средствами очень массовой информации. То, что называют сегодня культурой, оперирует исключительно массовыми категориями. (Отдадим должное: служители масскульта всерьез «прорабатывают» вопрос о конце культуры как некоего человеческого феномена. Сам высокий, нравственно и философски окрашенный термин «культура» как изживший себя предлагается в этой связи заменить на вполне нейтральный «цивилизация».) Существуют только права человека (которые, в принципе, диктуются природными потребностями), о личности, субъекте культуры, никто не думает. Прав личности вы не обнаружите ни в одном документе эпохи цивилизации. Таков цивилизованный подход к культуре. Теперь осталось прояснить, почему же это русский проект. Умом, как известно из старого мифа, Россию не понять, а проект представляет собой попытку разобраться именно с помощью ума. Дело в том, что ум часто бессилен там, где пересекаются множество противоречий. С одной стороны, Россия как общество патриархального, то есть женского типа (с точки зрения теории сознания), заботится о душе и культивирует бессознательное, азиатское, оберегает его от вмешательства ума; а с другой – с какой-то отчаянной непоследовательностью как никто другой возлюбила (прежде всего через литературу, умнейшее из искусств) тип лишнего, очень умного, выделившегося не только из народа, но и из светской черни, из культурной толпы. Лишний – человек, познавший себя (а значит и других, и человека как такового), богатый и щедрый духом, именно на этом основании отвергнутый обществом, толпой как прямая угроза стабильности нравов. Вот и получается: в стране, которую умом не понять и где в дефиците рациональное, как нигде разгулялся аристократический недуг «горе от ума». Россия, великая страна, разрываемая великими противоречиями, и в этом смысле оказалась полигоном, где отрабатывается модель сосуществования лишних (аристократов духа!) и нищих духом. Но ведь это перспектива всего человечества. Для великих проектов необходимо великое безумие. Впрочем, пока что похвастаться особо нечем. Но ведь нищие никогда не поймут сложности проблемы, а лишним давно все ясно. Проблема в том, чтобы лишних заметили, чтобы они перекочевали с периферии ближе к вершине социальной пирамиды. Лишние обладают сомнительным талантом: способностью к духовному творчеству (иначе сказать, способностью сомневаться). Нищие обладают несомненным преимуществом: способностью верить. Вот пусть каждый делает то, что может: первые творят, вторые верят, что творчество первых – во благо демократии. Это вполне разумно с позиций высокой культуры. А другая позиция демократически ведет в никуда, откуда мы однажды как-то самозародились. Можно сидеть на пересечении космических трасс и ждать еще одного шанса реализоваться как разумное существо. Можно – но это какое-то божественное по легкомыслию мышление, оперирующее такими пустяками, 38 как сотни миллионов лет, смерть всего живого, вероятность жизни, вечность. Скучно. В любви к смерти – мало человеческого, мало культурного, даже мало демократического. Объявите демократию вечной ценностью – и вы получаете какую-то безумную внеисторическую перспективу. В интересах большинства не слопать культурное меньшинство, а заставить лишних работать на нищих. Вот и пусть работают, создавая влиятельную культурную среду. «Лишние всех стран, объединяйтесь» – глупый и бессмысленный клич, ибо, объединясь, они перестанут быть лишними. Однако культурная среда должна быть: только она воспроизводит «лишности», духовный излишек, бесхозный остаток. Лишние обретут шанс перестать быть лишними (хотя бы отчасти), у нищих забрезжит надежда немного обогатиться. Появится перспектива: жить настоящим. 11.2000 39 ОТ «МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» К «СИБИРСКОМУ ЦИРЮЛЬНИКУ»: БЛЕСТЯЩАЯ ДЕГРАДАЦИЯ НИКИТЫ МИХАЛКОВА Отдадим должное Никите Сергеевичу Михалкову: это неутомимый деятель кино, великолепный режиссер и актер. И по меркам российским, и по мировым. Безо всяких скидок – фантастической одаренности человек, режиссер редкостного таланта. Ему удивительно подходит определение «мастер». Он именно мастеровит, его фильмы всегда сделаны, с богатой выдумкой – но непременно ладно сшиты, узорчик к узорчику, что применительно к искусству означает: художник заботится о мысли, бережно ведет ее, выстраивает концепцию. Однако нас будут интересовать не столько фильмы Михалкова сами по себе, сколько некий «закон культуры», определивший логику киноэволюции лучшего и, несомненно, одного из самых великих среди живущих ныне киногениев. Общий смысл заковыристого и непрописанного еще толком «закона» достаточно прост. В художественной культуре существуют, по сути, две точки отсчета, два представления о свободе творчества: 1. «Зависеть от царя, зависеть от народа». (А.С. Пушкин, «Из Пиндемонти».) 2. «Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать». ( А.С. Пушкин, «Из Пиндемонти» же.) Перед нами две ценностные ориентации: одна из них «завязана» так или иначе на коллектив (народ, этнос – неважно), другая при всех нюансах сосредоточена на личности. Понятно, что личность не существует вне социума: об этом нет необходимости напоминать лишний раз, потому что у нас нет намерения растащить по несуществующим изолированным углам личность и общество. И все же: приоритет «народного» начала требует от эгоистического индивидуума с восторгом и упоением ограничить горизонты духовного совершенствования национальными интересами: такого рода благородное слияние общественного и частного оценивается как высокоморальное. В номинации «мораль» оценивается степень преобладания общественного над личным. Больше внеличного (коллективного) – больше морали. Абсолютное подчинение своих интересов общественным (классический социоцентризм) – это уже номинация герой, колоссальный моральный авторитет. Совершенствование в моральной плоскости означает выработку способности обретать наслаждение в самоотречении. Преобладание персонального начала (персоноцентризм) рано или поздно приводит личность к дерзкому, а то и критическому отношению к морали, делает ее в известном смысле аморальной – не в силу врожденной или приобретенной моральной извращенности, а в силу логики вещей: попытка дать волю уму, стремление к свободному, раскованному, непредвзятому мышлению приводит к осознанию относительности любой догмы, в том 40 числе моральной. Аморальность: это ли не самый большой грех из всех известных человечеству? (Забегая вперед, отметим, что, став аморальной, личность не перестает быть нравственной, то есть не выводит себя из-под действия высших норм этической регуляции. Именно нравственность становится для нее высшим типом морали. Но кому это интересно, если произнесено клеймящее слово «аморальность»?) Диалектическое мышление в принципе противостоит вере, лежащей в основании морали и покоящейся на надежных абсолютах долженствования, иррациональных по своей природе. Моральная личность (то есть личность, так и не ставшая личностью) убеждена, что мир держится на императивах Долга. Следовательно, главная поведенческая установка – нацеленность на героическое самоотречение во имя Высоких, Высших Идеалов, которые могут быть только Авторитарными Идеалами. Такую личность, понятное дело, можно и должно воспитывать, чем, собственно, всегда и занимались в обществах традиционалистских. В идеале такое воспитание необходимо поставить на поток, и это будет, конечно, коллективное воспитание. Что такое «Сибирский цирюльник» в предложенном контексте? Это ностальгия по моральному человеку, по коллективному человеку, по человеку «идеи» и «принципа» – по человеку, свобода которого сводится к его идеологической ангажированности (но субъективно, «по чувству» – он свободен: он и уважает себя именно за свободу, за свободный выбор, в результате которого он по рукам и ногам опутан веригами долга). Конечно, такой человек будет свободно говорить по-английски, с достоинством (то есть с хорошо поставленными светскими манерами) держать себя в самом изысканном обществе, свободно танцевать. Короче, где-то тень раннего Онегина: «он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно». Чего ж вам больше? Правда, Онегина одолела хандра из-за того, что он жил по меркам общества, света. Он взалкал «иной, лучшей свободы» и бросил вызов морали; герой же «Сибирского цирюльника» Андрей Толстой, напротив, именно боготворит мораль. Это антиподы. Онегин презирал таких, как Андрей Толстой, человека строя, когорты, легиона; последний, несомненно, в лучшем случае считал бы Онегина «чудаком» иль «сатаническим уродом». Культура личности в фильме Михалкова сводится к культуре «иметь честь», жить в согласии с законами морали. Гарантия гармоничного и симпатичного существования подобной личности – неразбуженное сознание. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей» – помните? Начнешь мыслить – наживешь себе беду почище онегинской: окажешься лишним, выброшенным из общества, где «имеют честь» не иметь слабости познавать. Чтобы жить в чести и иметь честь – надо перестать рассуждать, а лучше и вовсе не начинать, не становиться на скользкую дорожку, ведущую в странную, «аморальную» жизнь, где от ума, прости Господи, случается горе. Если принять к сведению подобную (объективную, заметим) логику становления личности в культуре, легко понять, что существует два типа 41 искусства (отражающего эту логику): искусство «моральное» (героическое или же трагико-сатирическое – в той мере, в какой происходит отклонение от заданного героического идеала; трагизм и сатира – это две грани культурного кнута, способ вернуть зарвавшегося «героя» в русло подобающей ему обыкновенной героики) и «нравственное». К первому применимы критерии «народности» (собственно, моральности как таковой), ко второму – с большими оговорками; первое можно и нужно изучать в школе и вообще широким фронтом «пущать» в народ, второе – крайне нежелательно, ибо от него, как от философии, к которой это самое второе, «нравственное» искусство изо всех сил тянется, «польза сомнительна, а вред очевиден». Такая вот странная, хочется сказать, сомнительная происходит в духовной природе человека эволюция, закономерность которой отражена в искусстве, и касается эта закономерность, как ни прискорбно, прежде всего «творческого пути» художников экстра-класса. Они если и начинают с морального искусства, быстро приходят к ереси: в центре художественного исследования непонятно как оказывается личность, а в личности – коллизии психики и сознания, души и ума. И лучшие произведения художников всех времен и народов связаны именно с этим этапом их, творцов, личностного становления. Признак духовной глубины – тема лишнего, ибо признак культуры – наличие культуры, начала разумного. О чем «Механическое пианино»? О народе и для народа? Оно как бы и так, но как бы не так: Михалкова интересует здесь природа человека и в связи с ней – поиски цели и смысла человеческого существования. С рефлексией на эту тему нечего идти в народ: не поймут-с. Однако проходит время, и «умудренный жизнью» (больше жизни – больше мудрости: железная, хоть и ветхозаветная, логика; кстати, народная мудрость) большой художник как-то незаметно приходит к выводу: берегика всяк сущий честь смолоду, уважай предков и Отечество, кайся Богу, а все остальное – от лукавого. Простенько и со вкусом. Кстати приходится и то неоспоримое обстоятельство, что вся русская культура на том стояла. Взять, отчасти, Пушкина, взять, пусть небезоговорочно, Л. Толстого… Они доселе любезны народу, потому как их терзала «мысль народная». Они видели свой высокий долг в том, чтобы избавляться от гордыни мысли и смирять душу. Михалкову, типичному уроженцу русской почвы, и сам Бог велел. И он лиру посвятил народу своему, и сердцем он спокоен. Так вот и вступил на эту стезю. Илья Ильич Обломов («Несколько дней из жизни Обломова») уже гораздо ближе к архетипу русскости, к народности. Правда, до кодекса чести и долга там далековато, да и сама фигура то ли сибарита, то ли безвольно и невнятно протестующего против суеты созерцателя, то ли обладателя «золотого сердца», то ли пораженного злокачественной «обломовщиной»… Словом, размытая фигура и неоднозначная. Сравните ее с фигурой подтянутого Андрея Толстого, который, кстати, вполне мог быть Андреем Обломовым (у Ильи Ильича, как известно, был сын, которого он изволил наречь Андреем, в честь принципиального и склонного к деятельности Штольца): дистанции огромного размера. Причем, дистанции в 42 определенном направлении, промаркированные определенным мировоззренческим вектором: от нравственности – к морали. В фильме «Сибирский цирюльник» есть сценка, великолепно характеризующая тип нынешних героев Михалкова. Наставник юнкеров, которого, как всегда «на уровне» исполняет Ильин (тоже, кстати, примета морально-массового искусства: профессионализм, мастерство; этого вполне достаточно, этим можно обойтись, гениальные прорывы здесь ни к чему), застал своих жизнерадостных питомцев в тот момент, когда они изо всех сил старались обратить на себя внимание барышень из института благородных девиц, проезжавших мимо императорского училища в экипаже. При виде наставника они мгновенно перестроились и построились, так сказать, оставили легкомыслие и вошли в образ строгих и мужественных парней. Тут же кто-то по всей форме отрапортовал старшему по званию и гаркнул: «Кругом!» Группа кадетов четко развернулась через левое плечо и с левой ноги, как положено, двинулась маршем вглубь двора. Команда «кругом!» магически подействовала на господина капитана (Ильина). Он точно так же развернулся через левое плечо, оказавшись спиной к юнкерам, и занес было левую ногу… И только потом опомнился: команда относилась вовсе не к нему, а к его подопечным. Эпизод комический. Однако что характерно: перед нами не просто наставник, но своего рода образец, моральное лекало, которому доверено кроить души будущих славных сынов России. Он без лишних слов – всегда готов. Он сначала сделает – а потом подумает. Но сделает он всегда то, что должно, в этом сомневаться не приходится. Он изумительно вышколен, воспитан. Он настоящий офицер (фильм и посвящен доблестным русским офицерам). Лучшие люди, уж если просто и доходчиво, – это офицеры. А теперь сравним этот тип с типом почти лишнего, Платонова Михаила, которого вдохновенно играет в «Механическом пианино» Александр Калягин. Там понимание природы мыслящего человека, там угаданы реальная сила и слабость и, вследствие этого, непонимание того, что же следует делать. Да, там, по большому счету, мелковатая душа, но оборотная сторона личности – острый критический ум. В «Цирюльнике» же могучие моральные принципы – продление примитивной духовной программы: рецепт на все случаи жизни. Сегодняшний Михалков выбрал вчерашний день в культуре. Культурный прогресс – это, с одной стороны, результат развивающегося сознания, а с другой – направление от психики к сознанию. Развитое сознание неизбежно приводит к появлению в искусстве «лишнего» человека, и русская литература это блестяще доказала. Ничего не поделаешь: чтобы иметь достоинство мало «иметь честь». Достоинство – это иная, лучшая честь: принадлежать к людям думающим, видящим изнанку общественно полезной морали. Герой, то есть бездумно ориентированный на Авторитарные Идеалы, а потому становящийся лояльным членом сообщества, – это типичный продукт приспособления. В нем мало мужества, нет силы духа, но есть некая 43 пассионарная мощь: не поступаться принципами, быть рабом «чести». Иная, лучшая свобода им не потребна. Это и есть вариант духовной деградации, вариант, который культивирует традиционное общество. У такого общества только один минус: ему не нужна личность. И на что же приходится Михалкову расходовать свой незаурядный изобразительный талант? Он поставляет духовный хлеб толпе. Насытил хлебами простоватых идеологических доктрин – извольте побаловать зрелищем. Закон жизни: хлеба и зрелищ, желательно одновременно, приятное с полезным. Зрелищность! – вот что становится главным в кино. И это не эволюция стиля Михалкова, как иногда думают, ибо он отказался от своего стиля. В идеале народ предпочитает безликое кино: забавное зрелище. Удел мастера – забавлять. Это веяние времени, общая тенденция: заигрывать со вкусами толпы, виноват, народа. Особенно радостно за Михалкова в том смысле, что ему не пришлось поступаться принципами, не привелось предавать: он искони эволюционировал в древнем русле русской культуры. И это святая правда. Свободу и душок нравственности он запрезирал еще при советах, задолго до перестроек и развалов. Вовремя осознал: в старину было, а нам – к старине лепиться. Куда Пушкин с Толстым – туда и мы. А то обстоятельство, что моральное искусство легко превращается в коммерческое, более того, тяготеет к нему; еще смелее: предполагает коммерциализацию, а нравственное, культивирующее бескорыстный поиск истины, по определению не может быть представлено в формате массового искусства – это обстоятельство только укрепляет в правоте избранного тернистого пути. Искусство должно принадлежать народу. А ежели оно приносит еще и неплохие барыши – на то воля Божья. Так приятно: и деньгу огребаешь лопатой, и душой не кривишь, совестью не поступаешься. Просто праздник какой-то. Именины сердца. Против того, что это был в известном смысле русский путь, спорить не приходится, хотя в принципе – это древняя болезнь искусства: художник становится заложником своей мудрости, своих представлений о жизни. А поскольку с идеями у художников, как правило, не густо, да и не в них, как правило, дело, то и получается: стадия становления творческой личности – наиболее продуктивна для творчества. Как только художник наберется мудрости, заматереет как личность, окостеневшая система идей, тяготеющая к жесткой нормативности идеологий (гибкость и широту ума, как правило, сохранить дано очень немногим), буквально «засушивает» творчество, схематизирует его. Эта духовная болезнь не могла не коснуться русских. Только давайте при этом называть вещи своими именами: «Капитанскую дочку» не будем помещать в один ряд с «Евгением Онегиным» – произведением, ставшим духовным вектором и точкой отсчета в культуре человечества на века; к тому же Пушкин наряду с «Капитанской дочкой» пишет вещи куда как аморальные, наподобие «Из Пиндемонти». Пушкин никогда не был творцом только кристально-морального искусства, хотя и дал выдающиеся образцы последнего. Глубина Пушкина, подлинная его 44 укорененность в культуру в том, что он, будучи по плешку русским, прорубал окно в Европу. Он жил и мыслил. Михалков же, соответствуя всем европейским и американским стандартам, как ни парадоксально, выламывается из культуры, выпадает из высокой культуры Европы. И со Львом Толстым не все так просто. К дидактической морали «Эпилога» великой эпопеи «Война и мир» он шел нравственными (преодолевая безнравственность) тропами мысли и чувства. Титаны русской культуры, что ни говори, вкусили мысль, они активно боролись с нею ее же средствами, болели ею, но так или иначе сопротивлялись глубиннокоммерческому принципу: зависеть от царя, зависеть от народа. Они никогда не сводили личность к набору простеньких моральных императивов. Личная убежденность Михалкова в праведности, святости и непродажности избранного им пути ничего не решает: он объективно снизил духовную планку и реально поимел за это деньги. Он сполна вознагражден за свою приверженность моральной народности. Вот почему многие считают его циничным лицемером. Не думаю, что они правы. Это случай, схожий по своей психологической коллизии со случаем другого лауреата престижной западной премии, врученной ему, якобы, за то, что он воспевал культивируемый им дух русскости. Я имею в виду А.И. Солженицына, конечно. Дело в том, что творческий энтузиазм Михалкова не может быть обусловлен только одержимостью златом. Ему самому это должно представляться следующим образом: он ведь выполняет своего рода миссию. Он заодно с Л. Толстым и иже с ним: тронь Никиту Сергеевича – зацепишь плеяду титанов. Культурная легитимность национально-коммерческой позиции: вот откуда черпает духовные силы киноподвижник. Во всяком случае он имеет на руках именно этот моральный козырь. В плоскости моральной у него сильная, незыблемая, неколебимая позиция. Если он прожил жизнь в соответствии со своими принципами – это и станет ему примерным наказанием. Всю жизнь обламывать себя до духовных параметров и кондиций кадета или морализирующего педанта… Сюжет Достоевского. А если изменял – значит догадывается, что грош цена тому искусству, которое творится на ложных посылках. Неужели Михалков не изволит замечать, что «моральное искусство» есть платформа, скажем, того же Голливуда? Полноте, господа. Он и делает себя именно с Голливуда. Только, скажем, «Утомленные солнцем» – это очень моральный, крайне русский, умопомрачительно профессиональный и – чего греха таить – исключительно конъюнктурный фильм. Это суперголливуд. Моральное искусство – это не русский путь; это универсальный путь деградации искусства в эпоху, когда искусство либо становится массовым и коммерческим, либо перестает быть. Это откровенное снижение культурной планки, по сути, капитуляция искусства. А если при этом еще и прикрываться Богом – получается инфернальное нечто, то есть именно изысканно-богомерзкий коктейль. Несмотря на обилие «зрелищного» начала, 45 несмотря на новую стилистику, Михалков подписал себе как художнику приговор: если нечего выражать, содержанием становятся средства выражения. В лучшем случае можно эволюционировать в сторону чистого искусства; в худшем – к лубкам Голливуда. Второе принесет намного больше денег, да и моральности там поболе. Так или иначе искусство становится пустым. Вот так шутит диалектика с теми, кто пытается узрить Истину с помощью того, чем ее постичь невозможно: с помощью чувств, голоса души, неподотчетной разуму сердечности. Голос души как-то странно воротит туда, где деньги лежат. Вступивший на стезю духовного прогресса и трактующий искусство как способ совершенствования волей-неволей принимает на себя тяжкие обязательства. Тяжесть их в том, что они объективны, и ни царь, ни бог и ни герой их отменить не в силах. Путь духовного прогресса – это путь разума. Можно, конечно, предать и продать по неведению. Можно сделать вид, что по неведению. Но результат и симптом деградации – великолепное коммерческое искусство. Как говорится, по ушам узнаю осла, по профессионализму – предавшему духовное начало в искусстве. Если бы Никита Михалков был обычным профессионалом, прорабом, зарабатывающим деньги на фабрике грез, то и говорить было бы не о чем. Просто отсутствовал бы предмет для серьезного культурологического разговора. Если бы указанные перипетии в духовной сфере были личной проблемой Никиты Михалкова, то и об этом бы говорить не стоило. Это достаточно типичные перекосы, обусловленные подменой функций психики и сознания. Типичный «клин» художника. Однако Михалков настаивает, что его точка зрения – это ни больше ни меньше как образцовая культурная позиция, «базовая» модель для грядущего духовного обновления и возрождения России. Это выходит далеко за рамки личных проблем и предпочтений. Иными словами, я выступаю не против кинематографических успехов маэстро, а против того, чтобы фигуру выдающегося режиссера превращать в знаковую культурную величину, определяющую главный вектор духовного развития цивилизации. Это миф и автомиф. Великие амбиции маэстро, заставившие его фактически учредить или реставрировать номинацию «духовный лидер нации» и предложить себя на это вакантное местечко, свидетельствуют о том, что далеко не все благополучно в сытой жизни баловня судьбы: это парадоксальное проявление комплекса неполноценности. Художники, случается, ощущают вранье. И тем не менее, еще и еще раз: претензия к Михалкову только одна: он не делает великое кино. Такую претензию выдвигать было бы глупо – если бы при этом маэстро не убеждал себя и других, что величие порождается скудостью духа, если бы он сам не претендовал на то, что делает великое кино. Увы, уже давно не делает. Хотя мог бы. Михалков – это лучшее из второразрядного искусства, что может предложить нам эпоха. Беда кино – в 46 его исключительной способности воздействовать на чувства, в его эффективности при трансляции идеологий, в его обреченности быть массовым, ибо оно владеет именно тем «зрелищным» языком, который так нравится народу. И такое кино – не будем лукавить – необходимо. И Михалков – корифей такого кино. Только не будем путать божий дар с яичницей: великое кино и великую популярность морально выверенных и весьма искусных поделок. 47 ХАЙДЕГГЕР, ИЛИ МЫШЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ Ж… Философская увертюра Ну, что ж, уважаемый читатель, давайте постараемся прибрать паранджу с чела мыслителя, который мыслил не «о» чем-то (какая банальность – обозначать предмет познания), а «мыслил что-то», который предпочитал петлистые «лесные тропы» мысли, ведущие в никуда (которое, возможно, и есть самое главное «куда»?). Тропа есть – а пути нет, мысль есть – а познания нет, чистая мысль есть – а философии нет (есть «конец философии»). Откройте личико, Herr (гм, гм: что немцу хорошо, у русского иногда вызывает улыбку) Хайдеггер. Если ты «помысливаешь» и при этом не знаешь, о чем ты, собственно, мыслишь, то это наводит на размышления. Мысль как таковая, как некая самостийная субстанция, сама-для-себярожденная-и-сама-себя-порождающая-и-пожирающая, стала «феноменом». Вот помыслите сами: то была просто мысль и надо было думать, а то стал феномен, к которому неизвестно с какого боку подступиться, и с какого ни подступайся – все будешь в дураках. Не феномен для человека, а человек для феномена, и человек есть ничто, да святится имя твое. Другими словами, Хайдеггер удивился самой возможности мыслить, как гоголевский Петрушка поражался странной способности знаков складываться в некое подобие смыслов. Это делает честь ему (Хайдеггеру), конечно, однако на этом его философия началась и кончилась. Он так всю жизнь и удивлялся, что вот-де, начинаешь мыслить – а оно и мыслится, а зачем, к чему, с какой целью – просто не знаешь, и даже за тысячу марок не сказал бы, какой в этом смысл. Так как-то все. Настоящая заслуга Хайдеггера перед культурой состоит в том, что он скромно указал на глупость философии, чем избавил от необходимости думать полчища тех, кто хотел бы быть философом, и при этом презирать «понимание»; быть этакими чингачгуками-пионэрами, шастающими «лесными тропами». А «тропы-с» ото всех сокрыты, и-никому-не-покажугде. Проторил, аки тать в нощи, и забыл. Заросло. Может, мнилось, может, грезилось, приснилось, но что-то было. Как бы. Гулял сам по себе. Истинная актуальность Хайдеггера в том, что он (не первый и не последний) мысль, инструмент познания, представил как психический акт. Его «другое мышление» – это банальный полухудожественный не регламентированный, то бишь свободный, бред, обслуживающий потребности души. Теологический архетип подобного мышления – более чем очевиден. Вот. И проблема, по большому счету, не в Хайдеггере и его пресловутых загадках, а в том, почему именно сегодня акцент на психической составляющей сознания имеет такой бурно-истерический (как бы гносеологический) резонанс. Хайдеггер не феномен, а симптом некоего феномена. Какого? Страха, жуткого страха перед тем, что нормальная здравая мысль, вопервых, не уберегает человека от смерти, а во-вторых, мало облегчает жизнь, 48 только все усложняя и запутывая. Чем больше мысли – тем больше проблем: нет ли здесь некоей загадки-вот? То ли дело тропы: чем больше плутаешь – тем больше понимания. Гуляй, душа. Хайдеггер если и феномен, то разве что для немцев и прочих шведов с их нездоровым пристрастием к рациональности. Этакий швабский альбинос. Для русского Хайдеггер (после Достоевского и всей последующей мистической дури в области мышления) – семечки. Наш человек: умом не понять. Европеец Хайдеггер одним местом почуял (так сказать, догадался), что надо в очередной раз скомпрометировать мышление как таковое – но сделать это традиционным, иррациональным способом. Смотрите: вы объявляете другое мышление. Вроде бы пустячок. Одну секундочку: вы как бы не против мышления, вы за другое мышление. Устраняя мышление, вы выступаете не против мышления (Боже упаси!), а именно за него, драгоценное, за новое, другое, супермышление. Старое мышление могло только объяснить вам, отчего мы вынуждены питать иллюзии, в чем суть вожделенных фантомов и проч. Но оно не порождало иллюзий! Оно наивно полагало, что это не его дело. Строгое концептуальное мышление не обещало вам изменить мир по вашему хотению, оно только честно познавало его по мере научных сил и возможностей. Но от такого познания никому не легче, а человек – это именно тот, для кого прогресс означает: «чтобы было хорошо и легко, приятно и прилично». Новое мышление оставляет лазейку в неизведанное (прямо сказать – к Богу), оставляет «просвет» как надежду на радикальные перемены к лучшему, как веру в чудо. Скажите после этого, что возможности мышления не возросли! Новое мышление по старому рецепту: сотрите границу между познанием и приспособлением, верой и методологией – и вы получите Новый Иерусалим и все, что хотите в придачу. Продуктивное мышление. Хайдеггер сыграл (боюсь, что бессознательно) на потребности людей иррационально (бессознательно же) тянуться к чуду, ибо старое (в-смыслеустаревшее) мышление чудо и тайну давно объявило формами невежества. И тут явился Herr из Фрайбурга. Религиозно озабоченное мыслящее человечество узнало долгожданного мессию, призванного избавить от бремени знания сверхнаучным способом. Проще говоря, никакого другого мышления нет и никогда не было; «другое мышление» (то есть откат от научного мировоззрения) – это знак (знамение?) и символ наступления антиразумной реакции, подлинно антигуманного процесса под знаком нового гуманизма. Хайдеггер – философ ноль, zero. Он есть, повторим, знак, вектор, тенденция. Разгадывание его «картин мира» – это идеологическая промывка мозгов в религиозномистическом направлении, это светская поповщина. Новое культурное, просвещенное невежество. Спрос родил предложение, только и всего. Маятник в философии отчетливо качнулся в сторону образномодельного постижения, иррационально-интуитивных прозрений (почему – это отдельный вопрос). Разумеется, иррациональная составляющая в мысли 49 есть, существует, реально присутствует, и в этом смысле Хайдеггер тонко почувствовал коварную природу человеческой мысли. Мысли как таковой – просто нет в реальности, мысль может существовать только как человеческая мысль: акт познания, обремененный бессознательными коррективами приспособления. Мысль становится живой, шевелится и лазает по тропам. На этом основании Хайдеггер сотворил культ мысли, парадоксально доведя его до мистики мысли. Вот ход его мысли. Мысленно отраженный человек – утрачивает целостность, а вот единомоментно объятый не мыслью уже, а чувствующей мыслью, внутренним взором – приближается к самому себе. Следовательно, адекватный способ постижения – не мысль, которая ложь, а мысль, синтетически заряженная ощущениями, мысль с чувственной прокладкой. Двуприродная, амбивалентная, текучая стихия. Убери чувство – лишишься мысли. Все так. Но разве отменяет это рациональный способ познания, если само понятие целостности есть результат деятельности мысли? Наличие некой «голой», условной рациональности, противостоящей целостности, было заменено психической мыслью, больше-чем-мыслью, – мыслью, переживающей целостность и стремящуюся к просвету. Все это понятно и более, чем естественно. Все это версия вечного сюжета культуры: любви-ненависти (притяжения-отталкивания) натуры и культуры, психики и сознания, иррационального и рационального, образно-художественного и научно-теоретического освоения мира, – «литературы» и «философии», в конечном счете. Есть древний, время от времени легкомысленно забываемый (благо на каждое время найдется свой Хайдеггер) рецепт: смешать два языка культуры, языки психики и сознания, и выдать при этом желаемое за действительное. Что это за зелье? Идеология называется. Преподнесите чашу сию публике. Это верный и быстродействующий способ снискать лавры, которые в таких случаях сочтет за честь поднести вам благодарное и взволнованное человечество. Здесь и сейчас. Тут. Вот. Хайдеггер вовремя подсуетился. Ситуация сама по себе философская, но Хайдеггер здесь ни при чем. Он вообще имеет косвенное отношение к философии, а потому в перспективе развития мышления место знаменитого господина из Фрайбурга видится весьма скромным. «Открытый» им тип нового мышления – это иррационально-психологическое приспособление к трудности познания и самопознания, к мысли. Мыслию мысль поправ. Легче живописать словом, нежели пользоваться им как инструментом познания. Эту новость активно переживали еще в Древней Греции. Впрочем, не так уж и давно, если вдуматься. Строго говоря, Хайдеггер продемонстрировал нам тип женского, теологического или, что едино суть, мифопоэтического мышления. Отсюда – «темный», загадочный язык, странная грамматика (по ушам узнаю осла, по шокирующим чудачествам – мессию) и неизбежные образы и метафоры, дающие возможность бесконечного толкования. Вся эта роскошная паранджа, сотканная из метафор вперемежку с пророческим мычанием, 50 скрывает растерянную физиономию честного швабского бюргера, который отважился сказать, что он ничего не понимает, но чувствует, что его священное непонимание выходит за рамки простого непонимания, что родилось непонимание в результате интенсивного мышления. Он понял, что ничего не понимает. И вот не мыслю – но «помышляю», не существую – но бытийствую. Его неправильно поняли. Ему не поверили. Гром аплодисментов был несколько неожиданным, но это легко объяснимо: те, кто отбивают ладошки, бессознательно отождествляют себя с Хайдеггером, а раз так, то ему уготована судьба большого мыслителя. Его величина – комплимент себе. Хочешь не хочешь – ты у нас будешь умным, философ Хайдеггер. Они, «те, кто», чувствовали то же самое, но стеснялись или не умели этого сказать. А вот он взял и стал переводчиком в философскую ипостась общественных настроений, рупором недумающего сознания, бесконечно пережевывающего мысли, так сказать, питающегося мыслями и на этом основании решившего, что оно думает. На самом деле мы имеем мысль как форму безмысленного существования, полубессознательную психическую эйфорию, акт саморастворения во времени и бытии. Для такого перетекания мысли из пустого в порожнее и вечности не хватит. Мы имеем классику попсовой философии, которая тут же начинает рядиться в модные прикиды элитарности. Все это лишний раз доказывает, что лучше учиться диалектически мыслить, нежели по-новому уходить от старой беды: нежелания думать. 19.08.2000 51 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЦИВИЛИЗАЦИИ Штрих первый: ТЕРРОРИЗМ И КУЛЬТУРА Все поменялось в один день. Все признают, что мир буквально преобразился, изменил свой облик на наших глазах. Все это чувствуют, ощущают. Но что, собственно, поменялось – мало кто понимает. Еще вчера, до террористической атаки на Всемирный торговый центр, расположенный в центре мира, в Нью-Йорке, мы жили в благословенную эпоху постмодерна в культуре, где для того, чтобы быть правым, достаточно было иметь всего лишь собственное мнение. Культ уважения к частному мнению, некому подобию частной собственности, правил миром. Неважно, насколько оно было верным; важно, что оно было частным. Сегодня мы начинаем осознавать, что надо считаться со здравым смыслом, и самобытность и уникальность сами по себе на наших глазах перестают быть несомненными культурными ценностями, если они не предполагают момента универсальности и не содержат его в себе. Для большинства людей мир поменялся лишь в том отношении, что они испугались. Раньше они не боялись, а теперь испугались. Поменялась эмоциональная парадигма. И это, как им кажется, вполне достаточное основание для введения глобальной формулы «мы живем в изменившемся мире». Но это доказывает именно то, что мир не поменялся ни на йоту; более того, именно подобная психология, как мы покажем в дальнейшем, и является питательной средой терроризма. Терроризм – это всего лишь крайность, опасное излишество той культурной ситуации, когда мы в упор не желаем замечать разницы между чувствами и разумом, предпочитаем жить исключительно чувствами, отовсюду извлекать удовольствие. Наша эмоциональная реакция – это, как ни прискорбно, во многом провокация и поощрение террора. Терроризму как комплексу «неверных» чувств и ощущений мы готовы противопоставить только иной комплекс «верных» и праведных чувств. Гуманизм и антигуманность разделяются прежде всего по линии психологического отношения. Террористы «рассуждают» всего лишь наоборот, и по-своему они правы, ибо они живут в мире, где их приучили к тому, что правота – дело сугубо частное, приватное. Это дело, может быть, государственное и общественное, но не философское, а государственное, опять же, – значит в принципе частное, пусть и коллективное, клановое. Проблема в том, что никто при этом не рассуждает. Уничтожить базу терроризма – значит поменять культурный язык и культурную ориентацию: пора не только осуждать, но и рассуждать. На языке мысли и разума терроризм теряет свою опору – идеологию, замешанную на дефиците начала разумного и избытке ощущений. Терроризм – это проблема ощущений, проблема нежелания человечества начать думать. Терроризм – это месть одной части мира, той, что не желает думать, другой, той, что 52 последовательно разоблачает мифы. Тот, кто держится за мифы, всегда прав: вот в чем неистребимость терроризма. Если же вы мифам противопоставляете всего лишь другие мифы, то вы вольно или невольно пособничаете нежеланию мыслить, разбираться в природе духовности человека. Вы подаете руку террористам. Вы с ними одной крови, одного поля ягода. При такой постановке вопроса борьбу с терроризмом следует начинать с себя. Надо начать думать, навести порядок в духовном хозяйстве, выстроить всемирный свод высших культурных ценностей. А эта башня никогда не рухнет. Ведь что произошло? Вместе с небоскребами рухнул и постмодерн, а точнее – его система культурных ценностей (основанная на вере, на фундаменте бессознательного), наличие которой он стыдливо скрывал, ибо за самим понятием ценность стоит такая непостмодерновая реальность, как порядок, система, тотальная обусловленность, закономерность. Вот где таится смерть терроризму, этой воинствующей разновидности невежества. Постмодерн давно уже был выражением кризиса культуры; террористические акты придали всего лишь весомость, грубость, зримость эфемерным и как бы ни к чему не обязывающим постулатикам этой порхающей, приятной во всех отношениях философии. Почему мы связываем постмодерн, с одной стороны, с кризисом в культуре, а с другой – с терроризмом? Потому что объективно именно постмодерн выступает «философским обоснованием» права не думать, но иметь при этом свою точку зрения, с которой обязаны считаться думающие, иметь право активно ее защищать. Культурная легитимность невежества – вот что явочным порядком протаскивал в духовное пространство безобидный постмодерн. В его планы не входила, конечно, подготовка смертников, однако смертники-фанатики, с точки зрения всеядного постмодерна, вполне полноправные и вменяемые субъекты культуры. За скобки культуры их можно вынести только вместе с постмодерном. Скажем больше: прогресс в культуре связан с усовершенствованием качества мышления, с высвобождением его из-под власти психической зависимости (и, как следствие, из-под власти мифов), а постмодерн культивирует обратное: художественное, художественно-религиозное, до предела искаженное вмешательством бессознательной, дикой логики мышление. Вот почему именно постмодерн – враг культуры, ни больше, ни меньше, хотя искренне желает быть ее другом, и даже пастырем. Именно объективные культурные ценности становятся проблемой номер один в современном мире. На наших глазах происходит то, что можно назвать углублением духовного кризиса. Здесь важно даже не то, что мы осознаем наличие кризиса: об этом догадывались и раньше; важно то, что кризис заставляет задуматься о природе духовности, заставляет именно в ментальной «надстройке» увидеть корни и причины вполне материальных, «базисных» бед. Однако – слава кризису! – мы вынуждены делать это не в 53 прежнем духовно-религиозном ключе, а в плане разумно-научном. Сегодня уже только социальными, материальными или религиозными причинами кризис не объяснишь. Он просто-напросто иной природы, хотя имеет и перечисленные аспекты. Выясняется, что можно обладать могучим интеллектуальным потенциалом и мощной экономикой – и при этом держать нацию на скудном духовном пайке. Интеллекта хоть отбавляй – а разум в дефиците. Заговорили о конфликте цивилизаций, о несовместимости менталитетов различных культур. А совмещать-то придется, на луну ведь не отправишь тех, кто не желает «совмещаться». При этом многие уже чувствуют (ибо привыкли ощущать культуру, воспринимать ее чувствами), что идеологически конфликт разрешим только в плоскости внеидеологической, разумной. Иными словами, теория сознания и познания – вот ключ к выходу из кризиса, симптомом которого, но отнюдь не причиной, является терроризм. Порог безопасности находится в системе ценностей, а не в обладании новейшим оружием – вот наш опорный тезис (сегодня, признаем, несколько идеалистический). И проблема в том, что существуют целые нации, и даже цивилизации, которые не готовы (не хотят, не могут – страшно даже подумать…) говорить о системе ценностей на языке разума. Они способны усваивать только пещерный язык примитивных идеологий. А это всегда язык борьбы, в крайнем выражении – язык терроризма. Большой постмодерновый соблазн отнестись к каждой конкретной культуре как к самобытности, «вещи в себе», понимаемой не как индивидуальное отклонение от всеобщей нормы, а как существование вне всякой нормы, как вненормативное существование. Все нормальны на свой лад, вменяемы, равны, и каждый выглядит по-своему. Как можно вообще сравнивать то, что не предполагает общности? Постмодерн шарахается от нормы, которую, тем не менее, стыдливо, бессознательно закладывает в культуру, как черт от ладана или шайтан от намаза. Не может быть цивилизация лучше или хуже, они абсолютно равны своей непохожестью: таков хилый постмодерновый тезис, подпирающий хрупкий мир на планете Земля. Если это так, то откуда возникает сам феномен терроризма? От верблюда? Уровень и качество сознания – вот культурная почва для террора и насилия. Именно в такую плоскость хочется перевести разговор о феномене терроризма. Дело не в агрессивной идеологии ислама, как иногда упрощенно пытаются представить суть вопроса. Дело в том, что исламисты реагируют на ползучую экспансию и гегемонию высокой европейской технологической культуры – разумной, по определяющему вектору, культуры. Это своего рода реакция на вызов времени: передовой караван культуры уходит вперед с большим отрывом, нам с нашими представлениями не выжить в их культуре, и мы, во имя самобытности (и вследствие этого – именем Аллаха), начинаем сопротивляться. Мы осуществляем свое право на самобытность, право жить так, как считаем нужным. Такова террористическая изнанка гуманистического постмодерна. И неча на их зеркало пенять, правда, на кривое, уродливое зеркало, но все же зеркало, отражающее источник 54 насилия, находящийся вне ислама. В этом суть вопроса. Ислам – это культурная аранжировка проблемы, но не первопричина терроризма. Цивилизация чтит культ силы, не стесняется применять силу, наказывая того, кого выгодно наказать. Принцип пользы и выгоды органично сочетается с культом силы. Не будем лицемерить: именно так была построена христианская цивилизация, лидер современного мира. Но ведь именно это обстоятельство может и погубить могучую цивилизацию. Нельзя забывать о диалектике, даже если выгодно о ней забыть. Есть вещи, которые выше выгоды, или, если без выгоды никак не обойтись, выгоднее выгоды. К таким вещам относится не только абстрактная диалектика, но и диалектически воспринятый принцип справедливости, например. Или диалектически проинтерпретированные высшие культурные ценности. Или взаимоотношения цивилизаций. В чем видится парадокс терроризма, его, так сказать, логическая невменяемость? Террор произрастает из тех же самых корней, откуда берет начало жизнелюбие. Неумение и нежелание думать – это причина и одновременно следствие желания просто и немудрено жить, плодиться и размножаться (что мы и наблюдаем в странах, замеченных в склонности или сочувствию к терроризму). Бездумная жизнь, мирное небо, смех детей. Кто против жизнелюбия? Подобная растительная, малокультурная жизнь эффективно обеспечивается исключительно психической регуляцией. Люди еще не вкусили от древа познания, они безмятежно и, следовательно, кроваво живут в раю (кстати, конечный пункт стремлений всех фанатиков – именно райские кущи). Райско-адская идеология терроризма – детище психического отношения, которое прикрывается паранджой культуры. В этом смысле все мы, так сказать, потенциальные террористы. Но не становимся мы ими благодаря тому, что на определенном этапе развития и личности (в большей степени), и общества (в степени меньшей) начинаем активно осваивать премудрость сознательной регуляции. Предыдущий тип отношений (фантомно-психологический) никуда не исчезает, однако он вписывается в систему совсем иных, разумных отношений. Что сдерживает терроризм, чистый продукт натуры? Продукт культуры – мышление. Оно же, кстати, противостоит не только терроризму, но и идеологии жизнелюбия в целом, бессознательнохудожественному, мифологическому приспособлению человека к миру. Вот и получается: наивный терроризм, этот побег жизни (кустик репейника того сорта, который называют «татарином», по Л. Толстому), сам еще культурный младенец, становится угрозой культуре. А культура, могучим потенциалом рационализма противостоящая жизни, превращается в ее, жизни, мощную защиту. Тут уж или «неисповедимы пути Твои», или нормальное функционирование диалектики. Терроризму, кстати, гораздо больше нравится первое – неисповедимые пути, которые всегда ведут в рай. Проблема терроризма в плане культурологическом гораздо шире и глубже, нежели его трактовка в плане политической конъюнктуры. Мы вступили в 55 эпоху, когда сознание и ничто иное определяет качество и перспективы нашего развития. Дело в том, что человечество на наших глазах начинает делиться на тех, кто может взрослеть, и на тех, кто сделать это не в состоянии. Признаем: мы не готовы к такой постановке вопроса. Но вопросуто все равно: он уже созрел. Вопрос этот – императив культуры. Суть вопроса: терроризм – сопливое, но борзое дитя слаборазвитого сознания. Вот почему терроризм – это еще и месть тех, кто неспособен стать культурным, тем, кто живет в культуре, продуцирует ее, эволюционирует вместе с ней. В широком смысле – это месть натуры культуре. Примитивные формы жизни бросают вызов и становятся угрозой высшим формам жизни; в принципиальном плане – угрозой жизни как таковой. Более корректно было бы сказать так: человек бросил вызов самому себе. Это пора понять тем, кто считает себя приобщившимся к культуре. (Здесь, между прочим, просвечивается онтологический план проблемы: противоречивое сосуществование психики и сознания – это вопрос вопросов отдельной личности, семьи, любого коллектива, этнической группы, народа, государства и, наконец, человечества. Познать себя – познать всех. Все в одном и одно во всем. Вопрос о том, насколько умно человечество, – далеко не праздный и не риторический вопрос.) А теперь спросим себя: как можно бороться с терроризмом, с теми, кто понимает только пещерный язык веры и уважает исключительно скороговорку пуль? Культура вооружает современным оружием боевиковтеррористов, которые не способны придумать даже арбалет. Культура же должна уметь принимать жесткие решения. Проблема терроризма – это, в конечном счете, проблема несовместимости натуры и культуры, однако в системе и «модусе» диалектических отношений противоположности отлично ладят, сосуществуют, и даже нуждаются друг в друге. Террористы – это браться наши меньшие, но очень капризные и агрессивные. Посмотрим правде в глаза: терроризм должен быть искоренен, что в буквальном смысле означает безусловный приоритет начала культурного над всевозможными культуркомпонентами. Что это означает в плане практическом? Это означает: пришло время гуманизму показать свое истинное, культурное лицо – лицо, на котором написана готовность к смерти во имя жизни. Или вы полагаете, что жестокие идеологические матрицы, в которых только и обитает «свободный» дух терроризма, можно «нейтрализовать» както иначе, например, миссионерством или иными формами просвещенческой деятельности? Вы предлагаете победить терроризм контртерроризмом? Полно, господа. Антитерроризм – это двоюродный, если не родной, брат терроризма. Они быстро найдут общий язык, и это будет язык взаимоистребления. Сегодня самое сильное государство мира назначает крайнего, ответственного за мировое зло – терроризм. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Одна из святых, неприкосновенных заповедей джунглей. И наиболее трезвые отдают себе отчет, а элиты, как водится, чувствуют, чуют (элитам сегодня как раз не хватает разума), что подобное отношение ко злу – 56 выражение слабости сильного. Сильные мира сего боятся взглянуть на себя со стороны, ибо тогда наступит момент истины: придется не вооружаться и довооружаться, а познавать себя, познавать человека и общество, и на фундаменте познания строить отношения разных цивилизаций. Нет ничего глупее, чем боязнь конфликта цивилизаций. Во-первых, они неизбежны, а во-вторых – необходимы. Конфликтам надо придавать статус противоречий, а последние, как и полагается, превращать в источник развития. Но для этого – мы все о своем – необходимо вооружиться теорией познания и сознания, всерьез обратить внимание на законы духовной деятельности человека и общества. И тогда ясно станет, что необходимо переосмыслить систему ценностей в культуре. Башни торгового центра рухнули, и все обратили взор на бастионы духовные. Едва ли не впервые в истории человечества предоставляется шанс (боюсь, не последний) ставить вопрос о выживании подобным образом: если сила не способна обеспечить безопасность – ищите силу человека в его слабости, а именно: в духовной культуре, которая пока что является культурой красивых и высоких слов, но не разумных действий. Пора культуру из красивой декорации превращать в реальную среду обитания. Невежество, наше всеобщее всемирное невежество – вот источник терроризма, если уж говорить по самому большому счету. Повторим: именно объективные культурные ценности становятся проблемой № 1 в современном мире. И разные цивилизации обладают культурным потенциалом в той мере, в каком они ориентированы на высшие и объективные культурные ценности. Мы привыкли к многоликости мира, но боимся признаться себе, что мир един, несмотря на всю свою многоликость, сама многоликость является свидетельством его единства. Уникальность мира не отменяет его универсальности, напротив, первая становится выражением последней. Цивилизации не равны перед истиной. И если они хотят сохранить свою самобытность и уникальность – пусть тянутся к разуму, к законам, к универсалиям. Шкала ценностей – нравственных, художественноэстетических, философских – вот чего не хватает сегодняшнему миру, который завален сотнями сортов колбасы и тысячью разновидностей сыров. Нет универсальной шкалы ценностей – все позволено. У террористов, в таком случае, тоже есть своя правда. У каждого своя правда – нормальная ситуация постмодерна. Вот и получите терроризм как выражение уродливо понятого плюрализма в культуре. Надо начинать с того, что сам постмодерн как выражение «дурной бесконечности» есть момент глупости и зла. Мы же заходимся от радости – живем в эпоху абсолютной свободы, постмодерна. Кто во что горазд: ты прав уж тем, что это ты. Терроризм, кажется, немного отрезвил. Признание «Черного квадрата» неким эталоном вкуса уже не кажется сегодня акцией совершенно безобидной. Связь духовного произвола с политическим экстремизмом становится очевидной для тех, кто способен думать. Если выживем, когда-нибудь придется поставить памятник терроризму. 57 Штрих второй: ФУТБОЛ И КУЛЬТУРА Если после человечества остался бы только футбол, это было бы в известном отношении справедливо. Мало сказать, что это народная игра; никого не удивишь определением «футбол – это международная игра». Это всенародная, всемирная игра. Общечеловечья. Самое расхожее мнение такое: футбол – это жизнь. К любым хвалебным преувеличениям в свой адрес Его Величество Футбол относится снисходительно: немыслимая популярность делает бессмысленной любую реакцию на хулу иль похвалу. Ругать или защищать футбол – сегодня просто глупо, как глупо пытаться не замечать стихию или выказывать свое недовольство ею. Поклонников – миллиарды, масштаб – земной шар, весьма, кстати, напоминающий футбольный мяч. Играют все: дети, пенсионеры, мужчины, женщины. Не любить футбол – это почти диагноз; о равнодушии к обожаемому всеми можно, конечно, говорить вслух, но это не тема для публичных дискуссий. Этой темой массы не заведешь и популярности себе не добавишь. Не любить футбол, сиречь жизнь, – согласитесь, в этом есть что-то не вполне нормальное. Не любящих футбол просят просто не беспокоиться. Если футбол – это жизнь, то что есть жизнь? Жизнь есть футбол? В чем суть простой игры – футбол? Суть, конечно, не в стратегии, тактике, тренерских задумках, качестве поля, фактора своего или чужого поля и проч. Это все, так сказать, дело техники. Это некий сугубо игровой (игры как искусства) расклад или аспект. Он присутствует, он реален – однако дело не в нем. Не с этого начинается футбол. Иногда в поиске начала начал футбол трактуют как некую фрейдистскую забаву, весьма игривую штучку: дескать, почти дюжина мужиков осатанело всаживают мяч в сетку, пытаясь при этом поразить строго ограниченное пространство – и всякий раз безумно радуются, когда им удается попасть. Что вызывает почти животную радость здоровых мужиков, когда они раз за разом стремятся попасть, проникнуть туда, и мало для них не бывает? Не есть ли это классическая сублимация, своего рода эротическое шоу, когда выигрывает тот, кто сверху, кто мужчина, кто распечатал ворота условного противника? Такая трактовка есть, но она как-то не приживается в силу своей умозрительности, надуманности, ее спорность и неабсолютность не вызывают сомнения, и уж во всяком случае она не дискредитирует футбол. В футбол играть не стыдно. Никто не отрицает эротичности футбола, но никто всерьез не сводит суть футбола к имитации сексуальных игрищ. Футбол как бизнес? Да, конечно; но только не для зрителя. Прежде всего, футбол – это игра, спортивная игра. Мы как-то легко забываем об этом, подсчитывая миллиардные прибыли или убытки, но факт есть факт: футбол – любимая игра миллиардов. Ну и что? 58 А то, что суть всякой игры – переиграть соперника, победить, то есть оказаться сильнее, проворнее, быстрее противника. Какие качества нужны для этого в футболе? Начнем перечислять многочисленные элементы физической подготовки – и окажемся не правы. Быстрее, выше, сильнее – все это важно, но суть не в этом. Однажды великий футболист Диего Марадона с наивностью священной коровы изрек нечто гораздо более близкое к истине, нежели все теории высоколобых, не играющих в футбол. На вопрос, смысл которого сводился к тому, что же сделало его великим футболистом, Марадона ответил приблизительно следующим образом. Внимание: «У меня есть одно неуловимое движение поясницей…» Речь идет о великом секрете футбола. Это честный ответ, жаль, что он скорее забавляет тех, кто относится к футболу серьезно. Если бы Марадона сказал, что у него есть футбольный талант или он одарен футбольной гениальностью, – все бы глубокомысленно закивали головами, вкладывая в понятие талант нечто высокое, привлекающее к себе внимание миллионов и никак не привязанное к какойто пояснице. Но он сразу, не думая, ибо он рожден был не для этого, определил суть футбольного таланта: это неуловимые движения, которым не обучишь, но которые все оценивают именно как футбольную гениальность. Великий футболист рождается с мячом в ногах. Можно виртуозно владеть мячом, предметом, что ни говори, посторонним, а можно срастись с ним, существовать в симбиозе, как с печенью, например. Физическая предрасположенность к сосуществованию с мячом в пространстве – вот суть взаимоотношений «человек – мяч». А уж игровое мышление и физическая подготовка – это следствие и подкрепление самого главного: человек – это набор неуловимых движений (поясницей, шеей, стопой…). Иными словами, прирожденный футболист – это Маугли, это природный, природой одаренный человек, это в принципе некультурный человек. Суть любой сверхпопулярной спортивной игры – именно в специальной одаренности при контакте с особой стихией: пловец должен «чувствовать воду», иначе те доли секунд, которые делают его недосягаемым чемпионом, будут нивелированы трудолюбивыми «неприрожденными» пловцами; боксер должен чувствовать дистанцию и удар (как свой, так и чужой); баскетболист должен родиться с мячом в руках и без корзины у себя под носом чувствовать себя некомфортно. Здесь вот что важно: в футболе, как и во всякой другой игре, футболист бьет по мячу не ногой. Если вы думаете, что ногой, – то вы ничего не понимаете в большом спорте. Сейчас уже пошла практика страховки отдельных частей тела у выдающихся спортсменов: рук, ног. «У него – золотая левая!» - так и говорят, восхищаясь отдельно взятой ногой. Приз у футболистов называется «Золотая бутса». Но бьет футболист не ногой. И уж тем более не бутсой. Он бьет всем телом, и даже всем существом, включая несоматические резервы. Так сказать, прикладывается всем чем только можно. 59 Совершеннейший биокомпьютер просчитывает силу удара, расстояние до мяча и до ворот, скорость партнера, возможные маневры других партнеров, местоположение вратаря. Если все сходится – свершится маленькое чудо, в просторечии именуемое взятием ворот. Боксер бьет не перчаткой, не кистью и не рукой: в ударе принимает участие корпус, а его положение задается всеми системами ориентации. Боксер бьет глазом в той же степени, что и перчаткой, что и поясницей. Он бьет всем своим существом, каждой своей клеточкой. Вот если вы рождены придатком своей ноги руки или поясницы – у вас есть шанс стать великим игроком. Именно это имел в виду великий Марадона: я чувствую мяч и легко отнимаю его у менее чувствующих, не даю отобрать у себя, делая неуловимое движение поясницей. В определенном смысле футбол – это жизнь, конечно. Эту метафору можно прочитать в различных аспектах и контекстах: тут и моральноволевые, и «уйти от поражения», и потерпеть победу, и везение, и модель войны, и выплески агрессии, и честная игра, отдых, разрядка и т.д. Жизненных мотивов и аналогий – хоть отбавляй. Но суть, повторим, в другом: футбол – это жизнь в обезьяньем «понимании», это жизнь первозданная, жизнь как таковая. Выживает (побеждает) тот, кто искуснее живет: машет хвостом, кулаком, прогибается поясницей. Это жизнь минус культура. И если миллиарды не оторвать от этого зрелища – это тоже уже диагноз. Верно, но недостаточно будет сказать «люди больны футболом», люди болеют за футбол, любят футбол или что-либо в этом роде. Футбол как бессознательное действо требует рационализации. И суть всех этих манипуляций с поясницей – восхищение торжеством жизни, переживание витальной радости, обнаружение и обнажение в себе природной составляющей. Аз есмь Маугли. Это ведь сродни другому зрелищу: любоваться лопухом, пробивающим асфальт. Тут не надо ничего понимать; тут надо признать, что вы с ним (лопухом или футболистом) – одной крови. Вы родом из природы. Он умеет «это» делать, а вы способны «это» оценить. Наша общая любовь к футболу, непонятная и неумеренная, – это, на самом деле, демонстрация того, что мы навсегда дети природы. В этом не было бы ничего плохого, если бы это не было вызовом культуре. Футбол, который есть жизнь, – это вызов культуре, тоже являющейся формой жизни: сознательной ее стороной. Футбол – это еще и особого рода игра, смысл которой состоит в стремлении быть на грани фола, в нарушении «проклятых правил», на страже которых стоят ненавистные судьи. «Судью на мыло!» – вот лозунг любителей футбола. Романтизация правонарушителей – это тоже составляющая сути футбола. Правила – это нечто из арсенала культуры, игра – это проявление натуры. Натуру не сдержать рамками культуры, она сметает любой регламент. Футбол – это сложные отношения с правилами. Иными словами, футбол амбивалентен, как любое проявление жизни. Именно в этом вся философия футбола, именно в этом он «подражает» жизни, точнее, становится одним из проявлений жизни. Суть футбола, как и суть жизни, в 60 амбивалентности. Двуприродность человека отражена в футболе ярко, сочно и недвусмысленно. Футбол гораздо популярнее любого культурного мероприятия. Более того: чем мероприятие культурнее – тем оно менее популярно. И если миллиарды не оторвать от голубых экранов, заполненных зелеными полями, если популярность футбола такова, что профили кумиров, делающих неуловимые движения поясницей, предлагают чеканить на денежных знаках, – если футболисты, которые умеют только двигать поясницей, воспринимаются как культурные герои – мы имеем дело с патологией, требующей диагноза. А диагноз таков: мы живем в эпоху, когда бессознательные формы жизни и модели поведения гораздо престижнее сознательных, когда начальные формы культуры по масштабам своей популярности не идут ни в какое сравнение с формами развитыми, когда культура воспринимается всего лишь как декорация. Причины безумной любви к футболу имеют непосредственное отношение к такому показателю, как качество мышления и уровень культуры. Те, кто боготворит футбол, завтра станут фанатами, послезавтра – «слепо верующими», гумусом, подпитывающим так называемую ось зла, а еще через день – потенциальными террористами. Я указываю не на прямую, технологическую связь, а на внутреннюю закономерность. Футбол и терроризм – это не одно и то же, разумеется, но это одного поля ягоды – поля малокультурного и преимущественно бессознательного. Наивно полагать, что при такой массовой любви к футболу наша цивилизация здорова, хотя футбол предполагает здоровый образ жизни. Увлеклись телом, а про дух забыли. А в здоровом теле вполне может быть и больной дух. Тут, правда, настораживает само словосочетание «здоровая цивилизация». Цивилизация и здоровый дух – две вещи несовместные. Вот почему – да здравствует футбол! 61 Штрих третий: ОДИН ОБЩИЙ РОМАН, или ЧТО НАМ ГЕКУБА ПОСЛЕ ГЕКАТОМБ? Литературовед А. Зеркалов как-то заметил: «После гекатомб 1937 года, все советские писатели, в сущности, писали один общий роман: в этическом плане их произведения неразличимо походили друг на друга. Роман Булгакова («Мастер и Маргарита» – А.А.) – удивительное исключение...» (А. Зеркалов. Этика Михаила Булгакова. – М.: Текст, 2004. - С. 9) В сущности, подобное происходит с ощутимой периодичностью: писатели всех времен и народов не сговариваясь на очередной волне новейших умонастроений (коллективного бессознательного, будем откровенны) начинают писать, как впоследствии выясняется, один общий роман, или пьесу, или стихотворение. По прошествии времени волне, образовавшей течение (направление), присваивают имя, словно эстетическому урагану или торнадо. Например, строгий Классицизм. Или разбушевавшийся Романтизм. Или суровый реализм. Или прикольный Постмодернизм. Все течет, все меняется, бушует и вновь стихает; не меняется только вот этот удивительный алгоритм: коллективное умонастроение дает старт новому общему роману. Между прочим, данная закономерность свидетельствует о волновом, бессознательном характере художественной словесности, самого умного из искусств, однако. Литература, которую создают отдельно взятые писатели, оказывается феноменом массового ажиотажа. Индивидуум служит толпе? «Да это парадокс, и больше ничего!» – воскликнет какой-нибудь отдельно взятый читатель. И мы не оставим эту реплику без внимания. Вот и сейчас на наших глазах (в данном случае речь идет о русской литературе, знаковой для мирового литературного процесса) формируется течение: все, как сговорившись, пишут один роман. На первый взгляд, подобное утверждение может показаться парадоксальным. Ведь мы, после гекатомб 1990-х, имеем неслыханное разнообразие: писатели решительным образом отличаются друг от друга: Виктор Пелевин не похож на Михаила Шишкина, Михаил Шишкин ничем не напоминает Владимира Сорокина, Владимир Сорокин – просто противоположность Людмиле Петрушевской, которая вообще как бы неповторима. Это мы сейчас упомянули постреалистов. А ведь есть еще крепкие реалисты (хотя и в них есть что-то от пост) – Захар Прилепин, Людмила Улицкая… Да что там! Свобода – мать разнообразия. Тут впору говорить о культе индивидуальности, уникальности и абсолютной непохожести. Просто исполнение мечты Маяковского: больше художников слова, хороших и разных. Куда уж больше… Однако схожести у них, у этих неповторимых писателей, гораздо более, нежели различий. Они «неразличимо походят друг на друга» в плане мировоззренческом. Они схожи в главном: все как один дружно, словно по команде, отвернулись от разума. И все как один, будто в ненавистном строю – напра-аво! в направлении правого полушария! с левой ноги! повзводно, поротно, шагом марш! – самым 62 разнообразным способом стали выражать одно и то же: недоверие к разуму, к личности. Все как один отвернулись от личности и повернулись лицом к человеку, презирающему личность в себе. А ведь их никто не заставляет писать один общий по смыслу роман, все делается на исключительно добровольных началах. Что за парадокс в парадоксе! Откуда такое подозрительное единодушие? Если кратко изложить то, что требует долгого и неспешного разговора, получается, к сожалению, нечто излишне категоричное и агрессивное (таков, увы, закон философского дискурса); «долго и неспешно» сегодня, когда все привыкли орать и вклиниваться, воспринимают как форму капитуляции. Однако «глас вопиющего», в пустыне ли, в литературе ли, – занятный и, судя по всему, древний жанр, и если не остается ничего другого, то почему бы и не воспользоваться правом на крик, на блиц крик, я имею в виду? Думать – значит, сверять свои мысли, желания и поступки с универсальной шкалой ценностей; иными словами, ставить заслон природному эгоизму «культурнорожденными» законами. Не думать – значит, не замечать объективного присутствия в мире универсальной системы ценностей и действовать по принципу «делаю, что хочу»; иными словами, абсолютизировать эгоистическое начало в человеке, игнорируя начало культурное. Мыслить – становится способом жизнедеятельности личности, субъекта культуры; не мыслить – способ существования человека (иногда говорят маленького человека, чтобы вызвать жалость к его неспособности быть личностью), субъекта цивилизации. Альтернативой личности становится уже не глупец, а человек, интеллектуально развитый. Он мимикрирует под личность, создает видимость равного в культурном отношении. Однако личность и человек различаются не качеством деклараций о благих намерениях, а качеством информационного отношения к миру: личность познает мир и оперирует законами; человек приспосабливается к миру, выдает приспособление за познание и в качестве единственного ведомого ему закона признает «заповедь», не вошедшую в нагорную проповедь: умри ты сегодня, а я завтра. Вот это сакральное «из не вошедшего» и выдает интеллект с ушами: интеллект является функцией психики, то есть бессознательного отношения к жизни; однако (вот он, его величество парадокс, одно из немногих на сегодняшний день достижений культуры!) интеллект может выполнять также функции «неангажированного сознания», – и тогда человек начинает мыслить, превращаясь в личность, а в интеллекте появляются проблески разума. Культ личности в человеке или человека в личности? На этот вопрос интеллект и разум отвечают с противоположных позиций. 63 Жизнеспособность интеллекта не следует путать с жизнеохранительной миссией, за которой стоит философия (читай – универсальная система ценностей). Разум – это инструмент, с помощью которого человек может понять себя, то есть выстроить свои отношения с высшими культурными ценностями. Интеллект, которым заправляют бесы сознания (ср. бес-сознательный), – инструмент, с помощью которого человек запутывает свои отношения с культурой, делая культурно неактуальным само понятие истина. Интеллект, каким бы развитым он ни был, не меняет главную потребность человека: потребность приспособления так и не становится потребностью познавать. Поэтому потребность витийствовать, медитировать, принимать позу мыслителя не превращается в потребность мыслить. Интеллектуальная игра не становится философией. Интеллект, как бы разум, замутит как бы философию. Так вот как бы и живем. Парадоксальным выражением неспособности думать сегодня становится какая-то мультяшная мудрость: у меня есть мысль, и я ее думаю (таким нехитрым способом разводятся мысль и мышление). Забавное сходство с императивом натуры налицо: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Это уже архетип, от которого рукой подать до закона. По сути, получается именно так: кто думает мысль, тот расписывается в своем неумении мыслить, ибо: мысль, ставшая законом, не принадлежит тебе, а мысль, твоя мысль является и не мыслью вовсе, а так, навеянным ощущением. Чувством, если называть вещи своими именами. И «мысль» эту можно «ужинать», «танцевать», «думать» – можно делать с ней все, что угодно, ибо закон «думаю то, что пришло мне в голову» («вижу то, что хочу видеть») никто не отменял. Только называйте кошку – кошкой: мысль – мыслью, чувство – чувством, неспособность мыслить – глупостью, способность творить законы – философией. В этом контексте литература, ставшая на защиту прав человека, представляет собой чрезвычайно жалкое зрелище: она защищает то, что губит великую литературу, или, если угодно, то, что лишает литературу возможности стать литературой. Казалось бы, всего-то: культ личности заменили культом индивида (как бы личностью). В конце концов, я ведь право имею. Это с точки зрения интеллекта. С точки зрения разума, все гораздо сложнее и печальнее. Культ интеллекта становится формой культа бессознательного. Мыслящее существо заменили существом, имитирующим мышление. Великая литература никогда не отстаивала права человека (с его великим правом – не думать): это миф, запущенный индивидами; «мертвые души», заполонившие культурное пространство, словно сорная трава-мурава, интересовали великую литературу именно как «мертвое живое», как угроза культуре; великую литературу интересовал путь от человека к личности (или наоборот: но точка отсчета при этом всегда была – личность); ее интерес – всегда и 64 только – были права личности, права человека мыслящего, то есть права, которые и поныне существуют, пожалуй, в виде абстрактного закона. Но они существуют: как ориентир, как универсальная (sic!) система ценностей. Как осиновый кол, вбитый пусть даже в бархан (мы же в пустыне вопием, не станем этого забывать). Вот откуда подозрительное едино-душие: у всех душа без рассуждений приняла безнравственный, без-умный императив индивида: раздавите гадину разума, долой культуру, личность – к стенке; кто был ничем, тот достоин всего. Этот императив стал выгодным и глобально легитимным, он кормит, потому как обслуживает потребность приспособления к нежеланию познавать. Раньше все под тоталитарным прессом – «после гекатомб 1937 года» – писали умилительно-идеологический, социоцентрический роман (на разные лады обыгрывая беззаконие, ставшее законом: репрессивный универсализм советской этики стал объектом «обожания», потому что вселял жуткий страх); точка отсчета такого романа – интересы общества; теперь все пишут роман, отключив левое полушарие самым радикальным образом, изредка в культурных судорогах что-то там покритиковывая – типа дайте мне свободу не думать, уберите оковы культуры, бряцающей кандалами законов. Или совсем незатейливо: руки прочь. Не трожьте музыку (забредшую ко мне мою мысль) руками (разумом). Получается предсказуемый роман с непредсказуемым бессознательным, индивидоцентрический роман. Точка отсчета такого романа – потребности человека. Да вот беда: свобода и разнообразие не спасают от одной упряжки, в которую, как оказалось, вполне себе впрягаются и конь, и трепетная лань, и рак, и щука, и всякие мутанты. Им по пути. Этот парадокс «по щучьему велению» и тянет воз «общего романа», который – еще одна культурная катастрофа – не претендует на истину. Вообще никак. Просто воз смысла в гору, не более того. Тяжело – да, и что из того? Кому сейчас легко? Разные писатели в едином порыве отказываются искать истину из принципиальных интеллектуальных соображений: на «этой волне» с истиной не то что не по пути – как-то себе дороже. Запишешься в правдоискатели – выпадешь из общей обоймы. Отстанешь от жизни. Нет, лучше быть как бы скромным. И в этом что-то есть; скромность, несомненно, украшает, тебя начинают узнавать, однако скромность никогда не была достоинством великой – то есть, думающей – литературы. Опять грабли парадокса: не увернешься. Что может написать человек, запрещающий себе думать, презирающий мышление (потому, конечно, что мышление презирает такого писателя)? Что бы он ни написал, он всего лишь покажет язык культуре. Или фигу (все зависит от размеров скромности). Он будет кривляться, забавляя публику, потому что забавлять сегодня – главная стратегия «писателя» (тут бы покорректнее, поскромнее, если так понятнее: автора книг, что ли; и «читателя» у автора книг нет, у него есть поклонники, фанаты общего романа, единого прекрасного дискурса). Это вовсе не смешно. Забавлять означает завоевывать. Завоевать читателя сегодня можно одним 65 единственным способом: угодить ему. Повернуться к нему передом, к личности задом. Мифы работают, сказка становится былью. Ибо: выгодно. Вот она, вся сущность примитивной идеологии индивида, маленького человека, пишущего для таких же пигмеев. Разнообразие в культурном смысле – это разнообразие не просто концепций, но культурных стратегий, вариативность познавательного отношения; ведь не тесно же на культурном поле Грибоедову, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Толстому, Достоевскому, Чехову? Нисколько не тесно. Путь от человека к личности всегда уникален и тернист. Отсутствие внятных концепций ведет к пестроте, к формальному разнообразию, которое порождено единообразным приспособительным отношением. И здесь все лишь похожи друг на друга своим стремлением выделиться. Затратить столько усилий, чтобы не стать личностью, – это банально. Человека от личности отделяет гносеологическая пропасть, хотя кажется, что один маленький шажок. Нет, это от великого до смешного один шаг, а от человека до личности – пропасть. А ведь «великое» и «смешное» кажутся жутким разнообразием, тогда как личность и человек воспринимаются почти как синонимы. Но внешность, то бишь культурная личина, обманчива. Не обманывает лишь закон, гласящий: культурно значимая оригинальность литературы определяется уровнем представленного в ней персоноцентризма. Как известно, каждый судит в меру своего понимания; так вот мера понимания писателя – это мера его приближения к персоноцентрическим ценностям. Я даже не стану разбирать литературных достоинств упомянутых мной не столько уважаемых, сколько талантливых авторов. Да-да, и тут не обошлось без парадокса, признаю. Во-первых, я анализировал творчество многих из них неоднократно, вдумчиво и неспешно (без ложной скромности); вовторых, это вовсе не литературный глас вопиющего, хотя и исполненный на литературной площадке. Я лишь скажу: не следует питать иллюзий: кто был ничем, тот ничем и останется. Маленький человек – это культурный попрошайка. Сколько ему ни подавай, он никогда не станет работать в духовном смысле, то есть думать. Стоит ли писать «один общий роман», стоит ли лабать на рояле литературы, даже если попрошайничают, сучат ручонками миллиарды, нескучно проводящие время в прокуренном казино жизни? Сегодня даже «желудок в панаме» по отношению к этим жующим звучит неоправданно романтично; как назвать это стадо, чтобы никого не обидеть? Стоит ли писать «один общий роман», вызывая уверенность у этих сильно чавкающих мира сего, что думать – удел слабых? Вот в чем вопрос. Ответ на который хорошо известен. «Тем более. Зачем кричать-то?» (аргументы отдельных индивидов, как правило, излагаются не системно, зачем себя утруждать, а в виде отдельно 66 взятых «убийственных» вопросов). «Императив культуры, как известно, гласит: не плакать, не ненавидеть, и даже не смеяться – а понимать. Про вопить вообще ничего не сказано». Именно, именно. Золотые слова. Ай, да Спиноза… Только вот когда поймешь, все равно вопить хочется (этот парадокс в императиве между строк зашифрован: так нас природа сотворила, к противуречию склонна). Кроме того, вдруг на волнах сегодняшнего общего течения – как назвать этот форпост? постпост? постпостпост? донашиваем остатки с некогда барского, социоцентрического плеча? – творится «удивительное исключение» – вдруг кто-то пишет другой, персоноцентрический роман, точкой отсчета которого становится личность? Вдруг уже вторгается эпоха предчего-то-нового, персоноцентрического реализма, например? Вдруг мэйнстрим того, что сегодня робко пытаются обозначить как постреализм, возьмет и парадоксально обретет культурную плоть в виде персоноцентрического реализма? А так бывает, ох, как бывает. И этот писатель воспримет краткий вопль как возглас в свою поддержку. Ему будет приятно. И такой парадокс вполне возможен. Собственно, на него, на парадоксально мыслящего писателя, вся надежда. Ибо: один в культурном поле – воин. Пишущий свой, уникальный роман. 10.10.2011г. 67 ИГРА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОТНОШЕНИЯ 1 Забавно наблюдать, как серьезная философия мучается с легкомысленным феноменом игры. Взрослые дяди представления не имеют, что делать со штуковиной, которая понятна каждому ребенку, и даже котенку. У гуманитарной науки нет опыта давать определения подобным амбивалентным вещам, природа которых определяется в равной мере (но в разной степени) и натурой, и культурой. Тип мышления, господствующий в современной науке, не соответствует реальной сложности окружающих нас объектов. С игрой не можем справиться. Как же тогда быть со счастьем, свободой, истиной, злом, женщиной, литературой, культурой, терроризмом, демократией, экономикой, жизнью? Игра великолепно высвечивает серьезность стоящих перед гуманитарными науками проблем. С определением можно и ошибиться, быть в чем-то некорректным или недостаточно внятным (все это дело поправимое); но тип современных научных определений рождается в русле целостности, в горниле тотальной диалектики. Отдельное должно содержать сущностные признаки всеобщего (а сущность непременно складывается из сопряжения полярных противоположностей): вот магистральная установка, императив новейшего мышления. Первое, что бросается в глаза, когда мы подступаемся к теоретическому осмыслению игры, это разброс игровых проявлений. Играют животные (то есть игра свойственна природе как таковой), дети; игры взрослых, на первый взгляд, просто невозможно без натяжек разместить под крышей универсальных категорий, ибо они (игры) разнородны, разноприродны: начиная от всевозможных трюков с мячом, любовных игрищ, шахмат и компьютерных игр – до забав высокохудожественных, философских, кончая жизнетворчеством (где, строго говоря, не до шуток, но без игры не обойтись). Что наша жизнь? Игра. В известном смысле игра есть способ жизнедеятельности всего живого (обладающего, уточним, как минимум психикой). Она присутствует везде. Что же есть игра? Жизнь? Как бы мы ни витийствовали, ясно, что игра как свойство, имманентное высокоразвитой жизни (где присутствует уже так называемое «человеческое измерение»), располагается между полюсами натуры и культуры, психики и сознания. Когда в качестве главного выделяют в игре ее бесполезность, бескорыстность, оторванность от практики, неприменимость к реальности, то демонстрируют поверхностный (одномерный) взгляд на игру. Это принципиально неверно. Непосредственной пользы от игры нет, но успешное отдаленное будущее без игры немыслимо. Опосредованно игра всегда включена в процесс жизнедеятельности. Игры животных и детей – это своего рода тренинг, наработка необходимых для эффективной практики навыков; даже бесцельные, тупые игры, просто убивающие время и силы, имеют под 68 собой глубинные психологические основания, восходящие к базовым потребностям: это либо защита от реальности (вариант защиты жизни, что ни говори), либо вариант отдыха (разгрузки, достигаемой за счет переключения внимания), либо болезненная психическая зависимость (игра как таковая здесь уже не при чем). Про игры, которые стали большим бизнесом, и говорить не приходится. Итак, игра всегда приносит пользу именно своей кажущейся бесполезностью. Жизнь не может позволить себе роскоши чистой игры, забавы ради забавы; при более детальном рассмотрении мы всегда обнаружим прагматический момент. Поскольку это так, то игра всегда в той или иной степени функциональна, то есть потенциально содержательна. Игра как чистая форма есть продукт болезненно-игрового воображения. В природе и культуре ее просто не существует. Разобраться с игрой, как видим, значит, уяснить себе ее культурные и природные функциональные возможности – то есть информационные возможности. Культура – это информация, пропущенная через сознание. Свойства натуры определяет информация досознательного типа. Следовательно, у нас есть основания разделить все существующие отношения на культурные и природные. И только в рамках первых, культурных, появляется субъект отношений, отчасти свободный и ответственный, потому как познающий. Мы имеем в виду человека, носителя сознания. Человек к самому себе, совмещающему информацию природного и культурного порядка (а это колоссальные игровые возможности!), может относиться как субъект к объекту. Это уникальный тип отношений в подлунном мире, говоря культурным языком, то есть в природе, поэтому человек и только человек сумел выделиться из природы. И только он может сказать о себе правду. Но тут как раз и начались проблемы человека как существа сверхприродного. Выделиться из природы – не значит оторваться от нее. Выделиться – значит суметь обнаружить объективные законы, структурирующие универсум (натуру и культуру), и разумно подчиниться им. Отныне и навсегда познание, а не приспособление, становится самым престижным (ибо прогрессивным, эффективным) способом самоутверждения для человека. В этом контексте игра – детище культурного отношения. Играть – значит, делать вид, что объективных законов не существует, значит, намеренно или ненамеренно путать познание с приспособлением. Подменять реальность выдумкой. Путать божий дар с яичницей. Это всегда вызывает улыбку. Игра в природе, если ее наблюдает человек, получает некое культурное (человеческое) измерение. Играть, строго говоря, – значит, в первую очередь приспосабливаться, ибо это акт психически-бессознательного отношения, обслуживающий в первую очередь витальные потребности. Вот почему игра и жизнь неразделимы. Более того: игра является своего рода гимном жизни. 69 Игра основана на информации, пропущенной не только и не столько через сознание, сколько сквозь сердце, душу – психику, этот орган природы. В культурное событие игра превращается тогда и в той мере, когда и в какой она становится концептуальной, то есть принципиально неигровой. Амбивалентная природа игры делает ее трудноуловимой для определений, этой сугубо культурной работы. Из сказанного следует, что игра является продуктом и результатом культурных отношений (к чему угодно – но культурных). Но тут есть гигантская тонкость. Если уж быть совсем точным, то игра – это результат отношений окультуренной натуры (в большей и принципиальной степени натуры, нежели культуры) к культуре. «Смысловое содержание» игры очень просто и понятно: невозможность натуры стать культурой – при ощущении, что культурой стать удалось! – и является игровым моментом в отношении последней. «Низкая» культура, смыкающаяся с натурой, противостоит «высокой» культуре – и de facto отрицает ее. «Игровые» отношения в природе – невозможны, ибо там нет культурной (надприродной) регуляции, вступающей в противоречия с природной. «Игра натуры» – это всегда некая культурная проекция, оценка с позиций в принципе не «натуральных». Игра является продуктом культуры потому, что наличие культуры (субъекта) не устраняет натуру (объект), но провоцирует новые, «игривые» и отчасти контролируемые отношения. В природе как таковой игры не было и нет (объектные отношения не предусматривают духовно-этических принципов); она появляется с возникновением культуры. Котята не играют в точном значении этого слова; они так живут. Они начинают «играть» в воображении homo sapiens’a тогда, когда на них смотрит человек, существо действительно играющее. Таким образом, игра амбивалентна, двуприродна, а потому весьма «художественна» по своему потенциалу (то есть оно содержательна и с позиций психических потребностей, и с точки зрения сознания). Игра как тип отношений может возникнуть только между субъектом и объектом. Это тип субъектно-объектных отношений. «Заказчиком» игры выступает природа, а «исполнителем» является культура. Игра – это когда натура перевешивает культуру, а кажется, что наоборот. А ведь «кажется, что наоборот» – это гносеологическая пропорция образа, языка искусства, в котором преобладает чувство, а кажется – что мысль. Вот почему игра издавна стала «фактурой» искусства. Вот почему существует большой соблазн само искусство трактовать как игру. Во всяком случае способом проникновения игры в культуру стало искусство, а не наука. Игра может жить, адекватно существовать только в образах, которые воздействуют на чувства и при этом попутно «задевают» мысль. Пограничность, амбивалентность, двоемирие… То ли культура, то ли натура; то ли сознание, то ли психика; то ли принципы, то ли беспринципность. Игра и искусство состоят из одного информационного состава: двуприродного – при полной доминанте психически-бессознательного и при одновременном присутствии сознания! 70 Само появление культуры как альтернативной регуляции социальноиндивидуальной стихии стало возможным благодаря информационному ресурсу натуры. Вот почему культура существует в среде натуры, там, где возникает, тлеет и бушует конфликт натуры и культуры. Культура живет (существует как таковая) исключительно в конфликтной среде. Конечно, в природе, где главным принципом является силовая регуляция, мы на каждом шагу наблюдаем единство и борьбу противоречий как результат силового столкновения. Но и здесь, кстати, понятие «сила» включает в себя понятие более совершенной информационной структуры. Выживает сильнейший, что означает: более совершенный информационный порядок бьет менее совершенный. Борьба за выживание – это, если угодно, информационная битва (и в этом смысле – вселенская). И венец творения, человек, это, конечно, информационный венец. Культура – венец натуры. Вот почему конфликт натуры и культуры – конфликт между совершенно разными информационными комплексами! – неизбежен и плодотворен. Культура – это система не только приспособления, но и преобразования (как результата познания); натура – именно и только система приспособления. Игра, конечно, служит способом организации конфликта. Игра – это приспособление, которое выступает в форме познания и преобразования. Вот почему игра как таковая, как некая «информационная технология», индифферентна добру и злу. Модель игры этически бессодержательна. Вот почему игровой момент, присущий злу, как бы очеловечивает последнее, делает его привлекательным и симпатичным. Игра как бы культурно легализует зло, приукрашивает его. Начинает казаться, что эстетика зла делает его «человечным». Человек заигрывается, путая добро со злом, и способом смешения понятий выступает именно игра. За тем, что противостоит культуре (хотя одновременно и питает ее), за менее совершенной информационной системой под названием «природная среда, продленная в человеческое измерение», закрепился многозначительный и совершенно мутный по смыслу ярлычок «игра». Что же противостоит игре? Неигровое, всецело сознательное, попросту говоря, научное отношение. С одной стороны, психика, образ, искусство, зло, игра, человек (индивид); с другой – сознание, абстрактно-логические понятия, наука, личность (опять же склонность к игре). Интуитивно ощущаемая зависимость, скрытая связь между натурой и культурой, злом и добром, тенью и светом, искусством (игрой) и наукой и породила плодотворную культурную почву для сказок и мифов, ту самую почву, которая стала мутной водой. Самое вразумительное, что сказало человечество на сию животрепещущую тему, – это «инь» и «янь». Игра тени и света. Определению не поддается. Проблема в том, что сама культура такого рода, «иньнояньного», – весьма и весьма природна, психологична, психогенна. Психология и призвана осуществлять связь между натурой и культурой: здесь кончается 71 одно и начинается другое. До этого предела все идет разумным путем. Но художники, мастера скрещивания «иней» с «янями», умудряются делать психологию не точкой отсчета, а венцом. И тогда все становится с ног на голову. Если ощущения подменяют мысль, натура – культуру, то почему бы игре не подменить отношение разумное? Игра действительно подвижна, текуча, она в равной мере может стать формой существования (осуществления) как зла, так и добра, способом проявления как индивида, так и личности. Никакой особой культурной идеологии игры не существует. Природа игры не делает ее добром или злом: все зависит от культурной стратегии человека, задающей игре конкретное культурное содержание. У игры нет некой культурной идентичности или маркировки. Игра как язык культуры может быть игрой только по форме (можно, так сказать, играть в игру), и это только увеличивает культурную ценность «игры». Самоценность же игры означает, что натура, эксплуатируя культурные формы, берет верх над культурой. Это может быть смертельно опасная игра. Скажем, постмодернизм, культивирующий игровую стихию, стал так же опасен для культуры, как и игра вообще. Он стал культурным способом уничтожения культуры. Поэтому играть следует с умом. Тогда игра пойдет на пользу. В безобидные игры, и то не всегда, играют только дети; взрослым же надо учиться играть. Не путать жизнь с игрой. Игра, как видим, может быть вполне серьезным тестом: скажи мне, как данный тип культуры определяет игру, и я скажу, какая это культура. Культурный уровень культуры определяется ее способностью давать определения амбивалентным категориям. Таким, как игра. Тут уже не до игры. 2 Но у игры есть и более глубокие и одновременно более неуловимые, что ли, онтологические и гносеологические основания. В этой связи хотелось бы обратить внимание на игровой потенциал диалектики. Диалектика – это ведь совмещение противоположного, несовместимого – удивительная специализация на невозможном. «Единство и борьба противоречий». Разве одно только это не вызывает улыбки? В попытке совместить несовместимое – суть комизма. Вот почему диалектика сама по себе, как таковая, безотносительно к содержанию, которое интерпретируется с ее помощью, – содержит элемент игры. Именно так: диалектика придает дополнительную содержательность содержанию, и содержательность эта – двуединство, единство противоположностей. Игра становится моментом познания. Разумное (следовательно, диалектическое, познавательное) отношение непременно включает в себя игровое начало. Диалектика, серьезный философский инструмент, по сути своей оказывается близка игровой природе. От игры ее отличат только то обстоятельство, что это не игра. Но вот попробуйте убедить в этом людей, в диалектике не искушенных. Для них 72 это дьявольски соблазнительные, искусительные комбинации – игра как атрибут несерьезного. Отсюда «серьезное» отношение к разуму и философии как к началу инфернальному. Попробуйте не улыбнуться… Получается: методологическая основа любой науки насквозь диалектична, а если не диалектична – следовательно, не о науке идет речь. В известном смысле наука неотделима от игры. Получается: всякая серьезная (диалектическая) концепция вызывает улыбку (или: улыбка – это атрибут целостной – диалектической – концепции). Дело в том, что диалектическое совмещение функций психики и сознания неизбежно порождает игровой момент, хотя ничего серьезнее такого совмещения придумать невозможно. Познание (функция сознания) одновременно есть приспособление (функция психики) к потребностям познания. Не смешно? Часто мужчина напоминает женщину – именно потому напоминает, что из кожи лезет вон, чтобы от нее отличаться. Мужчина по глупости своей утверждается не в культурном, а в природном плане. Его становится избыточно много, больше, чем женщины. Он и швец, и жнец, и на дуде игрец, и все у него выше, дальше, сильнее. Получается: лучшие женщины – это мужчины. Разве и это не смешно? То, что не смешно, – попросту глупо. Попробуйте быть исключительно серьезным, исключить «кощунственный» смех (абсолютизировать одну плоскость отношений, довести условность до абсурда). Вам придется оторваться от жизни, совершить насилие над реальностью (то есть волюнтаристски обойтись без диалектики), ибо реальность противоречива: серьезное есть аспект (так называемая оборотная сторона, то есть набор функций целого) несерьезного. Иными словами, ответственное отношение включает в себя несерьезный, игровой момент. В аспекте методологическом здесь также присутствует интересный (эвристический – игровой!) момент. Язык психики – образы, язык сознания – понятия. Диалектически совмещенные разнополюсные понятия великолепно существуют в образе (воспринимаемом и чувствами, и сознанием). С точки зрения чувства, образ можно любить и ненавидеть одновременно. Следовательно, гносеологический потенциал образа, с одной стороны, не отвечает требованиям научности, а с другой – научный аспект в информации, существующей на языке образов, все же присутствует, имеется в наличии. Выполняя миссию приспособления (воздействуя на чувства), образ «походя» осуществляет и функции познания (действует в режиме абстрактно-логическом, «бесчувственном»). Там, где образ, там и игривость, игра – ибо возможность воздействовать на чувства неотделима от игры. Таким образом, собственно диалектика (диалектика понятий) и, в частности, диалектика образа и понятия (психики и сознания) – вот дважды диалектическая стихия, свойственная познанию как таковому. Вот почему художественная литература в силу своей образной специфики – это в значительной степени игра; даже нехудожественная философия (с ее атрибутами диалектика плюс неизбежная образность) – тоже отчасти игра; 73 даже жизнь, духовно содержательная жизнь, – это непременно в определенном отношении игра. Надо жить и познавать играючи: это более серьезно, чем может показаться на первый взгляд. А всецело серьезное, неигровое отношение – смешно. Если учесть все вышесказанное, становится понятным, почему в художественной литературе наиболее содержательным является трагиироническое отношение (диалектическое совмещение эстетических полюсов). Более игровую стихию и вообразить сложно. Чистый и «святой» героизм, например, – это скудость и бедность гуманистической палитры, это очень условное отношение, и в качестве такового – нелепо. Смешно. От великого до смешного – один шаг: вот оно, потенциально игровое отношение в действии. Содержательная жизнь – это жизнь, заполненная игровыми отношениями, за которыми сквозит концептуальная серьезность; и чтобы так выстроить жизнь, надо отнестись к ней очень серьезно. Именно выстроить: предельно ответственное отношение к жизни называется жизнетворчество. Попробуйте творить без игры. Это несерьезно. Игра придает жизни смысл, что, между прочим, означает: жизнь бессмысленна в своей первородной сути. Один из бесконечной цепи парадоксов (комическая метафора познания) состоит в том, что игровую основу жизни дано обнажить только умным людям. Все остальные, играя, убеждены, что едва ли не священнодействуют. Кстати, парадокс, модус диалектики, – всегда игровая формула; а ведь глубина мышления «измеряется» его парадоксальностью. Таким образом, чтобы понять игру, надо ее почувствовать. Именно эти два отношения – понять и почувствовать – определяют суть феномена игры. Игра есть атрибут человеческого измерения, и вне человека попросту не существует. Но вот где она начинается и где заканчивается – порой бывает установить весьма сложно. Чувство меры определяется и регулируется, опять же, возможностями диалектического мышления. 74 ФИЛОСОФИЯ КАК ИГРА Речь, конечно же, идет о философии постмодерна. Упомянутая философия обнаружила гибкость и пластичность философского материала, этих веками копившихся концептуальных блоков, выявила их предрасположенность складываться в сумасшедшие комбинации. Оригинальность комбинаций стала оригинальностью философии. Практически все в реальности можно состыковать со всем, было бы желание. Сегодня одно можно увидеть деревом, за которым сквозит лес всего остального, завтра – они меняются местами и функциями. Где дерево, где лес? Блудить в трех соснах стало занятием престижным: не каждому дано. Философия стала напоминать игру в конструктор лего (lego) или игру в бисер, кому что нравится. Калибр философа сегодня напрямую определяется возможностями комбинатора. И ведь надо должное отдать: чтобы оперировать смыслами, культурными знаками, их надо добыть, усвоить, проинтерпретировать. Элитарная игра предполагает незаурядную эрудицию и, так сказать, волю к игре. Собственно, интерес у лего-философа должен быть ко всему, совсем как у настоящего философа. Вот тогда он артистично возведет ажурные замки из временно сопряженных смыслов, создаст эфемерные конструкции из железной логики, которые со смехом рассыпаются, обнаруживая виртуальную природу культуры. Культура – это муляжи и миражи. По большому счету, все это выражение бессмысленности культуры. Смыслов понасоздавали тьму тьмущую, а утилизация их – игра, не более того. Ни на что более они не пригодны, ни к чему полезному их не приладишь. И все же «по умолчанию» в игре со смыслами присутствует иной, противоположный тезис: в мире есть и не игра, нечто серьезное и ответственное. Жизнь называется. В жизнь не поиграешь, ибо ставки здесь – сама жизнь. А в двигании философских фишек экзистенциальных ставок нет в принципе, она, философия, есть сублимация жизни, не жизнь, а бледная тень ея, суррогат и обманка. Выиграть в таком философском шоу – значит посрамить соперника, вывернуть наизнанку его «убеждения», его систему знаков, растворить их, обратить в ничто. В этой игре проиграть – значит быть серьезным. Само собой разумеется, философская игра предполагает владение «художеством»: и как способом выразительности, и как стилем мышления. Ассоциативность и метафоричность, апеллирующие не столько к умуразуму, сколько к чувствам, становятся материалом и «субстанцией» такой философии. Собственно, философия превращается в литературу, но особого рода литературу, где внутренний сюжет складывается из лазания по пещерам (а то вот еще по «лесным тропам»), тайным ходам, связывающим, скажем, Сократа и Ницше, или Л. Толстого с Зощенко, или дионисийство с феминизмом. Все что хотите с чем душе угодно. Какую же социальную и психологическую функции выполняет подобная философия, какой социально-психологический заказ, как выражался еще 75 недавно впрягший философию в ярмо науки, нечеловечески серьезно относившийся к философии марксизм (и потому, надо полагать, безвременно усопший), стимулирует игру со знаками? Философия-игра оберегает общество от разрушительного воздействия мысли. Эта миссия превращает шутников и забавников в благородных Шутов, в шекспировских персонажей. Играючи утверждается приоритет жизни, натуре выдается карт-бланш на то, чтобы дремучая, не-ведающаячто-творит-жизнь развивалась по своим, автономным по отношению к культуре законам, практически, как думают шуты, не отраженным, не представленным в философии. Поэтому смешно и несерьезно говорить об обратной связи – о воздействии философии на жизнь. У философии, якобы, нет такого права, а есть миф о таком праве. Собственно, миф и становится культурой. Игривая философия de facto ставит жизнь выше философии и культуры, а философию de facto делает литературой, освобождая ее от навязанных ей ранее научных функций. Получается художественная, игровая, женская философия, от которой никакой угрозы жизни, якобы, уже не исходит. Вот коммунисты поставили телегу впереди лошади, философию над жизнью – и опростоволосились, сели в лужу, насмешили народ и философскую общественность. Для жизни всего-то надо – не мешать жизни, убрать философию. Ну, не совсем убрать, не в буквальном смысле, а в метафорическом: нейтрализовать, растворить в игровом моменте. Вот и убрали. Философия никуда не делась, ее стало даже гораздо больше, но она на радость всем перестала быть философией. Она перестала соваться везде и всюду (философии, как известно, до всего дело) с пресловутым культурным регламентом, этим свиным рылом культуры, в калашный ряд жизни. Бунт против репрессивной культуры – вот сверхзадача ни к чему не обязывающих маргинальных философских игрищ. Альтернатива же культуре порядка – культура хаоса, беспорядка, начало «хтоническое», дионисическое, женское, природное, художественное, иррациональное. Формами «хаотической культуры» хочется видеть (на уровне социальном): демократию как политический эквивалент «беспорядка», обслуживающую ее идеологию плюрализма, постмодерн как доминирующую тенденцию в художественной культуре, философию как игру, цивилизацию (упрощенную, немудрствующую культуру) в противовес «высокой», мудреной культуре. Ряд можно продолжать: индивидуальность как субъект культуры и социальных отношений (в противовес нации; или: персоноцентризм и права человека в противовес правам «подавляющего большинства», этноса и народа); космополитическая всеядность взамен почвеннической «монокультуры»; разрушение высокой культуры – масскультурой, субкультурой (Битлз вместо Моцарта, Малевич вместо Тициана, брэйк данс, вытеснивший балет, и проч.); интернет как модель информационного хаоса (а может плюрализма: кому как нравится); идеология как «синтез» научного познания и художественно-психологического приспособления (модернизация коснулась и содержания идеологий: на смену идеологии «идеализма» 76 приходит идеология прагматизма: плюрализм плюрализмом – а мода модой)… Всего не перечесть. Разве можно перечислить хаос? На уровне личном, персональном установка на «беспорядок» обнаруживается прежде всего в отказе от культурной идентификации: в отсутствии четкой идейной ориентации, разрушении морали как культурнодогматической установки, зацикленности на «основных» инстинктах (идеологический эквивалент: хлеба и зрелищ), приоритете витального над ментальным, жизни над мыслью, кайфа над трудом. Короче говоря, мировоззренческая, этническая, психологическая, сексуальная маргинальность и амбивалентность становятся нормой и образцом. Человек «никто» и зовут его «никак», так себе, неведома зверушка. Ну, что же, играть так играть. В обозначенном игровом круге одно действительно влечет за собой другое – демократия, в частности, порождает такую философию, которая могла бы обслуживать крайнее нежелание думать, культурно напрягаться, имманентно присущее человеку толпы или, если кому-то так больше нравится, человеку из народа. Есть такая тенденция в реальности, и игровая философия – отражает реальность, конечно, а не выражает прогресс культуры. Эту философию можно считать новой проекцией все тех же (старых) потребностей человека, торжеством бессознательной (художественной) культуры над познанием. Новым культурным типажом становится Фома Аквинский в бейсболке, выступающий против абортов. Время такое. А какое время – такая и философия. Один нюанс: философия, обслуживающая потребности времени, называется идеологией и в качестве таковой должна осознаваться, познаваться и пониматься более высокими формами теоретической культуры, а именно: научной (по своей культурной ориентации) философией, объясняющей время, но не спешащей выполнять его заказы. Настоящая философия служит вечности. Но дело даже не в иерархии, не в том, что культура как регламент и порядок никуда не делась и деться не может. Дело в наивной убежденности игрунов, что они, шаловливые игрунки, освободили человечество от идеологических оков, от догм и императивов, тогда как в действительности – наплели с три короба и опутали сознание всемирной паутиной новой, агрессивной, насквозь провокационной – словом, игровой – идеологии. Культурофобы всего лишь наступили на старые грабли с новым черенком. А шуму, будто мир рухнул. Шум из ничего. Комедия-с. Игрунки во имя жизни решили пожертвовать культурой, отважившись сказать главное: культура есть несвобода, дерьмо. Долой миф, даешь свободу и жизнь. А впридачу равенство, братство, счастье (но не труд и май, боже упаси). Вот этот святой момент – во имя настоящей жизни, а не светлого будущего, – и хотелось бы просветить. Я, как представитель культуры (где делу время, а потехе-игре – час: всему место и время), полагаю, что страхи перед культурой на руку тем, кто хочет этой самой культурой кормиться, но не желает в ней ничего понимать. Комфортно и амбивалентно разместиться сразу на двух стульях. Для них 77 похабно потреблять культуру и значит кормиться по законам жизни. Они выступают как некая служба жизни («санитары леса»), как авангардная психологическая защита, как вариант неорелигии, светской религии, если хотите. То есть вопросы о том, насколько действительно культура переросла в жизнь, что представляют собой культура и жизнь, насколько они нуждаются друг в друге и как соотносятся – эти действительно философские вопросы попросту не затрагиваются, игривенько обыгрываются. Как выразился инфернальный тип Свидригайлов – так себе теория, теория как всякая другая. А культура – это не так себе теория, не склад или музей теорий, не игровое поприще. Высокая культура – также союзник жизни, только она сознательно (а не бессознательно) оберегает жизнь. Бессознательный способ защиты жизни есть, собственно, форма жизни более, нежели форма культуры. Философия как игра – это вариант капитуляции культуры, бессмысленное ожидание милостей от природы, ставка на стихию, недоверие к разуму. Детская и вечная болезнь культуры. Производить смыслы только затем, чтобы играть ими, – бессмысленно, хотя полезно и приятно. Приятно – ибо чувствуешь себя культурным, полезно – ибо борешься против культуры. Словом – игра-с. А ведь у заигравшихся олухов уже ядерные дубины в руках. Кроме того, всякая игра всерьез заводит слишком далеко… Посмотрите: в реальности демократия давно уже использует методы диктатуры (а по большому счету первая всегда была родственна второй, что означает: игроки-культуроборцы, когда им кажется, что они воспевают вольную волю, обслуживают диктатуру брюха и подбрюшья), реализм жестко поставил плечо постмодерну, философия смеется над всякими хайдеггерами, заигравшимися в погоне за собственным реликтово сохранившимся хвостом, нации и не думают стираться, а этно-религиозные конфликты тлеют или полыхают. Ничто не ново под луной, даже постмодерн. Культурная игра в подобной ситуации напоминает изысканную по трагикомичности позу страуса. Смешно, конечно, но проблемы сами собой не решаются. И решить их можно, как свидетельствует практика, по технологии сознания. Как бы резвяся и играя мостится дорога в ад, точнее, в никуда, в смерть. Играючи можно вознестись и выше смерти, конечно, быть «выше этого», как выражались аристократы; боюсь только, что это будет уже никому не интересно. Некому будет аплодировать, некому будет смеяться последним. Мир как театр – нежизнеспособен. Я приветствую философию как игру – именно как игру ума, как бессознательное проявление жизни, как красоту, ненужную в семье. Я приветствую философское познание как проявление величия человека, выделившегося из природы, переросшего пору игр, хотя и питающего вкус к ним. Первая философия осознает себя через вторую: таков закон культуры. Что наша жизнь – игра? 78 Если это так, дерите саван на портянки (потому как смерти нет, ребята), малюйте черные дыры и квадраты и в детской резвости сбрасывайте нудного Пушкина с веселого корабля современности. Прикалывайтесь по полной. Если нет – оставьте в жизни место подвигу: задуматься – и понять. Между прочим, не каждому дано. 79 МЕХАНИЗМ ДЕГУМАНИЗАЦИИ ИСКУССТВА Механизм дегуманизации искусства прост настолько, что сложно поверить, будто все серьезные содержательные последствия для культуры рождаются из столь незамысловатого пункта. Несоответствие (по первому впечатлению) механизма и катастрофического для человека культурного результата шокируют. А в культуре все шокирует. Подлинная культура – это подлинный шок. Дегуманизацию, то есть по культурным меркам, деградацию искусства можно рассматривать только в широком культурном контексте, не ограничиваясь эпатажной содержательностью или провокационными стилевыми новациями отдельных образцов, сколь угодно скандальных или знаковых. Дегуманизация искусства – это симптом дегуманизации культуры, всего лишь одно из проявлений тотальной дегуманизации. Такая постановка вопроса опирается на скрытый, подразумеваемый тезис, согласно которому приблизительно до ХХ века искусство было способом гуманизации, а в ХХ – отчего-то перестало им быть, и наступил век дегуманизации. Этот опорный тезис, фактически получивший статус культурологической аксиомы, не столь уж и бесспорен. Во всяком случае, он не снимает с повестки дня научное обоснование гуманизма, без которого (обоснования) все разговоры о дегуманизации превращаются в ностальгическую эссеистику. Мне думается, что гуманизм и неизвестно откуда возникшая дегуманизация искусства – это две стороны одного мифа, мифа о культурной полноценности искусства. Культ искусства несовместим с гуманизмом, ибо искусство никогда не было в полном и точном смысле слова гуманистически ориентированным. Не изменяя своей природе, оно легко встало на путь дегуманизации. Таким образом, все вопросы, связанные с гуманизмом как содержательной основной искусства, необходимо решать в связке, в контексте определенной культурной парадигмы. Необходима концептуальная точка отсчета, система координат, отражающая некую базовую систему ценностей. Таков императив культуры. Прежде чем дискутировать о гуманистической «начинке» искусства или о гуманизме как об имманентном свойстве искусства, необходимо хотя бы бегло обратить внимание на информационную природу искусства и гуманизма, – природу, позволяющую им так или иначе пересекаться. Искусство появляется там и тогда, где и когда загадочные инстанции «разум» и «душа» (основные компоненты так называемого человеческого измерения) вступают в специфические отношения, подчиняющиеся, однако, своеобразным закономерностям. Разум и душа (сознание и психика) различаются прежде всего в информационной плоскости и прежде всего информационными возможностями. И гуманизм, как мы сейчас убедимся, – это только один из аспектов информационного космоса, берущий начало там, 80 где зарождается психика, и продолжающийся исключительно в сторону разума. Именно так: гуманизм возникает и оформляется в результате движения от психики в направлении разума. Психика как особого рода центр и банк данных воспринимает информацию, существующую на языке образов, символов, представлений – на языке явлений, единичного и конкретного, что улавливается и «осязается» чувствами. Нет пищи чувствам, нет фактуры – нет информации. (Конечно, за единичным и уникальным всегда сквозит категория «универсальное», невидимая и неподвластная психике, которая не может считывать эту абстрактно-логическую информацию и «обижается», когда это делает разум, – когда разум воспринимает то, чего психика обнаружить не в состоянии.) Интеллект как инструмент сознания, следующая информационная надстройка, функционирует на языке абстрактно-логических понятий, ему не доступны как раз уникальные, а потому конкретные образы, он «считывает» сразу моменты обобщения, в которых отчасти отражается всеобщее и универсальное, то есть суть: это особая специализация в сфере информации, особый тип управления информацией. Его познавательный предел – мир, отраженный как система систем. Разум же – и это принципиально – свободно владеет одновременно двумя исключающими друг друга языками культуры, языками психики и сознания, он оперирует целостностями, где явления и сущность, форма и содержание не противопоставлены, а взаимодополняют друг друга, точнее, перетекают друг в друга и продляют себя в другом. Еще точнее (в информационном ключе): это разные отношения моментов целого в рамках себетождественного универсума. Или: разум – это синтез психики и интеллекта, – синтез, в котором оба начала не теряются, а усиливают свой потенциал благодаря присутствию «оппонента». Познавательные возможности разума более адекватны универсуму, который осознается как тотальная нерасчленимая целостность. Собственно, мышление как таковое начинается там, где отдельное интерпретируется с позиций всеобщего. Связи отдельного с отдельным (сравнения, уподобления, метафоры) – это еще не мышление разумом, это экзерсисы интеллекта, информационно подчиненного психике. Умение видеть феномен в целостном контексте – вот разумное качество. Иначе сказать, мышление высокоразвитое, полноценное (собственно разумный акт, позволяющий осуществлять объективное познание) всегда придерживается гносеологической траектории «сверху вниз», от универсалий к частному; эмпирический путь «снизу вверх» через сопряжение фактов и явлений – это интеллектуально-психологическое освоение мира, которое правильнее называть субъективным по своему характеру приспособлением. Именно поэтому интеллект становится слугой двух господ: он обслуживает потребности психики и в то же время не может не стремиться к превращению в разум, именно благодаря интеллекту осуществляется эффективное приспособление, от которого всего-то «диалектический скачок» до познания. Вот этот последний шаг (скачок) от натуры к культуре – это шаг 81 от психики к сознанию, от интеллекта к разуму, шаг, не улавливаемый локаторами психики, но совершенно реальный в информационном пространстве человека. В данном контексте разум можно определить как особого рода интеллект, считающийся с логикой бессознательного, обогащающийся такой логикой и превращающийся благодаря ей в инструмент тотальной диалектики. Можно сказать иначе: синтез психики и интеллекта, где ведущая роль сохраняется за первой (при всех нюансах), дает нам схематически-спекулятивный, функционирующий на основе формальной логики идеологизированный ум, – ум, который фактически подчиняется психике, но при этом – как бы свободен и автономен (свободен по субъективному ощущению). Синтез психики и интеллекта при ведущей роли второго – это и есть собственно разум. (Уточним: разум – это высокое качество сознания; низкое, преимущественно психическое качество сознания связано с понятием интеллект; амбивалентное качество – ум. Они из одного теста, однородны, различаются только степенью развитости.) Вот и получается: все говорят об одном и том же, о дегуманизации искусства, скажем, а неразберихи – хоть отбавляй. Потому что на разных языках выстраивают разные отношения, оперируют сложно стыкующимися уровнями информации – говорят о разном, по сути. Иногда это называют плюрализмом в культуре, реализацией «диалогической установки»; более корректным представляется видеть в феномене вавилонской неразберихи культурный сбой, недостаток культуры, неумение структурировать информацию. Все сказанное здесь обычно безошибочно называют философией. Однако философии вообще, как легко понять, не бывает. В зависимости от избранного способа управления информацией мы будем иметь разные философии. Вплоть до того, что в одном случае философию называют наукой, продуктом, преимущественно, сознания, а в другом – религией или искусством, продуктом главным образом психики. Философия, универсальная философия – это наука, созданная разумом (не интеллектом, что принципиально). Но такого информационного продукта – разумной философии – крайне мало. Это жемчужные зерна культуры. Мы сплошь и рядом имеем дело либо с «интеллектуально-душевной», либо с «душевноинтеллектуальной» философией. Первая обслуживает, якобы, научное отношение, вторая – душевное (безо всяких якобы). Маргинальные философии «от психики» и «от сознания, от интеллекта» лишают философию ее подлинной универсальной специализации: «от разума». Такая философия и есть, собственно, любовь к мудрости, любомудрие. Поскольку такая философия в крайнем дефиците, ядром культуры стало искусство (свято место пусто не бывает) – с его специализацией на типе управления информацией принципиально не культурного, скорее даже природного (натурного) типа. Философия – это наука, только наука гуманитарная. И размытый ныне статус философии означает следующее: гуманитарной науки, предметом которой является духовный мир человека (в частности, такое его измерение, 82 как гуманизм), а также порожденные им способы управления информацией, – еще нет. Гуманитарную «науку» с помощью интеллекта тянет в сторону «душевную», ее заботит не истина (суть феноменов), а то, насколько у нее человеческое лицо, как она выглядит. Румяна гуманизма не дают ей покоя. Подход традиционно женский, тяготеющий в сторону искусства – потому и науки женские, предельно психологизированные и весьма спекулятивные. Ядром культуры, как следует из всего сказанного, должна быть философия как гуманитарная наука, «разумная», а не «душевная» философия. Гуманистическая ценность разных способов управления человеческими отношениями – в разумном культе принципа разумного отношения. Получается, что у культуры есть только два языка: язык психики и сознания, язык образов и понятий, язык искусства и науки, «литературы» и «философии» (в самом общем смысле). Понятно, что гуманизм является специализацией преимущественно «разумной философии»; «литературы» же постольку, поскольку она включает в себя разумный тип управления информацией. На практике это означает: «литература» озабочена гуманизмом в степени минимальной, явно недостаточной для того, чтобы гуманизм осознал свою собственную природу. Некий бессознательный гуманизм, присущий искусству, легко оборачивается дегуманизацией (бессознательной же). Таким образом, искусство никогда и не было средством гуманизации в силу амбивалентности своей информационной природы. Гуманистическое искусство – это движение от пустоты к смыслу, дегуманистическое – наоборот. Но это в принципе движение по одной дороге, хотя и в разные стороны. Современное искусство предлагает считать гуманизацией интеллектуализацию. В контексте всего сказанного легко понять, что интеллектуализация – всего лишь изощренный вариант дегуманизации. Можно выразиться даже еще более категорично: у деградации культуры – лицо искусства (сегодня, в основном, интеллектуального искусства). Искусство по природе своей всегда было и будет в авангарде дегуманизации, ибо психологическое освоение мира, противопоставленное разумному, принципиально антиличностно, ибо оно родом из природы, оно некультурно – следовательно, антигуманно по существу. Связывать дегуманизацию искусства с какими-то пришлыми модернизмами и постмодернизмами по меньшей мере наивно. Тут дело не в том, что авансцену искусства заполонили «черные квадраты»; дело в том, что эти «квадраты» узаконили абсолютную субъективность, тотальную психологизацию (через интеллектуализацию), устранение каких бы то ни было критериев (продукта разума, как ни крути). Сама принципиальная возможность выдать «квадрат» за искусство – вот триумф дегуманизации. И одновременно интеллектуализации. Появился «квадрат» – исчез гуманизм. Для меня «Черный квадрат» Малевича не символ, а знак того, что искусство кончилось. Именно возможность превращения знака «черный квадрат» (абстрактнологическая информационная единица) в символ (в информацию образной, 83 чувственно воспринимаемой природы) есть знак культурной деградации (которую при желании можно назвать антикультурной революцией). Если принципиально не различать умение создавать одухотворенные образы (творчество) и придумывать знаки (креативные способности) – то такая интеллектуализация приводит к отделению творчества от искусства, к информационному обеднению искусства – в конечном счете, к дегуманизации искусства. Вектор гуманизма – насыщение разумом. Деградация, дегуманизация есть не что иное, как изъятие разумного начала из культуры. В этом смысле меньше разума означает, с одной стороны, меньше культуры, а с другой – больше искусства (дегуманизированного) и больше интеллекта. В данном контексте вполне логично, что дегуманизация проявилась, вопервых, прежде всего в искусстве, а во-вторых, она рождена вовсе не искусством. Это неизбежное следствие психологизации всех отношений с миром (преимущественно приспособительных, но не познавательных). Искусство честно отразило этот глобальный процесс, составляющий духовный стержень цивилизации, именно цивилизации как таковой (то есть жизнедеятельности, вполне обходящейся без культуры, но делающей культ из интеллекта), и на зеркало неча пенять. Тут не в квадрате дело. И не в искусстве. Тут дело, повторим, в том, что культурная планка – не скажешь понизилась, скорее, перестала повышаться; а прекращение прогресса по линии гуманизма неизбежно привело к дегуманизации. Иными словами, приспособительный характер познания (психологический в своей основе) стал выявлять свой антигуманный характер. У нас есть все основания говорить о дегуманизации (посредством все той же интеллектуализации) философии, науки, политики, экономики, права, религии, морали, эстетики – всех форм общественного сознания, несущих культурную нагрузку. У нас есть основания говорить о весьма и весьма относительном характере гуманизма такого уклада жизни людей, как цивилизация. Итак, дегуманизация искусства – это симптом того, что образнопсихологический тип управления информацией (на котором и выстроен фундамент человеческой цивилизации) исчерпал свои гуманистические возможности. Гуманизация искусства, очевидно, возможна только при ином типе управления информацией. А это означает смену одной модели человека другой, смену систем ценностей, это означает неизбежный грядущий персоноцентризм в культуре (в противовес господствующему ныне социоили индивидоцентризму). До сих пор в центре внимания искусства – человек как биосоциальное существо (индивид). Человек как существо биосоциодуховное, подлинный субъект культуры – личность – не может полноценно развиваться в рамках цивилизации. Это означает, что цивилизация, исчерпав свои гуманистические возможности, должна смениться жизнеукладом, противоположным цивилизационному. Культура должна стать гарантом существования натуры, а не наоборот. Возможно ли это? 84 Гадать нет смысла. Достаточно сказать, что это необходимо и неизбежно, если человечество хоть на секунду допускает мысль о будущем. Будущее возможно только как культурное, гуманистическое будущее. У человека появляется шанс стать личностью: это и есть подлинное воплощение гуманизма. Именно так и никак иначе. Личность должна интересовать искусство, а не «черный квадрат» (символ элементарно понятой вседозволенности, индивидоцентрической «свободы» в рамках социоцентризма, то есть принципиальной несвободы). Теперь уточним суть понятия гуманизм не как душевной, а как научногуманитарной категории. Страдания из-за пролитой слезинки ребенка – это еще не проявление сути гуманизма; если нам жаль всех и нисколько не жаль себя – это тоже не гуманизм в полном и точном смысле этого многомерного понятия; даже если мы озабочены правами животных и экологией – и это все если не псевдогуманизм, то всего лишь одно, и далеко не самое решающее, из проявлений гуманизма. Средствами интеллекта вообще невозможно адекватно определить, что такое гуманизм. Гуманизм – это такое информационное развитие инфокомплекса под названием «человек», которое ведет к разумному управлению всеми отношениями человека с миром, и прежде всего с самим собой как основным информационным «сгустком», основной инфоединицей (целостность которой сопоставима с природой целостности универсума) доступной пока человеку вселенной. Гуманизм как вектор культуры – это поступательное информационное движение от индивида к личности. И цель человека, его максимальное самоосуществление – гуманизм. Эта утопия – самая реальная перспектива, за которой стоит вся логика развития культуры. Иной перспективы (обоснованной в принципиально научной парадигме) просто не существует. Альтернатива – благие пожелания, которыми, как известно, вымощена дорога совсем не туда, куда хотелось бы, и душевные страдания, гениально оплакивающие ценность угасающей жизни (натуры). Язык психики озвучивает только хотения, желания и страхи. Гуманизм говорит языком разума. 85 МУЗЕЙ КАК РЕЗЕРВАЦИЯ КУЛЬТУРЫ В широком смысле музеи, конечно, являются хранилищем культуры. И главная функция музеев, безусловно, – популяризация сберегаемого культурного наследия. Эта функция делает музеи как социально-культурный институт незаменимыми в деле «духовного производства» человека (если исходить из того, что такое «производство» важно, нужно – если исходить из гуманистического принципа культа Личности). В данном случае мне хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что в музеях, где хранятся произведения высокого искусства, сосредоточена не просто часть культуры, а такая ее часть, которая имеет отношение к высшим культурным ценностям. Насколько сегодня востребованы ценности именно такого порядка – вот тема моих размышлений. Несмотря на то, что само понятие «высшие культурные ценности» прижилось в культуре и культурологии, дать четкое и вразумительное определение этому понятию непросто. Но, мне кажется, достаточно просто понять, почему это сложно сделать: высшие культурные ценности предполагают иерархию ценностей, универсальную точку отсчета, - если так можно выразиться, претензию на объективную истину (вещь в сегодняшней культурной ситуации с ее тотальной гегемонией плюрализма не очень поощряемая). Попробуйте сегодня затронуть проблему универсальности ценностей и избежать при этом упрека в покушении на плюрализм. Как минимум придется объясняться долго и концептуально. К тому же сами музеи как социальный институт «сработаны» под плюрализм: их ведь интересует не логика развития культуры, а проявления культуры во всем их многообразии. Музеи собирают коллекции «явлений», сами вещи, но не суть вещей. Можно сказать, музеи и плюрализм – две вещи нераздельные. В целом получается печальная, в смысле мало насыщенная диалектикой, картина: если уж выбирать между плюрализмом и универсализмом, то выгоднее пренебречь последним. И тем не менее, высшие культурные ценности по умолчанию, де факто присутствуют в измерении духовном, эстетическом, нравственном. Так или иначе, приходится принимать это к сведению в повседневной практике и позаботиться о рабочей версии, касающейся природы этих ценностей. Сейчас не время и не место говорить о высших культурных ценностях в контексте культурологической теории, это вообще не тема для доклада, поскольку ее едва ли возможно изложить в нескольких тезисах. С другой стороны, хороший, то есть содержательный, доклад – это всегда в известном смысле стремление к невозможному. Вот почему без тезисов не обойтись. Сами категории универсализм, плюрализм, ценность – это ведь детище разума, результат колоссального обобщения. Думаю, духовное совершенство человека связано прежде всего с деятельностью разума, ибо совершенство в человеческом смысле есть способность идти от частного ко все более и более 86 общему. Почему? Да потому что это путь к законам, а законы – путь к свободе и одновременно ее суть. Можно сказать, свобода – это результат и проявление «закона уважения» к законам. Таким образом, духовное совершенство выражается в отношениях со свободой, то есть с законами, составляющими само «вещество» свободы. Вот почему разум и есть, если угодно, решающий фактор прогресса (сейчас нас интересует прогресс духовно-эстетический). Возможно, многие с этим легко согласятся. И напрасно: я имею в виду нечто в высшей степени дискуссионное: под разумом имеется в виду тип отношений, а не свойство здравого смысла, которое многим нравится. Объяснимся. Когда говорят о духовном мире человека, словно бы «априорно» исходят из того, что мир этот образуют два полюса: полюс психики и полюс сознания. Это общее место, даже общепринятое, что в культуре большая редкость. В известном смысле в этом биполярном пространстве ориентируется уже ребенок: он безошибочно определяет разницу между хочу и надо, долгом и чувством. Он уже ощущает (а духовная жизнь ребенка складывается в основном из ощущений), что пары эти образованы по принципу противопоставления крайностей. Однако во «взрослой» культуре принцип биполярности сотворил чудеса. Сложилась традиция, согласно которой гуманистическое, собственно человеческое начало закрепили за душой, а начало разрушительное, аналитическое, враждебное человеку – за сознанием. И сегодня – так уж получилось! – психологические фантомы безраздельно правят миром. За этой традицией – колоссальные авторитеты культуры: Библия, Коран, Л. Толстой, Достоевский и т.д. Разумеется, ничего случайного здесь нет, оттого-то понять логику культуры – один из самых больших духовных соблазнов человека. В значительной степени душа, наши душевные склонности позволяют принимать этот мир таким, каков он есть – за счет простенькой, примитивной, по меркам сознания, манипуляции с объектом: вижу то, что хочу видеть. Практически вся религиозная и художественная культура – это результат активного приспособления к миру, адаптации мира под свои хотения. Разница в восприятии мира всегда зависела не столько от сознания, сколько от воображения. Фактически наши представления о мире характеризовали нас, а не мир. Мы лепили мир по законам психологии, наивно полагая, что отражаем его объективные свойства. Такая душевная невинность (близкая к абсолютной субъективности) позволяла человеку вести себя по-детски или, иначе, стать творцом. Разум, специфический продукт сознания, «самовольно» внес в отношения с объектом (собой и миром) новые, совершенно неожиданные и ставящие душу в тупик краски: он научился абстрагироваться от «хочу» и стал различать то, что есть, от того, что хотелось бы видеть. Первое и крайне неприятное следствие из бескомпромиссной ставки на истину: душа оказалась в дурацком положении. Накоплена такая культура… подразумевалось: культура познания; оказалось – культура приспособления. 87 В значительной степени все «постигнутое» человечеством – обратилось в миражи и самообман. Но эти миражи (очевидно, назло разуму) обладают иногда колоссальной художественной ценностью. Ответная реакция не заставила себя долго ждать: разум был объявлен бездушным, дьявольским орудием познания, его склонность доверять только «своей информации» была квалифицирована как особого рода болезнь, духовная чума; люди, носители разумного начала, вероотступники, были объявлены вне человеческого закона, их «отлучили» и стали называть «лишними». Всю эту культурную интригу можно было бы объединить под общей рубрикой с названием сопротивление натуры – культуре, психики – сознанию, – сопротивление, надо отдать должное, вполне оправданное, во всяком случае, нормальное. Если трава пробивает асфальт – какие претензии к траве? Назвать это глупостью – глупо, ибо глупость – это характеристика действий ума. А мы говорим о сопротивлении психики, законнорожденной дщери натуры. Понятно, что плюрализм, о котором мы говорили выше, выбирается душой, ориентированной (по ощущению) на гуманизм, а универсализм – порождение «холодного» и «страшноватого» разума. «Логика» души (то есть бессознательное целеполагание) понятна: чем больше – тем лучше. Изобилие, поливариантность, плюрализм – это ведь модусы жизнеспособности. А вот разум со своим стремлением все обобщать, анализировать готов все унифицировать, причесать под одну гребенку. Оставить одну голую суть! Такова подспудная культурная коллизия. Искусство, понятное дело, всячески оберегает плюрализм и не хочет замечать его универсальной изнанки и подоплеки, а наука доказывает, что в основе плюрализма может лежать универсальный алгоритм. Музеи чаще всего занимают сторону искусства, сторону души, а там, где душа, там и плюрализм, и демократия, и гуманизм, и разумофобия. По существу главная проблема и «беда» разума в том, что он не может представить ту картину, которая устраивала бы людей неразумных, привыкших доверять душе. Разум может предложить лишь то, что действительно разрушает традицию психологического освоения действительности. Обида психоидеологически озабоченной культурной элиты (а это и есть на сегодня «по совместительству» и интеллектуальная элита человечества, другой просто нет) понятна, однако разум, как мы сейчас убедимся, по определению не может чинить обиды. Обида – это отношение специфически психическое, неразумное. Ничего не поделаешь: поводырем становится разум, ибо разумная регуляция идет на смену бессознательной. Начинается новая эпоха. Признаем: в контексте прежних сказочных или мифологических отношений разум и был враждебен человеку, разрушая царство грез. 88 Детскую логику, опять же, можно понять: отбирают любимую игрушку, предлагая взамен повзрослеть. Но сегодня, как это ни прискорбно, именно «ощущения» подводят человека, ибо вреда от информационно искаженной картины мира, несущей угрозу жизни, куда больше, нежели доставленного той же неверной информацией «полезного» душевного комфорта. Степень угрозы жизни такова, что о комфорте можно забыть. Жить верой сегодня означает: после меня хоть потоп (хотя при этом кажется, что ты оставляешь потомкам рецепт комфортного устройства на веки вечные: это логика абсолютизации субъективного опыта). Мы можем сколько угодно героически не замечать своих проблем (СПИДа, наркотиков, ничтожный экологический ресурс: поводов для разумного вмешательства предостаточно, у нас на выбор несколько причин, от каждой из которых можно элементарно обратиться в космическую пыль), не желать их распространения или истово молиться об их чудесном исчезновении, но они упрямо есть. Разум виноват уж тем, что говорит не то, что нам хотелось бы услышать? Виноват тем, что верно, эффективно отражает? Это бессознательная логика вчерашнего дня, хорошо известная нам по сказке о царевне и зеркальце. Сегодня уже ясно, что цивилизация и культура делают ставку на разум. Квинтэссенцией гуманистического отношения становится разум (стоит ли говорить, что разумное отношение к душе – приоритет разума?). Сказки, мифы и, увы, религия, да и вообще вся художественная, психологизированная культура, воспринятая некритически, принятая за чистую монету, становятся все более и более антигуманными – независимо от чистоты намерений культурных героев. Разум и душа (сознание и психика) различаются прежде всего в информационной плоскости. Гуманизм – это только один из аспектов информационного космоса. Психика как особого рода центр и банк данных воспринимает информацию, существующую на языке образов, символов, представлений – на языке явлений, единичного и конкретного, что улавливается и «осязается» чувствами. Нет пищи чувствам, нет фактуры – нет информации. (Конечно, за единичным и универсальным всегда сквозит универсальное, столь чуждое психике; однако психика не может считывать эту информацию и «обижается», когда это делает разум, – когда разум видит то, чего психика заметить не в состоянии.) Интеллект как инструмент сознания, следующая информационная надстройка, умеет «говорить» на языке абстрактно-логических понятий, ему не нужны уникальные, а потому конкретные образы, он «считывает» сразу моменты обобщения, которые отчасти содержат в себе всеобщее и универсальное, то есть суть: это особая специализация в сфере информации, особый тип управления информацией. Его познавательный предел – мир, отраженный как система систем. Разум же – и это принципиально – свободно владеет одновременно двумя исключающими друг друга языками культуры, языками психики и сознания, 89 он оперирует целостностями, где явления и сущность, форма и содержание не противопоставлены, а взаимодополняют друг друга, точнее, перетекают друг в друга и продляют себя в другом. Еще точнее (в информационном ключе): это разные отношения моментов целого в рамках себетождественного универсума. Или: разум – это синтез психики и интеллекта, – синтез, в котором оба начала не теряются, а усиливают свой потенциал благодаря присутствию «оппонента». Познавательные возможности разума более адекватны универсуму, который осознается как тотальная нерасчленимая целостность. Вот почему языком разума говорит как наука, так и искусство (где разум присутствует, правда, в виде интеллекта). Разум можно определить как особого рода интеллект, считающийся с логикой бессознательного, обогащающийся такой логикой и превращающийся благодаря ей в инструмент тотальной диалектики. Можно сказать иначе: синтез психики и интеллекта, где ведущая роль сохраняется за первой (при всех нюансах), дает нам идеологизированный ум, – ум, который фактически подчиняется психике, но при этом – как бы свободен и автономен (свободен по субъективному ощущению). Синтез психики и интеллекта при ведущей роли второго – это и есть собственно разум. (Уточним: разум – это высокое качество сознания или: сознание есть первоначальное качество разума; промежуточное качество – ум. Они из одного теста, однородны, различаются только степенью развитости.) Собственно, мышление как таковое начинается там, где отдельное интерпретируется с позиций всеобщего. Связи отдельного с отдельным (сравнения, уподобления, метафоры) – это еще не мышление разумом, это экзерсисы интеллекта. Умение видеть феномен в целостном контексте – вот разумное качество. Иначе сказать, мышление высокоразвитое, полноценное (собственно разумное) всегда осуществляется сверху вниз, от универсалий к частному; эмпирический путь снизу вверх через сопряжение фактов и явлений – это интеллектуальное освоение мира. Именно поэтому интеллект становится слугой двух господ: он обслуживает потребности психики и в то же время стремится в превращению в разум. Последний шаг от натуры к культуре – это шаг от психики к сознанию, от интеллекта к разуму, шаг, не улавливаемый локаторами психики, но совершенно реальный в информационном пространстве человека. Вот и получается: все говорят об одном и том же (с позиций разума, способного вычленять универсалии), а неразберихи – хоть отбавляй. Потому что на разных языках выстраивают разные отношения, оперируют сложно стыкующимися уровнями информации – говорят о разном, по сути. Иногда это называют плюрализмом в культуре, реализацией «диалогической установки»; более корректным представляется видеть в феномене вавилонской неразберихи культурный сбой, недостаток культуры, неумение структурировать информацию. А это все – специфические функции разума. 90 Поэтому если называть вещи своими именами, то недостаток культуры – это дефицит разумного отношения. Все сказанное здесь обычно безошибочно называют философией. Однако философии вообще, как легко понять, не бывает. В зависимости от избранного способа управления информацией мы будем иметь разные философии. Вплоть до того, что в одном случае философию называют наукой, продуктом, преимущественно, сознания, а в другом – религией, продуктом главным образом психики. Философия, универсальная философия – это наука, созданная разумом. Но такого информационного продукта – разумной философии – крайне мало. Это жемчужные зерна культуры. Мы сплошь и рядом имеем дело либо с «интеллектуальной», либо с «душевной» философией. Первая обслуживает, якобы, научное отношение, вторая – душевное (безо всяких якобы). Маргинальные философии «от психики» и «от сознания, от интеллекта» лишают философию ее подлинной универсальной специализации: «от разума». Такая философия и есть, собственно, любовь к мудрости, любомудрие. Думаю, что такого рода любомудрием непременно промаркированы произведения высокого искусства, в том числе и живописи. Итак, мы имеем два принципиально разных типа отношений: бессознательно-приспособительную регуляцию «духовного» космоса человека (со стороны плохо осознаваемых, но явно не духовных потребностей) – и разумное познание информационного комплекса под названием человек. Либо психика – либо сознание. Либо хаос, смятение чувств и плюрализм – либо законы и универсалии. Таким образом, речь идет о двух языках культуры и, следовательно, о двух типах культуры. Именно так: пространство культуры незримо расчленено ценностными ориентациями различной природы. И музеи (вернемся к тому, с чего начали) – вольно или невольно, отдают себе в этом отчет или нет, сознательно или бессознательно – уже давно не просто «хранят» культурную информацию, но и работают на будущее. Музеи помогают определяться с будущим. Какое будущее выбирают музеи? Казалось бы, музеи должны заодно с душой и искусством объединиться против разумных отношений, которые навязывает им рациональный тип культуры. Сейчас мы говорим о музеях искусства. Разумеется, живопись по определению не может выполнять функции философии – концептуально (то есть в универсальном ключе) увязывать различные измерения: она апеллирует не к разуму, а к душе. Если хорошая литература – это плохо выраженная мысль, то хорошая живопись – это иллюзия отсутствия мысли вообще (хотя реально философские концепты, несомненно, присутствуют в образах живописи). Вот почему музеи хранят образцы только того типа культуры, который неплохо освоен человечеством. Чем богаты, тем и рады. Казалось бы… Однако не все так просто с шедеврами искусства. Высокие образцы искусства, где выражены высшие культурные ценности, – это модели, где принципиально совмещаются два принципиально разных типа отношений. Закон искусства: за единичным всегда сквозит всеобщее – с высшей 91 полнотой реализуется именно в шедеврах. Именно высшие культурные ценности наименее востребованы сегодня. И музеи оказались заложниками высокого искусства: первые разделяют судьбу второго. В широком смысле музеями можно считать все те учреждения, общественные институты и виды деятельности, которые сберегают культурные традиции. Например, университеты, классическая литература и литература экстра-класса, философия. И здесь уже нарабатывается традиция иной, разумной, культуры, имеющей непосредственное отношение к высшим культурным ценностям. Вот такого рода культура и находится сегодня в резервации. По большому счету, серьезная духовная работа, отраженная в серьезном искусстве, сегодня никому не нужна. Прошу считать это констатацией факта, а не воплем души. Я не собираюсь никого бичевать или клеймить позором. Просто такова специфика культурной ситуации сегодня, которую я пытаюсь анализировать. Вынужден констатировать: феномен отложенного духовного спроса – вот проблема музеев сегодня. Функция музеев, в точном соответствии с природой художественных шедевров, становится амбивалентной. С одной стороны, никому не нужна духовная «заумь», с другой – надо популяризировать то, что не пользуется спросом у публики, воспитанной в традициях «душевной» культуры. Разумеется, в таких условиях приходится популяризировать «высшие культурные ценности». Однако сама необходимость популяризации – такое ли уж это благо? Смущает сама постановка вопроса: если человек отказывается идти к высокому искусству – пусть высокое искусство идет навстречу «среднему» человеку; и цена такого умилительного сближения – снижение культурной планки, разумеется. Но перед нами не Магомет и гора. Почему не рассматривается иная ситуация: хочешь освоить язык высокой культуры – иди и учи его, если есть к этому данные природой способности? Скорее всего потому, что подобный «малогуманный» императив резко ограничивает круг потребителей настоящей культуры. Уменьшаются масштабы, утрачивается изобилие, – так сказать, истончается сама почва плюрализма. Все сказанное можно выразить в иных терминах. Музеи сегодня хранят духовно-эстетические сокровища цивилизации, то есть ценности общества такого типа, которое делает ставку на человека биосоциального, обслуживает потребности телесно-психологического (не духовного!) порядка; личность (биосоцио-духовное существо), которая создает ценности культуры и, в свою очередь, создается ими, пока что не имеет своих музеев. Субъект цивилизации – человек, субъект культуры – личность. Вот почему музеи сегодня пока что воспроизводят человека (с его биосоциальными характеристиками, выдаваемыми за «духовность»), культивируют ценности цивилизации как высшие культурные ценности. Однако без музеев эпохи цивилизации не создать эпоху культуры. Отсюда главная функция музеев как учреждений культуры (в известной степени): по мере сил и возможностей приближать культуру, воспитывать личность. 92 Что разумнее: подтягивать вкусы общества к меркам высокого искусства или снижать уровень искусства? Не забудем: за искусством, Красотой, всегда стоит разумное отношение, Истина, – стоят духовные проблемы, то есть проблемы человека как личности. Популяризация – это в определенном смысле форма нарушения прав личности, если угодно. Как сохранить статус «высших культурных ценностей» и донести их до сколько-нибудь массовой аудитории? Но это уже не задача музеев – отыскивать социально-политический эквивалент диктату высокой культуры, разрабатывать социальные ноу-хау по замене диктата плюрализма (продукта душевного в большей степени, нежели сознательного) разумным диктатом разума. Музеи создают условия для духовного совершенствования, того самого «духовного производства» человека; насколько эти условия будут востребованы – это уже задача общества. Актуальная, добавим, задача, которая пока что не осознается в качестве актуальной. 93 ХРИСТИАНСТВО КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ Существует два языка культуры: язык психологического приспособления, язык образов, порождаемый и воспринимаемый чувствами (мысль или сгустки мыслей, организованные в определенном семантическом ключе, смутно, на вторых ролях присутствуют в образах, сообщая им символическое качество; образы словно обременены идейной глубиной и значимостью); язык познания, язык научного анализа, который в науке гуманитарной призван именно расщеплять бессознательный язык образов, разъяснять, почему желаемое в акте приспособления выдается за действительное, прояснять механизм такого претворения, собственно, механизм чудес. Вряд ли необходимо доказывать, что христианство не является наукой, но оно само есть объект науки, будучи формой приспособления человека к самому себе, иначе сказать, формой идеологии. В идеологии, вопреки мифам, идеи служат всего только дополнительным логическим воздействием, придавая культурные лоск и легитимность «непосредственным» (без посредничества сознания) душевным прозрениям и откровениям. Функция идей в данном симбиозе – ширма, декорация, аранжировка. Мировоззренческая стратегия остается в ведении иррационального. Итак, меня интересует простая сущность христианства как идеологического феномена. Я условно (наука может себе позволить такое) абстрагируюсь от политического и геополитического аспекта христианства, от цивилизационной парадигмы, от эффективности социальной или индивидуальной регуляции, истории, морали, воспитания – словом, от всех уровней и форм общественного сознания, где христианство незримо присутствует в качестве связующего структурного ингредиента. Современную жизнь невозможно представить себе без христианства – и точка. Сам по себе христианский космос – тема неисчерпаемая и безграничная. Но меня интересует христианство не как некая данность, не как фактическая доктрина, из которой неизбежно вытекает масса жизненно важных следствий, с которыми нельзя не считаться; меня интересует культурная родословная христианства, его культурная функциональность. Прошу не считать такой «академический» аспект пренебрежением реальной значимостью христианства, его выхолащиванием или чем-либо подобным. Я буду говорить на одном языке культуры о функциях и возможностях другого языка, я собираюсь не оппонировать или противоборствовать, или поучать; только анализировать. Кстати сказать, сама уместность подобного предуведомления свидетельствует о деликатности темы. Все дело в том, что христианство стало языком души. С душой нельзя иначе: она алчет реверансов и комплиментов. Но ведь душа – потемки. Мне представляется, что в серьезном разговоре о христианстве совершенно невозможно обойтись без психоанализа. Все это вероучение слишком иррационально, чтобы воспринимать его буквально. За тем, что говорит христианство, нужно искать 94 скрытое содержание, за скрытым смыслом притчей – другой скрытый смысл. Проблема не в интерпретации «темных» мест, а в том, что подобная потаенность содержания, конечно, является психологическим содержанием, слова и образы (модели, знаки) – маскируют суть, а не обнажают ее. Христианство не называет вещи своими именами, а дает другие имена… Чему? Вот это, в сущности, и является темой заметок. Моделирующий язык христианства дан ему не для того, чтобы скрывать свои мысли, а может, и отсутствие оных. Он дан, чтобы скрыть, прикрыть, завуалировать свою зависимость от витальной базы, чтобы облагородить грубость основных инстинктов, чтобы иллюзорно преодолеть свою фатальную зависимость от природы и прописаться в некоем автономном культурном круге с его жесткой иерархией и регламентом. Природа допускается в этот круг исключительно в культурном обличье, в варианте сублимированном и препарированном. Таким образом человек очищается от «натуральных» родовых пятен. Духовные усилия и деяния вообще переносятся в своеобразное метафизическое, принципиально культурное измерение: грех, покаяние, бес, ангелы, святые… Христианство предстает как феномен культуроцентризма. Все это порождает россыпи бесконечных духовных конфликтов, а значит, и сюжетов, счастливо отраженных в художественной культуре. Но даже не это делает христианство ценным в культурном смысле и отношении. Ограничиться сказанным – значило бы оставить за христианством, так сказать, художественные заслуги, бессознательное идеологическое служение жизни и человеку. Тем самым вопрос о том, насколько христианские ценности являются ценностями культуры – деликатно (и, думается, не в интересах христианства) снимается. Художественный потенциал христианства – несомненен, и в значительной степени большинство из существующих ныне идеологий так или иначе соотносят себя с христианством. Идеологии – это прежде всего три великих «гибрида» (искусство, религия, мораль) – потому гибрида, что они в совершенстве владеют языком приспособления, но тянутся к языку сознания, я бы сказал, претендуют на него. Гносеологические корни христианства – в сфере психологического управления и воздействия на ментальность личности и общества. Однако в данном случае необходимо подчеркнуть, что христианство строго придерживается священного культа порядка, предписания, императивов долженствования, которые могут быть по природе своей только продуктом сознания. Я сейчас не о том, насколько и в каком отношении плох или хорош, верен или неверен порядок. Я о том, что «духовное производство» изначально и по определению ориентировано на идею порядка. Порядок – детище концепции, плод усилий ума более, нежели воображения, сознания более, нежели психики. Опираясь на «порядочные» идеи, христианство своей практикой, в сущности, убедило человека в том, что он вполне может перестать быть скотом, «белокурой бестией» и превратиться в божью тварь, в носителя ценностей, выработанных 95 культурой. Если угодно, христианство доказало, что жить в храме и «режиме» культуры, в режиме сознательного контроля над потреблением – цель вполне реальная и задача выполнимая. Не достойная, благородная – все это из разряда культурных утопий, созданных фантазией и щедрым воображением, – а именно реальная и выполнимая. Вновь считаю необходимым прибегнуть к риторическому политесу. Хочу быть правильно понят: без христианства был бы невозможен коммунизм, который и стал некой проекцией христианства, усилив и выделив в нем начало рациональное, научно-теоретическое, концептуальное. Я не хочу сказать, что христианство «виновато» в сотворении монстра, который с момента рождения стал заклятым врагом творца. Я хочу сказать, что христианство как идеология тоже не особенно ведало, что творило. Коммунизм задумывался как наука, как альтернатива собственно идеологии, а на деле стал всего лишь религией или идеологией атеизма. Поделом: за что боролся… Но это уже отдельный культурный сюжет. Хорошо известны три источника, три составляющие части марксизма. О четвертой говорят редко и неохотно. Будем и это трактовать как своего рода деликатность. Христианство и атеизм – тоже особый и, конечно, деликатный поворот темы. Христианство постоянно стремится если не перехватить научную инициативу, традиционно закрепленную за атеизмом, то продемонстрировать свою нечуждость и, так сказать, родственность разуму. Вот замечательный в своем роде пример – книга А.И. Осипова «Путь разума в поисках истины. Основное богословие.» (М., 1999). Характерно не только название книги, но также составляющих ее глав и параграфов. «Нерелигиозные системы мысли», «Доказательство», «Понятие о доказательстве», «Доказательство и истинность», «Правильная мысль», «Познай самого себя» и т.д. Таким образом, христианство, на первый и просвещенный взгляд, покоится отнюдь не только на иррациональном плацдарме, но на основаниях разумности. Сам разум обосновывает неизбежность и естественность христианства как системы мысли. Христианство смело предстает в обличье науки – науки, как нам тут же деликатно, но твердо напоминают, богословской, особой. Уже в начале первой главы находим предписание, развеивающее культурные мифы о «разумности» христианстве и ставящее все на свои места. Во-первых, Основное богословие «исходит из догматических и нравственных предпосылок христианской веры», во-вторых, «обращено к тем, у которых нет еще твердой веры, у которых немало сомнений» и которые «нуждаются в рациональном обосновании основ веры, истинности христианства». Разум помогает твердо встать на ноги, то есть укрепляет веру, помогает сделать первые шаги начинающему христианину, выполняет функции посоха или помочей. «И хотя на первых шагах таковые часто допускают ошибку, думая найти Истину, познать христианскую религию на пути только рассудка, логики, религиозной философии, тем не менее, те из них, которые оказываются в дальнейшем духовно способными к действительному, т.е. опытному постижению христианства, приобретают это знание через молитву, делание заповедей и покаяние». 96 Действительное постижение – значит опытное, душевно-эмпирическое, но не умственное. Вот теперь все стало на свои места. Опыт «переживания» Бога как был, так и остался главным и решающим, и наука здесь не при чем. Разум недвусмысленно ставится под контроль психики. Разум может лишь заманить в иррациональную ловушку, но сам о себе он ни на что серьезное, имеющее отношение к Истине, не годен. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Вот, собственно, все аргументы и факты. Очень точно сформулировал проблему Н.А. Бердяев: «Основа религии есть откровение. Откровение само по себе не сталкивается с познанием. Откровение есть то, что открывается мне, познание есть то, что открываю я.» («Я и мир объектов. Опыт философии одиночества.») От атеизма же лукавое Основное богословие требует именно фактов, «свидетельствующих о небытии Бога». Нет таких фактов – значит Бог есть. Бесконечный мир (уже своей бесконечностью принимающий сторону Бога) не может дать исчерпывающих, конечных и окончательных аргументов. Поэтому факты всегда будут в дефиците, они всегда будут относительным свидетельством. Сама невозможность достижения Абсолюта, сама диалектика оказываются на посылках у Господа Бога, атеизм же оказывается разновидностью слепой веры, не более того. Ибо: нет «железных» фактов – появляется глупая вера. Атеизму даже милостиво предлагается повысить статус и воспользоваться методологией дешевого детектива: представить доказательства, которые заведомо не соберешь. Незавидная доля. Получается: «есть только один путь, позволяющий убедиться в бытии или небытии Бога – путь религиозный. Иного способа просто не существует». Автор Основного богословия, конечно, горячится, демонстрируя твердую веру. Иной способ – отношение познания, которое не сводится к наличию фактов, логики и даже религиозной философии. Отношение познания базируется на методологии, на принципах познания, и принципы эти свидетельствуют: технология непосредственного «узревания» вооружает ее приверженцев виртуальными аргументами, которым никакие науки и разум не страшны, ибо они здесь не при чем. Отношение познания подменяется логическими ходами (культурой), за которыми стоит, конечно, потребность узреть Бога (слабость человеческая, обусловленная натурой). Есть потребность – будет и Бог. Логические ходы (в интерпретации богословов – «разум») обслуживают приспособление к иррациональной потребности (вот где не обойтись без психоанализа). Отношение познания подменяется отношением приспособления, один язык культуры – другим. Получается вариант неосхоластики, – и все на круги своя или, на выбор, ничто не ново под луной. Отчего же приспособление комично маскируется под познание, рядится в овечью шкуру, хитрит? Словом, демонстрирует свою слабость, бравируя силой? С одной стороны, тянемся к Богу, с другой – к безбожному познанию… Оттого что разум и культура имеют силу и авторитет, а приспособление всегда тянется к реальной силе и авторитету. Происходит бессознательное отождествление Бога, разума и культуры. Скрытая интенция христианства – 97 познать Бога, а не узреть Его, доказать, что Он есть, сделать «медицинским фактом». Это и было бы явлением мощи разума народу, открытием божественной природы разума. Истинным предметом Основного богословия стал бы не Бог, но разум, ибо эти «вещи» едины суть. Отсюда постоянное стремление христианства сблизиться с наукой, включить ее в свой космос пока что на правах вассала. Кокетничанье и заигрывание с разумом обнаруживает виртуальную, психологическую природу христианства. Оно просто-напросто проговорилось, давая другое имя Богу, обожествляя целесообразность и преклоняясь перед «порядком вещей». Сила не в знаниях и фактах, а в качестве мышления. Между прочим, опытный путь – это не привилегия «блаженных». Опытным путем можно узреть, что никакого бога нет. Содержание интуиций всегда амбивалентно. Мы же вернемся к нашей основной мысли: акцент на человека культурного – всемирно-историческая заслуга христианства, выражаясь языком сгинувшего марксизма. Сегодня это очень важно. Мы стоим на пороге тотального кризиса – и вследствие этого на пороге неизбежного обновления культурной парадигмы, в том числе идеологической ее составляющей, на пороге сознательного отношения к себе (хотелось бы в это верить), хотя живем в реликтовую и одновременно модерновую эпоху постмодерна, который саму культуру отвергает как репрессию, регламент и насилие, как нечто противоположное свободе и демократии. Художественные начала культуры пришли в неизбежное столкновение с научными. Процесс единства и борьбы пошел. Так вот христианство не будучи наукой все же создало, сотворило архетип человека культурного, строящего свое поведение от головы и сердца, но не от брюха и подбрюшья, от верха, но не от низа (хотя, повторюсь, психоаналитический дискурс христианских символов выявляет наличие плоти как всему «головы»). Важно, что сознательная регуляция пусть и в варианте первичном, виртуальном обрела право на жизнь. Вектор в сторону сознания – именно то, что придает христианству культурную ценность. Ибо это не просто слепая вера (религиозный эквивалент массовой культуры), но вероучение, реально смыкающее бессознательное с философией (рефлексией сознания по поводу сознания), моделирующее сознание – с научно-теоретическим. Само наличие христианства оказалось фактором возникновения иной формы культуры, иного культурного языка. В христианстве же явлена и перспективная модель целостного человека, внимающего сразу двум языкам культуры. Во имя жизни и культуры. 98 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАЗУМА Разум не был главным соучредителем мира художественно-эстетических, нравственных, религиозных – словом, идеологических – ценностей. Он лишь на вторых ролях участвовал в создании идеологической службы жизни. Безраздельным идеологическим господином выступала Ее Величество Психика, а господином Психики – Его Величество Принцип Абсолютизации Субъективного. Истинным же Богом в идеологическом царстве всегда были Жизненные Потребности природного существа, принявшего заносчивый псевдоним Homo sapiens, Человек Разумный. Разум не участвовал в создании жизни. Он призван разъяснить, как по внеразумным законам создавалась жизнь и ее защитные царские службы; тем самым разум volens nolens парализует эффективность идеологии и противостоит жизни. Разумно ли это? Это вопрос в лукавом стиле Ее Величества – вопрос не по существу, не о том. Ничто не может отменить природу, следовательно, природные, жизненные, антиразумные функции. Разум как надидеологический феномен, зародившийся тем не менее во чреве идеологии, также есть продукт жизни – но продукт специфический, мало пригодный жизни как таковой. Его функция – понимать, как было создано, но не создавать. Поэтому идеологические увещевания типа «как вам не стыдно мешать жизни» и «разумно ли выставлять на всеобщее обозрение идиотизм идеологий» к разуму неприменимы. Неразумна сама постановка вопроса о разумности функций разума. Функции разума точно так же легитимны перед лицом природы, как и функции жизни. Следует принять к сведению антагонизм разума и психо-идеологии и попытаться найти точки соприкосновения. Тип разумной гармонии идеологии и ее антипода – новый и пока не освоенный человеком тип гармонии; здесь манипуляции Ее Величества ни к чему не приведут, поскольку разум просто не умеет снимать шляпу. Его функции таковы, что объявляют само идеологическое царство просто искажением реальности – искажением во имя жизни, конечно; но все-таки искажением. Итак, психика и сознание есть атрибуты «человеческой» материи. В их наличии и целесообразности их функций сомневаться не приходится. Проблема видится в том, чтобы позволить им осуществлять свои функции, каждая из которых направлена на уничтожение функций другого. Буквально: функция психики состоит в том, чтобы ликвидировать функцию сознания; функция сознания осуществляется как уничтожение функций психики. Возможно ли в таком случае говорить о гармонии, о союзнических отношениях? Возможно. Для этого необходимо поменять сам тип отношений. Надо, принимая полярность функций как факт, как данность, не посягать на одну из них именем «жизни» или «истины», а, диалектически сместив акценты, 99 обогатить функции, не искажая реальность. Это возможно, не будем лукавить, при одном условии: разумно отнестись к идеологии, а не идеологически – к разуму. Приходится настаивать на том, что новый тип гармонии возможен только при неравноправном (по меркам идеологическим) союзничестве. Дело в том, что следует учитывать не только разную природу функций, но и разницу функциональных качеств. До сих пор гармонического союза разума и идеологии не было именно потому, что и в обществе, и внутри себя человек выстраивал отношения по законам идеологии; все идеологические пути ведут в тупик, выход из которого – новая идеология. Вычерчивается замкнутый, а следовательно, порочный круг. Что касается разума, то – да, разум, координируя свои отношения исключительно по направлению к истине, всегда будет указывать на изъяны идеологического «познания» (приспособления, рядящегося в одежды познания). Идеологии как психическо-человеческому измерению будет и больно, и смешно, и обидно, она будет ненавидеть и биться в истерике. Однако, к счастью для идеологии, все в мире противоречиво (между прочим, установлено разумом). Один из моментов истины состоит в том, что истина несовместима с жизнью, мешает ей, и в интересах истины необходимо позволить глупой жизни развиваться собственным путем. Следовательно, из того факта, что идеология неадекватна постижению истины (объективным законам), вовсе не проистекает, как представляется идеологии, вывод: идеология с ее ложными (по отношению к истине) функциями должна быть уничтожена или изъята как информационный пласт из структуры сознания. Целостность мира и человека позволяют идеологии сполна утвердиться в ином отношении, в ином измерении: как службе жизни. Таким образом, разум и идеология могут найти точки соприкосновения, если выстраивать отношения «сверху – вниз»: от сознания – к психике. Академические умопостроения и реальность, конечно, плохо стыкуются, как это происходит в случае с идеологией и разумом. Однако если сцепка теории с жизнью все же состоялась, то в таких случаях даже противники «схем» признают, что нет ничего практичнее хорошей теории. Попытаемся сблизить с жизнью академические рассуждения о духовной природе личности и общества. Что бросается в глаза непредвзятому (идеологически неангажированному) наблюдателю, когда он анализирует жизнь общества в успешно развивающихся странах? Прежде всего: там, где гарантируется свобода совести и слова, идеологические службы – искусство, религия, мораль, политическая пропаганда – работают с полной выкладкой и нагрузкой. Никакого либерализма по отношению к идеологическому прессингу: согласованные действия всех общественных институтов целенаправленно сводят совокупные усилия к одной точке, а именно: к национальной мечте, идее, национальному идеалу. Называйте как угодно, но, очевидно, речь идет о разделяемой большинством нормативной идеологии. «Больше разума» в таких странах, вопреки ожиданиям, не означает «меньше идеологии»; достойно удивления другое: идеологическая 100 насыщенность не становится фактором блокирования разумных функций, по крайней мере, блокирования их в такой степени, чтобы можно было говорить о невменяемости общественного сознания (хотя, несомненно, иррациональные службы стремятся к этому, в противном случае это будут плохие, малоэффективные службы). Развитые страны счастливо (в той или иной мере) эксплуатируют тезис о разведении функций, несмотря на то, что до осознанного применения этого грандиозного по своим возможностям социального ноу-хау еще далеко, очень далеко. Уже начальная стадия популистски адаптированного диалектического стиля мышления – принятие в качестве идеалов демократизма, плюрализма, неэкстремизма – впечатляют и обнадеживают. Хочется верить, что есть шанс продвигаться в этом направлении. Те, кто не в состоянии обойтись без идеологии (а такие, не кривя душой, преобладают в безнадежной для разума пропорции), должны получать ее, однако с непременной разумной добавкой: в каждую идеологию следует заложить иммунитет к экстремизму, терпимость к идеологии иной. На современном этапе такое выравнивание идеологий, обслуживающих ментальность основных цивилизаций, представляется вершиной и пиком прогресса. Но лишать людей идеологических миражей – неразумно: это их язык и духовная среда обитания. Иного качества духовный мир им пока недоступен. Они исповедуют то, что в состоянии исповедовать: в этом и ни в чем ином заключена суть гарантированных демократических свобод по части духовной. Реальность и идеологические галлюцинации находятся в более сложных отношениях, нежели «правда» и «ложь». Дело в том, что идеологии при всех их иллюзорности и оторванности от жизни вполне реально могут влиять (и влияют) на реальность. Если не считаться с мнением тех, у кого не может быть разумного мнения, можно нарваться на эффект самореализующегося прогноза, когда психическая реальность претворяется в действительность, субъективными искажениями «подправляя» (или усугубляя) «свинцовые мерзости жизни». Проще сказать, эффект воздействия примитивных идеологий на реальность не меньше, а много больше, чем взвешенные идеологические коррекции «умных» и «тонких» вероучений. Зная эту особенность людей, есть смысл, отбросив лицемерие, идеологически их контролировать, прямо говоря, отчасти манипулировать их сознанием (хочется избежать зловещего понятия «кодировать») во благо малых сих, ибо в этом случае идеалы отчасти будут корректировать реальность, придавая ей черты конструктивного «прогноза». Свято место (то есть идеологическая ниша) пусто не бывает: если сознательно не вмешаться во внутренний мир людей, которые не в состоянии разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, то другие, общественно не столь значимые и благоразумные идеалы будут воздействовать на реальность, попирая и так не слишком востребованный здравый смысл. Звучит кощунственно, однако это «кощунство» – форма ответственности, которую налагает на человека отвоеванная им у натуры свобода. Хорошо быть кисою, хорошо собакою, а 101 человеком быть хлопотно; но обратного пути, похоже, не существует, если руководствоваться разумом. Если все сказанное понять в том смысле, что следует добровольно отказаться от разума и перестать сопротивляться идеологическому охмурению, то это опять же означает выдавать желаемое (идеологическое) за действительное. Вновь налицо подмена, замещение реальности. Речь идет о том, что разум должен учитывать логику жизни, найти свое место в общественной жизни, если угодно. Не разум осуществляет сцепку с жизнью, а именно идеологии, поэтому разумом влиять на жизнь можно только посредством идеологии. Вот почему разуму должно быть небезразлично, какая идеология «в моде» в обществе, какими способами она внедряется, насколько соответствует тому или иному историческому моменту. Разум присутствует в общественной жизни только через идеологию, непосредственно же воздействовать на социальное сознание он не может – в силу того, что сознание это иррационально по своей природе. Именно отношения «разум – идеология» лежат в основе всех духовных «кризисов» и «возрождений». Всего четыре вида иррационального, идеологического сознания создают «простого», среднего человека, который служит основой «среднего класса»; последний и делает (или не делает) общество процветающим. Древние мифотворцы допустили незначительную погрешность: не на трех, а на четырех китах держится мир. Искусство, мораль, религия, политическое сознание – вот киты, на которых покоится мировоззрение массового человека, что означает: «киты» являются источниками представлений о мире и одновременно компонентами миросозерцания. Что в такой ситуации должен делать разум? Да то же, что и всегда: не впадать в отчаяние или эйфорию, то есть не отбивать хлеб у идеологов, а называть вещи своими именами. Оставим идеологам народы, а истину – разуму. Если общество жизнеспособно исключительно в «попсовом» варианте – значит истина и в том, что обществу не нужна истина. Разум должен тихо делать свое великое дело, а громко суетиться вокруг ничтожных «проектов» – удел популизма. Да, разум вынужден смириться с тем, что мир неразумен. Поскольку это всеобщий закон, такой же, как и «нет худа без добра», его оборотная сторона чревата последствиями также глобального характера. Ведь для слаборазвитых и отстающих стран, для тех же России с Белоруссией, пути «духовного возрождения» открыты и прописаны. Имеющий глаза да узрит. Разумно внедряйте неразумное, но доброе и вечное, – и уже завтра, через поколение, вы получите иную степень жизнеустойчивости, иной идеологический климат, – в известной степени иную страну. Культивируйте психологию победителей, заставьте людей верить в то, что они правы, и у них вырастут крылья (правда, будьте готовы к тому, что параллельно начнут прорезаться когти и клыки). Разумная же воля к истине не имеет прямого отношения ни к экономическому возрождению, ни к витальным восторгам, ведущим к непременному духовному ренессансу, ни к победным доктринам. 102 Но если разум станет лишним в жизни, вы не получите ни одного, ни другого, ни третьего. 103 ФИЛОСОФИЯ РАЗЛИЧИЯ ПОЛОВ, или СТАТУС СКВО Различия между полами имеют несколько аспектов. 1. Биологические различия. Биологические функции пола достаточно хорошо известны, как известен и механизм возникновения пола. Размножаться полами – это выбор природы, который следует уважать: этот вариант обнаружил витальную эффективность, доведенную до совершенства, и, самое главное, колоссальный информационный ресурс, что стало очевидным и незаменимым в эпоху культурную. Комбинации Х-хромосом и Y-хромосом приводят и к норме, и к анатомическим (следовательно, и поведенческим) отклонениям пола. Поведенческая неадекватность полов, требующая легализации в современном социуме (нетрадиционная сексуальная ориентация, изменение пола и т.п.), с точки зрения биологической равносильна серьезному заболеванию. Социальное и биологическое приходят в противоречие, как и положено, и человек почти всегда склонен отдавать предпочтение социальному – как высшей информационной системе. Комфорт социально-психологический важнее биологического, ибо адаптация на высших информационных этажах актуальнее дискомфорта на низших. Это следствие из закона сохранения информации. Известно, что тестостерон – основной фактор превращения организма человека в мужчину; недостаточное присутствие тестостерона неизбежно означает преобладание женских черт. При этом формируется не только специфическая анатомия, но и мозг. Тестостерон, регулятор мужского начала, вначале задерживает рост левого полушария (отсюда склонность мальчиков к действию, а не к говорению, к лучшей ориентации в пространстве, к максимализму в целеполагании и т.д.), а затем стимулирует его (отсюда склонность к обобщениям, к анализу и т.д.). Понятно, что мозг и его функции у мужчины специфичны. Понятно также, что никакими «тренингами» невозможно добиться аналогичного развития умственных способностей у женщин. Природная предрасположенность к абстрактнологическому мышлению делает социальные и духовные проявления пола мужчины резко отличными от женского. 2. Социальные различия (гендерный аспект). Все попытки уравнять биологически неравные особи приводят к ложной гармонии, ибо подлинная гармония коренится в неравенстве. Социальная активность самцов, особей мужского пола (что реферирует с их биологией и физиологией) направлена вовне: мужское начало несет в себе склонность к переменам, к динамике и агрессии, к новому и неизведанному; социальная активность самок (что опять же великолепно согласуется с природой) направлена внутрь (в самом широком смысле – на себя, семью, социум): консерватизм, стабильность и приспособление, нежелание от добра искать добра – вот неписаный социальный девиз всего «мягкого, женского». Гендерный аспект – это уровень высших обобщений в философии различия полов, как правило. И напрасно. Духовное, по умолчанию, должно 104 уравнивать полы, культура призвана сглаживать и нивелировать различия, заданные природой. Перед культурой все равны. Это, увы, женские по природе своей ожидания… 3. Существуют еще духовные различия между полами (третий уровень дифференциации, без которого, кстати, невозможно до конца понять природу второго, и даже первого). Как выяснилось, человек – существо не только биосоциальное, но и духовно-информационное. На уровне духовном различия реализуются в типе управления информацией, что приводит к радикальным мировоззренческим отличиям, к принципиально разным картинам мира, к разному пониманию возможностей и перспектив жизнеустройства. Тип управления информацией опирается на два разных инструмента, по-разному добывающих и структурирующих информацию: на гносеологические возможности и ресурсы либо психики, либо сознания. Психика – приспосабливает человека к миру, сознание (через разум) приспособлено к познанию. Это уже информационные инстанции культурного порядка, противопоставляющие себя природным; они хотя и производны от биологических различий, но не сводимы к ним «механически». Так нематериальные миры несут на себе печать маскулинности или феминности. У мужчин и женщин, если говорить прямо, разная философия. Если человеческое измерение (включающее в себя все три уровня) управляется и регулируется как особый космос от разума, с помощью разумных технологий – перед нами мужской тип ориентации в культуре и социуме. Разум призван в большей степени познавать, нежели приспосабливаться, поэтому он опирается на сознание, а не на психику. Именно разум реализует «безрассудную» мужскую экспансию вовне, почему и нуждается в начале женском, замыкающем на себя, уравновешивающем – оберегающем, на первый взгляд кажется, что рассудительном. На базе возможностей психики развилась культура приспособления – художественно-религиозная, по преимуществу, культура. На базе сознания развивалась альтернативная и, так уж получилось у людей, андеграундная культура познания. Именно так: разум до сих пор использовался по большей части как инструмент приспособления, не реализуя до конца свою «мужскую» природу. Человечество в силу разных причин приспособление ставит и ценит выше познания, литературу – выше философии, женщину (будем по-мужски честны и последовательны) – выше мужчины. Демократическое уравнивание полов, уравнивание по формальному, а не по сущностному признаку, неизбежно привело к социальным, а затем и духовным перекосам. Природа информационного кризиса человечества оценивается по-женски, даются женские, «мудрые и толерантные», рекомендации по оздоровлению; поженски не замечается то, что все это вместе взятое и есть путь к катастрофе, в которой виновата, само собой, мужская агрессия, но куда ведут по-женски мягкие и благие намерения. Женское начало в качестве социального лидера – это противоестественно, ибо согласно природной специализации лидировать обречено начало мужское. 105 Это, конечно, не призыв возвратиться в природу, это попытка осмыслить свою зависимость от нее. Неравенство в биологическом и духовном и равенство в социальном – это абсурд или реванш. Равенство изначально разных информационных потенциалов есть фактическое и функциональное неравенство. И наоборот: разная мера и степень культурной ответственности – это фактическое равенство. К указанной закономерности можно отнестись по-мужски, а можно поженски. В каждом конкретном случае она проявляется по-разному. Следует учесть, что каждый человек, будь то мужчина или женщина, есть индивидуальный набор и комбинация половых признаков. Умная женщина и глупый мужчина – это так же естественно, как и то, что мужчина должен быть умным, а женщина – очаровательной. Общую закономерность следует с большим умом и тактом распространять на индивидуальный случай. Картина становится пестрой, начинает казаться, что закономерности к ней вовсе неприменимы. А тут надо учесть, что «кажется» – это уже «происки» психики, рецидивы женской ментальности. Таков мужской взгляд на наше феминистическое время, когда кажется, что притесняют женщин. В заключение отметим, что социальное, как и положено, приходит в противоречие с духовным, социум отторгает мужской взгляд на вещи – до тех пор, пока взгляд этот не будет осознан как естественный. Надо увязать природу с культурой, биологическое и социальное – с духовным, осознать эти уровни как моменты единого информационного комплекса. ***** Женщина как существо самотождественное тяготеет к природе, к началу бессознательному, антиразумному – следовательно, в культурном отношении к идеологии как максимум. Женщине не возбраняется быть философом – но в этом случае ей придётся перестать быть женщиной. Поскольку это невозможно, ибо противоестественно, всё происходит естественно, а именно: женщина не может стать философом. Разум – качество мужское. Это не значит, что мужчина не имеет отношения к природе, чужд бессознательного и устойчив к идеологии. Ещё как имеет, не чужд и не устойчив. Это значит, что он, вместе с тем, в очень редких случаях способен выделиться из природы и неангажированно мыслить. Перестать быть женщиной. Вот и всё. Равенство с мужчиной дорого обходится женщине: она рискует перестать быть женщиной, но так никогда и не станет мужчиной. Уравнивание с женщиной, низведение до уровня женщины, замена существующей модели культуры на феминоцентристскую – вот чего на самом деле (бессознательно!) добиваются женщины, когда они выдвигают «разумные» требования равенства полов. Требовать равенства натуры и культуры – это уже не издержки демократии: это неумение мыслить. ***** 106 Уже сам феномен набирающего обороты феминизма – лучшее доказательство того, что человеческий мир развивается по «мужским» законам, то есть по законам разума. Ведь феминистка – это баба, которая пытается жить как мужик, но настаивает при этом, что приобщилась к подлинной, раскрепощенной женственности. Феминизм, конечно, маргинальное явление, которое в философском плане поставит женщину на подобающее ей культурное место. Феминистки всегда будут вызывать улыбку у мужиков умных или у самцов с характером, с яркой мужской харизмой, а глупые мужчинки или слюнтяи будут просто раздражать умных баб, давая дополнительные импульсы феминизму; кроме того, союз с ними компрометирует саму идеологию феминизма. Выбор феминисток – слюнтяи. Какому же мужчине понравится свой брат мужик, но только в юбке? Только тому, кто не любит женщин. Женский пол ведь тем и хорош, что он другой, противоположный. Вот почему феминистки обречены на то, чтобы им доставался женоподобный мужичковский контингент (по типу поведения и складу характера). Противоположности притягивают друг друга, подобное же отторгается подобным. Уместны ли в таком контексте рассуждения о мужском шовинизме? Есть то, что называется человеческое достоинство, есть социальные права и возможности: понятия о чести и справедливости на всех одни (с поправкой на реальное неравенство, то есть на пол). Но при чем здесь феминизм, при чем здесь глупая установка умных женщин: быть похожей на мужика значит быть более женственной? Это одна из уродливых проекций незрелой культуры на природу человека. Проблема не в противостоянии полов, как это представляется продвинутым сеньоритам, а в ориентации на тип культуры и систему духовно-нравственных ценностей. Феминистки выделились из женщин благодаря уму, зачаткам абстрактно-логического, аналитического мышления, что, между прочим, противоречит их природному предназначению: давать жизнь не рассуждая. Анализ как культурная операция есть чистейшая и непосредственная угроза жизни. Вот и получилось: умный мужик – Сократ, умная баба – всего лишь феминистка. Такая, с позволения сказать, гримаска культуры. Женщине некуда эволюционировать в плане культурном, как только в сторону мужчины, что, между прочим, доказывает: мы имеем дело не с «мужской культурой», а с культурой как таковой. Иное дело, что именно мужчины достигли высот в культуре, именно они потрудились над созданием человека духовного. Непонятно, почему это должно унижать женщин, которым альянс «культуры и натуры» отвел иные культурные функции. Непосредственно творят культуру мужчины (в основном), однако главным стимулом культурных подвигов очень часто выступает женщина. Опосредованно – женщина изначально присутствует в культуре, ее именем освящено 107 творчество. Творцы культуры, особенно культуры художественной, а тем более внесловесно-художественной, и так уже в карикатурно несоразмерной степени женщины – по психологии и типу мышления, по языку культуры. Но и тут не слава богу: бессознательно (по-женски) синтезируется и поэтизируется фаллократическая (мужская) культура, а им, феминисткам, подавай «мягкое, женское». Мужчины, думающие художественно, поженски, их не устраивают; им потребны женщины, думающие художественно (как им кажется, по-мужски). Узурпация чужих, не свойственных тебе функций, – это и есть, если на то пошло, в чистом виде мужской, силовой вариант, где варварство заставляет младенческий интеллект заниматься культурной проституцией, обслуживать женское бессознательное и не суетиться под клиенткой. Проблема не в наличии мужчин и женщин, а в естественном противостоянии, замешанном на инстинктивном и культурном (от концепций – до геномов) влечении, двух языков культуры: психики и сознания. Феминизм – всего лишь яркий идеологический мутантик, уродливый, но не лишенный характерной для живности грации и пластики: это гремучая смесь рефлектирующего (собственно сознания) и художественномоделирующего типов сознания. Сочетание указанных типов присуще как мужчинам, так и женщинам. Собственно, людям. Однако у мужчин, хоть и редко, но случается, что сознание рефлектирующее преобладает как фактор регуляции поведения и мышления, в результате чего мы имеем адекватное познание себя, женщины и мира; у женщин (чем они и прекрасны) мир не познается, а лепится под себя, по своему желанию и хотению. Они очаровательно пренебрегают реальностью (что рождает обескураживающую женскую логику), а если, паче чаяния, начинают феминистически познавать, то максимум, на что они способны, – разглядеть в мужчинах «козлов». Когда женщина капризно моделирует, а ей кажется, что она в трезвом уме и здравой памяти познает, забивая мужикам баки, – вот это я и называю гремучей смесью. В смеси этой преобладает начало все равно женское, психологическое, художественное, иррациональное – природное, но отнюдь не культурное. Женщина – рожает, то есть множит и укрепляет жизнь, следовательно, всегда будет защищать свой мир, где дают жизнь, а уж потом размышлять – и только с той благородной целью, как сохранить жизнь. Мадонна родит бедненького Иисуса, а мужики после идеологического судилища распнут его. Женская мысль всегда с человеческим лицом, она источает гуманизм. Женская мысль созидает, мужская – разрушает. Мы не станем риторически вопрошать, каким местом думает женщина. Какое это имеет значение, если в результате получается столько человеколюбия, что Сократу и не снилось, а Шопенгауэру и Ницше, думающим головой, должно бы стать стыдно за их женоненавистничество. Женский способ размышлять имеет отношение не к культуре мысли, а к культуре приспособления. И в последней мужчина всегда будет несколько монструозен и ублюдочен, от него устойчиво будет шибать козлом, ибо 108 мысль как таковая, нагло противостоящая жизни, далеко не лучший способ приспособления. Горе от ума – это, с точки зрения женщин, о дураках, о «козлах». Пора бы научить настоящих мужчин думать как-то в меру, а в идеале – рожать. Вот почему одомашнивание самца, приручение его, приписка к палате при оплодотворенной им роженице, синхронные корчи и стоны и, наконец, сладчайшее изнеможение при итоговом писке младенца – все это стало не просто модным стилем жизни, а культурной миссией Мадонны по очеловечиванию мира. И фаллос при нем, любимом, и как бы в шкуре бабы побывал. Улучшить человека – значит заставить его думать по-женски и поженски же смотреть на мир. Словом, женственность – это и есть гуманизм. Поскольку в результате рождения мыслей у женщины всегда получаются мифы, а миф требует анализа (то есть акции, прямо противоположной смыслу рождения), постольку мы, мужчины, вынуждены брать на себя функции мышления и спокойно констатировать: гуманизм – это не половой признак, а степень развития мышления, которая оказывает реальное влияние на жизнь общества и человека. Гуманизм рождается в результате мышления, а не как следствие феминизации общества. Феминизация, как и всякая малоразумная идеология, приведет лишь к всплеску насилия и мужского экстремизма, то есть вызовет к жизни именно то, против чего и призван выступить «мягкий» феминизм. Обычно за что борются, на то и напарываются. То, что феминизм хочет «как лучше», – в этом нет сомнений. Чего хочет женщина, того, по мысли мужчины, хочет бог. (Кстати, у бога как порождения сознания маскулинно-моделирующего явно пристрастное отношение к искусительнице-Еве. Да и чего иного было бы ждать от богаотца, неотесанного мужлана? С другой стороны, Он, что ни говори, Создатель, Творец, в некотором смысле женщина. Следовательно, в недостаточной степени женщина. Можно было бы предложить феминисткам и вполне научное объяснение: бог, в свою очередь, рожден моделируюшим, по сути, женским сознанием; но боюсь они не примут из рук мужчины такую вполне бы их устраивающую версию.) Так вот: хотеть, как говорится, не вредно; вредно при этом считать, что ты думаешь. Вредно феминизм отождествлять с культурой, ибо это именно антикультурное (в широком смысле) движение. Женщина имеет право стремиться быть мужчиной; но кто виноват, что мужчины предпочитают перси и ланиты панцирю бойцовской идеологии феминизма. Я не против феминисток выступаю, конечно. Это было бы глупо, то есть не по-мужски. У них просто нет выбора, и они не в силах поменять «ориентацию», поскольку ум, воля и талант (движущие силы феминисток) – характеристики во многом природные, как цвет глаз, тип волос или пол. Они маргинальны, подобно гомосексуалистам: свои среди чужих, чужие среди своих. Но вот идеология феминизма втягивает, словно мировое вероисповедание, в свои ряды отнюдь не феминисток, а вполне нормальных, и потому слегка заблудших, баб, которые начинают комплексовать из-за 109 своей нормальности. Нет ничего вреднее для женщин, чем дешевый феминизм. Феминистки – это, если хотите, женский вариант «лишних» мужиков, этакие печорины в юбках. Что тут скажешь: тешиться мужскими играми – еще та забава... ***** В плане ассоциативном и символическом – разум, конечно, близок к фаллическом началу. Это именно отросток, нечто отросшее, внешнее по отношению к породившему его телу – но одновременно ставшее малой частью большого тела. Эту малость, этот «овнешненный» отросток хочется считать лишним. Зуд оскопления, тяга к кастрации продиктованы едва ли не чувством прекрасного, так сказать, эстетическими соображениями. Всем мужчина хорош, если бы не этот дурацкий «бантик» сбоку. Черт-те что. Иными словами, разум, если воспринимать его психикой, чем-то напоминает фаллос: нечто излишнее. Иное дело – потаенность, чем-то напоминающая душевную раковину, те самые потемки, где так уютно душе. Душа в плане ассоциативном и символическом подозрительно напоминает вагину, сакральную расщелину – нечто скрытое, забранное внутрь. Нечто человеческое, очень человеческое. Прямо противоположное лишнему отростку, так глупо торчащему. Здесь, «внутри», слова, порождение разума, неуместны, а чувства и ощущения – непередаваемы. Здесь царствует немота и тайна. Здесь всего много, «это» – эквивалент изобилия (отросток же – нечто единичное, количественно невпечатляющее). Это сладкий омут, где порой кстати и чужеродный отросток, однако лишь затем, чтобы обострилось чувство презрения к этому жалкому незаконнорожденному червячку. Иными словами, вагина, если воспринимать ее психикой, становится средоточием всего человеческого: душой человека, если сказать по-мужски. Это вещь в себе (разум-фаллос – вещь сама по себе). Это «вещь» скрытая, не предназначенная для всеобщего обозрения. Там, под мягким покровом тайны, есть что скрывать… Разум и душа, психика и сознание при контакте и взаимодействии порождают субстанцию себе подобную. Лишний нужен только затем (пока), чтобы не прервалась жизнь, которая зарождается глубоко внутри. Культура, строго говоря, возможна только как культура фаллосоцентрическая (персоноцентрическая: личность – тоже лишняя, неприкаянно торчащая в рыхлом социуме особа). Феминизм, а также сопутствующий ему (у феминизма – мужской род: знаковая оговорочка языка) гомосексуализм – это формы сопротивления культуре, формы хтонического поглощения всего внешнего, торчащего, формы хаоса, если быть последовательным. Это естественно: ясно, чем порожден феминизм. Культура, разум, фаллос. Значит, смерть культуре (то есть, даешь вагину). Формы и лозунги тайного сопротивления культуре (в культуре душевно-вагинальной все явное – это форма хамства, грубости, 110 бескультурья) становятся, конечно же, весьма и весьма культурными, однако суть от этого не меняется: культура представляется как поглощение культуры. Вагина, душа, «культура». Обрубим все выпирающее, сгладим, замуруем, спрячем и растворим в хлябях. Оставим это ненужное, увенчанное головой, только так, для размножения. Это и называется, мягко говоря, думать душой, во всем полагаться на душу. Смерть культуре – очень жизнеутверждающий лозунг, если бы не толкал прямиком к смерти, небытию, немоте, темноте, из которых однажды зародилась жизнь. Вопрос не в том, что с чем ассоциируется; вопрос в том, чем собираемся думать. Думаем разумом – получаем одну культуру, думаем тем, что порождает феминизм, и вообще культивирует все женское, – получаем другую культуру. Вопрос не в том, какая культура лучше; вопрос в том, какая культура является культурой. ***** Жить с женщиной – значит, сосуществовать со сгустком гормонов. Отсюда все истерики, капризы и загадки. А какие тут загадки? Все предсказуемо, как банальный природный цикл. Вот почему умному человеку с женщиной скучно. Не скучно бывает ему только с самим собой, оттого так содержательно его неразумное одиночество. ***** Клипповое сознание, обслуживающее женское мироощущение, а также породившее (и одновременно ставшее результатом: отчасти причиной, отчасти следствием, согласно всем законам диалектики) постмодернизм, который возник из хаоса, чтобы хаос и восславить, – весь этот сложнейший культурный клубок приводит, по сути, в одно место, а именно: в то, с чего все и начиналось – в темную пещеру. Культурный смысл постмодернизма вовсе не в том, что он сам декларирует. Он врет, ибо не понимает; но непонимание в культурном смысле не перестает быть ложью. Смысл не в новых дискурсах и не в новых ценностях как таковых. Смысл в сути этих ценностей. А они просты, как и все отношения натуры и культуры (если их интерпретировать с позиций культуры). Женский взгляд на мир – это проекция психического, природного начала. Роль женского начала в человеческой истории хорошо известна: женщина стоит у истоков жизни. На беду последовательное и обогащенное женским развитие мужского начала привело к возникновению культуры. Мужчина, словно женщина, тоже стал творцом и родителем: он стал матерью культуры. С точки зрения начала женского, культура не может не быть глупостью, потому что противостоит (не важно, как и почему; важно, что противостоит) натуре. Культура есть большая глупость, ребячество. Поэтому рано или поздно в культуре оформилось антикультурное течение, получившее условное название постмодернизм. Но возник он не сегодня, его исток, напомним, пещера. Женское начало в мужских доспехах (постмодернизм – мужского рода) стало агентом натуры, культурной формой 111 сопротивления культуре. Именно постмодернизм призывает (мы говорим о явном, хотя и завуалированном, смысловом посыле, а не о намерениях) вернуться туда, откуда все началось. В хаос, через энтропию, в темноту, к черному квадрату, а лучше овалу, в пещеру. Через женский тип управления информацией. Зациклились на цикле: идем туда, откуда пришли. Рифмуем жизнь со смертью. Вся культура развивается по формуле «минус смысл, концепцию, целостно-системное мышление». Вот он, предел постмодернизма: все оставить, только убрать смысл. Именно с этой точки и разглядели конец жизни, истории, философии, литературы, культуры… Конец всему приводит к началу всему. Получается абсурдная, что и требовалось доказать, картина: все университеты мира, все мыслимые и немыслимые авторитеты, имеющие отношение к культуре, сегодня работают под девизом «В пещеру!» (мягко выражаясь). Культура крутится вхолостую, ибо утрачена сцепка, с одной стороны, с духовным миром человека, с другой – с жизнью. Культура фактически объявлена факультативным признаком человека. Гуманитарные науки (тяготеющие к законам, иерархически пронизывающим весь гуманитарный космос, – к типу управления «от разума») на наших глазах превращаются в знания (тяготеющие к беззаконию, необязательности, милому хаосу…). Это не снижение статуса, это узаконивание «пещерного» типа управления информацией. Это ведь ползучая культурная контрреволюция, если называть вещи своими именами. Как оценить с позиций культурного сознания временную победу одной стороны человека над другой? Падение в бездну, хочется думать (ибо это самая оптимистичная версия их всех возможных), становится формой культурного прогресса. Смысл этого эволюционного витка в том, что наблюдаемая агония поможет расчистить дорогу новому типу управления информацией. Бессмысленно квалифицировать этот «способ расчистки» как человечный или бесчеловечный. Этот тот способ, который заслуживает сегодняшнее человечество. Сами себя – огнем и мечом. Ставки в этой игре – жизнь или смерть. Здесь никто ничего не выбирал, ибо это бессознательный поток. Цунами. Стихия. Абсурд должен стать тотальным (к этому, кажется, благополучно идет дело, и это, собственно, является реальным содержанием «прогресса»), как всякое нормальное природное явление. В пещеру! Так натура борется с культурой, которая, что ни говори, является формой смерти по отношению к жизни. Таковы логические пределы бессознательного освоения жизни. Постмодернизм здесь десятое звено в цепи, которой скованы все проявления единого в своей основе мироощущения: хаос, энтропия, шизофрения, бессознательное, чувственное восприятие, душа, воля (не путать со свободой), вера, художественное творчество, постмодернизм, женский каприз, женский вопрос, человек (не путать с личностью), натура, клипповое сознание… ***** 112 Загадка женщины в том, что, несмотря на всю ее глупость, культура все равно нуждается в ней как в звене, которое включает «умную» культуру в цепь жизни. Женщина не производит смыслы, но, несомненно, участвует в их производстве. Вот почему женщина и культура – комическое сочетание, но еще смешнее и нелепее не замечать этой связи. ***** Есть свободные, раскованные, умные женщины, которые ни в чем не уступают мужчинам. Само наличие такой «породы» женщин как бы фактически «доказывает» всем, то есть мужчинам, в первую голову, что мужчина ни в чем, ни на миллиметр, не в состоянии опередить женщину. Вопрос женской гегемонии сразу же представляется вопросом времени. Тут присутствуют два лукавых момента. Прежде всего, когда мужчина ведет себя как мужчина (то есть как культурный герой, как мыслящее существо), он никому ничего не доказывает. Можно старательно раскрывать свои возможности, а можно с вызовом демонстрировать свой потенциал. Разница в том, что во втором случае человек не уверен в своих силах. Тут сам факт доказывания настораживает. Это не по-мужски, то есть глупо. И второе. Женская проблема не в том, что существует много, очень много, очень и очень много глупых мужчин, которые ведут себя как образцовые женщины; проблема феминистически настроенных женщин в том, что существуют умные мужчины. И если уж мы всерьез заговорили об умных женщинах, то первое, что делает такая женщина, – признает первенство мужчины в номинации «обладатель разума». Умная женщина, иначе сказать, никогда не поведет себя как «свободная, раскованная, превосходящая толпы мужчин». Умная женщина «понимает» всеми своими чувствами, той самой интуицией, что мужчина в принципе умнее ее (даже если это всего один мужчина, даже если она не встречала в жизни таких мужчин); иначе сказать, умная женщина адекватно воспринимает реальность. И это не унижает ее, ибо способность быть адекватным реальности еще никого и никого не унижала. Унижает нежелание считаться с реальностью. Вот почему наличие породы женщин, во всем превосходящих мужчин, доказывает только одно: даже те, кого принято считать самыми умными женщинами, – это очень глупые люди, примерно как те мужчины, которых они впечатлили своим умом. ***** Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно)-психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции. В связи с этим мужчина – это также три измерения. На уровне телесном – это мускулатура, физическая мощь и совершенство; на уровне душевнопсихологическом – это все те же сила и харизма (морально-волевые компоненты: воля, целеустремленность, склонность к лидерству, 113 решительность и т.п.); наконец, на уровне собственно духовном комплекс маскулинности предполагает способность мыслить, познавать. Понятно, что высший уровень определяет низший, а не наоборот. Не мускулатура и воля (то есть природные данные), в конечном счете, делают мужчину мужчиной, а наличие ума (уже культурной составляющей). Обратим внимание: ума, но не интеллекта. Интеллект, будучи инстанцией, которая контролируется душой, не становится еще фактором культурным в полном и точном смысле этого понятия. «Интеллектуальная духовность» – это разновидность душевно-психологической маскулинности, высшая форма бездуховности (или низший уровень высшей духовности, кому как нравится). «Интеллектуальную» и «разумную» духовность легко спутать, однако они различаются качественно: типом управления информации: разумным или все же психологическим (пусть даже интеллектуализированным). Сила есть – ума не надо: это карикатура на мужчину, поскольку абсолютизация телесно-психологическая ипостаси мужчины – это типичный комплекс самца. С другой стороны: ум есть – обойдемся без таких мелочей, как характер и физическая форма. Это даже не шутка, это глупость, вещь, невозможная при наличии ума. Разум не может не заботиться о характере и качестве телесной оболочки. Естественно, у мужчины умного (у которого в голове разум, а не интеллект) понятие «мужской характер» становится не самоцелью, а инструментом достижения мировоззренческих, философских вершин. Здоровье и тело, кстати сказать, – тоже. Характер и тело обслуживают потребности духа, а не игнорируют или, того хуже, порабощают их. Таким образом, полноценного мужчины без ума не бывает. Если нет ума, приходится компенсировать его отсутствие изобилием природной мощи. Мужчина превращается в «качка» (в широком смысле этого слова). В этом случае бедный мужчина нарывается на парадокс: чем больше мужчины – тем он больше похож на женщину. Тем мужчины меньше. Три женских измерения, разумеется, те же, что и у мужчин, однако как существо духовно-информационное женщина весьма отличается от мужчины. Это легко понять, хотя с этим нелегко смириться, особенно тем, кто не понимает разницы между разумом и интеллектом (а это, увы, сплошь интеллектуалы). Наличие сферы телесно-психологической буквально роднит женщину с мужчиной. Они родом из природы. Адам и Ева. Здесь вполне уместно говорить о равноправии – по отношению к природным характеристикам. Однако все меняется, когда мы обратимся к измерению высшему, духовному. Только ментальное измерение завершает целостный облик и придает содержательность низшим информационным этажам. Мужчину мы оцениваем по качеству духовных программ; к женщине мы предъявляем несколько иные требования. Разумных женщин не бывает. Разумная женщина, если использовать это выражение как метафору, – это женщина с высоко развитым уровнем интеллекта, который позволяет ей понять, что ее духовные качества 114 определяются не потребностями познания, а потребностями приспособления к тому, кто способен познавать. Иными словами, именно женщина становится гением приспособления, в том числе и к самой себе, к своим скромным познавательным возможностям (которые, кстати, элементарно можно выдать за сакральные «интуитивные» прозрения). Главным в жизни женщины – объективно – становится мужчина (субъективно женщина может считать главной саму себя). Следовательно, любовь. Семья. Дети, будущие мужчины и женщины. Будущее мужчины и женщины. Объективно именно здесь сосредотачивается духовный резерв и перспектива женского типа освоения жизни. И никто не в силах отменить природу женского счастья. Понятия «женщина», «женственность» становятся инструментом достижения женских духовных вершин. С точки зрения умного мужчины, это самое главное в женщине. А ему, разумному, виднее. Женщина же, которая выстраивает тип личности по мужскому, то есть разумному, типу, попадает в глупое, двусмысленное, маргинальное положение. Невозможно реализовать чужую природу, даже если ты при этом решила отказаться от своей. Мужчины и женщины стоят друг друга. Никто не лучше и не хуже. Просто у них разная природа, которая определяет набор и содержательность достоинств. Женщине мужские достоинства ни к чему, своих девать некуда; мужчина, облагороженный женскими достоинствами, – смешон. Самым главным и важным в жизни является не мужчина или женщина, а гармония между мужским и женским комплексами. По отношению к этой гармонии сила мужчины не в разуме как таковом, и не в том, чтобы подчинить женщину, а в том, чтобы прожить счастливую жизнь с любимой женщиной, оставаясь при этом мужчиной. Разумность мужчины становится абстрактным качеством, если он не рассматривает любовь как высшую ценность. Следовательно, к женщине он относится как к высшему проявлению натуры (в том числе высшему проявлению натуры в себе), по отношению к которой выстраиваются все высшие культурные ценности. Добытое разумом делится на двоих, непременно на двоих, поскольку разум – это, по большому счету, не женское и не мужское качество, даже не человеческое; это качество – культурное. Надприродное. Условием существования которого, однако, становится натура, женская по своей сути. Не стоит женщине ревновать мужчину к разуму. Если женщина заинтересована в увеличении разумного присутствия в жизни (а умная женщина в этом, безусловно, заинтересована), то она будет всячески способствовать тому, чтобы мужчина стал мужчиной, ибо разум проникает в жизнь через мужчину. Разум – гарант того, что женщина будет счастлива, ибо женщина с триумфом реализует себя как женщина. От рода человеческого пока что мужчина делегирован в культурное измерение. Это не предмет для гордости или культивирования комплекса 115 превосходства (оборотной стороны комплекса неполноценности); это констатация положения вещей. Это истина, добытая разумом. А с истиной нельзя кокетничать, ею нельзя манипулировать. Она вообще не для телеснодушевного потребления. Ее можно понимать (или, увы, не понимать). Или относиться к ней по-женски: понимать, что есть вещи, недоступные твоему пониманию, без которых, однако, не прожить. В отношении истины «мужская» и «женская» суть в принципе «не делится», не раскладывается по полюсам «негатив» – «позитив»; на уровне разумном, духовном, полюса осознаются всего лишь разные качества жизни, одинаково для нее важные. «Женское» и «мужское» дифференцируются и кокетливо противопоставляются на уровне социально-психологическом и природно-психологическом, на радость умным феминисткам и глупым мужланам-шовинистам. Большой соблазн, объявив мужчину и женщину «человеками», спутать, перестать различать и, в конце концов, отождествить «мужское» и «женское». Придать миру женское лицо: это благородный, хотя и комичный, императив природы. Иными словами, проблема женского и мужского в актуальном для социума виде, – это проблема не разума, а души. Это женская проблема, которую никак не могут решить мужчины. Именно так: все проблемы этого мира – женские; быть мужчиной – значит уметь решать их. Женщины, власть и феминизм Почему феминизм является законнорожденной дщерью цивилизации – и именно той ее стадии, которая называется капитализм, – и при этом выдает себя за дочь культуры? Феминизму непременно хочется быть царского, высокородного происхождения. Доминирующие отношения при капитализме – экономические, что означает: в человеке как существе информационном, в основном, задействован уровень телесно-психологический, низший, поскольку есть еще и высший, духовный. Человек как субъект экономических отношений, то есть потребитель, «честно» сведен (урезан) до эффективного удовлетворения базовых потребностей. «Лирика», «истина», «философия» и всякая прочая духовная чепуха, которая не имеет отношения к витальному, к выживанию, попросту перестала интересовать цивилизацию на высшем этапе ее развития. Капитализм, представляя собой новейший вид тоталитаризма (по сравнению с которым все до него существующие деспотии – если не сущий пустяк, то уж точно детский уровень), ограждает человека от самого себя, не позволяет человеку превратиться в личность. Препятствует его полноценному информационному развитию. Капитализм сделал человека врагом самому себе – не злонамеренно, конечно, а всей совокупной логикой отношений. Как в природе, так и в логике общественных отношений виноватых нет; есть бессознательное освоение жизни и приспособление к ее законам. Колоссальный культурный регресс нынешней стадии развития цивилизации 116 видится в том, что она принципиально не учитывает «прав личности» (сделав культ из «прав человека», из прав желудка и души), этого единственного полномочного субъекта культуры. Навязанный человеку образ жизни, объем взваленной на него обязательной для эффективного функционирования в социуме информации, необходимость весь свой информационный и энергетический ресурс поставить на службу выживанию (когда, как известно, не до жиру духовного), сама «культура цивилизации», наконец, – глубоко и принципиально некультурны. И это, как ни парадоксально, является сегодня формой сохранения жизни (другой попросту нет), поэтому выступать против цивилизации – значит, бороться с жизнью. Делать это следует весьма и весьма разумно. Логика развития цивилизации подвластна законам, здесь нет, строго говоря, персонально виноватых. С другой стороны, логика развития цивилизации неизбежно должна привести либо к преодолению ее «информационных перекосов» – либо к погибели всех и вся. И здесь уже персональная познавательная активность весьма и весьма кстати, ибо фатального наличия позитивного сценария с неизбежным хэппи эндом в природе не существует. Присутствие законов – это не наличие предопределенности, а наличие вероятностей. Известно: закон что дышло: его необходимо «повернуть» в нужную сторону, то есть в необходимом объеме учесть «порядок вещей». Отменить нельзя, а учесть можно и нужно. Настораживает всеобщая вера в некий отдельно от человека существующий «разумный порядок», который как-то счастливо оберегает своих неразумных детей от роковых необратимых ошибок. Это и заставляет в разумной форме выступать против цивилизации – против враждебных личности техногенных, идеологических, экономических, экологических и иных перекосов. Итак, культура является сегодня факультативным признаком человека, которому (человеку) вовсе не обязательно стремиться к превращению в личность. Это немодно, неактуально, непрестижно и попросту глупо. Гораздо актуальнее и престижнее продемонстрировать витальные возможности (социума и, соответственно, индивида как члена подобного социума). В связи с этим начало женское, принципиально некультурное (потому что натурное, телесно-психологическое, бессознательное) получает в известном смысле идеальные условия для расцвета. Чтобы быть лидером цивилизации, надо быть женщиной. Надо быть человеком, не различающим «сознательный» и «бессознательный» типы управления информацией, «разум» и «интеллект». И пусть никого не смущает преобладание мужчин в политике и экономике самых важных на сегодня сферах жизни. Это всего лишь усовершенствованные, наиболее эффективно выполняющие свои социальные функции женщины. Отсюда до идеологии феминизма рукой подать. Эта идеология не могла не появиться (вот он, закон!). Дескать, сама жизнь «доказывает» востребованность женщины. Оно бы и верно, только не «жизнь доказывает», а иррационально организованный мир, среда обитания человека. Феминизм в таком мире становится адекватной формой приспособления. 117 А куда же смотрит наука? Рыба гниет с головы, вот почему первыми жертвами феминизма стали гуманитарные (главные для человека, если называть вещи своими именами) науки. В этих «науках» стараниями женщин и уподобившихся им мужчин ничего научного не осталось – не осталось методологии, если выражаться корректным научным языком. Факты, классификация, сравнения, некоторая системность, наукоподобный синтаксис – короче говоря, наукоподобие сохранилось; а вот методологии, требующей разумного обоснования с помощью особого инструмента, тотальной диалектики, – в женских науках нет и быть не может по определению. Зачем же женщинам наука, которая и не наука вовсе? Женщины, которые недобрали по части удовлетворения базовых потребностей (счастливый брак, материнство), по части натуры, начинают компенсировать это «культурной работой». Свою культурную состоятельность они (бессознательно, само собой) рассматривают как месть натуре и, конечно, прежде всего мужчинам как главному (для женщин) оплоту натуры, к которым их влечет. Такова неразумная стратегия феминизма, который является всего лишь «концептуальной» аранжировкой простейших бессознательных кодов. Сила женщины, в том числе ее интеллектуальная сила, в ее слабости: в неумении мыслить. Кстати сказать, женщины, у которых базовые потребности так или иначе закрыты, иногда отличаются поразительным здравым смыслом, прямо-таки неженской трезвостью взгляда, они гораздо умнее так называемых «образованных» женщин (то есть феминисток). Но если судьба по-женски состоявшихся женщин записывает последних в ряды феминисток, то от их трезвости не остается и следа: женский ум – это натурпродукт, на который невозможно повлиять культурой. Вот они, женские загадки. Сиречь – закон. Цивилизация, как ни странно, создав условия для расцвета нижних информационных этажей целостно устроенного человека, для расцвета витального (природного) в ущерб духовному (культурному), одновременно уродует эту природу – тем, что природа эта реализуется как бы в культурном (во всяком случае, интеллектуально-информационном) измерении. Патриархальное, непосредственно-бессознательное, чувственное начало ушло, мы по формальным признак вроде бы выделились из природы, а на смену ему пришла – не культура, нет! – другая природа. Видоизмененная природа, более высоко организованная в информационном отношении (это следует признать безоговорочно), пришла на смену природе малорефлектирующей, и эта иная, вторая природа активно маскируется под культуру, по сути ею не являясь. Именно вторая природа становится лицом цивилизации. У нас есть все основания сказать: у цивилизации женское лицо; более того, у нее женская природа. Вот почему феминизм стал идеологией не просто кучки замороченных женщин, он стал идеологией цивилизации. Идеологией власти. Вера в бессознательное природное начало, бессознательное отрицание культурных 118 регулятивов – это в широком смысле феминизм. Скажем, мужской шовинизм небритых мачо – это вариант феминизма; литературоцентризм (и вообще культ художественного отношения к жизни) – феминизм; отрицание философии, лукавая ее подмена «художеством» – феминизм (несмотря на то, что творится подмена руками «умных» мужчин); власть над душой человека в принципе – феминизм. И в таком своем качестве женское отношение к жизни (феминизм) превратилось в главную проблему человечества; если угодно – в главную угрозу существованию человека. Таков сегодня модус глобального вызова: натура угрожает культуре с позиций феминизма. Мужчины могут противопоставить этому разгулу бессознательного культурное измерение – или превратиться в женщин, чтобы благополучно разделить с ними судьбу всего бессознательно существующего. Феминизм – это особого рода идеология, где натура доминирует над культурой, а кажется, что наоборот. А все дело в том, что интеллектуальная составляющая, будучи продлением психически-бессознательного, бессознательно же выдается за культуру, за разумное отношение. Вот почему определение цивилизации реферирует с определением таких амбивалентных категорий, как зло, игра, любовь, искусство, психология, женщина, феминизм. Все эти категории состоят из одного информационного состава: двуприродного – при полной доминанте психическибессознательного и при одновременном невыключении сознания! Утрата половой идентификации вообще и феминизм в частности есть адекватное и закономерное проявление сути цивилизации, которая так и не научилась различать натуру и культуру. Претензия феминисток сравняться в правах и возможностях с мужчинами – это, по существу, претензия уравнять в правах натуру и культуру. Еще точнее – обойтись без культуры. Это идеология власти, власти натуры. Только культура восстанавливает равенство полов перед лицом истины – то есть функциональное их неравенство, приводящее к равенству «по возможностям», к равенству перед лицом жизни. Вторая натура мужчины – это культура; вторая натура женщины – это утонченная, интеллектуализированная натура (которую им хочется считать культурой). Мужчины прогрессируют (или имеют принципиальную возможность прогрессировать) в сторону разума, женщины – в сторону интеллекта (который является высшим выражением натуры). Даже самая умная женщина умна в феминистском понимании; с позиций разума (культуры) ее ум – вариант изощренной глупости. Вот он, роковой нюанс, роковая черта, – разница между интеллектом и разумом, – не позволяющая натуре стать культурой, но вместе с тем подталкивающая ее к этому. Женщина – это человек, находящийся на полпути к личности. Став личностью, мужчина не перестает быть женщиной, он лишь наживает себе культурную драму: горе от ума. Вот и вся его привилегия. Вообще все 119 культурные привилегии – это сплошные обязательства. Чему тут завидуют женщины? Это вопрос не к ним, а к научному сознанию. К культуре. Феминизм как явление преимущественно бессознательное никогда не поймет сам себя и будет агрессивно относиться к попыткам разумного вмешательства в принципе. 120 ЭТОТ ДЕНЬ – ПОБЕДЫ! Часть 1 ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 50-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, АКТУАЛЬНЫЕ И СЕГОДНЯ. К сожалению, мы живем в переходную эпоху. На наших глазах происходит переосмысление истории – как отдаленных событий, так и свершений совсем недавнего прошлого. Само по себе это совершенно естественно, если рассматривать переакцентировку как следствие смены поколений. Однако так уж получилось, что меняются не только поколения, но радикально перестраиваются системы ценностей. А такое случается в жизни народа далеко не каждый день. Новый ракурс, новое видение исторического прошлого характеризует и новые идеалы. Логика эволюции духовных идеалов – это особая тема, и не она является предметом моих размышлений. В контексте смены эпох меня будет интересовать меняющееся на наших глазах отношение к, казалось бы, бесспорному: к подвигу дедов и отцов, к Великой Победе во второй мировой войне (для нас – Великой Отечественной). Сам факт войны и ее исхода отменить невозможно. Однако можно изменить к нему (факту) отношение. Принцип исправления прошлого хорошо известен: если чего-то не было, но очень хочется, чтобы оно было, почему бы ему и не быть? Все чаще раздаются голоса, что это была «пиррова победа», что одержана она была «слишком большой ценой». Причем, речь идет не об отдельных мнениях чудаков от истории, а о массированной идеологической кампании. Среди высоколобых интеллектуалов, поборников мира и сытой жизни, становится дурным тоном сколько-нибудь пафосный отзыв о «нашей» победе. Свидетельств тому великое множество. Сошлюсь лишь на многочисленные публикации бывшего чекиста, ставшего перебежчиком и писателем, некоего Суворова, который уже «там», на Западе, догадался, что победы-то никакой и не было. Автор не щадит ни себя, ни нас. Истина, что называется, дороже. Выясняется: феномен Великой Победы – это детище мощной брежневской пропаганды. Это – искажение реальной победы, которую на самом деле было сложно отличить от поражения. Если бы не хитроумные указания тов. Брежнева, то еще неизвестно, кто победил бы. Ну, одолела Красная Армия полчища оголтелых фашистов. Делов-то! Это еще не повод говорить об одержанной победе… «Аргументы» стремящихся вычеркнуть Победу, низвести ее до уровня очередной эффективной пропагандистской «утки» закоснелых в идиотизме «советов» – просты и незатейливы, как сама правда. Двухходовая логика неумолимо ставит вас перед истиной: какие же вы победители, если живете в сто раз хуже побежденных, тайно и явно завидуете им и просто слюной исходите от вожделения попользоваться «их» благами? Вывод неоспорим: 121 так стоило ли побеждать? И уж дураку ясно: гордиться особо нечем. Победой сыт не будешь. Это, конечно, не логика, а идеологический трюк. Суть его очевидна, но неизменно эффективна: если не удается скомпрометировать идеи (деяния, концепции, идеалы) – надо скомпрометировать носителей идеи. «Как живете, победители?» «Плохо…» «Так зачем было побеждать?» Всякое великое историческое событие – многогранно, многоаспектно, противоречиво, его невозможно спроецировать на одну плоскость и при этом не исказить. Надо видеть его с разных сторон и уметь вычленять главное. Для этого надо анализировать, а не опрокидывать все в «колбасное» измерение. Надо не перечеркивать свое прошлое, делая стыдливые купюры и образуя «черные дыры», а изучать его. Скажи мне, как ты относишься к своему прошлому, и я скажу, кто ты, и какого будущего ты заслуживаешь. Давайте для начала ответим на вопрос, который, казалось бы, и не вопрос вовсе: кто с кем воевал? Известно: главными действующими лицами во второй мировой войне были фашистская Германия и Советский Союз (все остальные европейские и неевропейские страны вместе взятые оказались, к сожалению, не в состоянии эффективно сражаться с Гитлером). Что значит – фашистская Германия? Подразумевается ли под фашистской только часть пораженной вирусом нацизма населения страны? Что же делала в это время нефашистская Германия? Большой соблазн для стремящихся забыть прошлое представить дело так, словно фашисты сражались с коммунистами за мировое господство, а все остальные были невольными свидетелями, не более того. Великая, да еще Отечественная – это недоразумение, красная пропаганда. Народ в этой стычке идеологических монстров не при чем. Людей гнали, как баранов на бойню, а они только и делали, что упирались… Это центральный, хотя и подспудный, неявный, неохотно акцентируемый пункт всех фальсификаций войны. Пора честно и открыто осмыслить реалии: со стороны Германии, которая поработила добрую половину Европы и заставила ее работать на себя, война была такой же народной и отечественной, как и стороны Советского Союза. В войне участвовали и сражались два народа, и ставка была не победа той или иной идеологической доктрины – а, в конечном счете, право нации на существование. Величайшее историческое испытание национального, общеевропейского и мирового масштаба – вот истинная величина вселенской битвы. Идеология – вообще не может быть первопричиной судьбоносных свершений; точка отсчета всегда – реальные потребности, а идеология лишь аранжирует их, организовывая и направляя национальное самосознание. Идеологии – маскируют причины, вуалируя их поводами, предлогами и лжепричинами. Победа в такой войне – это величайшее событие в жизни народов СССР. Главная движущая сила в подобного рода войнах – отечественных войнах – не официальная идеология, а нечто гораздо более существенное. В этой войне, если воспользоваться точным выражением Л.Н. Толстого (знавшего, 122 кстати, толк в природе отечественных войн), на Германию была наложена рука «сильнейшего духом противника». Вот это – главное. Все минется – а это останется. Но этот подтекст войны – в упор не замечается. Празднование 50-летия Победы со всей очевидностью показало: это народный праздник, и никакие идеологические искажения и конъюнктура не могут затмить главного, гнездящегося в глубинах коллективного бессознательного: мы оказались сильнее духом, нас не удалось поработить, сделать нацией второго сорта. На нас напали, и мы вынуждены были драться. И мы – победили. Это мощный фактор национального самоутверждения, поддержания национального достоинства, консолидации здорового национального самосознания. Я не призываю кичиться победой: в этом так же мало достоинства, как и в том, чтобы пренебрегать ею. И то, и другое – холопство. Но гордиться нам – есть чем, и уж во всяком случае стыдиться – нечего. Пора перестать быть наивными и испытывать какой-то подростковый комплекс неполноценности перед более благополучными регионами мира. Более благополучный – не всегда означает во всем лучший. Информация к размышлению. 90 % населения ФРГ моложе 25 лет считают, что войну начал Советский Союз, а победу одержали США. Каждый пятый житель страны – не знает о концлагерях (программа «Время» от 27.01.96 г.). Им – есть что забывать. «Тело» нации, как видим, можно залечить, восстановить достаточно быстро; духовная рана народа – очень сложная и деликатная материя. Еще раз подчеркну: дело не в злорадстве и злопамятстве (это тоже своеобразный – и далеко не самый симпатичный – комплекс неполноценности). Дело, если хотите, в исторической справедливости, в справедливости как таковой. Мы победили – то есть оказались жизнеспособнее, сумели как следует постоять за себя, мы не были унижены. Нам незачем так рьяно стремиться забывать эту страницу своей истории. Умение не стесняться быть победителем надо учиться сочетать с умением достойно проигрывать. Хватит «цивилизованно прозревать» и по поводу и без повода посыпать себе голову пеплом: это именно то, что никак не может вызывать уважение. Да, сегодня мы живем хуже, чем немцы. Но это еще не повод, чтобы вытравлять из памяти народа его трагическое, но вместе с тем и героическое прошлое. Не надо, как говорится, путать божий дар с яичницей. Я совсем не против колбасы ( и как таковой и как символа материального благоденствия): крайне необходимая вещь. Полезный продукт. Я против того, чтобы наличие (или отсутствие) колбасы сегодня считать признаком победы (или поражения) в 1945 году. Теперь – другая сторона вопроса. Тот, кто обладает самым главным человеческим качеством – чувством собственного достоинства – должен видеть не только то, чем ему следует гордиться, но и то, что будет ему вечным укором. Всякая Великая Победа состоит из множества компонентов, в том числе из целой серии локальных поражений. Поражения, к сожалению, составная часть победы. Кто спорит: цена победы – не пустой звук. Однако 123 не надо путать главное – с неглавным, частное – с общим. Из того, что Победа была тяжелой, кровавой – не следует, что ее не было. Она была – и это главное. Со слезами на глазах – да, но была. Еще вчера подобного рода настойчивые утверждения выглядели бы, пожалуй, и смешными, словно стремление ломиться в открытую дверь. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня попытки удержать победу многим кажутся забавными – но по другой причине. Почему так стремительно обесценивается Победа? Ведь сам факт публичного отрицания Победы, раскалывающий стан победителей, реабилитация отребья, главное достоинство которого состояло лишь в том, что они сражались против «красных», – это явный признак обесценивания, рассеивания сокровенного смысла Победы. Глубинная причина – переориентация общественного сознания, активное усваивание новой системы ценностей. Какой? Если сегодняшняя наша социальная катастрофа (имеется в виду развал страны, победившей в войне) явилась следствием «победы» – то стоит ли ценить такую победу, не грош ли ей цена? И если побежденная Германия сегодня могуче набирает темп, а мы находимся у разбитого корыта – то где тут победители, а где побежденные? Я думаю, читатель узнал неподражаемый стиль мышления: железная двухходовая логика – налицо. Сегодняшним уровнем материального благосостояния мерить вчерашнюю – и вечную – духовную величину – это более, чем невежество. Это чистой воды идеологическое шарлатанство. В сегодняшнем дне незримо присутствует день вчерашний. И совсем не безразлично, был ли этот день днем Победы или Поражения. Нравится нам или нет, хотим мы того или не хотим – мы должны спокойно, без истерики, перестраиваться на марше и строить то будущее, которое выбираем сами. У нас есть свои грехи, за которые мы сполна расплачиваемся сегодня; но это особая тема. Будущее, наше будущее, состоит и из прошлого. Вспомним исторический афоризм: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, оно ответит тебе пушечным залпом. Те, кто путают причину со следствием, поражение с победой, кто вроде бы ни с того ни с сего заболел историческим дальтонизмом, часто не являются теми коварными умниками, идеологическим диверсантами, за которых их иногда принимают. Не стоит переоценивать их интеллектуальный и духовный потенциал. Все и проще, и сложнее. Они по большей части энергично, и даже воинствующе, отстаивают то, в чем сами не отдают себе отчет. Победа – это часть прошлого. Нападая на Победу, метят в прошлое. Почему? Если вам наплевать на прошлое – вам точно так же наплевать и на будущее. Что же у вас остается? Сегодняшний день. Жить одним днем, умри ты сегодня, а я завтра – вот скрытый глубинный посыл нарождающегося нового мироощущения, которое реализует новый социальный заказ. До духовности ли, до идеалов ли людям, 124 озабоченным простенькой не рассуждающей солдатской программой: пожрать и поспать (в самом широком смысле)? Поэтому великий духовный смысл великой Победы, не имеющий стоимостного эквивалента, оказывается невостребованным. Новые русские, белорусы и их идеологи глумятся над вполне материальным, вещественным смыслом «той войны». Перефразируя известную «жлобскую» формулу, они выставляют претензии «предкам»: если вы такие сильные духом, то почему же вы такие бедные? Слов нет: убийственный аргумент. Точнее, самоубийственный. Но людям, освоившим лишь двухступенчатую логику, этого не объяснишь. Справедливости ради бегло отмечу, что не «новые» выходцы из СССР породили идеологию, основой которой является установка на разрыв с традицией, на уравнивание добра со злом, поражения с победой и т.д. Дело в том, что они выступают неофитами того типа сознания и той системы ценностей, которые пышным цветом расцвели в ХХ веке в европоцентристской культуре. «Новые» бодро и азартно внушают нам, что черное – это белое, если очень захотеть. Они выступают активными проводниками «цивилизованной» доктрины, согласно которой нет никаких объективных критериев духовности, нет никаких высших культурных ценностей. А есть только вы и ваше представление о том, что такое хорошо и что – плохо. Вот такой своеобразный «культ личности» и уникальности, точнее, культ того, что новым кажется личностью. Объективно, согласно новейшим воззрениям, только то, что можно потрогать руками, понюхать, съесть или, на худой конец, увидеть и «забалдеть». Диагноз сформулирован давно: культ потребления. Истоки такой мировоззренческой позиции, опять же, тема отдельного культурологического разговора. Я же клоню вот к чему. Стоит задуматься, выздоравливаем ли мы от бездуховности, которой так долго болели при «советах», или заболеваем новой духовной хворобой, последствия которой далеко еще не очевидны? Вернемся, однако, к главной теме размышлений. Победа – это, конечно, не все прошлое, но это центральное звено, справившись с которым, новая идеология может развернуться без серьезных помех. Поэтому Победу важно рассматривать не просто как исторически свершившийся факт, а как фактор состояния духа души. И нападки на Победу – это нападки не на даты, цифры и факты, а на систему ценностей, основу которой составляют: свобода, достоинство, честь, совесть, истина. Противостоит этому тоже вечный ряд, определяемый диктатом того, что располагается ниже головы и сердца. Перечислять нет необходимости. Мало победить, надо жить как победители. И не будет никакого материального достатка, технологических прорывов и информационных революций, если не удастся сохранить чувства победы – чувство спокойного несуетливого достоинства. Альтернатива проста: если завтра социальный опрос в Беларуси подтвердит, что 90 % белорусов моложе 25 лет будут считать, что войну начал Советский Союз, а победу одержали США, – то это будет означать, что 125 теперь уже мы потерпели Поражение. Но та, Великая Победа, которая досталась нам в наследство, здесь не при чем. Исторический счет будет предъявлен уже «новым». Ведь какие бы они ни были «новые», им на смену придут еще «новее». Так вот хотя бы ради грядущих поколений имеет смысл связать прошлое с будущим. Формулы успеха не содержат особых секретов. Одна из них: мы победили в Великой Отечественной войне, которая завершилась 9 мая 1945 года. Этот день – Победы! P.S. Информация к размышлению. Те, кто был свидетелем неофициальных торжеств в ознаменование 50-летия Победы в городе-герое Минске, согласятся: праздник был всенародным, безо всяких натяжек и преувеличений. И «новых» от «старых» было еще сложно отличить. P.Р.S. Война – это наиболее гнусный способ самоутверждения, если здесь вообще применимо это понятие. Война – это напоминание всем нам, и победителям, и побежденным, о том, как легко мы теряем человеческий облик, как хрупка грань между человеком и его антиподом. Война противоестественна самой сути личности человека: это состояние, когда культура санкционирует раскрепощение инстинктов (иначе говоря, культура как временно отменяет саму себя). Война есть жестокая необходимость, и ее невозможно поэтизировать людям нормальным. Из всего этого следует: к войне и ее урокам нужно относиться серьезно. В идеале День Победы должен быть самой эффективной профилактикой войны. Февраль 1996 г. Часть 2 ПРАВДА ВОЙНЫ И ПРАВДА О ВОЙНЕ В чем сегодня видится актуальность заметок девятилетней давности? Во-первых, Европа продолжает интерпретировать Вторую Мировую как противостояние двух тоталитарных колоссов (это превратилось уже в устойчивую тенденцию), каждый из которых в равной мере претендовал на мировое господство. При таком раскладе сил Европа, старая добрая культурная Европа, оказывается просто бедной заложницей. Ее жалко, а монстров – нисколько. Война была не очень-то и мировая, и победа в ней – дело сугубо частное. Один дракон сожрал другого: где тут повод для радости? Зачем европейским лидерам ехать в Москву на празднование 60летия победы над фашистской Германией? Европа сомневается. Европа умывает руки и явно понижает статус войны. Это неприятно видеть, но это так. Во-вторых, правда о войне – вещь, с одной стороны, очевидная, а с другой – неуловимая. Заметки как раз и были попыткой подойти к осмыслению итогов Великой Отечественной, скорее, со стороны очевидности. Что касается неуловимости… 126 Существует как бы несколько уровней правды, множество ее измерений, которые, как водится, противоречат друг другу – и вовсе не по злобному умыслу или по чьей-то злой воле это происходит, а в силу природы вещей. С этим трудно смириться. Если учесть, что тема войны до предела политизирована и идеологизирована, то становится понятным, что время объективного (в максимальной степени научного) отношения еще не пришло: слишком много живого и личного связано с войной и в нашем обществе, и в Европе, и в мире. Кстати сказать, живое и личное отношение – это тоже грани правды о войне… Но время объективного отношения никогда не придет, если не прикладывать к этому усилия. Неуловимость – это объективность. В-третьих. Мои заметки как опус, имеющий отношение к культуре, реализованы в русле методологии «очевидной констатации правды». Я не беру свои слова назад. Но я осознаю, что феномен войны невозможно осмысливать только очевидными вещами; это, как ни парадоксально, может привести только к нагнетанию напряженности, а то и к новой войне. Многомерные феномены надо и осмысливать всесторонне. Мне хотелось выразить правду о войне, но я невольно выразил и правду войны (точнее, теперь уже правду отношения к войне): таково сознание моего поколения, людей, родившихся через 10-15 лет после войны. В-четвертых. Своеобразным показателем меняющегося отношения к войне в обществе является отражение ее в литературе. Это показатель, конечно, не научный, но это чуткий индикатор общественных настроений; процесс обогащения представлений о войне в литературе очевиден как нигде более. Тема «война и литература» сродни теме «литература и жизнь». Война и литература – связаны между собой неразрывно, однако весьма и весьма противоречиво. Дело даже не в том, что существует великое множество произведений о войне; дело в том, что именно среди них мы обнаружим не просто великие произведения, но творения ключевые для культуры человечества. «Илиада»: вот оно, первое слово, и слово было о войне. Именно «Илиада» во многом является точкой отсчета в мировой культуре. Другое слово, «Слово о полку Игореве»: это уже начало начал славянства. Нам дорого «золотое слово, со слезами смешанное». Праздник со слезами на глазах: вот зачатки диалектического отношения к войне, отлившиеся в неплохую формулу. «Война и мир» – это роман романов, это роман такого класса, что комплименты неуместны; возможно, это просто лучший роман человечества. На лучший роман ХХ века вполне может претендовать «Тихий Дон». Складывается впечатление, что если бы не было войны, то и литературы бы не было. То ли война рождает литературу, то ли литература не может существовать без войны. Но война и литература – тема вовсе не благостная и отнюдь не однозначная. Это, так сказать, не мирная, взрывоопасная тема. Союз «война и литература» органичен в определенном ключе, в определенном ракурсе, и отыскать его – непростая культурная задача. 127 Если народ вел справедливую войну (а глас народа – глас божий; там, где народ, – там и справедливость), то это еще не основание считать литературу, в которой отражена такая война, превосходной. Бывают и священные войны, безо всякой иронии. Но строго говоря, и священная война – не аргумент для литературы. Для литературы аргумент – степень художественности, талантливости, гениальности. А предпосылкой высочайшей художественности является (безо всяких исключений) то, что метафорически определяют как глубина содержания. Глубина художественного содержания является характеристикой информационно-концептуальной; следовательно, наличие в произведении, где эстетические параметры приоритетны, духовной (неэстетической) программы является тем обязательным условием, которое является прямым и непосредственным показателем глубины. Духовная программа, данная нам в ощущениях (эстетически отраженная и воспринятая), – вот святая святых произведения. Еще проще: все упирается в масштаб личности творца, которая (личность) задает масштаб художественного мира. Применительно к данной теме это означает: скажи мне, насколько всесторонне ты видишь войну, и я скажу, какое произведение может получиться. Такая глубина содержания не задается войной автоматически; дескать, не надо ничего выдумывать, просто опиши страдания – и все: они скажут сами за себя. Предметом литературы никогда не были страдания, даже не страх и героизм сами по себе, и даже не душа; всегда и только – природа человека (которая, как часто кажется, коренится в душе). Поэтому война для литературы – это «находка» в том смысле, что ставит человека в экстремальные, пограничные условия, где проблемы плана экзистенциального обнажаются до своей первородной глубины и до страшного просто. Не война страшна, а человек. И не война задает глубину, а последняя раскрывается в обстоятельствах войны. Иначе сказать, война становится способом раскрытия глубины, а не самим содержанием. Поэтому сразу следовало бы развести разные функции и возможности литературы: изображение войны как бед народа, как иллюстрация патриотизма, как, если угодно, социальный заказ – это одно (это, так сказать, план очевидный); а война как условия, в которых раскрывается природа человека, как предпосылка экзистенциальной ситуации – это несколько иное (это установка на многомерность, тяготеющую к объективности). Большие художественные возможности возникают тогда, когда удается связать войну и природу человека. Это и становится темой литературы, ибо это подлинно культурный поворот темы. Сама же война – это вовсе не литературная тема, поскольку личность здесь теряется, а если не теряется и выдвигается на первый план, то война как тема неизбежно отходит на второй план. Такова диалектика средств изображения и сути изображаемого. В связи с этим уместно вспомнить если не закон искусства, то литературную заповедь. Существует выражение: смерть миллионов – статистика, смерть одного – трагедия. Хочешь показать трагедию всех – покажи трагедию одного. Лермонтов, который полемически обнаружил 128 Героя Времени в миру, как частное лицо, а не на войне, как защитника народа, в своем романе обронил: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Есть еще одна грань войны, связанная с природой человека. Война в известном смысле является естественной составляющей человека, вообще всего живого; единство и борьба противоположностей: это ведь тот самый предмет литературы, где борьба порой переходит в войну. Война становится, так сказать, атрибутом «мира». Или иначе: война и мир – это метафора единства и борьбы противоположностей, это противоречивое (нормальное) состояние духовного мира. Война в этом контексте становится единственной дорогой к миру, и даже «механизмом» прогресса: через «микровойну», через борьбу противоположностей осуществляется всякая, в том числе духовная, эволюция. Все это вовсе не так отвлеченно, как могло бы показаться. Обратимся к эпопее Л. Толстого «Война и мир». В данном случае важно отметить, что Толстой заставляет воевать, конфликтовать Запад и Восток – не столько в географическом, сколько в символическом значении; если уж быть совсем точным, то субъектами противостояния становятся рациональное начало, присущее «Западу», западному типу отношения к миру, и начало душевнопсихологическое, русское («восточное» по отношению к западу). За Отечественной войной 1812 года скрывается особая, невидимая война, выплескивается наружу столкновение двух культур: тип освоения жизни «от ума» и от того, что умом не понять: «от психики». Толстой прямо и недвусмысленно встал на сторону иррационально-душевного «постижения» смыслов бытия (если подобное непосредственное усвоение смыслов через их «сопряжение» можно назвать постижением). Именно такое «Бородино» интересовало Толстого, именно такое «Бородино» лежит в основе его универсальной концепции. Поле битвы – «человеческое измерение», противоборствующие стороны – психика и сознание. Условно этот вектор в развитии культуры можно назвать «социоцентризмом», имея в виду мировоззренческий приоритет народного (опирающегося на душевное, которое сплачивает, объединяет) над личным (которое является результатом «разумного» отделения от душевнонародного). «Мысль народная» здесь выступает как путеводная иррациональная установка. Это литература, в центре которой народ и герой, а не личность. Конечно, подобный опыт постижения мира и человека через войну не мог остаться незамеченным в эпопее Шолохова «Тихий Дон». Если брать, так сказать, «внешний», видимый невооруженным глазом план (концептуально, конечно, невооруженным), то мы наблюдаем гражданскую войну, войну русских с русскими. Историческая и духовно-национальная основа, как и в случае с эпопеей Толстого, не вызывает сомнения, и она в известном смысле 129 самоценна. Однако по существу конфликт, интересовавший Л. Толстого, а также Пушкина, Достоевского (чтобы закрыть вопрос, прибегнем к категоричности: всех без исключения корифеев словесно-художественного творчества), переносится внутрь, в границы одной личности, целой и неделимой. Здесь Бородино – вся Россия, все русское. Внутренний конфликт, окончательно закрепленный в качестве культурной традиции, осознается как личностно продуктивный и, если угодно, эпохальный. Личность становится моментом вселенной; хочешь говорить о народе или о людях вообще – говори о личности. Что значит – ум противостоит душе? В этом случае личность выступает как враг самой себе, русские – русским же; война, к сожалению, продолжает оставаться культурно узаконенным способом разрешения конфликта, способом выяснения отношений (на деле превращаясь в способ самоуничтожения, причем, не только русских – всех людей вообще). Происходящее с одним человеком, с Григорием Мелеховым, становится моделью того, что в принципе может произойти – и происходит сегодня – со всеми. В этом контексте эпопея Шолохова становится символом и знаком целой эпохи. Достаточно ли сказать, что эпопеи Л. Толстого и Шолохова – о войне? Нет, конечно. Более того: они в принципе не о войне. Вести серьезный разговор о произведениях, в которых отражена Великая Отечественная война, можно в определенном культурном контексте, ибо это частный случай общей проблемы «война и литература». Произведений о войне много, но произведений, ставших знаковыми, – как всегда, по пальцам перечесть. Я бы сказал так: Великая Отечественная война поставила литературу в трудное положение, ибо выразить масштабность такой войны – дело вовсе не простое. Это своего рода культурный подвиг. Мало сказать, что это была не рядовая война; это была именно Великая, глобальная, мировая война, война натуры против культуры. Любой мыслимый конфликт можно представить себе в рамках этой войны. Одно из главных противоречий этой войны заключалось в том, что личность, уникальная личность, центр и средоточие культуры, самой логикой событий превращалась в песчинку, в «ничто». Идеология фашизма, опиравшаяся на «закон джунглей», целенаправленно превращала человека, носителя этой идеологии, в животное. Неудивительно, что захватчик стремился превратить «население оккупированных территорий», особенно восточных, в подобие скота: по себе судили о других. Это была война против гуманизма, где вытравливалось веками накопленное человеческое; это была, так сказать, глобальная антикультурная акция по наведению «нового порядка». Высшим достижением культуры с помощью интеллекта, инструмента культуры, пытались сделать низменное в человеке: это не что иное как попытка подрыва гуманистических устоев, самая настоящая антикультурная революция. Ведь дело не сведешь к тому, что фашисты стремились истребить евреев, славян и вообще всех тех, кого они причислили к «низшей расе». Вначале они истребили все человеческое в себе, они же и стали первой 130 жертвой ими развязанной войны. Это была война, в том числе, и против самих себя – в принципе против всего человеческого и культурного, где бы оно ни находилось. Таков трудновообразимый масштаб этой войны, таково ее «человеческое измерение». Те, кто победили в войне против фашизма, навсегда заслуживают памяти и уважения. Это тот редкий случай, когда пафос не просто уместен и оправдан, но и необходим. Чтобы сохранить себя как личность, надо стать героем, отказаться от всего личного в себе: это императив особой исторической ситуации. Война и личность, война и «персоноцентрическая ориентация» – вещи трудносовместимые, но когда их все же удается совместить – появляется нечто достойное внимания. Сразу же стоит отметить, что эта тенденция – совместить войну и природу человека – обозначилась с момента появления литературы о войне (хотя и не получила развития). Она отчетливо проявилась в произведениях В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Астафьева, Э. Казакевича, Б. Васильева… В литературе подобного типа в центре – именно личность, а народность и героизм – способ ее проявления, но не самоцель. Нас, однако, будет интересовать повесть В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946) – и не в качестве одной из первых книг о войне, а как особый тип литературы о войне: как образец правдивого (очевидно правдивого!) отношения к войне, имеющего социоцентрическую направленность. Всегда востребованная военная тема реализовалась через тяжелую литературную судьбу военной прозы, как ни странно. Правда о войне с самого начала оказалась вещью тонкой и многоликой; с одной стороны, она очевидна, с другой – никак не дается в полном объеме. Некая непосредственная, не умом, а честным чувством улавливаемая правда, отражена в этом произведении бесспорно. Будни войны, чувство жизни, страх смерти, надежда, боль – все это правда. Более того, у повести Некрасова репутация первой правдивой книги о войне. «Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании», - заметил сам автор. Какие же книги «пишутся по свежим следам и на одном дыхании?» Во-первых, они часто пишутся не профессионалами, но непосредственными участниками событий, что служит своеобразной гарантией искренности и безыскусности. Концептуальная обработка материала – это уже свидетельство высшего литературного мастерства, и цена такого мастерства – утрата искренности и подделка «безыскусности». Однако «не профессионал» – вовсе не означает, что автор ничего не понимает в литературе. Понимает, но, к счастью для правды, которую он несет, понимает далеко не все. Объективность для писателя непозволительная роскошь. Во-вторых, читатель видит только то, что попадает в поле зрения героя (субъектная организация повести – от первого лица, что, кстати, в какой-то мере органично для «не профессионала» и «участника»; по отношению к разбираемой повести выбор субъектной организации профессионально точен: писатель маскируется под «просто участника»). Плюсы и минусы 131 такой подачи материала хорошо известны: с одной стороны, искренность, лиризм и полная свобода, с другой – ограниченность кругозора. Если угодно, в повести действительно отражена «окопная правда» (за которую критика поначалу так ругала «безыдейного» автора: из окопа плохо видна идейная сторона жизни, да и рассуждать особо некогда, не до жиру). Что видит рядовой участник войны? Мозаику будней, чистую эмпирику, которые усилиями автора (не стоит слишком доверять тезису о его литературной неискушенности!) складываются в некую закономерность. Сюжета нет, все держится на хронологии, то есть на цепи невыдуманных, калейдоскопически чередующихся событий, отражающих, якобы, правду как таковую, «саму жизнь». Отступление – оборона Сталинграда – наступление. Но это уже не хронология и эмпирика, это больше, чем хронология: это внутренний сюжет книги, отражающий поиск составляющих победы. Не личность оказывается в центре внимания, а личность, находящаяся в гуще народа и без него теряющая свою ценность. Тут как раз не история души интересна, а история народа, отраженная в душе. Какую правду можно передать указанными способами, где неопытность оборачивается формой литературного мастерства (ничего не выдумано, но «взято из жизни» именно то, что следовало бы выдумать)? Почти полкниги (вплоть до конца 1 Части) не происходит ничего исключительного, никаких подвигов. Автор словно специально усыпляет бдительность читателя «монотонностью правды», чтобы затем незаметно показать ему правду героического. Это будничное героическое. Для передачи такой героики понадобилась отстраненность изображения, которую оценили как «ремаркизм». Это действительно подражание, это действительно влияние Ремарка (хотя в первую очередь – Хемингуэя), но это органично соответствует мироощущению автора. Поэтика «скупой мужской слезы» – сдержанный синтаксис, минимум эпитетов, приоритет фактов над оценкой и аналитикой – приспособлена для передачи «скрытой теплоты патриотизма», центрального нерва всей книги. Как бы отсутствие пафоса становится высшим пафосом; о масштабе тщательно скрываемого чувства читатель судит по отдельным его, «случайным», проявлениям. Это, конечно, модификация «поэтики подтекста», поэтики «подводного течения». Вот характерные примеры. «- Патронов хватит, комбат? - Пока хватит. - Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется… - В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. - Не уйдем, лейтенант? – Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. - Нет! – говорю я. 132 Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму». (Текст цитируется по изданию: В. Некрасов «В окопах Сталинграда». Генрих Белль «Где ты был Адам?». М., «Молодая гвардия», 1991, с. 175) Так люди попрощались навсегда и приняли решение остаться почти на верную смерть. Без лишних слов. Это именно героизм без лишних слов, героизм, которого как бы нет. Еще фрагмент. «Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин. Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно» (там же, с. 94-95). Сквозь будничную черновую работу проступает «скрытая теплота патриотизма», скрытая решимость победить или умереть. Народ как субъект изображения, народность патриотизма, одна на всех победа и одно на всех поражение – это уже явно школа Л.Н. Толстого. У «неопытного автора» были неплохие литературные учителя. Таким образом, из ничего, из песчинок правды складывается то, что можно назвать психологическим механизмом победы в среднем и низшем звене Красной Армии, засевшей в окопах. Собственно, в народе. Перед нами своего рода производственный роман, вскрывающий технологию окопной войны. Это производство или способ жизнедеятельности связаны с выработкой некоего «экзистенциального вещества». Не быт (эмпирика), а бытийность войны: таков подлинный фон или подтекст событий. Момент рождения духа победы из беспросветного отчаяния интересует автора. Вот почему гимн победе получился с траурными нотками. Такова правда романа. Разумеется, тотальное господство эмпирики в хорошем произведении просто невозможно, и некие обобщения пунктиром проскакивают в книге (не забудем: главный герой, лейтенант Юрий Керженцев, – архитектор по образованию и интеллигент по складу души, любящий литературу). Вот достаточно характерные «состояния», которые можно трактовать как философские вкрапления: «Жили, учились, о чем-то мечтали – тр-рах! – все полетело – дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны» (там же, с. 144). Но это не предел рефлексии, хотя характерный способ обобщать. Жизнь человека на войне – это именно жизнь человека, но не личности: «- Расскажи-ка лучше… Как-никак – четыре месяца, кусочек порядочный. - Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же… - И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую… Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидели недели две в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили… 133 - В общем, сами знаете… - и улыбается своей ясной улыбкой» (там же, с. 241). «История солдатская» становится «историей души человека» во время войны. А вот высший пилотаж обобщения: «Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть» (там же, с. 84). Писатель писал со знанием дела. Конечно, это уже не только война, это уже жизнь и смерть. Однако в общем и целом эти «начала экзистенциального анализа» вполне укладываются в рамки предлагаемой «окопной правды»: ощущение войны не переходит в исследование природы человека. В повести социальной правды больше, чем духовной. Причем правды социальной общепринятого порядка: это война с фасада, так сказать, приглядная сторона войны, несмотря на всю ее разрушительность. «Ремаркизм» в таком контексте вполне устраивал сталинизм. У Некрасова народное (по большому счету) счастливо не противоречит официальному, а это уже, если угодно, стихийный соцреализм. Хорошие командиры становятся народными любимцами, плохие, такие как Абросимов, рано или поздно получают свое. Вот почему повести, в которой по формальным признакам не было ничего соцреалистического, сенсационно была присуждена Сталинская премия. Соцреализм и правда объединились перед лицом общего врага. Социальная направленность произведения не вызывает сомнений. Социальная аура сказывается, в частности, в том, что до сих пор художественные достоинства (или недостатки: смотря кто оценивает) повести связывают с факторами социальными: в ней нет ни слова о партии, всего три строчки о Сталине, нет ни одного политработника, нет генералов и т.п. Что касается стороны «неприглядной», не очень одобряемой официально, то дальнейшее развитие военной прозы шло как раз по пути количественного расширения сторон: вширь, но не вглубь. Все новые и новые грани социальной правды обнаруживали В. Кондратьев («Сашка»), К. Воробьев («Это мы, Господи!»), В. Быков («Сотников»). Сегодня уже очевидно, что «по свежим следам и на одном дыхании» только такое произведение, как «В окопах Сталинграда», и можно было написать. В идеальном случае – именно такое. Литература о Великой Отечественной могла возникнуть только как литература социоцентрического типа. Повесть Некрасова – своевременная и органичная книга, в этом ее привлекательность и достоинство. В ней были правда чувства и правда жизни, отраженные патриотическим чувством. Правда сквозь призму 134 «скрытой теплоты патриотизма» – вот правда честной книги В. Некрасова. Это была правда войны, правда тех, кто воевал в окопах. Интересно, как оценивает эту правду сам Некрасов через 35 лет после написания своей правдивой книги. В заметках «Через сорок лет…», имеющих подзаголовок «Нечто вместо послесловия», автор честно (субъективно он всегда был честен) пишет: «Мне часто говорят: - Считается, что вы написали первую правдивую книгу о войне. Всю ли правду вы рассказали? Всю ли правду вы рассказали? Или что-то скрыли, что-то у вас выкинули? Сядь вы сейчас за нее, когда руки у вас развязаны, изменили ли б вы в ней что-нибудь? Отвечаю с конца. Сейчас бы не сел. Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании». «О правде. Вся ли она? В основном вся. На девяносто девять процентов. Кое о чем умолчал – на один процент». Вот суть правды: «В мире воцарится мир! Взошло наконец солнце Свободы! Для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня… Именно в это – что Красная Армия принесла миру мир и свободу! – верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу: «Приказ об отступлении приходит совсем неожиданно…» Но правда превратилась для Некрасова в миф. «Враг будет разбит! Победа будет за нами! Но дело наше оказалось неправое. В этом трагедия моего поколения. И моя в том числе…» (там же, с. 248-263). Это ведь тоже «правда по свежим следам», правда разочарования, которая есть не что иное, как очередной миф. Не ставя под сомнение искренность и правдивость слов писателя, следует констатировать: одна правда вовсе не отменяет другую, как это казалось Некрасову. Правда книги была в том, что правда присутствовала, но она жила отдельно от других правд, столь же очевидных. Правда «по свежим следам» и правда как универсальная, объективная категория, тяготеющая к совершенно бесстрастной истине, – это разные вещи. Писатель спутал правду войны и правду о войне. Ничего не поделаешь: такова правда жизни. Серьезная всеобъемлющая концепция требует времени и художественнофилософского труда: мировой литературный опыт свидетельствует именно об этом. Пришло время совмещения правд. Это вызов времени, как принято говорить сегодня. Не хотите войн – научитесь совмещать правды: это самая большая культурная задача, стоящая перед людьми. Для этого необходима литература особого – личностного – типа. У войны как феномена нравственно-религиозного, морально-социального, политико-экономического, психологического, эстетического, философского – множество измерений. Масштаб войны требует соответствующего масштаба литературы (где все упирается в масштаб личности). Если сегодня подводить итоги, то один из итогов отражения войны в литературе будет парадоксальным. Строго говоря, тема именно Великой Отечественной войны, не получила еще адекватного отражения в литературе, ибо тема этой войны – это битва, развязанная фашизмом, война человека против человека в 135 душе и сознании человека. Эта тема в известном смысле деликатна, она не чтобы табуирована или находится под запретом, но чтобы прикоснуться к ней и не поранить, а излечить, требуется колоссальный культурный такт. Чуткие люди внимают рекомендации социума: даже анализировать «чуму ХХ века» не безопасно. Слишком больная и страшная тема. Чтобы не пропагандировать дьявола, приходится делать вид, что его нет. Вряд ли это выход из положения. Фашизм, к сожалению, – одно из проявлений природы человека, и бесчеловечностью фашизма ограничиться было бы наивно. Это поверхность темы, но не глубина ее. Человеку еще предстоит заглянуть в глаза себе. Я убежден: тема Великой Отечественной войны не снята с повестки дня. Здесь, разумеется, нельзя отдать приказ и заставить написать эпохальное полотно. Но самой логикой культуры материал Великой Отечественной должен быть востребован. Победа в войне против культуры – это великое культурное событие, это достояние всего человечества. Вот почему великие произведения о Великой Отечественной – это дело не только вчерашнего дня и не только поколения войны, это и дело будущего. P.S. С Днем 60-летия Победы в Великой Отечественной войне всех читателей! Февраль 2005 136 ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ЖИТЬ? Российские массмедиа стали запускать деморализующие нормального человека сюжеты. И в этом стихийном процессе наблюдается переход количества в такое качество, которое уже настораживает и, я бы сказал, дурно пахнет. То по либеральному телеканалу хапугу вице-губернатора Московской области покажут, который просто так, за здорово живешь, вывез из России миллиарды, и об этом все знают, а вот арестовать негодяя почему-то никак не представляется возможным: он, видите ли, был всего лишь человеком системы, винтиком, удачненько оказавшимся в нужное время в нужном месте – какой с него спрос?; то о коррупции в прокурорском корпусе расскажут со знанием дела и смакованием деталей, и при этом с тайным наслаждением пояснят, что наказать прокуроров-взяточников никак нельзя, потому как они фрагмент прогнившей системы; то о лесных пожарах заведут речь, чтобы подчеркнуть: все горит синим пламенем, а тушить попросту некому, ибо чиновники-коррупционеры в отпусках, проедают награбленное (опять же: отдельно взятый пожар не затушить отдельно взятым брандспойтом – это вам системный сбой, а не банальный пожар); то вот сегодня авторы патриотического журнала «Наш современник», понаехавшие в Беларусь, стали с некоторым блеском в глазах рассказывать о том, что Россия как цивилизация – как система! – вымирает, что русские больше не хотят жить, уже не сопротивляются, и при этом авторов интересует не «как жить дальше», не модель выживания, а сладострастно будоражит совершенно отвлеченный, с точки зрения выживания, вопрос «кто виноват поименно в бедах матушки-России», то есть, авторы буквально иллюстрируют тип сознания инфантильный, безответственный, убогий, выморочный. Нежизнеспособный. Примеров несть числа. Имеющий либо уши, либо глаза легко их приумножит. Примеры складываются в систему, будь она неладна. А система – в корявую судьбу. Эх… Повторю: на человека, обладающего здоровым мироощущением, чувством собственного достоинства и внятным представлением о культурных ценностях, подобная «системная» симптоматика действует угнетающе. Глядя на вышеупомянутых авторов, а равно и на их антигероев, которых они линчуют в стиле садо-мазо, хочется, чтобы эта Россия, которую болезные авторы, плоть от плоти деградирующей системы, как-то полномочно, уверенно, от души, представляют (при этом в старом добром русском духе то ли обожают отчизну (замечено, что при упоминании древнего имени Рогнеда у них наворачивается слеза), то ли презирают, то ли ненавидят), поскорее издохла. 137 Просто из человеколюбия и милосердия хочется, чтобы загнивающая система оздоровилась, пусть даже ценой собственной жизни. Загнанных, запутавшихся в постромках лошадей, оказавшихся в беспросветных тупиках истории (навоз застит свет, однако), ждет незавидная участь, не правда ли? А как – оздоровилась? Как? Лично я согласен с авторами (вот только они вряд ли согласятся со мной): это вопрос не столько социального ноу-хау, сколько проблема наличия воли к жизни. Выживут, если захотят. По отношению ко всем, в том числе и русским, сказанное звучит справедливо. Но по отношению к русским, разумеется, это звучит особо – особо актуально и особо экзистенциально. Просто – особо. Потому что русские – особые. Что имеется в виду? Видите ли, мир устроен сложно и одновременно просто, что позволяет глубоко познавать этот мир или мелко спекулировать на глубине, кто во что горазд. Вот, скажем, немудреный тезис «запад живет хорошо» – это жизненный факт, который всегда становится аргументом в ловких руках либералов, норовящих как следует припечатать обескураженную Россию. «Мы, со своей статью, со своей особенной ментальностью славянского востока, не можем так жить, просто фатально не способны» – это тоже весомый почвенный аргумент, и тоже от жизни. Прежде чем включаться в гибельный спор, попытаемся понять, откуда взялись две взаимоисключающие позиции, которые словно на роду написаны? По большому счету, речь идет не о либералах-западниках или консерваторах-народниках; речь идет о двух картинах мира, о двух моделях жизнеустройства, к которым восходит спектр обслуживающих «западную» и «восточную, собственно русскую» ментальность идеологиях: о модели социоцентрической (которой бесконечно дороги права народа) и модели индивидоцентрической (которая истово радеет о правах человека). Озабоченные правами народа видят врагов народа (поименно!) в тех, кому дороги права человека; для вторых первые являются тормозом и пережитком (практически, теми же врагами, душителями свободы, если без оттенков). Идеология – это часть правды, которая выдается за всю полноту истины; и часть правды в полном соответствии с диалектической природой любой информации действительно присутствует и в народном, социалистическом мироощущении, и в индивидуалистическом, волчье-капиталистическом. И потому – вечный бой. Даешь правду! И глазки горят, и ручки к топору, и перо к бумаге. Человек для народа или народ (общество) для человека? И кажется, что мы стоим перед извечной альтернативой, и вот уже «всем сердцем» судорожно цепляемся за какую-нибудь правду. А там – воздастся по вере. Алгоритм – проще некуда; но он работает, вот в чем сложность. 138 На самом деле перед нами ложная альтернатива, которая, по сути, представляет собой гносеологический мираж. Или, если так привычнее, – тупик. Что объединяет народников (в широком смысле) и гуманистовлибералов (в смысле узком)? Их объединяет то, что они единым фронтом, народно-антинародным, выступают против прав личности. Там, где личность, – там культура и истина, там закон как познанная необходимость (не путать с одномерной правдой-маткой). По большому счету, диктатуре культуры, диктатуре закона и истины, левые и правые противопоставляют диктатуру натуры, диктатуру силовой регуляции. Кто сильнее – тот и прав. Если побеждают индивидуалисты, которые за народ, за родину, – следовательно, народ прав; побеждают правозащитники с «человеческим» уклоном – значит, пора торжествовать идее справедливого общества. Вот где подлинная альтернатива: диктатура натуры (природная, силовая регуляция) – или диктатура культуры (культурный регламент и порядок). Еще проще: психика или сознание. За первой диктатурой стоят бессознательное приспособление и, как следствие, идеологическое освоение мира (вера). За второй – научная гуманистическая картина мира, опирающаяся на познание. Субъект натуры – человек (гипертрофирована функция правого полушария). Субъект культуры – личность (NB: функции правого и левого полушарий сбалансированы и приведены в гармоническое равновесие). Идеологические корма – это духовная пища человека, истребляющего в себе личность. С одной стороны, в цене по-прежнему, как и века, как и тысячелетия назад, не философы, а проповедники – глашатаи правды с горящими глазами. Самый главный аргумент – горящие сдуру глаза. Правда посильнее истины будет (иначе говоря, сильная натура делает слабую культуру своей служанкой). Каждый желает перекрасить мир в свой цвет – правый или левый, красный или белый, черный или зеленый. Идеолог не умеет «думать» иначе – просто потому, что он не умеет мыслить. С другой стороны, наступило время, когда идеологиям, любым идеологиям, сегодня нет доверия. Вопрос «что есть истина?» объявлен риторическим возгласом бездумно вопиющего в пустыне, ибо вопрос этот в плоскости идеологии утрачивает всякий смысл. Человек идеологический чувствует, что он врет, что ему врут, что смысл любой идеологии сводится к древней заповеди «кто сильнее – тот и прав». Смысл идеологии сводится к воле к жизни. К потребностям. К инстинктам. Наступает усталость от идеологии. Вот он, нюанс самоновейшего времени: с одной стороны, потребность в идеологии отменить невозможно, ибо ум и душа взыскуют «системного» мировоззрения; а с другой – нарастает усталость от идеологии, ибо в 139 человеке все громче и громче говорит личность: душу верой уже не обманешь, а ум к науке, к философскому восприятию «вещей» еще не готов. В этой изменившейся ситуации русские народники-почвенники упорно роются в своих корнях, а русские индивидуалисты без устали продолжают кивать на запад – и те, и другие, начитавшись родного до боли Достоевского, ищут спасительную идею в идеологиях. В этом – завораживающая особенность России, которая при ближайшем рассмотрении оказывается банальной закономерностью: русские, в значительной степени предрасположенные к познанию, всю энергию направляют на приспособление, отрываясь, с одной стороны, от народа, и не врастая, с другой стороны, в культуру. А народ, превратившись в толпу и плевавший на все, в том числе и на восстание масс, – пьет, отказывается искать истину в идеологиях. Отказывается почитать вождей и святых. Отказывается просыпаться. Ленится жить. Навеки почил? Народ словно чувствует: воля к жизни – в нем, в народе. Воля к жизни справится с любыми идеологиями. А вот идеологии не породят волю к жизни. Отсюда следует: воля к жизни де факто стала самой привлекательной идеологией. Но в упор не замечать очевидного – особенность русских, которые волю к жизни научились искусно трансформировать в причудливые идеологии. Пар уходит в свисток (громко). В пустоту. Хотят ли эти русские жить? – вот в чем вопрос. Звучит зловеще, примерно так же, как – «что есть истина?». Когда западники молятся на запад – они, словно дремучие восточные почвенники, молятся пням: молятся воле к жизни. Ну, так и называйте вещи своими именами: чтобы стать составляющей нынешней западной цивилизации, в духовном (в идеологическом, будем откровенны) смысле надо опуститься, а в технологическом – подтянуться. Мы вслед за всем цивилизованным миром выбираем диктатуру натуры. Так? Так. В крапинку наша модель диктатуры или в полосочку – не суть важно. Неча на российскую систему пенять – не такая уж она уникальная, чтобы прогнивать тогда, когда все остальные процветают. Она не прогнивает – она обнажает свою простейшую суть. В основе системы – человек, а не личность. Как и везде. Иное дело, что мир, похоже, может выжить только перейдя к диктатуре культуры (гармонии). К культу Личности. Но это уже совершенно другой сюжет и принципиально другой разговор. И, возможно, у российской идеологической элиты с ее природной предрасположенностью к рефлексии, к анализу умонастроений, к возведению сложных идеологических системных комбинаций в этом всемирном процессе, в процессе перехода от цивилизации к культуре, есть неплохие шансы на лидерство. Возможно. А пока цивилизация находится в агонии, в цене иное экзистенциальное вещество – элементарная воля к жизни. 140 Жить хотите, русские? Сказанное дальше адресовано новому, молодому поколению, которое, конечно, ничем не лучше предыдущего, однако, надеюсь, менее идеологически ангажировано – следовательно, глупее, ближе к жизни. Адекватнее. Не стесняйтесь своего великого культурного наследия – станьте проще. Смените приоритеты (желательно не навсегда). Укротите буйные идеологические фантазии. Попытайтесь хотя бы перековать меча на орала, то бишь, идеологии на юриспруденцию и менеджмент. Хапуга вице-губернатор должен сидеть в тюрьме. Это удивительно стимулирует волю к жизни. Оздоравливает атмосферу. Укрепляет систему. И, к сожалению, становится национальной идеей. С которой завтра, в эпоху культуры, придется сражаться не на жизнь, а на смерть, проявив теперь уже разумную волю к жизни. 24.06.2011 141 ПРОКЛЯТЬЕ НАУКИ – ИМИТАЦИЯ НАУКИ Самая проклятая проблема современной науки – не замечать поистине судьбоносной проблемы человека и человечества. Если посмотреть на список «величайших научных загадок», стоящих перед современной наукой (в данном случае речь пойдет о версии журнала Science, приуроченной к 125-летию почтенного научного издания), то поражает, строго говоря, одно: наивность (или: тотальная психологизированность) современного научного сознания. Список «проклятых вопросов современной науки» (среди 125 выделено 25 главных, наиважнейших, см. http: //www.utro.ru/articles/2005/07/06/455621.shtml), как и положено, открывают «вечные философские вопросы». 1. Из чего состоит Вселенная. 2. Каковы биологические основы сознания. 3. Как вся наследственная информация помещается в 25 тыс. генов, имеющихся в нашей ДНК. 4. Насколько индивидуальные особенности человека важны для лечения – проблема «персональной медицины», учитывающей генетический код человека. 5. Можно ли объединить все законы физики. 6. На сколько можно увеличить продолжительность жизни. Далее для полноты картины позволим себе процитировать еще несколько приоритетных позиций для современной науки. 11. Существуют ли во Вселенной братья по разуму. 14. Какие генетические особенности делают человека человеком. 15. Как мозг хранит и «читает» воспоминания. 19. Теоретические пределы возможностей компьютера. 22. Можно ли создать вакцину от СПИДа. 23. Чем грозит глобальное потепление. 24. Энергетика будущего – чем человечество заменит нефть. Что бросается в глаза в этой рейтинговой версии? 1. Человек как существо информационное, обладающее самым загадочным – духовным! – измерением, не стал не только главным предметом исследования, не стал даже лакомым объектом науки, источником тайн и загадок. 2. Загадки, в основном, понимаются как технологические загадки. 3. Ничего философского в предложенной версии нет, ибо философия как «наука наук» озабочена не объединением «всех законов физики», а методологией всех наук, объединением «законов всех наук», в том числе еще не родившихся законов наук гуманитарных, или, если так понятнее, уровнем и качеством мышления. В данной версии отсутствует методологический «взгляд на мир». 142 4. И, наконец, главное. Перед нами не просто загадки как таковые, некие бесспорные и абсолютные тайны, а суперзагадки с точки зрения интеллекта (не разума, что характерно, и что само по себе вполне тянет на загадку загадок). Это загадки человека, но не личности. Это «загадочная» версия эпохи цивилизации, и в качестве таковой она весьма показательна: разум, а также его носитель и субъект культуры – личность (вместе с самой культурой, разумеется), вынесены за скобки. Будущее человечества де факто «вычисляется» как продолжение цивилизации, человек не собирается превращаться в личность. Иными словами, человека фактически лишили разумной перспективы, приемлемого будущего, но – отдадим должное современному научному мышлению – даже не заметили этого. Очевидно, хотели как лучше. Перед нами достаточно объективная картина: будущее и прошлое человека «глазами интеллекта», то есть с точки зрения такого разума, который гораздо более озабочен «теоретическими пределами возможностей компьютера», нежели пределами духовно-информационных возможностей человека. Все просто: интеллект «не видит» более сложную по сравнению с интеллектом информационную инстанцию – разум, с точки зрения интеллекта разума нет и быть не может. Нет такого объекта и, соответственно, загадок, связанных с ним. На нет и суда нет: по-своему интеллект прав. Но именно эта своеобразная правота и делает его устаревшим, и даже архаичным способом управления информацией; в данном контексте – опасным. С точки зрения разума как инструмента познания рейтинговая версия должна выглядеть принципиально иначе. Во-первых, все проклятые вопросы должны быть системно увязаны друг с другом, что, во-вторых, означает: решение одного вопроса ведет к частичному решению и всех остальных (равно как и углубление загадки тут же отражается на загадочности всех иных вопросов). В-третьих (оно же во многом и во-первых), системная связь вопросов подразумевает их иерархическую упорядоченность, иными словами, в круге вопросов всегда есть главные и менее главные, второстепенные. Таким образом, скажи мне, какой вопрос ты считаешь главным, и я скажу, чем ты думаешь. С моей точки зрения, первым вопросом должен быть следующий: как осуществить назревшую смену типов управления информацией, как перейти от психологической (бессознательной) регуляции всех человеческих отношений к регуляции сознательной (разумной), от человека – к личности, от интеллекта – к разуму, от цивилизации – к культуре? В свете этой проблемы все остальные приобретают служебный, если не сугубо технический, характер. Мозг, физика и компьютер для личности – или наоборот? Диалектика развития науки состоит в том, что наука никогда не развивалась как наука, в соответствии со своими внутренними 143 потребностями, опираясь на имманентные законы развития научного знания. Развитие науки всегда определялось социальными потребностями, принимавшими форму социального заказа; а социальный заказ, не будем лукавить, это императивы коллективного бессознательного. Вывод напрашивается потрясающий: наука, главный разоблачитель коллективного бессознательного, является заложницей коллективного бессознательного. Именно так (в значительной, возможно, решающей степени). И не только наука, следует добавить, но и культура в целом, в том числе – и прежде всего – художественная культура. В угоду социуму, который развивается в соответствии с логикой бессознательного, как и всякий организм, культура и наука обслуживают те отношения, которые актуальны на данный момент. Вот яркий пример. Всех интересует глобальное потепление. Обратим внимание: социум интересует не человек, бессознательно проинтерпретировавший свои потребности таким образом, что их удовлетворение неизбежно должно привести к потеплению, а потепление как таковое, природа как таковая, не связанные, якобы, с природой человека. Интересуют физические и химические явления, но не духовнопсихологические, не философские. Интересует не причина, а следствие, ибо не укоренился навык увязывать одно с другим. Ведь ясно же: уберешь одно негативное следствие порочной практики жить не думая – появятся тысячи новых. Но это никого не интересует – вот что характерно. Иногда рассуждают таким образом: главные вопросы (возможно, среди них есть и духовные: поживем – увидим) следует отложить на потом, а сейчас не до жиру – быть бы живу. Но это и есть великолепный образец той самой логики бессознательного, логики, презирающей и отвергающей научную логику. Выжить можно только решая главные вопросы в увязке с неглавными. Сам факт зачисления вопросов духовных в неглавные, второстепенные, сам факт спокойного отношения к тому, что наш гуманитарный космос перевернут вверх ногами, дискредитирует научное сознание. Это ненаучная постановка проблемы выживания человека. Мы просто не выживем, и дело так и не дойдет до постановки главных вопросов. Конечно, глупо отрицать, что сама наука могла выжить и развиваться только благодаря тому, что она ориентировалась на социальные заказы (в большей или меньшей степени). В конце концов, базовые потребности определяют «менее базовые». До поры до времени это было ненормально с «чисто научной» точки зрения, но вполне нормально с точки зрения развития человека и общества, с точки зрения развития личностных и общественных потребностей человека, которые (потребности) рано или поздно приводят к потребности развития науки именно как науки, а не как бессознательного приспособления к невозможности стать наукой. Будем откровенны: человеку не нужна наука как наука, она необходима ему как форма психологического приспособления, как способ достижения духовного комфорта (как суррогат духовной деятельности), как способ 144 уклониться от необходимости быть личностью. Наука нужна такому человеку, который получает реальную возможность стать личностью. Личность и социум: только в таком информационном пространстве может существовать наука. Вся проблема в том, что сегодня стало нашей базовой потребностью – потребностью уже не просто биосоциального, но биосоциодуховного существа, в которое превратился человек, сам того не заметив. Объективно базовой потребностью стала потребность разумного существования. Это и есть проклятая проблема нашего времени; все остальное – проклятые следствия проклятой проблемы. Если вдуматься в проблему «разумного существования», то возникает ряд фундаментальных соображений, переводящих саму проблему в разряд если не безнадежно-утопических, то, как минимум, отвлеченно-гипотетических. Прежде всего: где взять столько личностей, если учесть, что личность – это не столько результат правильного воспитания, сколько феномен природной одаренности, счастливо не загубленной воспитанием? Далее. Как в обществе может утвердиться приоритет личностного начала, если общество всегда будет состоять не из личностей? И так далее. Тут хотелось бы обратить внимание на два момента. Первое. Говоря о человеке разумном, я говорю о тенденции развития, о логике информационной эволюции. Мир развивается следующим образом: от психики – к сознанию. Конкретные вопросы социальных технологий и ноухау могут сегодня казаться неразрешимыми, однако само по себе это не отменяет тенденции. Второе. «Разумное существование» – это не результат схоластического теоретизирования; разумный тип управления информацией – превращение человека в личность – становится способом выживания человека. «Тенденция» и «способ выживания» – вот ответ скептикам и агностикам всех мастей. Этот неконкретный ответ сегодня является максимально конкретным. Прагматическая скорректированность науки, ее нацеленность на сиюминутное «главное», которое понимается исключительно как «полезное» в плане исключительно телесно-психологическом, делает науку не инструментом познания, а инструментом приспособления к неспособности познавать. Строго говоря, современная «интеллектуальная» наука не является наукой в культурном понимании, которое определяет ее культурные функции, не является «разумной» наукой. Современная наука – это развитая наука культурных дикарей. Вот почему проклятье современной науки, создаваемой интеллектом, – имитировать науку, которая должна быть создана разумом. 145 ГЛОБАЛИЗМ КАК РЕЗУЛЬТАТ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА Когда «глобализм» (в самых разных контекстах) определяют как тему для серьезного разговора, это не может не вызывать улыбки, ибо в попытке структурировать «глобальность» присутствует некий момент философской наивности. Все знают: обо всем – значит, ни о чем. Укротить бесконечность – это так заманчиво, хотя и маловероятно. С другой стороны, если в серьезном разговоре сегодня вы пытаетесь обойтись без «глобальных интерпретаций», то заставите улыбнуться коллег уже по другому поводу: наивно решать главную проблему, всячески избегая ее упоминания. Табу на сущность – это не лучший способ научного постижения. Так или иначе «глобализация», «вызовы современности» – едва ли не самая распространенная, если не сказать модная, тема круглых столов, конференций, а также иных представительных форумов. Вот почему из уважения к читателям я позволю себе некоторую наивность, полагая, что в ней присутствует известная искушенность. Под глобализацией, которая непременно оборачивается «вызовами современности», одни имеют в виду проблемы морально-социального порядка, такие, как нарастание религиозной и расовой нетерпимости, следствием чего является, в частности, распространение терроризма; как глобализм и сопутствующие ему экономические и экологические проблемы. В этом случае, в случае абсолютизации социогенных факторов, часто оперируют такими понятиями, как народ, славянский мир, нация, человечество, самоидентификация и т.д. Другие под вызовами современности, приведшими к глобализации, разумеют прежде всего противоречивую природу человека, так сказать, акцентируют «человеческий фактор» или факторы антропогенные. Здесь главной становится проблема разумности homo sapiens’а: способен ли человек разумно контролировать свое поведение, саму жизнедеятельность или все наше существование так и сведется к бессознательному приспособлению, к бессмысленному противостоянию всех против всех, в котором (противостоянии) по иронии судьбы аутсайдеры завидуют счастливым чемпионам? Иными словами, проблему глобализации в глобальном плане сегодня можно представить как проблему точки отсчета: что перед нами: печальный результат сознательного освоения мира (познания) или триумф бессознательного приспособления? Мне как филологу полагается вспомнить что-нибудь по этому поводу из литературы, из фондов «разумного, доброго, вечного». Сегодня традиции классической русской литературы XIX в. воспринимаются как определенный эталон гуманизма. В рамках этих традиций вполне естественно и логично было верить в лучшее в человеке – и одновременно не скрывать трезвое 146 сомнение в том, что это лучшее жизнеспособно. При этом демонстрировать веру в лучшее считалось правилом хорошего тона, а не замечать оборотной стороны «благих побуждений» – проявлением дурного вкуса. Но никто не сомневался в том, что вера сильнее разумных сомнений. Просто неприлично было не считать себя гуманистом. Этот гносеологический парадокс – присутствие «зла» только стимулирует веру в «добро» – до поры до времени «дремал» в общественном сознании, не был востребован во всей своей противоречивой беспощадности. Считалось, что основа содержательности – это именно вера в человека. Человек – это звучит гордо: таков культурный итог XIX в. (при всех нюансах). Вера в человека фактически стала способом существования гуманизма, а трезвое сомнение – чем-то вроде гарантии объективности. Сегодня выяснилось, что содержанием веры являются не идеалы, а бессознательные установки, которые проявляются в форме идеалов (натура проявляется в форме культуры); именно бессознательное начало веры делает ее в большей степени феноменом натуры, нежели культуры, – феноменом психологии, но не философии. Содержание веры – чувства, порождающие идеи (такова технология процесса приспособления); это естественно (на начальном этапе духовного становления личности), но бессодержательно в культурном смысле. Следующий неизбежный этап информационного развития homo sapiens – идеи, результат отражения реальности, порождают еще более сложные идеи, структурируясь в системы систем, а чувства пассионарно «обслуживают» процесс познания, но не подменяют его, не превращают «процесс познания» в момент приспособления (как раз с точностью до наоборот, с диалектической точностью: момент приспособления включается в процесс познания). У «сознательного» гуманизма, который опирается на генеральные концепции – на законы, если угодно, отражающие объективную логику развития универсума, – появляется культурное содержание. Таким образом, существуют два типа гуманизма: гуманизм как феномен бессознательного приспособления к миру, и гуманизм как феномен научнопознавательного отношения. Первый выражает наши желания и хотения (благие, разумеется, кто бы сомневался), а второй является результатом адекватного отражения реальности. «Гуманистический» принцип «вижу то, что хочу видеть» приходит в противоречие с «бесчеловечным» принципом «вижу то, что объективно существует». И перед нами не просто проблема выбора (нечто из популярных коллизий плюрализма), а проблема выживания. Проблема выбора также оборачивается проблемой точки отсчета в информационном космосе: «сердцем» выбираем или «умом»? Из лучших побуждений можно выбрать гибельный вариант. Надо выбирать правильно. К сожалению, никакого плюрализма. Иными словами, такой милосердный и безобидный – сердечный! – принцип «вижу то, что хочу видеть, ибо хочу как лучше» в данном контексте становится попросту антигуманным. А у подлинного гуманизма, как выясняется, бездушное лицо научного закона. 147 Традиции классической русской литературы XIX в. опирались, конечно, на «ненаучный» гуманизм – на веру в широком смысле (в том числе – в познавательные возможности человека). И сегодня именем русской классики оказалось возможным превратить веру в гуманизм в нечто противоположное. Оказалось, что в рамках творческого освоения священных традиций можно верить в то, что ни во что не веришь, не изменяя при этом «принципам гуманизма» (содержание веры меняется, но не меняется бессодержательная константа: вера). Можно верить даже в то, что человек бесчеловечен, и если верить в это свято, то эта «правда» также украшает человека, поскольку выражает его стремление к истине, какой бы горькой она ни была. Наша слабость чудесным образом превращается в силу: в параметрах бессознательного освоения жизни возможны любые чудеса, любые диалектические превращения. В контексте приспособления диалектика становится инструментом, если не синонимом, чуда. Главное – правда, а правда есть то, во что веришь. Человек – это звучит сомнительно (гордо, великолепно, обреченно, страшно – кому что нравится). Неважно, как звучит, главное – чтобы самому нравилось (вот они, чудеса приспособления). Подлинная альтернатива, как видим, не «гордо» или «сомнительно», а – сознательно или бессознательно. Если точкой отсчета сделать культуру (разум), а не натуру (психику, вооруженную интеллектом), то человек будет звучать «разумно». Разум – это способность ориентироваться в логике бессознательного, противопоставляя ей логику сознания; интеллект – это инструмент «сознательного» продолжения логики бессознательного. Или: бессознательное – это интеллектуальное обслуживание потребностей тела и души; сознательное отношение, учитывающее, безусловно, императивы бессознательного, проявляется в ориентации на ценности культуры, на духовно-идеальное. И в «разумной» системе ценностных координат мы будем иметь дело с принципиально иной традицией – традицией познания. Бессмысленно выдвигать претензии русской литературе (ключевое слово в данном случае – литература, то есть способ бессознательного освоения мира) «от имени» познания и культуры. Блестящая плеяда русских классиков, возможно, стала великолепным и достойным завершением целого этапа в эволюции рода человеческого. Поживем – увидим. Великая русская литература в лице того же Ф.М. Достоевского начала «за здравие» – то есть начала с веры в человека; интересно проследить, как модифицировалась эта традиция (содержанием которой стало безапелляционное «за упокой»). Почитателей и последователей (в определенном отношении) Достоевского в европейской литературе оказалось предостаточно: Р. Вальзер, Ф. Кафка, Э. Берджесс, Э. Елинек, М. Уэльбек… Эльфрида Елинек, обладатель Нобелевской премии по литературе за 2006 г., в своем лауреатском романе «Пианистка» рассказала нам историю о том, как в человеке самым парадоксальным (читай: страшным и гнусным) образом совмещается искренний, возвышающий человека интерес к высокому искусству – и проявления самого низменного в натуре, 148 превращающие человека в грязное животное. Сам факт совмещения такого рода является не просто скандальным, но порочащим культуру. Высшие культурные ценности создаются людьми с низменными наклонностями. В принципе, это примерно то же, что когда-то озвучила другая женщина, Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Однако фрау Елинек сделала иной акцент: у нее «сор», поэтический эвфемизм, означающий «нечто нечистое», превращается в жирную похотливую кляксу. Фройлян Эрика, героиня романа, играет «одной рукой на рояле разума, а другой – на рояле страсти». Эрика Кохут превращается в «пианистку» – то есть женщину, владеющую искусством извлекать волшебные звуки из музыкального инструмента, что только способствует превращению ее в заурядную самку. «Пианистка» превращается в некую формулу (культурную?), содержание которой выражается примерно следующим образом (слова самой Эрики): «Все мы люди-человеки, а потому далеки от совершенства». Перед нами уже не история, а метафора, обозначающая уродливое единство противоречий. «Пианистка» – роман о поединке, в котором творец одерживает победу, а человек неизменно терпит поражение. Эльфрида Елинек с пугающей честностью изрекла что-то мучительное на мучительную тему, но вот что именно? Она художественно озвучила великую банальность: культура не делает человека, натурпродукт, лучше. Не верьте культуре: это сладкий обман. Мы хуже, чем то, что мы делаем и на что мы способны. Натура и культура идут параллельным курсом, а если они пересекаются, то натура всегда побеждает культуру. Вот почему в романе много грязи, много злачных мест, похабных картинок и сомнительных для достоинства человеческого ситуаций. Действие романа, покрытого паршой, из-под которой пробивается золотая парча изумительных музыкальных узоров, часто разворачивается в туалетах, куда персонажи спешат прямо изза рояля то по малой нужде, то по большой, а то и по великой. Человек раскачивается на качелях от натуре к культуре. Это называется жизнь. Имеющий глаза да увидит. Аминь. Такого рода откровения становятся способом изживания страхов. С точки зрения писательницы, честной и искренней женщины, кто бы сомневался, натура сильнее культуры, и по-другому быть не может. Почему же Нобелевский комитет с таким восторгом увенчал банальные женские страхи и откровения престижной премией? Почему это должно радовать современного читателя? Сегодня, в эпоху, когда бал правит бессознательное, модно и престижно бояться самих себя, и на роль «культурных героев» в такой ситуации как нельзя лучше подходят «писательницы» и «пианистки». Человечеству предлагается думать душой и смело отбросить «разумные предрассудки». Сегодня истина глаголет устами женщины, а для женщины истина – страх перед культурой. Боишься, но признаешься в своей «слабости» – значит, проявляешь максимально доступную человеку силу. Аплодисменты. 149 А что потом? Ведь культурная перспектива объявлена сладким обманом. Куда идти? По замкнутому кругу? Назад, в пещеру? А разве это важно для человека, ощущающего свою силу? Живы будем – не помрем. Или, как говорила героиня одного фильма, об этом я подумаю завтра. Хочется добавить: когда будет поздно. Между прочим, легализация отнюдь не отрадного статус кво – культура дана человеку затем, чтобы осознать свое ничтожество – вовсе не так безобидна, как могло бы показаться. Она означает, что и впредь природная, социальная и духовная жизнь будет регулироваться способами природными, преимущественно силовыми – мужскими, которые так не нравятся женщинам, особенно тем, кто подался в феминистки, то есть в мужланши. Это значит: кто сильнее – тот и прав (великий демократический принцип). Иными словами, завтра снова война, ибо дискриминация культуры сегодня фактически означает объявление нескончаемой войны. Война, истребления, погибель как способ существования homo economicus`а – это нормально. Практически законно. Продление политики, которая является продлением экономики (а экономика есть не что иное, как продление чистейшей воды природной, бессознательной – силовой! – регуляции), военными средствами. Эпоха познания в форме бессознательного приспособления ищет и находит адекватное художественное воплощение. Женщины, дающие жизнь затем, чтобы ее сохранять, оказались в авангарде движения, угрожающего жизни! Такова плата за «честность» и «искренность» не способных мыслить, а потому верующих – в данном случае в то, что человек – это звучит грязно. Я не сказал, что Эльфрида Елинек плохая писательница; строго говоря, неважно, какая она писательница; важно то, что ее сегодня предлагают считать образцовой, эталонной. Я о точке отсчета. Именно точка отсчета – культура или натура? – и является подлинной «точкой пересечения космических трасс», точкой, где формируется человеческое измерение, сама информационная природа гуманизма. Любые глобальные параметры берут начало в этой едва ли не виртуальной точке отсчета, которая всегда находится везде. Психика и сознание: чем не способ укрощения дурной бесконечности? Психика и сознание: чем не способ прогнозирования и предотвращения любых глобальных катаклизмов? Психика и сознание: чем не инструмент перехода к эпохе сознательной, культурной эволюции (революции – это способ бессознательного разрешения противоречий)? Подведем итог нашим нелитературным рассуждениям. Глобализм с его нынешней симптоматикой и проблематикой – это результат бессознательной деятельности человека. Иначе говоря, глобализм – это проблема цивилизации, но не культуры. Экономика, политика, художественная практика, религия, и даже в значительной степени наука, представляют собой формы бессознательной деятельности человека. Именно так: наука и культура в условиях глобализации обслуживают бессознательное приспособление к миру. Социогенные факторы (проявление коллективного бессознательного) становятся следствием первопричины – фактора антропогенного. 150 Бессмысленно ругать глобализм – так же бессмысленно, как жаловаться на плохую погоду, жестокость крокодила или угрозу тайфуна. Это природной явление, стихийное бедствие. Надо понимать природу явления – тогда только можно эффективно ему противостоять. Что значит вмешаться в бессознательную деятельность сознанием? Это значит понимать, что бессознательную природу человека не изменишь; с другой стороны, если не развивать сознательную составляющую человека, превращающую его в личность, мы рискуем глобально исчезнуть. Следует осознать, что глобализм существует потому, что это выгодно – тем, кто преуспел в бессознательном освоении мира. Рыночные отношения и демократия (а также религия, секс и национализм) – это инструменты глобализма как вершины цивилизации (читай: бессознательного типа отношения к действительности), инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры натуры. В основе глобализма – закон джунглей: «выживает сильнейший», «подтолкни падающего» или «кто сильнее – тот и прав». Кому что нравится. В полном соответствии с демократическим плюрализмом как одним из самых агрессивных проявлений бессознательного. Гуманизм глобализма – это миф, призванный придать апокалипсису человеческое лицо (вот оно, проявление бессознательной ориентации на культуру!). К сожалению, соглашаясь с постановкой вопроса о глобализме как вершине развития цивилизации, как о досадном, но неизбежном, следствии тотального прогресса, этаком темном коридорчике, выводящим к просторному светлому будущему, мы подыгрываем разрушительному бессознательному и volens nolens участвуем в поддержании бессознательного режима функционирования «культуры». Собственно, препятствуем развитию культуры. Человек не стремится к превращению в личность и на вполне легальных «культурных» основаниях остается законопослушным потребителем. Одно из главных прав человека, гарантированных глобализмом, – право не становиться личностью; и человек с удовольствием пользуется правом презирать личность в себе. Вот точно и локально обозначенная проблема: проблема перехода от цивилизации к культуре – это проблема перехода от психологического к разумному типу управления информацией. От человека – к личности. При этом ожидаемое сопротивление психики, вооруженной интеллектом, видится как почти непреодолимое. Глобализм в этом контексте – это всего лишь небольшая составляющая действительно глобальной проблемы перехода от цивилизации к культуре. Такова проблема человека и, следовательно, глобализма в информационной плоскости. Что такое универсальные ценности глобализма как завершающей (на сегодня) стадии цивилизации? Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно 151 (разумно)-психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции. В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности (вера, истина, красота, счастье, свобода и т.п.) имеют три измерения. Только один пример. Существует свобода на уровне тела, душевно-психологическая свобода (в том числе социальнопсихологическая) и свобода порядка духовного (информационная основа которой – разум, а форма – философия). Так вот, и политическая, и экономическая, и религиозная свобода – это варианты свободы психологической. Это все свобода выбирать (реализовывать) потребности тела и души. Свобода «думать» брюхом. Необходимый, но явно недостаточный компонент свободы, если принять к сведению, что каждый человек потенциально мог бы стать личностью (человеком разумным). Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь диалектически подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телеснопсихологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода политическая и экономическая становятся условием реализации главной свободы. Политическая и экономическая свобода становятся для личности фоном, вторичной потребностью (важной, безусловно, но не главной: вот что главное). Свобода психологическая часто выражается как нежелание осознавать себя личностью. Именно такие люди политически наиболее активны. Чем меньше человек свободен разумом, тем больше он выступает за свободу на уровне политическом. Такова плата глупца за свободу выражать свою зависимость от брюха. Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу (равно как и все остальные ценности) исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую, и необоснованно придает ей статус универсальной ценности. Глупый человек не может быть свободным, но хочет им казаться. Все лозунги цивилизации рассчитаны на свободных дураков, ибо сама цивилизация есть продукт находящейся в свободном полете глупости. Свобода личности подразумевает свободу дистанцироваться от политики и экономики (настолько, насколько это возможно в реальной жизни). Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте информационном). В таком своем качестве она превращается в универсальную ценность. Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека. Это ценности цивилизации, но не культуры. В данном контексте говорить об универсальных ценностях глобализма (читай цивилизации) не 152 приходится: их попросту не существует в природе. Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: цивилизация или культура? Человек или личность? Homo economicus или homo sapiens? Субъектом цивилизации является человек, забота цивилизации – «права человека», основанные на его потребностях. Отсюда и возникло то, что только и могло возникнуть: общество потребления. Обратим внимание: о правах личности в эпоху цивилизации не говорят, потому что личности, субъекта культуры, сегодня, по существу, нет. Таким образом, говорить можно только об универсальных ценностях культуры, но никак не цивилизации. Глобализация – это попытка объединить человечество не на универсальных ценностях, а попытка, по существу, ликвидировать само понятие «универсальные (высшие) культурные ценности». «Свободных» людей под их нескончаемые аплодисменты загоняют в потребительский рай, который на поверку оказывается первым кругом ада. «Славянский мир» (обратимся к актуальной теме) в контексте глобализации обречен превращаться в «славянское сопротивление», чтобы не превратиться в «славянский миф». «Славянский мир» как общность, существующая на основе коллективного бессознательного, может сохраняться и развиваться только в силовом противостоянии (слово война даже произносить не хочется) иному коллективному бессознательному. Закон джунглей не предполагает иной стратегии. И закономерность здесь такова: чем больше бессознательного – тем сильнее, сплоченнее социум. Отсюда и рецепты спасения славянской (как и любой другой) цивилизации: наша религия, наш уклад жизни, наш спорт, наш симметричный политический ответ, укрепление нашей экономики. Конкурентоспособное славянство – это, увы, «мир» минус «личность». Приходится считаться с тем, что низкое качество людей определяет высшие ценности жизни. В эпоху глобализации уничтожается не славянский мир, а культура (хотя славянскому миру от этого не легче: он как самобытный сегмент цивилизации уничтожается попутно, походя). Мы враги сами себе настолько, насколько включаемся в «глобальную» гонку (хотя тот, кто в ней не участвует, просто не состоится как субъект культуры). Однако не глобализм является рецептом спасения человека, который может выжить только как личность. Людей может и должна объединить не глобализация, а борьба с глобализацией, то есть необходимость отстаивать универсальные культурные ценности. Отсюда следует: хотим сохранить «славянский мир» как мир культурных ценностей – мы должны думать о культуре. Славянам, в частности, русским, такая, научно корректная постановка вопроса, выгодна, если хотите. Почему? Русский – это тип отношений, где преобладает регуляция не «от ума» (умом – не понять), а «от души», от широкой и размашистой душеньки, где стремление к справедливости важнее принципа сиюминутной, и даже долгосрочной выгоды. Жить «от души» – значит от психики с ее 153 главенствующим императивом «приспосабливайся, а не преобразовывай, верь, но не познавай». Вот почему поверхностный прагматизм как религия глобализма так тяжело прививается на нашей почве. Бессознательное бессознательному рознь (отсюда и противостояние): в европейском «рационализированном» бессознательном отчего-то меньше гуманизма, которым мы не перестаем удивлять весь цивилизованный мир. Однако широкая душа – это уже умная, чуткая душа, в какой-то степени опробовавшая узду рефлексии, уже догадывающаяся, что ум и есть условие сохранения и развития души, а потому тянущаяся к разуму и одновременно презирающая его «логику». Вот такое смутное пограничье, маргинальность при отчетливой доминанте все же иррационального («азиатского», «скифского») начала и есть русский путь и русский способ освоения действительности. Если его опоэтизировать, то получим «Россию – Сфинкс», в которую «можно только верить» и т.д. Если вы не в силах понять, европеец вы или азиат, значит вы русский. Русские интуитивно не боятся культуры, не слишком опасаются культурной конкуренции, ибо доказали свою состоятельность в культурном отношении; возможно, они ощущают свою генетическую (природную) предрасположенность к существованию в культурном пространстве. Еще и по этой причине путь в культуру – это наш путь. Традиции классической русской литературы XIX в. создали определенный эталон гуманизма. Путь в культуру не в последнюю очередь лежит через классическую русскую литературу – через сознательное освоение бессознательно сотворенных традиций. 154 ЗВЕЗДА ПЕНТАГОН Рынок, демократия, религия, секс, национализм – это инструменты диктатуры бессознательного, диктатуры натуры, с помощью которых, однако, цивилизации удалось создать не пользующиеся авторитетом высшие культурные ценности. Целых пять китов, на которых покоится цивилизация, стремительно входящая в штопор глобализма. В принципе хватило бы первых три позиции, и дело свелось бы к классическим трем китам. Но пять лучше: у пятиконечной Системы появляется внутренняя противоречивость, гарант устойчивости. Пятиугольник легко принимает форму замкнутого круга (он же круговая порука, он же круговая оборона, он же тотальная агрессия: на выбор). Перед нами вписанная в пять углов звезда Пентагон, украшающая древо цивилизации, похожее на пирамиду или рождественскую ель. Итак, рассмотрим все пять позиций по порядку. 1. Рынок. Почему на рынке, на базаре правилом хорошего тона считается торговаться? Принято ссылаться на традиции; специалисты утверждают, что в Коране даже есть страницы, где недвусмысленно указывается на необходимость торговли, коммерческого диалога, который является не только знаком взаимного уважения, но и едва ли не роскошью человеческого общения. Словом, базар – это любезное сердцу место, где принято торговаться. Иначе говоря, диалог уважаемых продавца и покупателя трактуется как социокультурная традиция. Думаю, дело обстоит несколько иначе. Что значит торговаться? Навязывать свою цену на товар. Если ты сумел сбить или завысить цену, проявив при этом психологический напор, агрессию, изворотливость хитрющего беспринципного интеллекта (единственный принцип – деньги не пахнут), ты продемонстрировал силу, которая выражается уже в определенной сумме. Сила дорогого стоит; собственно, стоит денег. Тебя есть за что уважать: за жизнеспособность, за умение захватывать жизненное пространство. Получается, что тебя уважают за то, что ты – слава Богу! – не способен стать культурным. Человек торгующий – это богоподобный человек, ибо он ведет себя по образцу и подобию Всемогущего Господина: выстраивает отношения с миром с позиций абсолютной силы. Все дело в силе. Деньги и торговля как способ их добывания – экономический эквивалент силы, а сила – решающий аргумент в эпоху культа бессознательных отношений. Вот почему умение торговаться стало одной из моральных ценностей homo economicus`а. Цивилизация сделала ставку на концепцию «человека экономического», homo economicus`a (культура же пока стыдливо ориентируется на «человека разумного», не понимая пока толком, фантом это или неизбежная перспектива). Этот экономический homo, если не считать нескольких антуражных Библейских заповедей, создан из двух прабиблейских канонов, сформулированных еще в 155 дописьменную эпоху и отражающих реальные потребности реального человека. Первый гласит: кто сильнее, тот и прав. Второй вторит: все на продажу (сильнее, разумеется, тот, кто посредством второй эффективнее реализовывает первую заповедь). Чтобы выяснить, кто на свете всех сильнее («чьи в лесу шишки?»), необходим такой инструмент, как демократия. 2. Демократия. Итак, культ силы, силовая регуляция всех отношений – экономических, политических, нравственных – вот «духовный» (точнее – волевой, более природный, нежели культурный) стержень человека цивилизации. Рынок – продление природной (силовой) регуляции, где деньги превращаются в эквивалент силы; однако «культурная», «духовно-правовая» легитимизация рыночных отношений начинается с политики, а именно: с высшей ее формы, демократии, при которой «простой» (то есть неспособный мыслить) человек свободным волеизъявлением выбирает отчего-то исключительно рыночные ценности. Никогда не ошибется. Ему подсказывают сердце и желудок. Демократия – это возможность для сильного жить за счет слабого. Своеобразный гуманизм демократии можно увидеть в том, что бесчеловечный принцип «побеждает сильнейший» (отчасти, согласимся, справедливый принцип) распространяется на всю парадигму социальных отношений и принимает форму «честных» правил игры. Демократия – это проекция природных отношений на социум, своеобразный социальный дарвинизм, «гуманитарная» аранжировка базовых (природных) потребностей. Демократия создает и поддерживает оптимальную среду для развития рыночных отношений. Демократия не могла не появиться; если есть рынок – рано или поздно появляется и демократия. Рынок содержание отношений, демократия – форма. Вот почему демократия выгодна сильным в первозданном, природном смысле (а кажется, что выгодна самой культуре), она стоит на страже интересов рыночных чемпионов, и никто в такой мере, как сильные мира сего, не заинтересованы в том, чтобы демократия торжествовала во всем мире. Экспорт демократии, проходящий по статье «благие намерения, то бишь гуманизм», становится формой агрессии (все той же диктатуры натуры). Демократия – это возможность для одного представить базовые (прежде всего – экономические) потребности всех людей в таком выгодном для них свете, чтобы они доверили ему представлять свои интересы на политическом уровне. Америка – страна образцовой (безо всякой иронии) демократии. Именно в Америке возможности демократии реализованы с впечатляющей полнотой. Америка сделала ставку на витальные и обслуживающие их ментальные (не культурные) потребности человека (см. ниже два «глобальных» заповедных канона, основу нынешней транснациональной идеологии – глобализма). Это естественно и по-своему правильно – в том смысле правильно, в котором лев пожирает антилопу. Но она исключила из потребностей человека права личности – и это катастрофа. Демократия 156 сегодня плоха не тем, что неэффективно обслуживает права человека, а тем, что делает это с пугающей эффективностью – тем, что обслуживает потребности натуры, а не культуры, homo economicus`a, а не homo sapiens`а. Отсюда и все большее разочарование в демократии на фоне экономических триумфов и того «железного» факта, что противопоставить демократии вроде бы и нечего. Разочарование в демократии приводит к разочарованию в человеке. А действительно: что же можно хотя бы теоретически противопоставить демократии? Для этого, прежде всего, надо что-то противопоставить «рынку» как экономическому содержанию человеческих отношений. А тут и «выдумывать» ничего не требуется: сама жизнь (натура!) стихийно (бессознательно!) противопоставила стихии рынка идею регуляции (уже нечто из арсенала культуры); «цене», категории рыночной, уже давно противопоставили «ценность», категорию культуры. Проблема в том, что «рынок» пока регулируется, так сказать, в пределах и рамках своей первозданной функции, не утрачивая своей самотождественности. Где та грань, за которой количество перейдет в качество, – за которой «рынок» из содержательной категории превратится в инструмент диктатуры культуры и в новом своем качестве станет выполнять функции ограничения прежнего «рынка»? Вопрос в такой плоскости даже не ставится – ни в науке, ни тем более в общественном сознании. Это плохо. Однако вопрос в такой плоскости в принципе может быть поставлен (что мы сейчас и делаем) И это хорошо. Пожалуй, это единственная хорошая новость для рынка сегодня. Таким образом, предпочтительнее демократии на сегодняшний день, вопервых, желание выжить (а человек экономический, не станем питать иллюзий, будет стремиться заработать на всем, даже на отсутствии перспектив выживания: на гибели потомков можно неплохо погреть руки уже сегодня); во-вторых, демократии можно противопоставить потребности личности, человека культурного (разумного), которого успел-таки породить человек экономический. С точки зрения личности, лучше, гораздо лучше демократии – диктатура культуры. В общем и целом на сегодняшний день – это утопия, не станем лукавить. Тут можно было бы и закрыть вопрос, если бы не антиутопия, ставшая реальной перспективой нашей жизни: тотальное разочарование в самой идее демократического и, следовательно, рыночного мироустройства. Рост апокалиптических настроений сегодня очевиден. Человек экономический не спасет планету Земля. Он ее уничтожит, если уже не уничтожил. Потребительское общество потребляет само себя. Я, разумеется, не знаю, как следует осуществить диктатуру культуры, едва ли не эквивалент царства Божия на Земле. Уж, конечно, не коммунистическим методом, ибо диктатура пролетариата – это разновидность диктатуры человека экономического, которая сегодня осуществляется в форме демократии. Зато я отдаю себе отчет в следующем. Во-первых, тенденции развития человека (развития, подчеркну, а не 157 деградации), если взять многие тысячелетия его развития, – от натуры к культуре, от человека – к личности. Факт того, что с личностью пока не считаются, сам по себе еще не является аргументом в пользу того, что с личностью не будут считаться никогда. Во-вторых, если тенденция к реализации личностного начала не будет укрепляться, человечество с его демократическими иллюзиями попросту исчезнет. Боюсь, в скором будущем вопрос будет ставиться именно таким образом: или человек становится личностью, или человек прекращает свое существование. К обезьяне уже нет возврата; только вперед – к личности. А как же вера? Разве вера в человека, которая является производной от веры в Бога, ничего не решает? 3. Религия. В монолитной цепи «рынок – демократия» не хватает еще одного звена, превращающего жестокую, как палка, прямую в перспективный треугольник, легко принимающий форму круга, а именно: религии. Sic: рынок – демократия – религия. На этих трех китах (так и хочется сказать – на трех палках) держится цивилизация. Почему рынок и демократия непременно нуждаются в религии? Религия («духовность!») еще более очеловечивает рыночные (силовые) отношения, которые нуждаются в режиме демократии, – очеловечивает настолько, что вступает с ними в противоречие. «Не убий», «не укради» – это все ограничения в правах и возможностях сильного. В православии популярна притча о том, как торговцев изгоняют из храма Божьего. Казалось бы, религия едва ли не осуждает рынок. С другой стороны, суть западной версии христианства великолепно иллюстрируется лозунгом: «Иисус любит победителей». Иисус, вне всякого сомнения, обожает рынок и демократию, которые обожествляют номинацию «чемпион». На самом деле религия «духовно» освящает все то же бессознательное копошение, ибо вера, психогенный феномен, противостоит началу разумному (культурному). Не случайно на самой сильной валюте мира вытравлена надпись во славу Божию. «Мы верим в Бога», - написано на искусительном долларе со змееподобной эмблемой. Деньги (сила!) – это святое. И в прямом, и в переносном, и в самом что ни на есть сакральном смысле этого слова. Для людей, «мыслящих» в рыночных категориях (то есть бессознательно принимающих рыночную данность), деньги неизбежно превращаются в смысл и цель существования. Религия осторожно намекает, что деньги, на которых, кроме заверений в верности Богу, изображены, как правило, портреты политических деятелей (а надо ли специально оговариваться, что политика – это продление экономики, все тех же рыночных отношений?), это далеко не все, что раб Божий, то бишь человек, жив «не хлебом единым». Фактически же религия, любая религия, всего лишь корректирует рыночные отношения в сторону милосердия, ибо на корню отвергает культурную регуляцию. Именно гносеологическое отрицание культуры делает религию одним из столпов цивилизации. Религия – это нечто из области прав человека, но не личности. 158 Цивилизация буквально молится деньгам, ибо уповает исключительно на силу. Более разрушительного в духовном смысле инструмента представить себе невозможно. Однако есть и своего рода позитив. Если ты зарабатываешь «нечестным», неправедным путем, скажем, проституцией, наркотиками или войной (под предлогом экспорта демократии), но зарабатываешь при этом много, неприлично много денег (прикасаешься к святому, богоугодному, что ни говори), ты уже отчасти искупаешь свою неправедность. Человек, карманы которого буквально набиты сакральными бумажками, предметом грез всякого нормального человека, по определению не может быть исключительно отрицательным героем. Религия, согласимся, осуждает некоторые проявления рынка (и это косвенно свидетельствует о культурном потенциале вероучений); однако она живет и здравствует именно потому, что процветает рынок. Я не собираюсь утверждать, что существует только один источник возникновения религии – рынок. Сказать, что рынок заказывает идею Бога, было бы абсолютизацией в информационном космосе homo sapiens только одной его составляющей – homo economicus`a. Существует и другой, не менее (если не более) важный, источник возникновения религии. Гносеологические корни религии целиком и полностью – в сфере психологического управления. Как и всякая форма духа, религия не случайна, то есть она не могла не возникнуть. И возникла она как служба смерти, как «вздох угнетенной твари» (К. Маркс). Она паразитирует на страхе смерти, на действительной трагичности неразрешимых «экзистенциальных дихотомий» (Э. Фромм). И действительные сущностные противоречия предлагает разрешать «легко и приятно»: иллюзорным способом. Иначе говоря, религия есть способ духовной компенсации. Лично мне такая формула религии представляется исчерпывающей. И речь не о том, насколько мешают или помогают иллюзии жизни значительной части населения Земли. Речь о соответствии типа духовности, создаваемого религией, действительным потребностям реального человека, о роли религии в выработке действительно достойных духовных программ. Религии есть на что опираться в структуре сознания человека. Потребность в психологическом приспособлении всегда будет гнать человека под защиту «высших сил». Однако с точки зрения теоретического (научно-философского) сознания, управляющего идеологическим, никаких особых философских проблем с религией сегодня нет. Все сакральные манипулиции – чисто психологического свойства (от потребности), и идеологичность религии легко объяснима. Истинная проблема религии – в ее своеобразной амбивалентности: теоретической несостоятельности и одновременной глубокой практической укорененности в жизни. И здравый философский смысл говорит нам, что невозможно ограничится теоретическим разрешением проблемы, у которой множество иных измерений, нравится нам это или нет. 159 Амбивалентность религии, равно как и амбивалентность всех прочих инструментов диктатуры натуры, объясняется тем, что натура (в интересующем нас контексте – психика) «тянется» к культуре (к сознанию), эволюционирует в сторону культуры. От низшего – к высшему; от простого – ко все более сложному; от формальной логики – к диалектике; от системного мышления – к целостному; от психологического приспособления – к разумному пониманию (познанию). Более того, логика, и даже закон информационного развития (закон сохранения информации) гласят: натура неизбежно порождает культуру и так же неизбежно видит в ней своего смертельного врага. Благодаря религии, принципиально оппонирующей рынку, рынок и демократия приобрели гуманитарную респектабельность, «культурную» легитимность и «перспективу». Иной, «лучший» мир, судя по всему, уже не за горами. 4. Секс. Казалось бы, странно говорить о сексе, о сексуальных потребностях в контексте религиозных предписаний, особенно строго осуждающих плотские проявления человека. «Не прелюбодействуй!», «Не пожелай жены ближнего своего!»: эти библейские слоганы стали моральными императивами. Попытка обуздать коллективным бессознательным индивидуальное – налицо. Однако рынок и демократия, опираясь на иной тип коллективного бессознательного, несколько иначе относятся к сексу, товару исключительно и вечно прибыльному. Святому, потому что грешному. В связи с амбивалентными характеристиками компонентов пентагона интересно было бы рассмотреть тему сексуальности. Строго говоря, весьма органично раздвигает треугольник до четырехугольника (который еще ближе по своей геометрии к кругу!) еще одно производное от сакральной триады: секс, наиболее актуальная идеология (светская религия) эпохи. Культ силы и секс – близнецы-братья. Тут вот что бросается в глаза: для человека экономического, который холит и лелеет свои базовые потребности, тема «про это» стала едва ли не культовой. Виноват: именно культовой, безо всяких оговорок. Пожрать, поспать, поселиться (хлеба и зрелищ, как говаривали в старину) – вот ценностный ряд «маленького человека», думающего брюхом и подбрюшьем, активно потребляющего. Без этой темы нет демократии; можно сказать, демократия в принципе не представима без эротики и секса, поскольку ее герой, homo economicus, «думает» тем самым лобным местом. Потребление, удовольствие – его религия, и секс в этом контексте становится вещью едва ли не сакральной. Истинный демократ чтит «Библию» человека экономического с ее золотым аморальным правилом: кто сильнее, тот и прав. Даже маленькие слабости большого человека должны быть проявлением его силы. Вот почему для него любовь сводится к сексу, а секс – к проявлению силы. Секс становится органическим продолжением демократического (силового) мироощущения и миросозерцания; если угодно, секс становится атрибутом идеологии – идеологии потребления, конечно. В политике инструментом 160 демократии становится война, в интимной жизни – завоевание дамских сердец, то есть психологический напор, органично переходящий в насилие, агрессивный, животный секс. Отсюда и фронтовая лексика записных сердцеедов: любовный фронт, любовные победы, любовные поражения, сразить наповал, взять штурмом неприступную крепость… Иметь кого-то, вступать с ним в половой контакт – значит, угрожать комуто, посылать его в сторону смерти. Секс как проявление насилия: это очень естественно и органично. Мы имеем дело все с той же диктатурой натуры. Вот почему образцовый демократ должен быть сексуально озабоченным, в противном случае это сомнительный демократ. Война (в широком смысле насилие) и секс – два главных, неразрывно связанных между собой мотива, присутствующих там, где торжествуют рынок и демократия. Кстати, спорт, сублимация военных действий, буквально кишит секс-символами, столь любезными цивилизации. В искусстве цивилизация предпочитает культивировать образ блондинок. Сексуальная революция парадоксальным образом не угрожает религиозным умонастроениям (а религия, в свою очередь, не в силах запретить сексуальную революцию): это ли не лучшее доказательство торжества рынка! Более того, сексуальная революция нуждается в религиозном возрождении и обновлении: одно проявление бессознательного, сексуальное, уравновешивает другое, моральное, и политика сдерживаний и противовесов вновь позволяет Системе (диктатуре натуры) обрести известную устойчивость. Кажется, устойчивость вечную. Здесь даже богомерзкий гомосексуализм особо никого не смущает. Демократия и гомосексуализм – стороны одной монеты (той самой, что особо ценится на рынке). Отношение к гомосексуализму стало буквально тестом на демократичность мышления и поведения. Хочешь прослыть недемократом – усомнись в гуманизме гомосексуального движения. Религия, вроде бы, против; однако однополые браки уже начинают освящать. Однополая любовь (точнее, секс; любовь – это уже категория культуры, а не натуры) – явление не в последнюю очередь экономическое и, следовательно, политическое. А от политики не может себе позволить отмахнуться даже религия. Приходится демонстрировать гуманизм (модус которого – бесконечная толерантность, граничащая с беспринципностью) по отношению к аномальным проявлениям человека. В известном смысле сторонами той же монеты являются демократия и феминизм. Почему феминизм является законнорожденной дщерью цивилизации – и именно той ее стадии, которая называется капитализм, – и при этом выдает себя за дочь культуры? Феминизму непременно хочется быть царского, высокородного происхождения. Доминирующие отношения при капитализме – экономические, что означает: в человеке как существе информационном, в основном, задействован уровень телесно-психологический, низший, поскольку есть еще и высший, духовный. Человек как субъект экономических отношений, то есть потребитель, «честно» сведен (урезан) до эффективного удовлетворения 161 базовых потребностей. «Лирика», «истина», «философия» и всякая прочая духовная чепуха, которая не имеет отношения к витальному, к выживанию, попросту перестала интересовать цивилизацию на высшем этапе ее развития. Капитализм, представляя собой новейший вид тоталитаризма (по сравнению с которым все до него существующие деспотии – если не сущий пустяк, то уж точно детский уровень), ограждает человека от самого себя, не позволяет человеку превратиться в личность. Препятствует его полноценному информационному развитию. Капитализм сделал человека врагом самому себе – не злонамеренно, конечно, а всей совокупной логикой отношений. Как в природе, так и в логике общественных отношений виноватых нет; есть бессознательное освоение жизни и приспособление к ее законам. Навязанный человеку образ жизни, объем взваленной на него обязательной для эффективного функционирования в социуме информации, необходимость весь свой информационный и энергетический ресурс поставить на службу выживанию (когда, как известно, не до жиру духовного), сама «культура цивилизации», наконец, – глубоко и принципиально некультурны. И это, как ни парадоксально, является сегодня формой сохранения жизни (другой попросту нет), поэтому выступать против цивилизации – значит, бороться с жизнью. Делать это следует весьма и весьма разумно. Логика развития цивилизации подвластна законам, здесь нет, строго говоря, персонально виноватых. С другой стороны, логика развития цивилизации неизбежно должна привести либо к преодолению ее «информационных перекосов» – либо к погибели всех и вся. И здесь уже персональная познавательная активность весьма и весьма кстати, ибо фатального наличия позитивного сценария с неизбежным хэппи эндом в природе не существует. Присутствие законов – это не наличие предопределенности, а наличие вероятностей. Известно: закон что дышло: его необходимо «повернуть» в нужную сторону, то есть в необходимом объеме учесть «порядок вещей». Отменить нельзя, а учесть можно и нужно. Настораживает всеобщая вера в некий отдельно от человека существующий «разумный порядок», который как-то счастливо оберегает своих неразумных детей от роковых необратимых ошибок. Это и заставляет в разумной форме выступать против цивилизации – против враждебных личности техногенных, идеологических, экономических, экологических и иных перекосов. Итак, культура является сегодня факультативным признаком человека, которому (человеку) вовсе не обязательно стремиться к превращению в личность. Это немодно, неактуально, непрестижно и попросту глупо. Гораздо актуальнее и престижнее продемонстрировать витальные возможности (социума и, соответственно, индивида как члена подобного социума). В связи с этим начало женское, принципиально некультурное (потому что натурное, телесно-психологическое, бессознательное) получает в известном смысле идеальные условия для расцвета. Чтобы быть лидером цивилизации, надо быть женщиной. Надо быть человеком, не различающим «сознательный» и «бессознательный» типы управления информацией, «разум» и «интеллект». И пусть никого не смущает преобладание мужчин в политике и экономике 162 самых важных на сегодня сферах жизни. Это всего лишь усовершенствованные, наиболее эффективно выполняющие свои социальные функции женщины. Отсюда до идеологии феминизма рукой подать. Эта идеология не могла не появиться (вот он, закон!). Дескать, сама жизнь «доказывает» востребованность женщины. Оно бы и верно, только не «жизнь доказывает», а иррационально организованный мир, среда обитания человека. Феминизм в таком мире становится адекватной формой приспособления. У нас есть все основания сказать: у цивилизации женское лицо; более того, у нее женская природа. Вот почему феминизм стал идеологией не просто кучки замороченных женщин, он стал идеологией цивилизации. Идеологией власти. Вера в бессознательное природное начало, бессознательное отрицание культурных регулятивов – это в широком смысле феминизм. Скажем, мужской шовинизм небритых мачо – это вариант феминизма; литературоцентризм (и вообще культ художественного отношения к жизни) – феминизм; отрицание философии, лукавая ее подмена «художеством» – феминизм (несмотря на то, что творится подмена руками «умных» мужчин); власть над душой человека в принципе – феминизм. И в таком своем качестве женское отношение к жизни (феминизм) превратилось в главную проблему человечества; если угодно – в главную угрозу существованию человека. Таков сегодня модус глобального вызова: натура угрожает культуре с позиций феминизма. Мужчины могут противопоставить этому разгулу бессознательного культурное измерение – или превратиться в женщин, чтобы благополучно разделить с ними судьбу всего бессознательно существующего. Феминизм – это особого рода идеология, где натура доминирует над культурой, а кажется, что наоборот. А все дело в том, что интеллектуальная составляющая, будучи продлением психически-бессознательного, бессознательно же выдается за культуру, за разумное отношение. Утрата половой идентификации вообще и феминизм в частности есть адекватное и закономерное проявление сути цивилизации, которая так и не научилась различать натуру и культуру. Претензия феминисток сравняться в правах и возможностях с мужчинами – это, по существу, претензия уравнять в правах натуру и культуру. Еще точнее – обойтись без культуры. Это идеология власти, власти натуры. Только культура восстанавливает равенство полов перед лицом истины – то есть функциональное их неравенство, приводящее к равенству «по возможностям», к равенству перед лицом жизни. 5. Национализм. Хотите получить пятиугольник (полноценный, вросший в почву пентагон) – добавьте к сексу национализм. Культ силы и национализм – также близнецы-братья. Культура возникает там и тогда, где и когда «национальный код» (психологическое, бессознательное) служит способом выявления «кода общечеловеческого» (культурного, духовного); если национальный код становится самоценным, важнее общечеловеческого, то есть превращается из 163 формы в содержание, – перед нами натура, то есть та самая почва, на которой пышно взрастает идеология национализма. Национальное, иначе говоря, «вторично» по определению: вот почему оно так стремится объявить «вторичным» вненациональное, общечеловеческое. Перед нами классический комплекс неполноценности. Это, кстати, объясняет, почему любой национализм так легко совмещался и совмещается с фашизмом (гипернационализмом). Правота, природная правота националистов в том, что они испытывают чувство любви к «малой родине», к органике, к родному болоту, к «невыразимому и душевному» – к форме, иначе сказать; они не могут подняться выше чувств, становятся их рабами – они инстинктивно ненавидели и будут ненавидеть всякого рода «рефлексию» и «концепции», то есть то, что составляет содержание культуры. По-человечески это понятно (хотя и несимпатично); в культурологическом смысле – дремучий лес, преступление против истины. Национализм представляется им формой выживания, а они сами себе – борцами за жизнь нации. Героями. Однако борьба за свое место под солнцем, продиктованная правом сильного, освященная всем строем рыночных отношений, одновременно превращается в борьбу против культуры. Герои превращаются в антигероев. Просвещенный национализм (то есть идеология, признающая приоритет культурного, общечеловеческого), если без национализма в принципе невозможно обойтись, еще допустим; однако признание приоритета национального кода над кодом общечеловеческим (будь то добродушно-лапотный или агрессивно-скинхедовский варианты национализма) – это скрытый призыв к войне, к насилию, к пренебрежению высшими культурными ценностями. Любовь к родным осинам «дает право» националистам не думать, они правы уж тем, что неспособны мыслить. Как мило в XXI веке изображать из себя детей природы. Отсюда все эти камлания и мантры местного пошиба с бубном или без бубна. Кстати, националисты весьма религиозны – «культурны», на их языке. Для них нация, народ и Бог – в одном ряду. Можно сказать иначе: для них «с нами Бог» – примерно то же самое, что «держите вора». Национализм как феномен бессознательного неизбежно смыкается со всеми другими проявлениями бессознательного, как-то: рынком, демократией и далее по списку. Корень у них один: матушка-натура. Демократы и гомосексуалисты с феминистками просто обязаны выступать против национализма. Но как можно оставаться демократом и быть при этом против мягкого, просвещенного национализма? Кроме того, не забудем, что у национализма всегда есть чувствительный экономический аспект. Как запутано все на свете… Язык интернационального общения – это язык культуры, язык сознания. Не английский, не французский, не русский – именно язык культуры. Если национальная элита упорно разводит свой родной язык, язык ощущений, и язык культуры, язык понимания, она, в конце концов, ставит себя вне 164 «общечеловеческого» закона и обрекает себя на подпольное существование. А там, внизу, в пространстве виртуальном, но затхлом, у носителей вируса национализма рано или поздно формируется патологическая психология. Натура берет верх над культурой, и весь мир представляется скоплением вражеских (или дружеских, но чужих) племен. Нормально, когда люди стремятся к компромиссу; если они в принципе отвергают приоритет «наднационального» в иерархии культурных ценностей – это ненормально. Национализм на деле выступает формой самоуничтожения. Подведем итог. Рынок, демократия, религия, секс и национализм – вот способы порабощения личности, которые ее же и породили. Пятипалый пентагон – это инструментарий, с помощью которого нападают и побеждают, а также спасаются и терпят поражения – чтобы нападать и побеждать. Sic. Это, так сказать, плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что даже цивилизации не под силу отменить диалектику, непосредственно связанную с понятием прогресс. Цивилизация должна породить культуру, где торжествовать будет диктатура разума. Это можно было бы назвать верой, если совершенно отвлечься от технологии сознания. Однако сознание уже есть, и с этим неприятным фактом цивилизации придется считаться. Потрясающий парадокс: с одной стороны, все стремятся к экономическому процветанию, которое обеспечивается демократией, а с другой – происходит разочарование в самом существе демократии – под разговоры о том, что лучше демократии ничего не придумано. Этот парадокс свидетельствует о том, что человечество бессознательно дрейфует Бог знает куда, во всяком случае, подальше от того места, будь оно Востоком или Западом, где думают головой. Прячем голову в песок как нечто лишнее для жизни, на манер упитанных страусов. Вся надежда на информационную амбивалентность, в основе которой натурно-культурный симбиоз. И рынок, и демократия, и все прочие элементы общественного устройства – это всего лишь инструменты, способы достижения целей, и не надо превращать средство в цель. Такой невинный подлог не делает чести даже поэтам. Поменяйте точку отсчета, измените систему координат, по-новому осознайте цель – и та же демократия обнаружит свой культурный потенциал: она может стать способом утверждения диктатуры культуры. Таким образом, дело не в демократии, не в автократии, и вообще не в «кратии», а в умении мыслить. Дело в нашем отношении к культуре, а не в том, насколько эффективно мы включились во всеобщую гонку за лидером цивилизации. Сама номинация «лидер цивилизации», при ближайшем рассмотрении, оказывается не просто не престижной – она оборачивается формой аутсайдерства. Не торопитесь, а то успеете. Думаю, в ближайшем будущем человеку диктатура культуры не грозит; ему грозят такие цивилизационные (демократические, обратим внимание) последствия, как глобальное потепление, глобальное помутнение рассудка и, 165 боюсь, глобальная агрессия. Человек экономический честно обнаруживает свое натуральное лицо: другого у него нет. Демократия в этом контексте осознается не как альтернатива деспотии, а как прямой путь к апокалипсису. Беда в том, что человек духовный (разумный, культурный) пока не стал точкой отсчета для общества, и неизвестно, может ли ею стать. Пока все вокруг живут по законам джунглей (прообразам законов демократии): «каждый сам за себя», «война всех против всех» и «выживает сильнейший». Все мы в той или иной степени – увы! – американцы, поскольку живем и выживаем все в той же цивилизации и по законам этой цивилизации. И быть лидером цивилизации, повторим, не так уж и почетно, если разобраться. Почетно было бы быть лидером культуры, если бы эта номинация не была безнадежно утопической. Вот наша сегодняшняя дилемма: антиутопия или культурная революция? Собственно говоря, сам феномен глобализма, феномен то ли расцвета цивилизации, то ли выражения ее кризиса, то ли попросту фаза интенсивного цивилизационного распада, – сам этот феномен оказался возможен именно потому, что в должной степени не сформировалось отношение познания, в результате чего науки так и не обрели своего содержания, реального объекта изучения. Глобализм – феномен именно цивилизации, но не культуры, ибо содержанием процессов глобализации стало отсутствие культурного содержания. Вот почему «предметный» разговор в рамках отношения приспособления всегда беспредметен: он лишен объекта. Глобализм, по идее, вплотную подводит к осознанию феномена культуры. Однако цивилизацию и культуру разделяет не пресловутый «один шаг», а принципиально разное соотношение типов управления информацией. Cубъект цивилизации – индивид (кавалер звезды Пентагон), субъект культуры – личность. Сама цивилизация есть предмет (форма), объектом (содержанием) которого(ой) должна стать культура. При этом переход к культуре означает не исчезновение цивилизации, а появление у нее объекта, осознанного содержания. Пока что «духовное» содержание цивилизации определяют потребности индивида (homo economicus’a), то есть содержанием, с позиций личности и культуры (с позиций homo sapiens’a), является бессодержательность, «звезда Пентагон», вот почему доминирующей духовной и эстетической идеологией сегодня стал постмодернизм, где культ формы превратился в содержание. Постмодернизм, идеология индивида, протестующего против жесткого нормативизма социума, – это выражение диктатуры натуры, выдаваемое за высшие культурные достижения. Содержанием бессодержательной идеологии становится индивидоцентризм – культ ощущений (хотений, желаний), культ иррационального – следовательно, культ формы. Необходимо осознать, что глобализм существует потому, что это выгодно – тем, кто преуспел в бессознательном освоении мира. Пентагон – это инструмент глобализма как вершины цивилизации (читай: бессознательного типа отношения к действительности), инструмент диктатуры бессознательного, диктатуры натуры. 166 Если же перспективу духовного развития связывать с персоноцентризмом, последовательно ведущим к гуманизму, формой проявления которого вполне может стать диктатура культуры, то здесь все еще только начинается. Если выживем – то увидим. 167 А МОЖЕТ БЫТЬ, Я И РИФМУЮ ЗРЯ? Следующую цитату из моей работы 1999г. «Парамонов: «КОНЕЦ СТИЛЯ» – конец мышления?», посвященной культурологическому анализу нашумевшей книги философа Бориса Парамонова «Конец стиля», можно считать сквозным эпиграфом, данью культурной традиции; можно – приглашением к серьезному разговору; а можно – в самом феномене автоцитат (в широком смысле: цитат не только текстовых, но цитат из умонастроений, мироощущений, мировоззрений) разглядеть печальную траекторию «на круги своя», потому печальную, что культура роковым образом состоит из архетипов-повторений. «На круги своя» – это и есть очередной шаг вперед? «Вперед!» – возопил Сизиф и с восторгом покатился вниз? «Всякий очень культурный человек, а тем более человек, всю жизнь "по призванию" ковырявшийся на ниве культуры, не может не испытывать глубокого разочарования, глядя на выращенные им плоды. Даже у мастеров культуры – жалок результат, что уж говорить о рядовых тружениках, серых рыбах-с. Натурально, хочется плюнуть в морду культуре за профуканную жизнь. Культура – дура, вот и культуротворец чувствует себя в дураках. С кем поведёшься... «Что мне "это" дало?» – лежит в подтексте плевка. Чувствуешь – я бы семижды семи раз выделил это слово: не понимаешь, а чувствуешь – себя обманутым, словно жизнь, какая-то настоящая, завидно содержательная, прошла стороной, пока ты там ковырялся. «И вдруг мелькает мысль-заря: а может быть, я и рифмую зря?» Это Маяковский. А вот Парамонов: «Вопрос ставится: а зачем романы писать?» ("Рэпперы в Дарлингтон-холл"). Другая жизнь проходит на какой-то другой ниве. Возникает желание свести счёты, разоблачить грандиозную мистификацию («сама культура "карикатурна"», там же, в "Рэпперах"), а на эту благую цель жизни не жалко. Мне отмщение, как бы, и аз воздам. Такова логика чувств. Понимаешь-то совсем иное (если способен понимать: тут никакой репрессии): что никакого обмана и не было. Просто сама жизнь человека есть жестокая мистификация (по меркам человеческим, разумеется): вся культура есть отрицание белокурой бестии, но живёт эта самая культура именно за счёт бестиарности. Поняв закон жизни, ещё больше уважаешь культуру, ненавидя и любя. Словом, в своём святом гневе супротив культуры бывшие создатели культурных ценностей, культуртрегеры, оказываются в положении этаких шалунов: малыш уж отморозил пальчик (или там что-нибудь ещё), ему и больно и смешно. У него "вавка", рана, нанесённая культурой». Прошло целых 11 лет, а я с удовольствием подписываюсь под каждым своим словом. Но Сизиф, строго говоря, здесь не при чем; Сизиф, бледная художественная тень диалектики, – вообще пройденный этап, еще тогда, в Древней Греции раз и навсегда пройденный, и жалкая реанимация мифа Сартром стала не триумфом философии, а выражением все того же разочарования в культуре. Я подписываюсь под каждым своим словом, но вместе с тем под несколько иным содержанием. Что я имею в виду? Раньше я считал, что разочарование в культуре является чем-то вроде кратковременной «позорной» слабости, вызванной затмением рассудка, 168 которую приличным людям должно скрывать, по крайней мере – уж точно не выносить на публику, не разводить сырость-плесень при всем честном народе. Публичная слабость, кроме всего прочего, – смешна. Что может быть унизительнее и, следовательно, страшнее для человека с чувством собственного достоинства? Сегодня я считаю, что разочарование в культуре – удел именно преданных культуре людей, и это может быть проявлением силы, а не слабости. Иными словами, разочарование разочарованию рознь. Разочарование в культуре мыслящих людей, творцов культуры, по моему глубокому сегодняшнему убеждению, – весьма продуктивный и вовсе не надуманный культурный сюжет. Для начала: что есть культура? Это сознательное духовное движение от человека к личности в направлении ценностной триады «Красота – Добро – Истина», движение, которое не блокирует бессознательное в человеке, но перестает считать его непобедимым и фатально определяющим в делах человеческих. Тот, кто всерьез относится к культуре, не может сегодня не стать пессимистом (в разной, конечно, степени). Когда я сегодня слышу бодрые слова из сакральной обоймы – духовность! истина! совесть! добро! счастье! личность! литература!! писатель!!! – я начинаю нервничать. Дело в том, что я им не верю, этим правильным словам. Я воспринимаю их как циничную спекуляцию на святом. Сами по себе слова стали беспомощными, они утратили свой изначальный смысл, и если они произносятся как пустая мантра «по случаю», то становятся не защитой культуры, а издевательством над ней. Слова звучат не правильно, а прикольно. Речи дураков от культуры – это провокация. Те, кто верит в содержание слов и, соответственно, пытается жить в культурном пространстве, употребляют слова из культурной парадигмы с иной интонацией, в ином контексте – короче говоря, эти достойные люди говорят с болью и раздражением. Вообще стараются не произносить их всуе, ибо: в доме повешенного не говорят о веревке. Не принято. Хочется вспомнить известную цитату одного из наиболее одиозных и антикультурных персонажей новейшей эпохи, тотального ефрейтора: когда я слышу слово культура, рука моя тянется к пистолету. Это были наивные речи демонизированного романтика. Смешно, как рык Карабаса-Барабаса (сегодня, понятно, смешно; тогда было не до смеха). Лучшим пистолетом стала свобода, которая прежде всего оказалась востребована как свобода не быть личностью. Ефрейтор до мозга костей не мог себе даже вообразить подобного: не надо стрелять в культуру, достаточно просто перестать ее защищать – и массы, в интересах которых культура и затеивалась, сами расправятся с нею. Гибель свою культура приняла не от рук варваров, не в результате открытой войны против культуры, а посредством культурного завоевания – свободы (доставшейся, правда, в руки безмозглых варваров). Это ли не инфернальный сюжет! Творцы культуры со слезами на глазах отворачиваются от нее, а пустозвоны под барабанный грохот правильных 169 речей просто ее добивают. Как тут не обратиться к философии зла, которая сплошь и рядом рядится в философию добра, духовности, счастья... Думаю, разочарование творцов в результатах собственного подвижничества – это не персональная проблема. Точнее, это персональная проблема, за которой стоит универсальный закон, а именно: разочарование в культуре становится формой разочарования в человеке. Личность не верит в то, что у нее есть будущее. Вот почему бодрая барабанная дробь бойких культурдилеров и культуртрегеров – это гнусная смесь провокации, профанации и глупости, которая подается под соусом оптимистического елея. Иуда Искариот – просто Иисус Христос по сравнению с легионом штатных оптимистов. Чтобы двигаться вперед, чтобы культурный прогресс не останавливался, надо назвать вещи своими именами, а не наводить тень на плетень. Полоумный оптимизмо-пессимизм сегодня – это ментальная реинкарнация Сизифа. Это давно не свежий, то есть попросту протухший, оптимизм религиозного толка. Это не духовный акт личности, а именно бездуховный, бесознательный акт не умеющего думать человека – более того, презирающего сам акт мышления. Вера в культуру оборачивается неверием в человека: вот вам еще один инфернальный сюжетец. И об этом не стоит говорить с улыбкой на устах. Как минимум, это подло. Горькая улыбка – это совсем другое дело. ***** Можно вспомнить Льва Толстого, автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», «отрекшегося» от своих знаковых для культуры творений, от самой культуры и во имя народа опростившегося до азов. Это весьма поучительная история, современная притча, если угодно. Но Толстой временно отрекся именно от культуры в пользу темного, не достаточно просвещенного народа. И пошел его просвещать, чтобы повысить его культурный уровень. Народ достоин того, чтобы читать «Войну и мир», величайший роман всех времен – вот цель и сверхзадача подобного просвещения. Благородная, конечно, задача, слов нет. А я настаиваю: вектор «от личности – к народу, к простому человеку» можно и нужно трактовать как закон регресса культуры. Почему? Да потому что «от человека из народа – к личности» (от натуры – к культуре, от психики – к сознанию) является законом культурного прогресса, законом сохранения информации. Познавшие культуру, вынуждены принять к сведению и сопутствующее открытие: культура недоступна массам. Вырисовывается нехорошая альтернатива: предавать культуру – недопустимо, ибо она есть соль жизни; жить ее миражами – глупо, то есть некультурно. Как быть? Всякого усомнившегося поджидает роковой соблазн: а нельзя ли какнибудь, руководствуясь мыслями о сохранении культуры, эту самую культуру опустить, принизить, а духовный уровень народных масс чуточку 170 подтянуть? Наладить этакое встречное движение. К обоюдному удовольствию. Чтобы, как водится, и волки культуры были сыты – и овцы жизни целы (дабы не раздражать массы, формулу можно осовременить, так сказать, бросить массам кость: и волки жизни сыты – и овцы культуры целы). Хотя бы до известной степени сыты и целы. Чем не благое намерение, наиболее эффективный инструмент философии зла? Именно этот сюжет, как мне кажется, воплотил в своей жизни Л. Толстой, решивший, что приличный человек тот, кто «зависит от народа». Формула разочарования Толстого приблизительно такова: я верю в народ, и верю в культуру – но пока (временно, конечно) не верю, что культура может заинтересовать народ; следовательно, я должен сделать все возможное, чтобы максимально сократить космическую дистанцию между развитием народа и уровнем культуры, который достигнут благодаря личностям, вышедшим из народа, но оторвавшимся от него. Это романтическое кредо не сработало. Точнее, оно сработало, но вовсе не так, как рассчитывал культурный герой Толстой. Народ так и не читает, и вряд ли когда-нибудь станет читать блистательный и сложнейший шедевр «Война и мир». Почему? Еще чего. А зачем? Сегодня на смену мягкому, гуманистическому разочарованию Толстого, который, по сути, пенял, дидактическим пальчиком грозил сторонам экзистенциального конфликта, хмурясь в бороду (и всем было не страшно, а жутко весело), пришло разочарование жесткое и, похоже, тотальное. Повторю: вера в культуру оборачивается неверием в человека, а неверие в человека приводит к разочарованию в культуре; разочарование в культуре становится формой разочарования в человеке. Закон разочарования в культуре – это информационный закон, психологический и гносеологический аспекты которого живут своей отдельной жизнью. Психологически закон рядится в элегантные, классического покроя одежды добра: мы хотим как лучше, давайте жить дружно, возьмемся за руки, друзья – таковы программные хиты нашей не богатой на духовные искания эпохи. Гносеологически доброхоты пытаются «белой и пушистой» религии придать черты жесткой науки, а в злой науке (в той же философии, например) обнаружить колоссальный религиозный потенциал мягкосердия, радуясь предсказуемому результату: когда никто ничего не понимает, гораздо проще внедрять культуру в массы. Культура как высокий грандиозный обман: вот культурный и актуальный поворот темы. Говоря современным языком, культура превращается в проект. И тут уже все зависит не от личности и не от народа; все зависит от менеджера. Плохая, то есть неэффективная культура, – означает всего лишь: вам не повезло, попался плохой менеджер. Раскрутим слоганы, внедрим в массы, заразим их психозом милосердия – и массы помягчают, потеплеют, куда они денутся, родимые. Именно так: не хотят читать и думать – будем травить их милосердием. Мало не покажется. Пусть кормятся с руки фокусников, обращающих камни 171 в хлеба (то бишь культуру – в миражи и фантомы). Если их не победил Лев Толстой, их никто не победит. Значит – закормим. Долой культуру! Даешь хорошего менеджера, размахивающего хоругвями милосердия! Милосердие: вот ключевое слово, которое превратилось в беспомощное и лживое кредо приличного человека сегодня. Почему же беспомощное и лживое? Да потому что фактическая культурная капитуляция выдается за веру в высокую культуру. Я изо всех сил верю в то, во что давно уже не верю. Это что? Это фарс. Культура как проект – это фарс. Узнаете? То, что начинается как величаво-героическое неизбежно оборачивается фарсом. Закон культуры от менеджера. ***** В рамках проекта «культура как высокий грандиозный обман» противоречивым, хотя и внятно-враждебным, отношением к культуре помечены два околокультурных движения: во-первых, активная десакрализация культурных символов (отсюда с завидным постоянством нападки на Пушкина, начало которым в нашу эпоху было положено небезызвестными «Прогулками с Пушкиным»); во-вторых, активная сакрализация антикультурных символов (наиболее одиозное, конечно, – признание «Черного квадрата» искусством), демонстративное внимание к писателям второго сорта как к новым культурным героям (Сорокин, Улицкая и иже с ними). Кстати, упомянутая выше книга Б.М. Парамонова целиком и полностью посвящена десакрализации культуры (и одновременно сакрализации натуры, жизни). Разочарование в культуре становится не только признаком сегодняшнего культурного климата, но и стратегией, которая формирует наше счастливое массовое завтра. Наше счастливое избранное вчера, когда само сомнение в целесообразности культуры было принято выражать в форме аристократического недоумения, одним движением брови («или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?»), потому и кажется веком золотым, что народ и культура были разведены. Как только народ подпустили к культуре, «черный квадрат» стал искусством, Аполлон Бельведерский – голым дядькой. Печной горшок отдыхает. Философией разочарования в культуре, разумеется, становится философия зла. Дьявольсие козни – это козни психики, натуры, которая научилась прикидываться культурой. «Бог» в этом контексте полюсов становится проекцией разума, сознания, культуры, личности. Чем не концепция новой «Божественной комедии»? И никакого «сурового Данта» не надо, боже упаси; достаточно одной только неподражаемой госпожи Елинек, Нобелевского лауреата 2006 г. с ее кокетливой мантрой «человек – это звучит подло». Подлость, разумеется, 172 можно компенсировать только бессмысленным милосердием, чем же еще? Подразумеваем подлость – кричим милосердие. Чтобы никто не догадался. Типа «держи вора». Об этом, о жгучем милосердии, на все лады поет, в частности, современная птица Сирин писательница Улицкая. Народ читает и плачет, утирая сопли квадратиками носовых платков, на которые наколоты профили модного нынче Пушкина с гордо поднятой бровкой: «зависеть от царя? зависеть от народа?». Подлость вперемешку с милосердием – вот сермяжный лауреатский рецепт. И все, и уже аплодисменты в теплой зале с хрустальными люстрами, переходящие в овацию. Всем по Нобелю. Немедленно. ***** Тут самое время перейти на личности – то есть обратиться к себе, любимому. Хорошо, культура как проект – это плохо. Выходит, приличный человек, по-твоему (то есть, по-моему), должен остаться один на один с разочарованием в человеке? Один на один со своей никому не нужной честностью типа Истина? С Аполлоном? Пусть все провалится в тартарары – а я таки натешусь своей честностью приличного человека? Там, где абсолют, – там торг неуместен? Диктатуру желудка в панаме, набитого милосердием, диктатуру натуры сменить на диктатуру культуры? Или сгинуть – или пропасть? Или – или? Где позитив, алло? Зачем же тогда романы писать (это я о себе: я же романы пишу, не писал – а пишу, пописываю, не отрекаюсь)? Ведь роман – это культурный проект. Не так ли? А затем, что разочарование в культуре пока что является высоким ностальгическим переживанием, культурным по своему генезису, является категорией культуры, а не констатацией «медицинского» факта. Если бы я действительно разочаровался в человеке и, соответственно, культуре, то ни романы, ни эссе писать смысла бы не было. Смерть она и есть смерть: молчание. Далее – ничего. Реальное разочарование в человеке означает разочарование в жизни. Это в принципе невозможно, ибо не философское это дело – следовательно, антикультурное. Вот почему разочаровываться можно в чем угодно – это только на пользу культуре. В конце концов, разочарование в человеке становится мощным культурным импульсом, мощным фактором развития культуры. Сизифу и не снилось. В культуре, очевидно, важнее не чем ты разочарован, а чем очарован. Разочарование в человеке как мировоззренческо-психологический феномен, как клинический диагноз несовместимо с жизнью, и потому лишает разговор о культуре и человеке содержательности. Я вовсе не хочу сказать, что разочарование в человеке является неким игровым сценарием или продвинутым перформансом кучки интеллектуалов, 173 запущенным в производство с благой целью запугать народонаселение концом не только стиля, но и света. Глядишь, прозреет народ – и читать бросится сломя голову. Нет, разочарование в человеке не задумка культуры как проекта. Это реальное переживание, реальное мироощущение, у которого, к счастью, нет философских перспектив. Перспектив нет, а тупичок – есть. Ведь сердцу не прикажешь, верно? Разочарование в человеке «от души» – часть правды. Разочарование в человеке как мировоззренческий (культурный) акт – другая часть правды. Правда в целом складывается из понимания и ощущения того, что человек, ради которого хлопочет культура, аполлоническая ли, дионисийская ли, ее недостоин; но перестать хлопотать, опустить руки – уже недостойно культуры. Вот почему творцы культуры, очарованные или разочарованные, в принципе необходимы ради жизни на земле, нравится это человеку или нет. Если уж дело дошло до постановки таких убийственных вопросов «а зачем нужна литература? культура? личность?», то отвечать на них надо в культурной плоскости. Конец стиля (литературы, культуры) – это проблематика культуры. Дремучих представителей народа просят не беспокоиться. Право, не стоит отвлекаться от горшка. Из всего сказанного я бы сделал такой вывод: ни в коем случае нельзя понижать культурную планку ради народа, ради не испорченного культурой горшкового сознания. Народ этого понижения просто не заметит. Понижение обернется унижением культуры, только и всего. Напротив, во имя народа планку надо держать на недосягаемом уровне – чтобы не возникал соблазн подменять культуру народной культурой (культурой как проектом). Аполлона – горшком. Дело в том, что человек человеку – даже не волк; человек человеку – никто, он попросту не интересен сам себе, а уж другому подобному себе и подавно. Человек интересен себе только как личность – как культурное существо. Все эти разговоры о «повышении – понижении» являются ничем иным как выражением комплекса неполноценности личности, еще не достаточно развитого культурного существа. Человек, лукавое существо, спекулирует на том, что он не в состоянии стать личностью, что культура для него смерти подобна. Он прикидывается слабым, а личность при этом испытывает комплекс вины. Народ играет в свою любимую игру: битый небитого везет. Личность относится к человеку как к себе подобному – как к личности: вот где гарантия укорененности культуры в жизнь. Если культуру можно отменить без ущерба для жизни и человека – взять и отменить, схватившись за кобуру, виноват, за горшок, – ее нужно отменить. Если отмена культуры становится угрозой существования человеку, то нет надобности спрашивать согласия последнего. В таком случае культуру остается только развивать, невзирая на страх человека перед культурой. Можно сколько угодно потешаться над Пушкиным, но культура действительно не может «зависеть от царя» или «зависеть от народа». 174 Культура – это и есть подлинная свобода, ибо культура сегодня в меньшей степени зависит от натуры, нежели натура от культуры. Свободу обретешь в культуре, все остальные «проекты» – суррогат свободы. Компромисс между натурой (человеком) и культурой (личностью) надо выстраивать не за счет «опрощения» культуры, превращения ее в проект – то есть, прямо говоря, за счет ее уничтожения под видом «эволюции», а посредством совмещения сущностей. Чтобы и волки жизни сыты – и волки культуры целы, если так понятнее. Кто сказал, что высшие достижения в спорте, науке, культуре мешают жизни? Высшие достижения – это ориентир, идеал, а не руководство к действию. И в таком своем качестве они помогают жизни, точнее, они с жизнью заодно. Они и есть высшие проявления жизни. Бросишь камень в культуру – попадешь в жизнь. Больно будет. «Мы чемпионы» – это, прежде всего, гимн аутсайдеров. Им нужен такой гимн. Почему само появление личности и прав личности надо непременно воспринимать и рассматривать как угрозу человеку и его правам? Такое поведение человека подозрительно напоминает логику того, кто «рассуждает»: я прав уж тем, что не желаю становиться личностью. Это хуже, чем каприз; это агрессия. Петитом отмечу скверный нюанс: личность обожает мыслить, анализировать и объяснять, а человек все понимает по-своему: объясняет – значит, оправдывается. Любой диалог натура воспринимает как диалог правого и виноватого. Вопрос «кто виноват», понятное дело, давно решен: культура виновата, кто ж еще. Вот почему антикультурную постановку вопроса «как утилизовать культуру в интересах натуры» невозможно считать попыткой решить проблемы культуры. Вернемся к затерявшемуся в потоке рефлексии серьезному тезису: в культуре, очевидно, важнее не чем разочарован творец, а чем он очарован. Так вот разочарование в человеке – это модус сегодняшнего очарования культурой. Неприятно, конечно, через ненависть признаваться в любви – но что поделаешь! На зеркало неча пенять. Придется пока потерпеть культуру. Таким образом, разочарование в человеке – это, по идее, инструмент воздействия на человека с целью усовершенствовать несчастного хомо сапиенса как существо не только биосоциальное, но и отчасти духовное. Чем, опять же, не благое намерение? Вполне. «На круги своя» – это и есть очередной шаг вперед? Зачем же так по-сизифовски обреченно? Теоретически все не так безнадежно. Проклятие Сизифа снимается достаточно просто: другим качеством мышления. Умный в гору не пойдет, сколько ж можно... Данные заметки имеют отчетливую культуроцентрическую (персоноцентрическую) направленность, которую автор разумеет как последовательный европоцентризм, непременно включающий в себя элитарность и аристократизм. Сегодня заметным культурным достижением является уже постановка проблем (тот печальный факт, что все 175 проблемы такого рода априори получают статус нерешаемых, уже не вызывает удивления; да что там – попросту не принимается в расчет). К постановке проблем культуры как проблем выживания человека, чуждого культуре, в меру сил и стремился автор эссе. Собственно, для себя я нашел путь к решению этих проблем. Если комунибудь интересно, мой ответ таков: не зря. Возможно, это вызов. Не зря. Октябрь 2010 176 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКОНЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В гуманитарных науках нет законов, если не считать законом то, что в них почему-то нет законов. Однако законы диалектики – закон единства и борьбы противоположностей, переход количества в качество и закон отрицания отрицания – функционируют в качестве таковых и в гуманитарных науках, в сфере, где как бы нет законов. Уже одно это обстоятельство должно заставить исследователей попытаться отыскать частные проявления общих законов диалектики. Общее всегда проявляется через частное, универсальное – через уникальное, закономерное – через случайное, сущность – через явление: это закон целостности (модус или частное проявление закона единства и борьбы противоположностей). Как фантомная абсолютная истина задаёт реальное содержание истинам весьма и весьма относительным, так и общие законы диалектики «программируют» наполнение законов частных, гуманитарных. С появлением «воли к методу», и, вследствие этого, с возникновением перспективной целостной методологии появляются основания и для того, чтобы всерьёз ставить вопрос о гуманитарных законах (или законах, позволяющих гуманитарным дисциплинам претендовать на статус наук). Очевидно – такова «нестрогая» специфика гуманитарного знания – гуманитарные законы могут существовать не иначе, как в связке, как циклы или своды законов, что отражает необходимость постижения тотальности через ключевые её моменты. Философский подход к художественной литературе, выдвинутый еще Аристотелем (но «отложенный» на 18 столетий в связи с тем, что культура развивалась преимущественно как художественная культура, как культура моделирующего, поэтического сознания), в свете целостного подхода выявляет свою непреходящую актуальность. Основные понятия, введённые Аристотелем, – «мимесис» (подражание) и «катарсис» (очищение) – замкнуты на человека, на личность. Как их ни интерпретируй – они являются параметрами личности, которая возможна как феномен только на основе информации духовного (не телесного и не психологического) порядка. Личность характеризуется тем, что регулирует свое поведение «от сознания», в соответствии с максимально постигнутым данным индивидуумом «уровнем законности», с «порядком вещей», – то есть в соответствии с объективно царящими в мире законами. Мыслить законами – это и есть способ жизнедеятельности личности. Человек-«неличность» «мыслит» (то есть неэффективно мыслит) явлениями, образами, необобщенными единичными «категориями», прецедентами – информационными единицами, так сказать, доличностного уровня. Таким способом мыслить – не добраться до сути вещей, можно лишь почувствовать наличие сути. Таким мышлением личность не создашь. 177 С появлением концепций личности, философского сознания, теории художественного творчества и теории познания круг расширился, чтобы вновь диалектически сомкнуться, не теряя и впредь предрасположенности к содержательному «расползанию»; казавшиеся наивными и малоперспективными «мимесис» и «катарсис» сегодня в полной мере выявляют свой методологический потенциал, и у нас есть основания ставить вопрос о кристаллизации первого – и основного – закона гуманитарных наук. Смысл его сводится к тому, что гуманитарная парадигма культуры, отражённая в соответствующих формах общественного сознания, – эстетической, нравственной, религиозной, правовой, политической, научной, философской – есть не что иное, как форма проявления духовного мира личности. Коротко назовем первый закон – законом личности или законом персоноцентризма, который, в свою очередь, можно трактовать как проявление вездесущего закона целостности. Личность порождает культуру, а культура – личность. При всей своей простоте и «очевидности» фундаментальность посылки, имеющей далеко идущие последствия, не вызывает сомнений (с позиций мышления рефлектирующего, абстрактнологического, которое и должно заниматься законами, этим хлебом науки). Следующий научно-гуманитарный закон гласит: существуют две культуры, каждая из которых ориентирована на разные (противоположные) системы ценностей и, соответственно, функционирует на разных языках: культура психоидеологическая и научнорациональная, «литература» и «философия» (в широком, символическом значении). Эти культуры соотносятся по принципу дополнительности, порождая эффект своеобразной гуманитарной «мультипликации», взаимоусиления своих потенциалов. Назовем второй закон – законом двух языков культур, который непосредственно связан с законом личности и также является частным моментом проявления закона единства и борьбы противоположностей. В принципе указанные законы можно трактовать и как частное проявление всеобщего (не специфически гуманитарного) закона сохранения информации (частное проявление которого – закон личности и закон двух языков культур), согласно которому (в данном случае) информация психического (образного) порядка рано или поздно порождает информацию иной, умозрительной (сознательной) природы, существующей на ином, понятийном языке, с иными познавательными возможностями (с иным уровнем или порогом объективности). С точки зрения закона сохранения информации, личность представляет собой сложнейшую, иерархически упорядоченную информационную систему, где эффективное управление (самопознание, если угодно) возможно только сверху вниз, от разума к душе, от науки к искусству. Путь снизу вверх, «от психики к сознанию» – всегда и только приспособление, которое выдается за познание. Закон сочетания или сопряжения информации – закон, регулирующий меру объективности отражения, – можно считать третьим гуманитарным законом. Для 178 краткости этот закон можно назвать законом объективности познания (своеобразным законом гарантии объективности). Опираясь на эти три закона, которые «адаптируют» универсальные диалектические законы к гуманитарному космосу, можно научно интерпретировать любой (подчеркнём: любой) феномен гуманитарной культуры, не прибегая при этом к привычному насилию над реальностью, иначе говоря, принимая к сведению «сопротивляемость» образных моделей формам и методам научного познания, несводимость одного к другому и в то же время, держа в уме вечное стремление психики к образно-модельному гегемонизму, к подмене одного языка культуры – другим. При таком подходе – и это неописуемо важно – отпадает необходимость подмены научного познания – «диалогом», то есть слегка завуалированным под наукообразие художественно-психологическим освоением мира. С научными предложенные законы роднит то обстоятельство, что они носят объективный характер (их нельзя отменить ни по щучьему велению, ни по своему хотению); определение же «гуманитарные» означает, что эти объективные законы под силу далеко не всякому субъекту. Непременное условие усвоения законов: овладение тем качеством или уровнем диалектического мышления, которое мы определяем как тотальная диалектика. Именно этот уровень научного мышления способен «порождать» (отражать) и усваивать законы гуманитарного космоса. Итак, сам факт отсутствия законов говорит о том, что законы пытаются обнаружить с помощью моделирующего сознания. Но как только точка отсчета меняется, как только мы начинаем выстраивать отношения с «гуманитарным знанием» с позиций научного сознания, сразу же появляются если не законы, то потребность в них. Само появление законов не ставится под сомнение и становится делом времени. Иначе говоря, сам факт отсутствия законов сегодня базируется на законе двух языков культур и становится проявлением этого закона. Таковы те логические границы и пределы, к которым ведёт последовательная и научно состоятельная «воля к методу». Понятно, что в каждой отдельно взятой гуманитарной дисциплине сформулированные выше законы будут обнаруживать себя через сеть еще более частных законов – литературоведческих, искусствоведческих, эстетических и других. Так, в литературоведении с помощью указанных гуманитарных законов можно уже в научном ключе структурировать «план содержания» (главную идею, авторскую концепцию, авторскую модель мира, идеологическую направленность, идейное содержание и так далее – названий у семантического полюса произведения хоть отбавляй), – не комментировать «идейное содержание» в удобном для «критика» контексте, а именно структурировать систему ценностей, которая присутствует в художественном тексте независимо от воли творца (см. закон двух языков культур). Диалектический подход к «плану содержания», определяющему «план выражения» в целостно организованном художественном произведении (стиль, эстетическое качество, красоту – см. закон гарантии объективности), 179 позволяет состыковать такие, казалось бы, нестыкуемые, разноприродные категории, как Истина, Добро, Красота (проекции форм общественного сознания: философской, нравственной, эстетической). При этом Истина (философское) и Добро (нравственное), будучи ядром плана содержания, могут существовать только в форме эстетически совершенной, в модусе Красоты: это закон художественности. Критерий художественности, таким образом, меньше всего становится делом субъективным. Само наличие критерия определяется наличием всех трех гуманитарных законов. Важно суметь разглядеть в художественном произведении объективно существующую в культуре систему ценностей (проявление закона личности) и, далее, проследить за претворением нехудожественной (абстрактно-логической, понятийной) информации в образно-художественную. Научное и художественное предстают различными сторонами единого по информационной сути творческого акта. Так «воля к методу» трансформируется в «интерес к методике» – и это тоже следствие умения видеть законы там, где их как бы нет.