Галина Шутько. Проза
advertisement
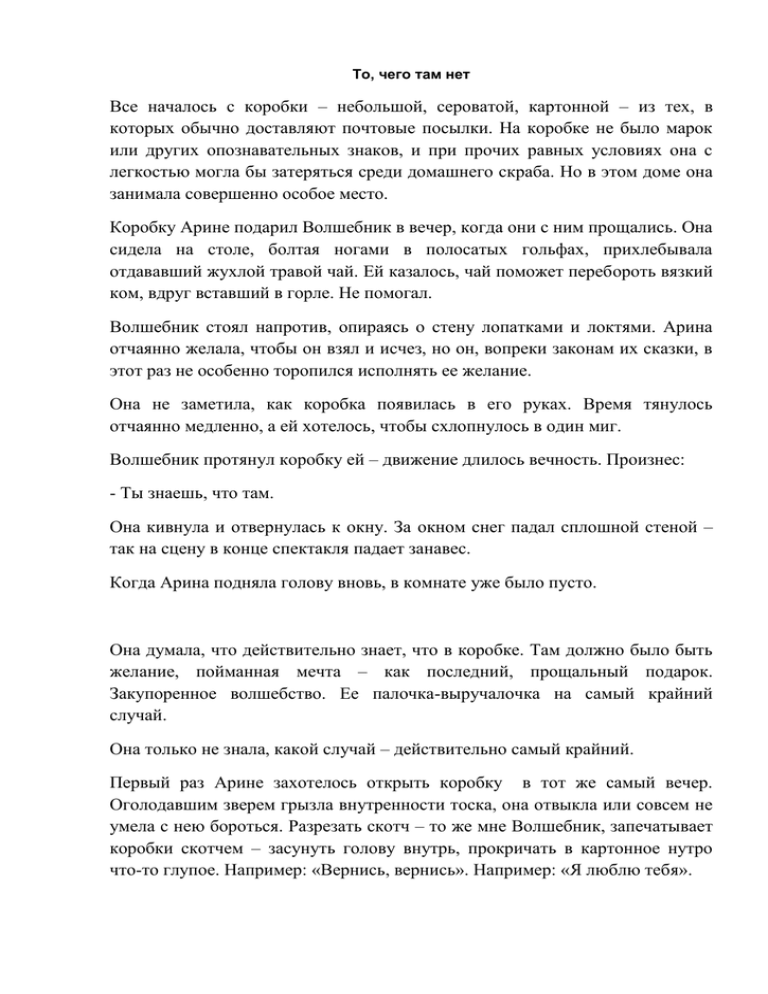
То, чего там нет Все началось с коробки – небольшой, сероватой, картонной – из тех, в которых обычно доставляют почтовые посылки. На коробке не было марок или других опознавательных знаков, и при прочих равных условиях она с легкостью могла бы затеряться среди домашнего скраба. Но в этом доме она занимала совершенно особое место. Коробку Арине подарил Волшебник в вечер, когда они с ним прощались. Она сидела на столе, болтая ногами в полосатых гольфах, прихлебывала отдававший жухлой травой чай. Ей казалось, чай поможет перебороть вязкий ком, вдруг вставший в горле. Не помогал. Волшебник стоял напротив, опираясь о стену лопатками и локтями. Арина отчаянно желала, чтобы он взял и исчез, но он, вопреки законам их сказки, в этот раз не особенно торопился исполнять ее желание. Она не заметила, как коробка появилась в его руках. Время тянулось отчаянно медленно, а ей хотелось, чтобы схлопнулось в один миг. Волшебник протянул коробку ей – движение длилось вечность. Произнес: - Ты знаешь, что там. Она кивнула и отвернулась к окну. За окном снег падал сплошной стеной – так на сцену в конце спектакля падает занавес. Когда Арина подняла голову вновь, в комнате уже было пусто. Она думала, что действительно знает, что в коробке. Там должно было быть желание, пойманная мечта – как последний, прощальный подарок. Закупоренное волшебство. Ее палочка-выручалочка на самый крайний случай. Она только не знала, какой случай – действительно самый крайний. Первый раз Арине захотелось открыть коробку в тот же самый вечер. Оголодавшим зверем грызла внутренности тоска, она отвыкла или совсем не умела с нею бороться. Разрезать скотч – то же мне Волшебник, запечатывает коробки скотчем – засунуть голову внутрь, прокричать в картонное нутро что-то глупое. Например: «Вернись, вернись». Например: «Я люблю тебя». Она посмотрела в зеркало. Отражение отрицательно помотало головой. Что, мол, за глупости ты придумала. Нельзя тратить шанс на попытку оживить мертвеца. Второе желание пришло вместе с озарением. На работе – Арина работала в скучном сером офисе, однотипном, как штампы на справках о психическом здоровье – бухгалтерша разводилась с мужем. Разводилась долго, слушать об этом надоело, тошно было, Арина и не слушала, приноровившись вовремя вставлять однотипные комментарии. Она и сама не ожидала, что уловит посреди монотонного диалога необычную фразу: - Я знаю, - говорила бухгалтерша с иронией, - почему люди заводят домашних животных. Это такой способ держать при себе живое существо, даже если оно тебя не любит. Сердце в груди Арины радостно трепыхнулось и забилось быстрее. «Вот оно», - подумала она с ликованием, - «Вот же оно». В тот вечер она впервые за месяц торопилась домой, оскальзываясь на обледенелом тротуаре, почти бежала. Она знала, что загадать, как быть: оказалось, что выход был на поверхности. Около подъезда ей под ноги кинулся черный котенок: замерзший, худой, он казался ей родным и знакомым. Она подхватила котенка на руки и счастливо рассмеялась. Она была уверена уже, что, зайдя в квартиру, обнаружит коробку открытой: желание же исполнилось. Но коробка была цела, скотч не тронут. Арина опустила котенка на пол и улыбнулась. Улыбка, болезненная и жалкая, больше смахивала на гримасу. Отражение в зеркале, если бы могло, покрутило бы пальцем у виска. Отражение сказало бы, что только полная дура могла пожелать запереть человеческую душу в животном. Котенок бродил по полупустой квартире, жалобно мяукая. Ночью она маялась бессонницей. В тоске ей чудилось, что в коробке и нет никакого желания, что там что-то банальное, к примеру, летнее ее голубое платье. Или целое лето, сжатое, запакованное. Открываешь – и проживаешь все вновь. Арина бы не отказалась. Она закрывала глаза и почти кожей чувствовала прохладу речной воды и обжигающе горячий песок. Россыпь пресных семечек на ладони: семечками кормили в парке жирных рыжих белок. Тепло чужих пальцев в своей руке. Плечо, на которое так удобно было уронить голову. Мозоли от новеньких босоножек, запах фруктового мыла… Руки сами потянулись к коробке (отражение в зеркале недовольно скривилось). Арина прикинула на вес: слишком легкая, платья там точно нет. Понюхала: пахло картоном, и, может, клеем. Летом не пахло. Она прижала коробку к себе и минутку постояла, закрыв глаза. Потом притащила табуретку и закинула коробку на дальнюю полку, на самый верх. Случай действительно должен был быть особый. Коробка стала ее проклятием. Она вспоминала о ней каждый раз, когда ей хотелось невыполнимого – а Арина была из той дурацкой породы людей, которым ничего, кроме невыполнимого, и не надо. Коробка стояла перед ее глазами, когда она засыпала и когда просыпалась. Теперь Арина действительно что-то узнала об одержимости, хотя раньше ей казалось, что любовь и есть одержимость. Однажды она сидела в кафе, без аппетита ковырялась в мороженом. Человек, сидящий напротив, был ей приятен. Неплохой, в общем, был человек, и говорил о чем-то интересном – о фильмах, кажется. А, может, и о книгах. Арина поймала себя на том, что с тоской смотрит в окно и в фигуре на той стороне улицы ей снова мерещится кто-то знакомый. Черноволосый, вихрастый, волшебный. - Господи, - сказала она вслух посреди монолога хорошего человека, Господи, как же я устала. Она зашла в квартиру и, не снимая пальто, не скидывая ботинок, пошла к коробке. Стащила ее с полки, стала руками разрывать скотч. - Я ничего не хочу. Я не хочу тебя вернуть. Я не хочу, чтобы ты меня любил. Не хочу исполнения желаний. Не хочу тебя целовать – ни когда засыпаю, ни когда просыпаюсь. Не хочу пикников в поле у озера, не хочу кормить вместе белок. Мне ничего не нужно. Пусть только все это кончится, пусть это, пожалуйста, кончится. В квартире гулял сквозняк, было зябко. Глупый котенок тыкался в ноги. Отражение в зеркале, кажется, улыбалось. - Хоть бы записку оставил, что ли. Картонная коробка стояла на полу, разворошенная и пустая. Танцы с приведениями Мы каждый день двигаемся вместе я - под ударами, и ты - во мне красной горящей пульсацией, дающей мне силы жить ив ритме танца, в кружении платья я в каждой плывущей тени буду видеть тебя и буду с тобой. © Flit Avita Моя племянница Лили – странный ребенок. Нет, я, конечно, люблю ее и все такое, но временами даже ее родители готовы подтвердить, что у девочки не все дома. Окончательно я убедился в этом в последний день рождения Анны, моей жены. У Лили карие глаза, но не того карамельного оттенка, как у нас с сестрой. Неизвестно, откуда пришел этот цвет - цвет крепкого пива, свежего кофе и шоколадной стружки. Подобные лишь у моей жены, нигде не встречал таких больше. Но глупо было бы как-то связывать это с Анной – хотя первые месяцы даже мать малышки Лили смотрела на своего ребенка с суеверным ужасом. И, когда пресловутый ребенок с громким стуком ставит кружку на стол, а потом пристально на меня смотрит, мое сердце с головокружительной скоростью ухает куда-то в пятки. Потому что у человечка девяти лет от роду не могут глаза быть настолько взрослыми. - Знаете, какой сегодня день, дядя Джон? – спрашивает у меня Лили, стирая ладошкой с верхней губы молочные усы. - Да, конечно, - сдержанно произношу я, - Сегодня тридцать шестой день рождения Анны, твоей тетки. - Неа, не угадал, - солнечно улыбается она, спрыгивая со стула, - Сегодня – День танцев с привидениями. Я озадаченно хмурюсь, вздыхаю и вновь перевожу взгляд на газету, которую, вообще-то, до этого читал. Я же говорил – странная девочка. Надо будет не забыть сказать сестре, что у ее дочери появилась новая причуда. А то устроит еще на радость родителям какой-нибудь спиритический сеанс… Иногда я вижу в зеркале твое отражение вместо собственного лица. Морщинки вокруг глаз, выступившие от счастливого смеха. Ямочки на румяных щеках. Густые волосы, которые тебе каким-то чудом удалось заплести в косу. Ты улыбаешься мне. Ты не двигаешься, позволив мне изучать каждую черточку – будто я и так не помню их все наизусть. А я не могу оторваться от зеркала до тех пор, пока кто-нибудь не окликнет меня, и тогда наваждение рассеивается, улетучивается призрачной дымкой – только я все равно долго не могу избавиться от странного осадка. Как будто ты только что на меня смотрела. Но я поворачиваюсь спиной к воспоминанию. У меня больше не получается жить лишь тобой, прости. Моя племянница Лили любит праздники. А ее родители беззастенчиво этим пользуются, не упуская шанса спихнуть девчонку бездетному дядюшке – для того, якобы, чтобы она помогла украсить дом. Она и помогает – как сама понимает это слово, конечно же. В итоге дом уже к одиннадцати утра весь увешан праздничными ленточками розового цвета, до блеска отмыт и вычищен, а на люстре болтается огромная связка воздушных шаров – остается лишь надеяться, что она никому на голову не упадет. Дядюшку Джона Лили тоже своим вниманием не обошла – я оказался украшен конфетти и местами посыпан марципаном. А малолетняя шалопайка отступила на два шага, оглядела меня и, удовлетворенно улыбнувшись, убежала в сад. Говорит, погода хорошая, а мама недавно сказала ей, что неплохо бы танцы на свежем воздухе устроить. И мой дом через пару часов превращен в помещение, будто бы предназначенное для проведения детского праздника. Я бы, конечно, сделал все по-другому, мне и сейчас хочется сорвать эти ленты, убрать поставленный на видное место кукольный сервиз… Но в саду рассыпается звонким колокольчиком смех Лили и я, морщась, оставляю все как есть. - Анне понравится, - говорит кто-то за моей спиной, и я, вздрогнув, оборачиваюсь. У окна стоит шурин и, улыбаясь лишь уголками губ, смотрит в голубое небо. Такого неба не бывает в Лондоне девятнадцатого сентября. Иногда я боюсь просыпаться. Потому что знаю, что в том дне, который подкараулил меня за порогом нашей спальни, тебя не будет. Так же, как семнадцать лет назад, когда ты рано утром убегала на работу и возвращалась иногда за полночь. А мне оставалось только пытаться поймать тебя в те полчаса, что были у тебя между завтраком и хлопаньем входной двери. Теперь же ты вовсе исчезаешь из моей жизни. А я устал жить одними воспоминаниями, от которых становится только больнее. Но я до сих пор не могу принимать решение без тебя. Даже если это решение – тебя забыть. - Жаль, что именинницы нет с нами, - произносит сестра, утирая платком покрасневшие глаза. Ну вот, еще пару слов – и все женщины и половина мужчин зальются горькими хмельными слезами. Знакомое завершение праздника. Ставшее почти что традицией за последние семнадцать лет. Я присаживаюсь на корточки перед погрустневшей Лили и спрашиваю: - Малыш, ты, кажется, обещала мне танцы? Она, разом вскочив со стула, уносится в дом, и вскоре возвращается вместе с шурином, который несет вслед за ней стерео. Моя племянница Лили еще слишком мала, чтобы справиться с этим сама. Моя племянница Лили очень любит танцевать. Я каждый день прохожу мимо твоих портретов, Я каждый день слышу шепоток за спиной и пытаюсь не сплюнуть при виде очередной девицы, с которой меня пытается познакомить мама. Они совсем не похожи на тебя – и зачем тогда вообще все, скажи мне? Пусть этот мир катится к черту, я как-нибудь проживу. Нет, не так. Пусть это мир катится к тебе, и тогда я с радостью выпущу из рук мою единственную опору. Моя племянница Лили ростом мне до подмышки и танцевать с ней, пожалуй, ужасно неудобно. Но ее рыжие – не каштановые– волосы пахнут липовым медом. В точности, как у Анны. Но ее руки – не руки Анны – столь же цепко сжимают мою ладонь. В точности, как она в день нашей свадьбы. Но ее глаза – глаза Анны – смотрят на меня так же упрямо, как и семнадцать лет назад, в день ее смерти. День танцев с призраками, сказала Лили. Или это прошептала мне Анна? Я не хочу знать. Твое сердце стучит в унисон с моим. Твое дыхание, перемешанное с ароматом луговых цветов, слышится рядом. Твой шепот жаркой волной щекочет мое ухо – но я не знаю, что ты мне говоришь. Я танцую с твоим призраком танго, фокстрот, вальс и макарену. Твой призрак зовут Лили, у него рыжие волосы и глаза цвета шоколадной стружки – но тебе не обязательно это знать. Ты еще здесь. Ты будешь жить до тех пор, пока жив я. И значит, наша сказка еще не кончилась. Золотая рыбка Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри. (с) Виктория Райхер Пусть будет так: вы читаете это вечером, на столе - стынущий в кружке чай, процессор у ног урчит остервенелым котярой. Из-за двери плещет желтым светом и голосами, голосами больше - бьет по ушам внахлестку, один из того, чье бессмертие вы делите напополам, другой - визгливый, женский, нарочито манерный (остальные добавить по вкусу). Пусть вам не хочется это читать, сюжет и герои - глубоко до лампочки, но на секунду вы цепляете взглядом знакомую деталь, замираете (не слушать, не думать, что она там хочет ему) и пробуете вглядеться в ровные ряды буквиц. Я - плохой рассказчик, я не сделаю вам вечер, не сделаю ночь, едва ли - утро, но я попробую, честно, я нанижу розовеющие бусины облаков на некрепкую нить неба и разбавлю их ярко-желтым солнечным пятном. Перекусить зубами, сделать узел, и - вы сидите, грейтесь, а я начну. Пусть будет так: их зовут Джон и Мэри, они женаты, а может, давно вместе, словом - делят постель и успели изучить друг друга до косточек; они друзья моей семьи или что-то вроде, и, наверное, догадываются, что эта история - о них. Я знаю, мне потом влетит, они не будут разговаривать со мной месяц или целых три дня - в общем, вечность, - они не станут поливать мои цветы, когда я уеду и не возьмут больше кота; но у меня не осталось больше своих слов, даже своих снов уже не осталось, а потому начнем. Если бы мы были в театре, я бы сказала - хэй, маэстро, занавес. Ну да, поднять. Когда-нибудь они отдыхают на море, и Джон, развалившись в шезлонге, смотрит, как Мэри в купальнике с золотыми рыбками носится по пляжу (в поисках красивых ракушек). Рядом с Джоном много жирных потных тел, чуть меньше - потных красивых девушек, на них нормальные купальники, без рыбок; Мэри косится на него с подозрением, но быстро забывает, зачем смотрела. Джон скучает, ему лень купаться, в воздухе пахнет солью, пивом и вяленой рыбой. А, ну и потом, как же. Джон потягивается, стряхивает с волос остатки соленой влаги и вальяжно идет к Мэри; она замирает и с подозрением смотрит на него, ей кажется - ее поймали на месте преступления, она думает, что хуже - чтобы отчитали или повели в полицейский участок, но хуже, естественно, окажется именно то, что он предпримет. И он говорит что устал, жарко, вонища и пора домой, и тянет ее за руку, и она идет, угрюмая, набив ракушки в карманы пляжных шорт, а - вы когда-нибудь видели, как выглядит угрюмая золотая рыбка? Ну и, конечно, она на него злится, злится, а потом происходит небольшой взрыв. То есть сначала она недожарила котлеты и пересолила суп, а Джону это не понравилось, и он не нашел ничего лучшего, как ей об этом сказать. А она выложила, что шел бы он тогда к мамочке, и что она не собирается под него подстраиваться, и что вообще он ее не любит, не ценит, и знал бы он, как она ненавидит его сейчас. Вот. Джон говорит - а, ну ладно, и продолжает флегматично жевать. А она уходит к себе в комнату - ну, к ним в комнату - и рыдает. Ес-тес-твенно. Однажды - ну, вообще-то следующим утром, но это же звучит гораздо хуже, чем однажды, согласны? - Мэри спит дольше обычного, и когда просыпается, Джон у плиты стоит и жарит яичницу, и взгляд его хмур даже чуть более, чем лондонское небо в феврале. То ли на Мэри с вечера дуется, то ли остался без утреннего секса и потому недоволен, оставим это на совести Джона, ну, чего уж лезть глубже ребер, правда? Хотя интересно, да. И Мэри вьется вокруг него ужом и спрашивает: - Когда пойдем на море? А Джон ей о том - ну, тоже немножко взорвавшись, ладно, не совсем немножко, дым просто клубами из ушей валит - что ему надоело это вонючее море, и она надоела, и ее дурацкий купальник, и что он хочет к нормальному человеческому обществу, а они с приезда ни в одном музее даже не были. А хотя - шла бы она одна на свое море, а? Хоть за нее краснеть не придется. И Мэри тогда растерянно: - Но я же не умею плавать! А Джон ей в ответ, зло: - Ну так пойди и утопись! И она, конечно, опять плачет, собирает вещи в пляжную цветастую сумку и идет. Топиться, да. И вот тут бы нам остановиться, да, тут бы нам сделать хороший глоточек чая и порассуждать - ну, зачем-то ведь я все это писала? Я, кажется, хотела чтото про то - ну, почему мы делаем больнее всего самым близким людям, садисты все, что ли, и про то, как сложно это прощать, и про вообще, про любовь, то есть. Но я вот сейчас встаю и иду в кухню, и сажусь там рядом с тем, кто украл половину моего бессмертья, и нагло улыбаюсь, глядя в холодные глаза визгливой женщины напротив. А он целует меня над ухом и говорит: - Ну что ты так долго? Я же скучал. И вот тогда я, понимаете, просто беру и прощаю. Безо всяких там. А что Джон и Мэри? А, Джон-и-Мэри, у них все хорошо, да. Она, конечно, идет на море, и там, конечно, огромные волны - с полмэри размером, вот чесслово. Она зажмуривается, и прижимает руки к груди, и смело входит в воду по пояс (холодная - ужас просто). И смотри вниз, а там, прямо у ее ног, у пальцев, она почти чувствует - плывет огромная, с блюдце, золотая рыба. И косит на нее бесцветным глазом. И пускает пузыри. Мэри, конечно, загадывает желание, а когда поднимает на берег глаза, видит, что там стоит Джон - ну как стоит, запыхался, бежал, наверное - с махровым полотенищем (не полотенцем ни в коем разе) в руках. И когда она (выбравшись на берег) стоит рядом и доверчиво на него смотрит, Джон орет: - Мэри, какая ты дурища-то, Господи! С утра штормовое предупреждение объявили, куда ты вообще полезла, а? Нет у тебя мозгов, золотая рыбка. И Мэри (счастливо) смеется, и тянется (наконец-то) к его губам - ну, потому что на нем дурацкие бусы из ракушек, которые она для него сделала, и еще немножечко потому, что это Джон. И потому, что это любовь, наверное, тоже. .