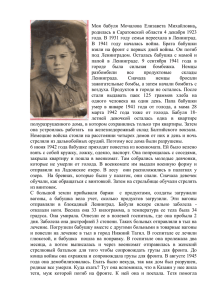Читать все произведение
advertisement
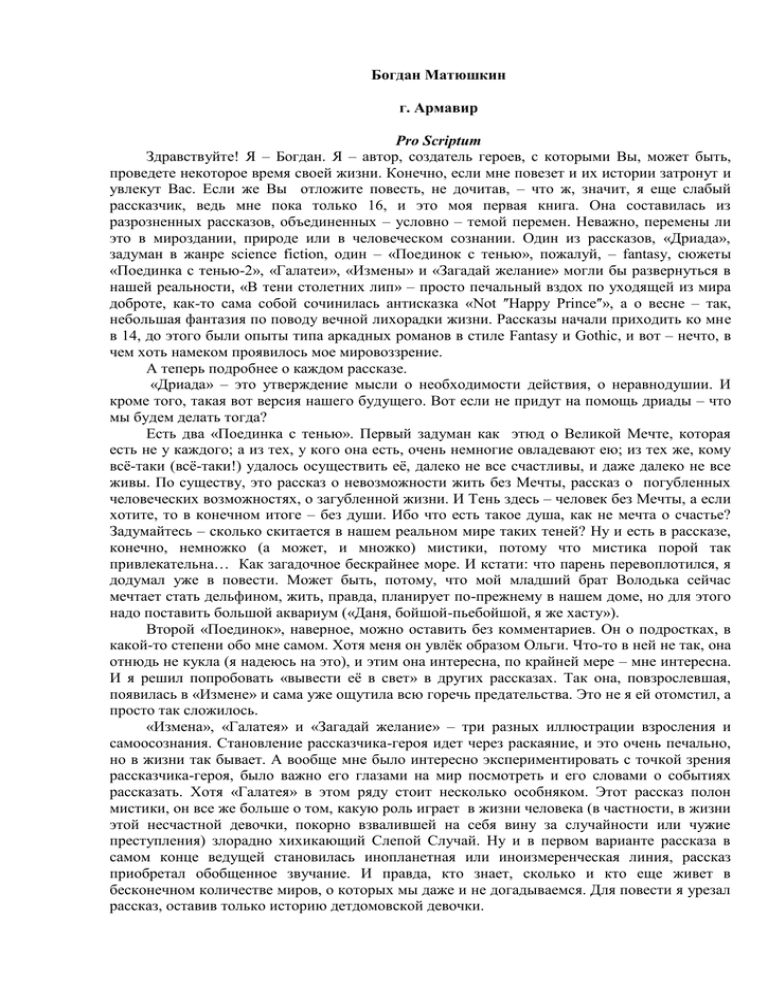
Богдан Матюшкин г. Армавир Pro Scriptum Здравствуйте! Я – Богдан. Я – автор, создатель героев, с которыми Вы, может быть, проведете некоторое время своей жизни. Конечно, если мне повезет и их истории затронут и увлекут Вас. Если же Вы отложите повесть, не дочитав, – что ж, значит, я еще слабый рассказчик, ведь мне пока только 16, и это моя первая книга. Она составилась из разрозненных рассказов, объединенных – условно – темой перемен. Неважно, перемены ли это в мироздании, природе или в человеческом сознании. Один из рассказов, «Дриада», задуман в жанре science fiction, один – «Поединок с тенью», пожалуй, – fantasy, сюжеты «Поединка с тенью-2», «Галатеи», «Измены» и «Загадай желание» могли бы развернуться в нашей реальности, «В тени столетних лип» – просто печальный вздох по уходящей из мира доброте, как-то сама собой сочинилась антисказка «Not ʺHappy Princeʺ», а о весне – так, небольшая фантазия по поводу вечной лихорадки жизни. Рассказы начали приходить ко мне в 14, до этого были опыты типа аркадных романов в стиле Fantasy и Gothic, и вот – нечто, в чем хоть намеком проявилось мое мировоззрение. А теперь подробнее о каждом рассказе. «Дриада» – это утверждение мысли о необходимости действия, о неравнодушии. И кроме того, такая вот версия нашего будущего. Вот если не придут на помощь дриады – что мы будем делать тогда? Есть два «Поединка с тенью». Первый задуман как этюд о Великой Мечте, которая есть не у каждого; а из тех, у кого она есть, очень немногие овладевают ею; из тех же, кому всё-таки (всё-таки!) удалось осуществить её, далеко не все счастливы, и даже далеко не все живы. По существу, это рассказ о невозможности жить без Мечты, рассказ о погубленных человеческих возможностях, о загубленной жизни. И Тень здесь – человек без Мечты, а если хотите, то в конечном итоге – без души. Ибо что есть такое душа, как не мечта о счастье? Задумайтесь – сколько скитается в нашем реальном мире таких теней? Ну и есть в рассказе, конечно, немножко (а может, и множко) мистики, потому что мистика порой так привлекательна… Как загадочное бескрайнее море. И кстати: что парень перевоплотился, я додумал уже в повести. Может быть, потому, что мой младший брат Володька сейчас мечтает стать дельфином, жить, правда, планирует по-прежнему в нашем доме, но для этого надо поставить большой аквариум («Даня, бойшой-пьебойшой, я же хасту»). Второй «Поединок», наверное, можно оставить без комментариев. Он о подростках, в какой-то степени обо мне самом. Хотя меня он увлёк образом Ольги. Что-то в ней не так, она отнюдь не кукла (я надеюсь на это), и этим она интересна, по крайней мере – мне интересна. И я решил попробовать «вывести её в свет» в других рассказах. Так она, повзрослевшая, появилась в «Измене» и сама уже ощутила всю горечь предательства. Это не я ей отомстил, а просто так сложилось. «Измена», «Галатея» и «Загадай желание» – три разных иллюстрации взросления и самоосознания. Становление рассказчика-героя идет через раскаяние, и это очень печально, но в жизни так бывает. А вообще мне было интересно экспериментировать с точкой зрения рассказчика-героя, было важно его глазами на мир посмотреть и его словами о событиях рассказать. Хотя «Галатея» в этом ряду стоит несколько особняком. Этот рассказ полон мистики, он все же больше о том, какую роль играет в жизни человека (в частности, в жизни этой несчастной девочки, покорно взвалившей на себя вину за случайности или чужие преступления) злорадно хихикающий Слепой Случай. Ну и в первом варианте рассказа в самом конце ведущей становилась инопланетная или иноизмеренческая линия, рассказ приобретал обобщенное звучание. И правда, кто знает, сколько и кто еще живет в бесконечном количестве миров, о которых мы даже и не догадываемся. Для повести я урезал рассказ, оставив только историю детдомовской девочки. «В тени столетних лип» – мой любимый рассказ. Я через него попытался показать ценность простых человеческих чувств и душевных движений, ценность доброты и милых мелочей, из которых, как из 3-D паззлов, собран наш сложный многомерный мир. «Not Happy Prince» – это не «Unhappy Prince», то есть не «Несчастный Принц» и даже не «Несчастливый Принц», а именно «Не ʺСчастливый Принцʺ». То есть это НЕ состоявшаяся добрая история, каковых, к сожалению, в нашем мире слишком много. И наконец, «Весна» – просто о непрерывности и цикличности нашего бытия, о вечном умирании и возрождении, о круговороте времени и наших желаний, что само по себе – хотя и не ново, но, согласитесь, здóрово. Пожалуй, единственный из всего цикла безоблачно оптимистичный рассказ. И был отдельный рассказ «Гнев богов», о мальчике-дауне, со статьей-примечанием к нему. Записывая этот рассказ, я безумно жалел своего героя. Но со временем почему-то уверился, что мой Валера не нуждается в жалости, что он выкарабкается сам. Так и случилось (было бы так в жизни!) Рассказы тоже были моим дебютом, представляли собой этакую мозаику из реальных и фантастических случаев и с самого начала смутно тревожили меня, казались незавершенными. Они так и остались бы рассказами, так и запылились бы (виртуально) в папке «Малая проза», если бы не мой банальный юношеский максимализм. Сначала я сочинил еще один рассказ – о девушке с радугой в прическе, и это стало точкой, дальше которой нельзя было идти. Этот рассказ получился даже грустнее и страшнее всех предыдущих. И мне стало черно и печально. Рассказы были о такой безнадеге, давали столько негатива и так мало надежды, что мне вдруг ужасно захотелось все изменить. И вот – повесть, маленькая, но все-таки… Я собрал в ней правдивые (верьте мне!) истории нашей жизни, но, так как все люди, и особенно подростки, любят мечтать и хотя бы в мечтах выпрямлять линии неудавшихся судеб, я и решил исправить реальность с помощью своего любимого героя – солнечного мальчика Валеры. Эта чистая душа и не подозревал, какой волшебной силой обладает! А я догадывался о его даре с самого начала, и вот – позвал его на помощь. А Вас я зову в мою повесть. Вот она – лежит перед Вами, словно медовое, спелое до прозрачности яблоко. И открыты все двери в нее. Так что со свойственной мне обстоятельностью («правая рука моя ложится – образно – на левую ручку правой двери, а левая в это время – тоже виртуально – подтягивает рюкзак за среднюю лямку») приступаю к делу. Ну – вперед! Стоп-стоп-стоп! Не так быстро! Прежде хочу предложить Вам фразу. Это мой тест, который я предъявляю незнакомым людям, подобно тому, как Экзюпери предъявлял рисунок удава, проглотившего слона. Прошли Вы его или нет, Вы поймете в самом конце. Вот эта фраза: _БОГ_ЕСТЬ _ А теперь и правда – погнали! Я и Тантала увидел, терпящего тяжкие муки. В озере там он стоял. Достигала вода подбородка. Жаждой томимый, напрасно воды захлебнуть он старался. Всякий раз, как старик наклонялся, желая напиться, Тотчас вода исчезала, отхлынув назад; под ногами Черную землю он видел, - ее божество осушало. Много высоких деревьев плоды наклоняло к Танталу Сочные груши, плоды блестящие яблонь, гранаты, Сладкие фиги смоковниц и ягоды маслин роскошных. Только, однако, плоды рукою схватить он пытался, Все их ветер мгновенно подбрасывал к тучам тенистым. Гомер «Одиссея» Предыстория Валера «Гнев богов» Я стою на земле. Подо мной вода. Надо мной – небо, чистое лазурное небо. Я – Тантал. Я знаю это, как знаю и то, что мне положено откликаться на Валера, Валерик, Валерочка. Никогда – на полное имя Валерий или дружеское Валерка. Это потому, что я маленький. И меня всегда будут звать детским именем Валера и никогда не назовут, как взрослого. Я навсегда останусь маленьким. Для окружающих я вечный ребенок. Еще с до рождения я заключен в плотную оболочку, отделяющую меня от остального мира. Обществонепроницаемую оболочку. Когда ты родился с уже готовым ярлыком – синдром Дауна, – ты обречен на разное отношение: жалость, брезгливость, ненависть, слезливое сочувствие, вселенскообъемлющее милосердие, равнодушие… Только на понимание ты можешь не рассчитывать. Разве что тебе очень-очень повезет, и Бог определит тебе в спутники такого человека, как моя бабуля, которая понимает и любит всех: каждую травку в огороде, каждого бездомного котенка, всех-всех на свете. Но бабуля одна на весь мой мир. Моё круглое лицо с раскосыми нездешними глазами и подвижным улыбчивым ртом – знак «стоп» для попыток пройти дальше этого знака, за этот знак. Это «кирпич», за который не поедет ни один водитель мозга: ни законопослушный, ни безбашенно некультурный. По воле судьбы моя простодушная доброта и мой неповоротливый толстый язык стали клеткой моей жизни, плотной завесой, отделившей меня от мира других людей. Стали стеклянным чувствонепроницаемым ничемнепробиваемым колпаком. Поэтому я никогда не буду Валерием, тем более Валерием Сергеевичем, а только – Валерой, Валериком, Валерочкой. Так меня зовут все: бабуля, учителя, добрая слезливая соседка тетя Оксана, крикливая, но тоже добрая соседка баба Вера, бабулин приятель Виктор Иваныч (Ви-Ва – зову его я), прочие бабулины знакомые. Бабуля меня очень любит. И я ее тоже люблю, очень-очень. Я говорю ей: «Бу-ля! Люлю те-ʼа!» И обнимаю ее за шею, крепко-крепко, и громко чмокаю в щеку. И смеюсь. «Смейся, Валерочка, смейся, – с ласковой грустью говорит бабуля. – Ты Божья пташка, тебе легко живется, беспечально. Смейся, внучочек. Даже если тебе будет плохо, смейся. Смех у тебя солнечный. Это про вас, про таких, правильно говорят – дети солнца. Вот и ты сын солнца, солнышка ты сын». Мы с бабулей сидим в зале: бабуля читает в своем любимом кресле, я играю с паровозиком у нее в ногах, на ковре. Я смотрю в окно, солнце ослепляет меня мгновенным лучом сквозь веселые зеленые листья, еще одним, еще, лучи пляшут, подмигивают мне. Я щурюсь, вглядываюсь в прорези веточек и листочков, хочу увидеть лицо солнышка. Вот оно – круглое, как и мое лицо, невозможно яркое. Если смотреть на него больше одного взмаха ресниц, оно становится серебряно-зеленым, с пляшущим белым ободком. «Бу-ля, – лепечу я. – Ма-ма? Со-ны-шко – ма-ма?» Бабуля гладит меня по голове, слезы начинают выкатываться из ее добрых глаз, капают мне на волосы, на щеки. «Я твоя мама, деточка, – говорит бабуля сквозь слезы. – Я. И бабушка, и мама, и папа. А солнышко у нас общее на всех. И небушко общее, и Боженька общий, один на всех, всех любит, обо всех печалится. Вот только о тебе, пташке беззаботной, Боженька не подумал. Помру я, а ты, душа простая, младенчая, как без меня-то будешь? За что тебе-то наказание такое? Горемыка ты, и сам того не понимаешь. Ты смейся, смейся, – уже совсем плачет и все гладит меня по голове бабуля. – Сиротинушка моя, смейся. А уж придумаем что-нибудь. Слава Богу, квартира большая, крепкая квартира у нас с тобой. Отпишу квартиру Оксане. А потом и опекунство на нее оформим. Я уж жизнь не впустую прожила, кое-что на черный день отложила. Будешь присмотрен. С ее детками дружить будешь. Смейся, чистая ты душа! Смейся, Валера …» И Валера, то есть я, смеется. Впрочем, скоро меня не будут звать и Валерой. Забудут мое имя. Я видел: в нашей большой комнате – зале (за-ʼэ) стояла новая красивая кроватка. Бабуля лежала в этой кроватке, почему-то одетая, в красивом черном платье и укрытая белым кружевным одеяльцем. Она была нарядная, но спала и никак не хотела просыпаться. В комнате было много-много людей и шепотов, и духоты, и плача. Соседки плакали, и Ви-Ва плакал тоже. И баба Вера громко сердито шептала Ви-Ве: «Квартира-то Оксанке досталась. Ах, змеюка, змеюка лживая, подколодная эта Оксанка! Ах, змеюка! Как земля-то под ней не провалится!» Ви-Ва тоже шепотом спрашивал: «А ребенок? Ребенок-то?» «Валерик? Валерик теперь сирота бесприютная. Не успела Федоровна опекунство оформить... Квартиру отписала, а Валерочка… Ах, змеюка Оксанка! Ведь не пожалеет мальчишку, не пожале-еет… А нам с тобой, Витюша, мальчонку не отдадут, старые мы. А до 18-ти ему еще 5 лет. Да и при чем 18-то? Он инвалид, будет в интернате всю жизнь маяться… А ведь домашний, ласковый, балованный… Грех-то какой, Господи! Грех!» И баба Вера опять плакала. И опять носились по зале шепоты, плачи, пересуды. А потом какие-то мужчины унесли бабулю из квартиры прямо в ее новой кроватке. И все ушли, комната опустела. Остались в квартире только я да тетя Оксана. Тетя Оксана еще возится чего-то, ходит по квартире, заглядывает в боковые комнаты, в туалет, на кухню. Даже в чуланчик заглянула. «Там о-мо-вой ы-вет, не о-гай, не-зя, не, не! – предупреждаю я. А чтобы она не боялась, добавляю: О-мо-вой обрый, о-ро-ший, не ой-ся!» Я знаю, что домовой хороший, бабуля мне говорила, а еще говорила, что лишний раз его беспокоить не надо, он ночью натрудился по хозяйству, пусть днем отдыхает. Тетя Оксана, которая меня всегда понимала и переводила мои слова глуховатой бабе Вере, машет на меня, прикрикивает: «Чего лопочешь, не разберешь ни шиша! Убогое ты создание! А квартирка хорошая, просторная. Сиди, сиди. Я потом наведаюсь, без тебя. Чего тебе теперь в этой квартире-то делать? Зачем тебе квартира? Есть хочешь? – Я голоден с утра и говорю: «Да, очу е-сть». Но тетя Оксана меня опять почему-то не понимает. – Нет? Ну и славно». Тетя Оксана теперь другая – не как раньше, сегодня она не добрая, не жалеет меня, не плачет, а все только перебирает, разглядывает вещи. Потом забирает бабулину шкатулку с красивыми колечками, сережками, браслетиками, забирает сверточек денег из буфета, снимает со стен картины. Шкатулку мне жалко: я люблю играть бабулиными украшениями, подставляя их блестящие бока солнышку, любуясь блеском на золоте и камнях. Еще жальче картины, особенно одну, с мужчиной и женщиной в большом небе, летящими над разноцветными домами. Хлопает дверь – тетя Оксана ушла к своим деткам. Я остаюсь в квартире один, чувствуя какое-то непонятное беспокойство. Нахожу в холодильнике колбасу, сыр, помидор, делаю себе бутерброд, съедаю без всяких мыслей. Дотемна сижу в бабулином кресле, укрывшись ее цветастой шалью, и совсем не хочу смеяться. Незаметно засыпаю. Так проходит ночь. Утром за мной приезжают незнакомые люди. Я хочу объяснить им, что жду бабулю, что никуда не пойду, что бабуля скоро вернется. Если она меня не найдет – огорчится, будет плакать. Меня не понимают. Меня вообще не слушают. Это потому, что бабуля умерла. Умерла моя бабуля. Они мне так сказали, вот только что, – я и поверил. Я всегда верю людям. Но что такое «умерла», я не знаю. Я просто жду, что бабуля обязательно вернется, что наша жизнь станет прежней. Но она не становится, потому что бабули все нет и нет. Наверно, она ушла надолго по своим важным делам, и мы с нею встретимся пока не сейчас. *** Я в интернате. Тут много кроватей в каждой комнате. И на ночь выключают свет. У меня дома своя комната, собственная, с мольбертом, чтобы рисовать, с книжками, с игрушками, много-много игрушек, и бабуля, прощаясь со мной перед сном, всегда оставляет в моей комнате ночник-луну. И мне не страшно. А в интернате от страха я не могу уснуть в темноте. Особенно когда буйный Саша начинает стонать и расшатывать свою кровать, к которой его привязала воспитательница. В интернате есть воспитательницы. Они кричат. Некоторые зовут нас нашими настоящими именами. Другие называют общим именем – Мухомор. Мальчики здесь все мухоморы, а девочки поганки. Но мухомор – гриб. Бабуля водила меня в школу, на плавание, водила в церковь к Боженьке, читала мне много книжек, рассказывала сказки, учила считать, читать, чистить зубы, аккуратно кушать, застегивать рубашку на правильные пуговицы, завязывать бантиком шнурки на кроссовках, самому переходить дорогу по белым полоскам, ездить на велосипеде, роликах, делать покупки в магазине. И мухомор показывала на картинках. Нет, воспитательницы, наверно, говорят про другой мухомор, не про гриб. Мы же не грибы, мы люди! Точно, это какой-то дугой мухомор. Я думаю, что это такое мое новое имя. Я на него теперь отзываюсь, доверчиво улыбаясь тем, кто меня подзывает, торопливо ковыляя на зов, заглядывая в глаза. Я не дружу со здешними ребятами. Они не такие, как в школе – не ученые, мало говорящие, есть даже буйные и злые. Здесь у меня нет школы. Я люблю школу. Бабуля водила меня. Я сам будил бабулю: «Па-дем в о-лу! У-чи-ца! И-гать!» Здесь я не учусь и не играю. Здесь мне скучно. Но я нахожу друзей, сначала одного, потом другого. Первый друг – Жулик. Он – собака, веселый, умный, хвостом виляет, хитрый, выпрашивает у меня котлету или сосиску. Я дружу с Жуликом и зову его «Жу-у!» Жулик не наш, не интернатский. Интернатская собака – Пес, так его зовут. Пес недобрый, кусачий, сидит днем в вольере, а ночью его выпускают, он бегает по всему двору, охраняет. А Жулик добрый, ласковый. Он приспособился прятаться от завхоза за верандой, под старым бросовым шифером. Все, кроме завхоза, знают про Жулика и его убежище. В круглую луну, когда в спальне шумно и страшно, я убегаю во двор и ночую вместе с Жуликом под его шифером, обняв его за теплую пушистую шею, прижавшись щекой к его шелковой щеке. Пес тоже знает про Жулика и ночами ворчит на него, но не трогает. И меня не трогает тоже, потому что я собакин друг. Второй мой друг – нянечка Маша. Она красивая, с пушистыми золотыми волосами, с блестящими веселыми глазами. Маша добрая, ласковая, всегда улыбается, одеяла и простыни сами собой складываются под ее быстрыми руками. В кармане у Маши всегда есть конфетка для меня, а я очень люблю конфеты. И люблю Машу. И Маша любит меня, я слышал, как она говорила воспитательнице: «Валера аккуратный, домашний, не чета всем этим отказникам, я его люблю». Я могу правильно сказать «Ма-ша», но мне нравится звать ее «Ма!» Если повторить дважды, протяжное мычание складывается в «ма-ма». Я рад, что у меня есть друзья, словно вернулась прежняя жизнь, с бабулей. Не совсем, конечно, но все-таки … *** Но однажды мокрой беспокойной весной все меняется. Опять всю ночь кричит и стонет буйный Саша, и я опять убегаю к Жулику. Утром, когда еще не совсем рассвело и мы с Жуликом еще спим в его логове, нас будит противный скрип открываемых ворот, во двор вкатывает грязная серая машина-фургон. Сторож кричит завхозу: – Никитич! Выходи! Собаковозка тут! Кто собаковозку звал? Я просыпаюсь, подбираюсь к дырке в стене веранды, припадаю глазом. Я все вижу и слышу. Из кухни выходит завхоз, смотрит маленькими глазками по сторонам, вытирает большим носовым платком жирные губы, решительным шагом направляется к фургону. В вольере начинает выть загнанный уже туда Пес. Из фургона выскакивают двое дядек в синих комбинезонах, один постарше, бородатый и хмурый, другой кудрявый, молодой, веселый. Открывают двери фургона, вытаскивают крюки и большую сеть. – Ну что, это… – говорит хмурый, – где собака? – А туточки, туточки, – суетится завхоз и мелкими шажками бежит к веранде, подгибая колени, пригибаясь на один бок, вытягивая вперед одну руку, другую заведя за спину и кивая ею, приглашая дядек следовать за ним. – Всю зиму, говорят, тут обитал, а ведь не положено. Скрывался, паразит, хитрый. Если бы нянечка наша, Маша, не сказала, я ни в жисть бы не догадался! Они вместе, завхоз и хмурый, заворачивают за веранду и останавливаются: видят меня и Жулика, испуганных, сидящих в обнимку. И тут Жулик в первый раз за все время нашего знакомства начинает дрожать всей шкуркой, оскаливает белые зубы и рычит – на завхоза, на хмурого, на его крюк и сеть. – Ну, это, – говорит хмурый, – ты, собачка, не бойся, не обижу, поедем со мной, в приют поедем… Там, мож, это… хозяина подыщем… И делает шаг к Жулику. Жулик кидается на дядьку и вгрызается в его сапог. Потом отскакивает в сторону и становится передо мной, заслоняет меня от завхоза и хмурого. И даже я понимаю, что Жулик боится, но все равно защищает меня, своего друга. Сапогу ничего, он крепкий, даже следов от зубов не остается. Но тут происходит непонятное. Завхоз выхватывает у растерявшегося хмурого крюк и быстро сильно тычет крюком Жулику в грудь, прямо под белую манишку. Жулик всплакивает коротко, повисает на крюке, глубже, глубже входит крюк в пушистую шерстку. Потом завхоз встряхивает крюком, Жулик как-то сдергивается с крюка, снова всплакивает и замолкает, упав на куски шифера. Хмурый бормочет: – При детях … Это … Ты, это, не надо, мож, а? Ты это… того… Дети же… Воротным несмазанным скрипом звучит голос завхоза: – Какие дети? Где? Этот, что ли? Да он же не человек, так, табуретка… Ошибка природы. Я мычу: – Не-е, не-е! Я хочу сказать им, что я не табуретка. Табуретка неудобная, твердая, часто выворачивается из-под меня, острые углы больно бьются, пол больно бьется. Я не люблю табуретки. Табуретка злая. Нет, я не такой, я не табуретка! – Не-е, не-е! – Смотри, еще понимает что-то! – удивляется завхоз. – Не хочешь быть табуреткой? Не хочешь? У-у-у, Мухомор! – и сплевывает на землю. Я хочу сказать, я так хочу сказать им, я хочу закричать: «Нельзя, нельзя! Этого нельзя делать! Это ведь Жулик! Это мой добрый Жулик! Его нельзя так! Нельзя!» Но язык, мой большой, шершавый язык дауна, такой же неудобный и топорный, как табуретка, снова подводит меня. Он тоже, как табуретка, выворачивается, не поддается моей воле. Человеческие слова не хотят складываться на этом неуклюжем языке. Я ничего, ничего не могу объяснить им, этому чужому человеку в сапогах и завхозу с крюком. И тогда я смеюсь. Смех для меня – самое сильное проявление чувств. А самое сильное мое чувство сейчас – отчаяние. Такое, от которого и люди, и собаки воют и катаются по земле и грызут землю. Но я почему-то смеюсь. – Вот дурачок, – как-то грустно говорит дядька в кусаном сапоге. – Да, – отвечает ему молодой, подошедший незаметно, – и причем дурачок, склонный к жестокости. Смотри ж ты, как заливается! Смешно ему! У-у-у! … – И добавляет плохое слово. Я обессилел от смеха и горя, ноги не держат меня. Я падаю прямо в холодные весенние лужи. Загребая коленками и полами куртки размокший снег и грязь, пачкая и студя руки, на четвереньках подползаю к Жулику, пытаюсь заглянуть ему в глаза – глаз у Жулика больше нет. Они закрыты, как будто Жулик спит. Совсем как у бабули в той красивой кроватке. Я радуюсь: Жулик больше не видит своих обидчиков. Обнимаю теплую пушистую шею, прижимаюсь лбом к шелковому гладкому лбу с белой звездочкой, замираю. Жулик не двигается. Поднимаю голову. Смеюсь в начинающее светлеть небо. И жалобным воем отвечает мне из вольера Пес. – Да он совсем ничего не понимает! – кричит завхоз. – Мухомор дибильный! Пошел отсюдова! А то щас обоих урою! Пошел!!! Я отползаю по хрупающим подо мной шиферинам в сторону и со стороны наблюдаю, как хмурый берет Жулика за задние ноги в пушистых штанишках, несет к собаковозке и бросает в открытое нутро. Потом с громким лязгом закрывает дверцы. *** Я стою на коленках на земле. Подо мной вода. Лужи весенней талой воды. Вода стекает с живота, рукавов, хлюпает в ботинках. Надо мной – небо, чистое лазурное небо. Я – Тантал. Я знаю это, как знаю и то, что мне положено откликаться на Валера, Валерик, Валерочка. Но меня почему-то зовут Мухомором. Появляется Маша, идет через двор от кухни к жилому блоку, в руках большой таз с нарезанным хлебом. Но я уже не радуюсь вкусному запаху хлеба. Не радуюсь Машиным глазам и волосам. Потому что той Маши, которую я люблю, больше нет. Эта Маша некрасивая. Я не позову ее больше «Ма!» Не назову ее «ма-ма», вообще никак не назову, никогда. Я только, видя ее, буду смеяться, запрокидывая свое круглое лицо с раскосыми нездешними глазами. Бабуля! Ты же учила меня любить всех, ты говорила: «Боженька – это любовь». Как же так, бабуля, почему мне не дают любить? Почему у меня забрали тебя? Жулика? Почему забрали Машу? Почему забирают Боженьку? Бабуля, скорей делай свои дела и возвращайся. Я жду, так жду нашей встречи. «Разве можно маленьких обижать? Маленьких обижать нельзя», – учила меня бабуля. И я хочу сказать: «Нельзя обижать маленьких!» Но у меня получается только: «Не! Не! Ма-аа – не!» Я вспоминаю еще слова бабули: «Если тебе будет плохо, Валерочка, ты смейся. Смейся, внучек. Смейся, мой горемычный». Мне плохо. От того, что все всех обижают. От моего нового имени. От интернатских запаха и цвета. И что воспитательницы недобрые. И что нет больше Жулика. И что исчезла моя Маша. Мне плохо здесь, в этом сером дворе с лужами. И я смеюсь. Смеюсь прямо в это чистое большое небо. Опять вспоминаю бабулю: общее небушко. Неужели же только небо у нас у всех общее? Неужели только небо? Но я, запертый в тюрьме своего диагноза, не могу высказать даже этот простой вопрос. Вместо этого я запрокидываю голову и смеюсь, смеюсь, смеюсь … И общее небо привычно отвечает мне безмятежностью. НЕ часть повести И вот тут, как арлекин на пружинке, появляюсь я, автор. «Гнев богов» родился из сна, в котором нормой были люди совсем необычного вида, не такие, как мы. Всех остальных, обычных по нашим меркам, сгоняли в концлагеря и домучивали до понятного исхода. Этот сон заставил меня уже не в первый раз задуматься о том, что же такое норма и как к этой норме или к отклонению от таковой относятся в нашем обществе. Самый безобидный факт: в нашей стране всё – для праворуких, включая автомобильное движение, застежки, ножницы (сейчас, правда, есть ножницы для левшей, лично я, закоренелый праворук, не могу ими резать вообще; представьте, что такое же мучение представляют для левшей обычные ножницы). А бесподобное убеждение учителей, что норма – именно праворукость? Да, детей давно не переучивают на правую руку, но убеждение осталось. Мой лучший друг – левша, и он рассказал мне такой анекдот из своей жизни. В первом классе друг прекрасно знал, какая рука у него левая, какая – правая. Когда учительница говорила: «Детки, поднимите правую руку», друг делал это безошибочно всегда. Но тут же учительница, видя затруднения некоторых ребят, неизменно добавляла: «Ну, детки, ту, в которой вы держите ручку». И вот тут-то мой друг начинал путаться. Неудивительно, что он путается до сих пор, хотя ему уже 17 и он несомненно умный и адекватный человек. Почему мы решили, что норма – праворукость? Потому что нас, правшей, больше? Почему заикание – не вариант нормы, а именно недостаток? Не потому ли, что у заики больше времени обдумать свою мысль и, следовательно, его решения могут быть взвешеннее и мудрее, чем решения его скороговорящего собеседника? Почему во всем мире синдром Дауна – это не болезнь, а именно синдром, то есть совокупность определенных признаков, а у нас дауны приравниваются к прокаженным, от которых в лучшем случае надо боязливо отвернуться? В худшем – попытаться убедить родителей отказаться от дауненка, обречь его на существование в вакууме, отдельно от человеческого тепла и участия, лишить его возможности развиваться и адаптироваться к жизни? Почему дети-инвалиды в цивилизованных странах получают инклюзивное образование (в обычной школе вместе с обычными детьми), а у нас нет общеобразовательных школ, приспособленных (лифты, пандусы, яркие полосы вдоль коридора и по периметру дверей, низкие раковины и низкие дополнительные перила и прочие мелочи, облегчающие жизнь таким ребятам) принять детей с ограниченными возможностями? Ответ один: мы так ограниченны в своих представлениях о мире, так закомплексованы рамками своего эгоизма, что любую непохожесть отвергаем безоговорочно. Это все от узости взглядов и жестокосердия. И что уж тогда говорить о пенсионерах или детях-сиротах, судьбы которых вообще за гранью внимания и – главное – за гранью понимания большинства обывателей? Танталовы муки взаимонепроникновения… Имя вам – человеческие черствость, корысть, равнодушие… Их много, таких, как Валера, не принимаемых нашим российским обществом с нормальным количеством хромосом. Если они остаются в семье, на такое же непроницание часто становится обречена семья. Но особая речь – об инвалидах вне семьи, инвалидах любого возраста и с любым диагнозом. У нас с ними все разное. Разные слова, разные жизни, разное будущее. Уютные дома и современные школы – и пахнущие маломясными котлетами и мочой интернаты, пахнущие бесприютностью и отчаянием, безумием жестокости. Одежда из бутиков или дешевая, но яркая, с претензией на роскошь, с рынка – и одинаковые спортивные костюмы, одинаковые пижамы в интернатах для неполноценных. Разная земля: ухоженные сады и клумбы – и серый в выбоинах асфальт интерната … Может, другие интернаты лучше. Наверняка лучше. Но большинство такие. И разве интернат, даже самый распрекрасный, – это выход? И только небо у нас общее на всех – на богатых и бедных, на живых и мертвых, на больных и здоровых, на обычных, у кого 21 хромосома, и на тех, кто родился с лишней хромосомой и оказался лишним под этим общим небом. Но о социальной несправедливости на страницах моей повести – все. Хватит! Хватит нам и морально-этических проблем. Продолжим нашу историю. Интермедия-1 Валера «Головоломки и истории» Это все, что вы только что прочитали, было год назад. А потом все изменилось. Я все изменил. Просто я захотел вернуть в мир Боженьку и просто я очень люблю истории и головоломки. В тот день я долго стоял на коленках в ледяной воде, потом вернулся в корпус и продолжил жить без друзей, а потом однажды в спальне и случилось то, что помогло мне все изменить. Мальчику Юрчику, совсем маленькому и совсем-совсем ничейному, нянечка сунула в руку – чтоб не плакал – плоскую коробочку-головоломку с квадратиками. На каждом квадратике – цифры, которые ни о чем Юрчику не говорили, да и сама коробочка ни о чем не говорила и была ему не нужна. Юрчик вяло выронил коробочку, и она осталась лежать между нашими с Юрчиком кроватями. Я взял коробочку себе. И вот мне-то она рассказала о многом, я ведь знал цифры и счет. Я сразу понял, что числа надо выстроить по порядку от 1 до 15, чтобы сложилась картинка – улыбающееся солнышко – и начал толстыми неуклюжими пальцами двигать непослушные квадратики. В мозгу выстроился четкий путь каждого квадратика на свое законное место. Мое сознание покинуло интернат, я двигал квадратик и не знаю зачем загадывал желания: шажок – пусть пальцы станут ловкими, шажок – хочу, чтобы слова складывались на языке, шажок – пусть интернатским станет хорошо, шажок – … Таких разобранных игр-пятнашек в интернате оказалось много: когда-то их завезли сюда большой партией. Я их сгреб себе и стал собирать картинки. Никто не возражал. Так я овладел примитивным двухмерным (вправо – влево, вверх – вниз) пространством нашего мира, и настолько ловко, что через месяц у интерната появился богатый честный спонсор, еще через месяц завхоза и грубых нянь уволили, нас стали называть по именам, а Сашу перестали привязывать, а стали лечить массажами и травами. Потом в углу игровой обнаружилась коробка игр-лабиринтов с одиноким шариком, мечущимся по кривым дорожкам. И снова та же игра: отрезок пути – пусть Маша не выдаст Жулика, еще один – пусть собаковозка никогда не заезжает в наш двор… Но с Жуликом тогда ничего не получилось, и я начал понимать правду о смертях и убийствах. Во всем остальном лабиринты работали исправно, и еще через три месяца из тридцати двух детей в интернате не осталось ни одного ребенка: все жили в семьях. Остался один я – я не хотел ни в какую семью, только к бабуле. Для этого ни «пятнашки», ни лабиринты не подходили, мне надо было освоить трехмерное пространство, и я загадал найти за верандой, в бывшем логове Жулика, облезлый кубик Рубика, который потерялся когда-то из интернатского ящика с игрушками. Нашел. И стал выстраивать свой прежний мир. Я начал с того, что представил, будто все возможно. Как будто можно вернуть прошлое и можно самому построить свое счастье. Я вертел в толстых пальцах кубик и вспоминал. Вспомнил, как порезал палец прошлой зимой, и капля крови набухала ярким шариком, а я спешил неловкими пальцами отвинтить крышечку пузырька с зеленкой. И на полу материализовался ковер, в углу ковра – пятна от зеленки, на них надо поставить тумбу с телевизором. Зеленку пролил я, и бабуля переложила ковер так, чтобы пятен не было заметно. И я ставлю на эти веснушки тумбу с телевизором, у противоположной стены – бабулино кресло, рядом торшер под уютным розовым абажуром, старинные шкафы со старыми книгами и новыми игрушками. И придумал новый стеллаж с пустыми полками, тогда я еще не четко представлял его роль. И никуда не годятся интернатские окна с пустым видом на серый асфальт, и я заменяю их на наши с бабулей окна с белыми занавесками и солнечным лучом сквозь зеленую крону. Потом появились еще две наши комнаты, даже с картинами, которые забрала тетя Оксана, и с кладовкой, где живет домовой. Потом мне понадобились магазины, школа, детская площадка, хорошие соседи… Так я восстанавливал свой мир. Возможно, город не совсем тот, что был на другой грани, но он есть, он восстановлен, он реален и прекрасен. Так я стал Корректором. В каком мире я живу? В том, где сбываются мечты. В том, где я могу прослеживать не очень удавшиеся судьбы, обладатели которых умерли и сейчас поняли, что хотели бы выстроить свою жизнь заново. В том, где я могу такие судьбы изменять, улавливая искреннее и очень сильное желание раскаявшихся. В том мире, где каждый по-настоящему желающий может получить второй шанс. Человек возрождается на другой грани и, возрожденный, проживает свою жизнь заново, с чистого листа и с очистившейся душой. Мне хорошо в этом мире и в этой роли, хотя и трудно. В этом мире я вижу все миры, на всех гранях, Я могу связно говорить, могу математически рассуждать, могу даже – невероятно! – записывать то, что происходит с нами и Вселенной С цифрами, правда, у меня так и не срослось: я могу решать головоломки, считать до 100, но считать предметы мне сложно, поэтому на кубик у меня не всегда приходится по 6 историй, бывает и больше, ведь судьбы людей в мире часто бывают похожи, и еще чаще они пересекаются. История-1 Анжелика «Дриада» Душа обязана трудиться… Николай Заболоцкий *** В неизвестное время в неизвестном месте Душа не хотела просыпаться. Потому что даже сквозь сон помнила, что проснуться ей суждено в неволе. Почему она, а не кто-то из её сестёр? Они-то, счастливицы, остались дома, продолжая выполнять свою привычную домашнюю работу! А она … Как она очутилась здесь, она совершенно не понимала. Хотя помнила всё, до мельчайших капель тумана, висящего над её родным миром, до горячих лучей тамошней звезды, таких горячих, что они казались весомыми, властно ложащимися на туго переплетённые стволы. Зато и жизнь под этими горячими, но неяркими лучами, в этом тёплом тумане, цвела вольготно, не задумываясь о своей скоротечности, расточая жизненные силы на взращивание цветов, цветочков, цветищ, соцветий, огромных и преогромных плодов, на выпестывание биллионов побегов, на вынашивание триллионов семян… Мир, в который душа попала теперь, был скуден, по меркам её мира – почти бесплоден. Душу удивляла чахлость этого мира. Удивляло еще и то, что жизнь есть не только на производителях, но и под ними, прямо на почве. Удивляло обилие места и разрозненность этих странных… кого? Она и производителями-то не могла их назвать. Не было в её языке слова для этих уродливых существ: слишком прямы, слишком горды, слишком необщительны... И почему такое неоправданное смешение функций в разных породах? Разве не целесообразнее было бы разделить производителей на три вида: добытчиков, водопроводчиков, фильтровальщиков? А вот разнообразия в плодах почему-то мало: сплошные органические строители клеточной массы. И почему они не переплетаются, обнимаясь друг с другом, почему не ложатся стволами одно на другое, почему допускают свет к почве? Почему, почему, почему? Сплошные вопросы – и ни одного ответа. Пришёл, правда, ответ на один из многих вопросов: д е р е в ь я. Это было слово для здешних производителей. Что ж, слово как слово. *** Далёкая-предалёкая планета, когда-то, теперь и навсегда Душа помнила, как тесно и весело жилось ей в родных местах! Те производители (д е р е в ь я, вспомнилось ей новое слово) оплетали весь мир, занимали весь его нижний ярус, ни единого просвета не оставляя, надёжно защищая поверхность планеты от страшного космического излучения. Производители сосали соки из самых недр, перерабатывали их, превращая в питание для обитателей второго и третьего ярусов, пили туман, замешанный на звёздном свете, фильтровали его, скапливая в плодах и чашах листьев в виде воды и питательного бульона, фильтровали энергию, делая её безопасной для жителей верха. Но самой главной работой была защита: защита планеты от звезды. Почва содержала в себе такие химические соединения, которые под воздействием звёздного света просто разорвали бы бедную маленькую планетку на части. Что и случилось постепенно с другими планетами этой системы. Жизнь осталась лишь на этой, наиболее удалённой от звезды. До этой планеты лучи доходили, уже растратив часть своей разрушительной силы. В полусне душа вспоминала, как всё начиналось… Миллиарды миллиардов лет формировался тот мир. Планета боролась за жизнь. Боролась – и чахла. И близок был час нового всплеска активности звезды. Излучение вот-вот должно было стать более мощным, в сотни раз более мощным. И тогда – неизбежная гибель того, что с таким трудом и отчаянием цеплялось за жизнь. И в некий момент явился на планету коллективный разум, посланец Великого Мирового Разума. И стали на планете души. Много душ, колония душ, объединённых общей целью, общей центральной и периферической нервной системой, общим разумом. И поселились души в самом надёжном и единственном, в чём могли поселиться, – в производителях. И стало так, как сейчас. Производители взвалили на себя всю власть и всю работу. Они были господа и абсолютные диктаторы для других форм жизни. Но они одновременно были и абсолютными рабами, неся на себе всю тяжесть защиты и приспосабливаясь к нуждам жителей верхних слоёв. Было сложно, иногда было безумно сложно понять, какие механизмы жизнедеятельности лучше активировать в определённый период существования, какие формы животной жизни поддержать, а какие уже отжили своё, навсегда оставшись лишь промежуточным звеном цивилизации. Душа улыбалась сквозь сон, вспоминая свой мир, свою каждодневную борьбу за безупречность и непробиваемость покрова, за отсутствие малейшей щелочки между стволами. Вздохнула, вспоминая борьбу за каждый вид животного мира: попробуй обеспечь пищей всех, от микроскопически малых до почти космически огромных! «Но ведь обеспечиваем», – подумалось ей, и вновь улыбка заиграла на губах. *** И вновь на неизвестной планете в неизвестное время Душа не хотела просыпаться. Но что-то толкало, подначивало, властно звало. Она прислушалась, всем своим существом потянувшись на зов. Поняла: свет этой звезды не опасен для жизни, даже благотворен. Не в особенностях мира дело. Дело в том, что эти уродливые, несчастные, немощные деревья погибают в атмосфере и почве, загрязнённых, почти уничтоженных другими формами жизни. «Конечно, – подумала душа, – вас мало, вас слишком мало, вы слишком слабы, вам не справиться самим. И что здесь было? Сбой? Посмотрим-посмотрим… Да, был сбой. Посмотрим…» Потянулась разумом к здешним деревьям, прощупывая их мир, их жизнь, заглядывая в самую сердцевину. И содрогнулась, потрясённая ужасом и радостью одновременно: у этих деревьев не было душ! Две мысли застучали в ней. И первая была: «Бедняжки!». Вторая была: «Я помогу, помогу, МЫ поможем!» Радостная дрожь, дрожь предвкушения действия, большой и трудной работы охватила душу. Она поняла, зачем её забросило в этот вымороченный, больной мир. Она не в неволе, нет. Она на своём месте! Она поможет, она обязательно поможет! Методы действия будут иными, чем в её прошлом мире, она осмотрится ещё немножко и поймёт, как ей действовать. Душа закрыла глаза, вновь погружаясь в сон. Но это был осознанный сон, плодотворный сон это был. Душе надо было возрасти многократно, чтобы потом разделиться на части, рассыпаться, распространиться по всей больной планете. Надо было разорваться на части, чтобы помочь. Душа делала это с радостью. Вновь Великий Мировой Разум не остался безучастным. *** Терра Нова, 2084 год «Трудно, болезненно возрождается Земля после ядерной катастрофы. Да, постоянно забываю, теперь мы – Новая Земля, Терра Нова, хотя правильнее было бы Терра Инкогнита. Нам предстоит много работы. Очищение атмосферы, почвы, водоёмов, работа с генофондом человека и животных ... восстановление утраченных (то есть всех! абсолютно! включая элементарное электричество!) технологий. А тут ещё эти деревья… Похоже, на них выброс энергии воздействовал больше и хуже, чем на все остальные формы жизни. Что за неконтролируемый бурный рост, что за причудливые (чудовищные!) формы и виды! Что за непривычная непокорность! Надо, срочно надо вносить генетические коррективы в растительный мир! Хотя… сколько уже мы пытаемся что-то сделать? Сколько? Да более 60 лет. И всё безуспешно. А может, Бог с ними, с этими деревьями? Ну чуднЫе, ну разрослись. Мало, что ли, без них проблем? Человеческого населения, здорового населения, осталось всего полпроцента. Животные тоже в большинстве своём либо погибли, либо заражены. А деревья… Пусть себе растут. Радиации в них нет, что само по себе нонсенс! Ведь тысячи тысяч раз уже проверили и перепроверили – нет радиации! И необычные плоды только пользу приносят, медики утверждают: кровь очищают эти плоды. Есть даже такие плоды, и их немало, которые содержат чистый кислород. И все (абсолютно все!) плоды корректируют структуру ДНК. А необычные листья и корни очищают воздух, воду и почву. И у тех, кто обосновывается в рощах и лесах, дети рождаются здоровыми. Проверено уже несколькими поколениями. А матери детей-мутантов несут ребятишек в лес, живут там… И, говорят, детишки выздоравливают… И есть надежда на выздоровление у взрослых, даже у взрослых!.. Кто знает, правда это или вымысел? Кто знает… Похоже, скоро вся земная цивилизация сосредоточится в лесах, города опустеют и обветшают. Уже появились смутьяны и повстанцы движения, объявившие леса территорией Нового Бога. Они зовут его Отец Наш Эко. От этих фанатиков них исходит опасность для всего учёного сообщества. Наступает новая эра? Эра экологического очищения и костров новой инквизиции? Возможно…» (Из личного дневника Президента Сообщества Свободных людей планеты Терра Нова) *** Терра Нова, 4012 год «И пошло по миру святотатство, рождённое от учёных. И лежал мир в руинах. И не было у людей чистого воздуха, и чистой воды, и чистой земли, и чистой пищи. И рождались у женщин мутанты, нарушающие Закон Божий о подобии человека Господу. И отчаялись люди иметь чистый воздух, и чистую воду, и чистую землю, и чистую пищу. И отчаялись люди быть подобием Господа на земле. И возопили к Господу: «Господи, Отче наш! Снизойди к нам, грешным! Избави нас от зла, наукой рождённого, защити дома наши, и жён наших, и детей наших! И будем мы вечно славить имя Твоё!» И смилостивился Господь над жалкими рабами своими. Ниспослал Господь чадам своим дриад, уничтожительниц скверны. И пришло в мир добро. И стали прекрасные деревья, и травы, и цветы. И стали чистый воздух, и чистая вода, и чистая почва, и чистая пища. И снизошло исцеление Господне на взрослых и на детей. И явилась у матерей надежда на здоровое потомство. И посрамлена была наука в мракобесии своём. И изгнаны были учёные из мира, дабы не могли нанести новый ущерб. И воцарилась жизнь в многообразии форм и видов, угодных Господу нашему. И прославили люди Господа, говоря: «Спасибо, Господи, Отец Наш Эко, тебе, что ниспослал в мир наш спасение!» И будет так во веки веков, пока текут соки в жилах растений. И будут славны дриады, посланницы Господа на земле. Аминь» (Библия. Новый Экологический Завет) *** «Дриады (др.- греч. Δρυάδες, от δρΰς — дерево, в частности дуб) — нимфы[1], покровительницы деревьев. Существовало поверье, что человек, ухаживающий за деревом, пользуется их особенным покровительством» (листы Википедии, Древней Книги Знаний) *** В новое неизвестное время в новом неизвестном месте Однажды душа возродилась к новому дню и вновь, как давным-давно, как много-много раз до этого, услышала зов, властный и требовательный. Она не помнила, чтó означает этот зов. Не знала, где она находится. Понимала лишь, что настало нечто новое, настала разлука с сёстрами, настало время новой трудной работы в новом обиженном мире. Ничего, она /они / справится. Такая уж у неё, у души, жизнь. А раз жизнь дана – её надо жить! *** «Мировая душа (греч. ψυχὴ τοϋ κόσμου, лат. anima mundi, нем. Weltseele) — (в философии) единая внутренняя природа мира, мыслимая как живое существо, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами. Многие философские учения, выводившие единство мира из вечной области бытия идеального или умопостигаемого, признавали, однако, и живущую во всех явлениях Мировую душу как подчинённое начало, воспринимающее и осуществляющее в чувственной области и во временном процессе высшее идеальное единство, вечно пребывающее в абсолютном начале. Такой взгляд на Мировую душу был изложен в «Тимее» Платона и затем стал одним из основных пунктов в философии Платона и неоплатоников» (листы Википедии, Древней Книги Знаний) *** Мировой Разум по-прежнему не дремал. Интермедия-2 Валера «Истории и смерти. Перемены продолжаются» Это – первая история для этого кубика. Дриада была лесником, сгорела в лесном пожаре, который возник банально от банального костра в жару; самое обидное, что дриада сгорела без пользы, она проспала весь пожар в пещерке холма над рекой, не слышала криков животных и деревьев, не чуяла их боли, не чуяла запаха гари и дыма, и очнулась лишь тогда, когда факелом вспыхнули ее роскошные волосы и спастись было уже никак нельзя; она, привыкшая всем помогать, видевшая в этом смысл всей жизни своей, не может до сих пор себе простить этого; эта оплошность и тяготит ее сейчас больше всего. Я выбираю для дриады зеленые квадратики. ЗЕЛЕНЫЙ Зеленые елки, серые волки, на елках шишки, лес спалили злые мальчишки. Я люблю истории, всегда любил. Я хорошо запоминаю то, что слышу, а еще лучше я мысленно меняю плохие концовки историй на хорошие. В моей сказке про колобка колобок всегда успевает укатиться от хитрой лисы. Раньше я слушал бабулю, радио, телевизор, учительницу в школе. Теперь я загадал, чтобы истории приходили ко мне сами, и они стали приходить словно бы из ниоткуда. Я – Корректор, я отбираю истории, в которых нить повествования легла неровно или завязалась узлом. И я могу выправить нить или сгладить узел, однажды я смог распутать узел, но это было лишь однажды, и так тяжело было после, что больше я не пробовал. А один раз я выторговал новый поворот нити у самого Слепого Случая, тогда я вообще стоял на грани, на самом краю попасти, и мне было все равно – что упасть, что потерпеть поражение. Но я и не упал, и вымолил у Неба невинную жизнь. Чтобы исправить историю, я пользуюсь головоломками. Мне подходит не любая: пятнашки, лабиринты, маджонг ограниченны в возможностях. Мне нужны объемные структуры . Пока я выбрал кубик Рубика, его грани напоминают мне о многогранности, хотя и намного большей, нашего мира. Итак, истории продолжаются. История-2 Владислав (Дельфин) «Поединок с тенью» *** Послушай, послушай… Слышишь? Ты слышишь? Это чайки кричат, кличут, зовут. Чайки – это голоса моря, это голоса воды. Ибо кто еще может сказать за море? Ветер и волны? В их звуках нет чувства, а порой нет и смысла, как нет смысла в их вечном споре, истачивающем скалы, сглаживающем горы, меняющем берега. Может, ты считаешь голосом моря посвист дельфинов? Дельфины лишь на глубине, им дела нет до тебя, им дела нет до твоей тоски по голосу стихии. Корабли? Гудки кораблей – голоса моря? Ты смеешься? Как могут быть голосом моря инородные, чуждые ему предметы? Неживые железные тела, тяжело оседающие на дно и ржавеющие там долго, долго и безмолвно? Рыбы не немы лишь в лоне воды, и то не немы лишь для себя самих. А ты? Как тебе услышать истории, хранимые морем? Как? Да просто. Закрой глаза. Покрепче. Еще крепче. Раскрой уши. Превратись в слух. Отсеки ненужные звуки, те, что мешают слушать. Прислушайся к крикам чаек. Прислушайся. И ты услышишь… *** Моя самоидентификация и одновременно моё раздвоение случились в момент моей встречи с морем. Нет, не так. В момент моей встречи с МОРЕМ. МОРЕ очаровало, обаяло меня? Может быть. Не знаю. Знаю точно, что МОРЕ меня взяло в плен, поработило, подчинило себе все мои помыслы и желания. Значит ли это, что я захотел связать с НИМ мою судьбу? Стать моряком? Нет! Конечно, нет! Я об этом даже и не думал. Я тогда и словато такого – моряк – не знал. И в то же время – ДА, ДА, ДА! Я чувствовал, что моя участь – жить в этом жутком, загадочном мире, слиться с НИМ навсегда! Это было страшно, но это было неизбежно, мощно и прекрасно. Волны пели в сонном движении, поджидая меня. Прибой шумно пожирал камни на берегу. Пена с шипением грозила белыми костляво-кружевными пальцами бледным небесам. Серо-зелёная простыня качалась, пучилась, искажая очертания скал справа от меня. У меня кружилась голова, туманился взгляд; звуки моря, птиц над морем, людей на берегу наползали друг на друга. Из этой сумятицы выплыло сначала красивое мамино лицо с обеспокоенными глазами и шевелящимися губами, близко-близко было это лицо, потому что мама склонилась надо мной, вглядываясь в меня, потом до меня докатился встревоженный мамин голос. Она говорила отцу: «Послушай, наверно, ему ещё рано для моря». Ему – это мне. Мамина тревога ещё более укрепила мой страх. Я не мог сосредоточиться на чём-то конкретном. Я растворился. Меня не было. Было МОРЕ. И МОРЕ было огромно. МОРЕ было ужасно. МОРЕ было чем-то тем необыкновенным, мистическим и настолько пугающим мою детскую душу, что я вдруг ощутил, что я – точка, микроб, бесправный и беспомощный, что меня нет – настолько я мал. С этого момента я исчез, я ушёл в пучину, в волшебный мир зыбкой, колышущейся, струящейся воды. А на берегу осталась моя тень, мой двойник. Подмены не заметил никто. Мне было два с половиной. Три недели креп разрыв между мной и моей тенью. Тень плескалась в кромке прибоя, заливалась смехом, собирала полупрозрачные белые камушки, осколки мидий, ловила ручонками желейных медуз. Мама и отец были счастливы, тревога мамы развеялась. А я, настоящий я, уходил с каждым плеском прибоя всё дальше и дальше. Я был у берега – но на самом деле я путешествовал. Я погружался в музыку волн, я слышал пенье китов, симфонии, сыгранные на струнах водорослей, ноктюрны раков-отшельников… Я видел играющих в прятки морских коньков, жадных устриц, всю свою скучную жизнь дрожащих над своими жемчужинами, видел бороды водорослей на высоких мачтах затонувших кораблей и раковины морских улиток, крепко приклеившихся к бортам мёртвых судов – улитки хотели путешествовать и не догадывались, что эти корабли уже никуда не поплывут, видел длинные весёлые лица дельфинов… И было в этой пучине ещё лицо. Ребёнок моих лет. Девочка. Я хотел рассмотреть её поближе. Хотел подружиться. Но она уплывала, всегда уплывала, взбаламучивая придонную воду чешуйчатым хвостом. И я уплывал – за ней, всё дальше и дальше. Они не замечали. Как удобно, когда можешь оставить вместо себя свою тень! Скоро я настоящий перестал понимать человеческую речь, человеческую мимику и жесты. И даже прекрасное лицо мамы, по которому ранее я безошибочно угадывал всё, весь мир, стало вдруг для меня загадкой. Люди для меня стали ОНИ. ИХ ценности, ИХ печали, ИХ радости – все эти мелочи больше не волновали меня. Я перестал принадлежать ИХ миру. Мама снова что-то почувствовала, снова с беспокойством вглядывалась в моё лицо. Мне было всё равно. Что взволновало меня – так это наш отъезд. Отпуск родителей закончился. Мы уезжали в Москву. Меня отрывали от МОРЯ, меня вырывали из моего мира! Как же я смогу быть без НЕГО? Нет! Нет! Не надо! Не разрывайте меня! Что я мог объяснить ИМ? Да ещё словами двухлетнего ребёнка? Ничего. И пришла темнота. *** Что было дальше? Жизнь. Я жил. Вернее сказать, жила моя тень. Я рос, учился, занимался бальными танцами. Хотел пойти на плавание – родители не пустили. И на море (МОРЕ для меня стало просто морем) мы больше не ездили. Никогда. И опять это было решение родителей: из тех событий теперь уже многолетней давности они сделали вывод, что море вредно для моей впечатлительной психики. Окончил школу, сдал экзамены, выучился в университете, стал программистом, женился. Женился просто так. Не было большой любви, как раньше не было настоящих друзей или, скажем, всепоглощающих увлечений. Всё было в порядке. И вдруг жена сказала: «Скоро лето, отпуск. Давай съездим на море!» Нет, она сказала не так. Она сказала: «На МОРЕ!» Для меня снова всё ожило. Я ожил. Я снова появился. *** Пока мы летели в самолёте, я не мог отвечать на вопросы жены, не мог думать ни о чём, кроме: «Я возвращаюсь. Я возвращаюсь. Жди. Скоро я буду дома.» МОРЕ не изменилось. МОРЕ пело, МОРЕ поглощало, МОРЕ звало. Волнующая музыка глубин, чарующие краски волн, плывущие контуры скал. Я купался в счастье. Какая тень? О чём вы говорите? Это Я! Я! Я! Я жив! Я счастлив! Здравствуй, море! Я погружаюсь в волны! Я упиваюсь свободой! … Водоросли приветливо кивали мне, медузы подмигивали щупальцами, кораллы дружелюбно светились, стайки рыбок звали: «Сюда, сюда», морские коньки дразнили: «Догони!» … А вот лицо. Я видел его. Видел тогда, много лет назад. Тогда это было лицо маленькой девочки, теперь – взрослой девушки, моей ровесницы. Она выросла, как и я. Но я узнал её. Ради этого лица, ради этих серо-зелёных мерцающих глаз, ради этих смеющихся губ я готов был забыть всё, готов был оставить всё. … «Пойдёшь со мной?» – спросила моя русалка. «Да! Да! – ответил я – Навсегда с тобой!» Она засмеялась, я засмеялся тоже, покоряясь чудесным переливам её голоса. … И я ушёл. Ушёл с ней, с той, которая покорила меня много лет назад, имя которой – русалка, имя которой – море, имя которой – свобода, имя которой – пучина, имя которой – бесконечность, имя которой – любовь, имя которой – счастье … На самом деле у неё много, неисчислимо много имён, и одно из них – конец, а ещё одно – начало … *** Самолёт в Москву готовился к отправлению. Пассажиры исподтишка, осторожно, чтобы не ранить своим любопытством, поглядывали на красивую молодую женщину в трауре, совершенно убитую горем. Шептались о том, что грузовым самолётом отправлен страшный багаж – тело её молодого мужа, утонувшего вблизи этих берегов. Но это были лишь слухи: тело искали неделю, но так и не нашли, молодая вдова улетала одна. *** Чайки донесли до нас, что тот самолёт уже поднялся в небо. Он вёз в каменный город мою жену и мою прошлую жизнь – мою тень. Для неё наступил конец. Для меня – наконец-то – пришло начало. *** Послушай, послушай… Слышишь? Ты слышишь? Это чайки кричат, кличут, зовут. Чайки – это голоса моря, это голоса воды. Ибо кто еще может сказать за море? Послушай, послушай… Слышишь?.. Ты слышишь?.. ________________________________________________________________________ Дельфин – утонул, вернее – пропал без вести в море, вошел в воду и больше не вышел, и не было ни шторма, ни даже просто волн; его цвет – СИНИЙ Синий, синий, цвет глициний, цвет волн морских и плавных линий … Понятия не имею, какого цвета глицинии, но звучит неплохо Интермедия-3 Валера «Без корректировки» Довольно часто ко мне приходят истории, которые я не могу (или не хочу) исправлять. Некоторые из них легки и свободны, как воздушные шарики. Летите, истории, летите! Вы обойдетесь без моего вмешательства. Некоторые истории просто неподъемны для меня, как история НЕ Счастливого Принца, уставшего от жизни. Без корректировки-1 Виктор Андреевич «Not Happy Prince» Жил-был в одном городе, не южном, но и не северном, не крупном, но и не из маленьких, один человек. Был он не злой, но и не сказать, чтоб очень уж добрый, не жадный, но и не бесконечно щедрый, не шибко умный, но на жизнь его разума хватало… И был в этом человеке некоторый оттенок романтизма. Давно на уроках английского языка в школе этот человек слышал сказку Оскара Уайльда «Happy Prince». Сказка запомнилась ему, и, став взрослым состоятельным человеком, он решил воздвигнуть памятник Счастливому Принцу в своём родном городе. Почему? Ну так красиво же! Раздобыл книжку Уайльда и, руководствуясь текстом, воздвиг! В точности такой, как в книжке. Сам сделал эскиз, сам на время стал скульптором, постиг тонкости отливки, отделки, установки. Привлёк к проекту множество мастеров. Не пожалел ни денег, ни сил. Воздвиг, полюбовался и – забыл. И вот стал памятник стоять на одной из площадей города, в окружении вечнозелёных сквериков, разглядываемый малышами и их бабушками / нянюшками. Иногда к нему приходили влюблённые, некоторое время даже была традиция привозить к нему новобрачных. Но традиция эта как-то незаметно сошла на нет. То ли потому, что жизнь в городе текла ну совсем уж неромантично. То ли потому, что таланты создателя как скульптора были не столь выдающимися, и Принц выглядел несколько апатично и сонно. Стоял памятник, стоял. Проносилось над ним седое время в неостановимой колеснице. Ветшал памятник, ветшал. И – обветшал совершенно. Рубин со шпаги и сапфировые глаза выпали на клумбу под постаментом, смешались с землёй да так и лежат в почве, бесплодные, мёртвые. Листовое золото пообтрепал ветер, поразносил невесть куда. Подбирали время от времени горожане хрустящие пластины то с капота машины, то с крыльца дома, то снимали их, прилепленные ветром, со стен домов и с заборов. Рассматривали, недоумевая, трепещущие листочки, измятые, дырявые, потемневшие, а иные и запачканные птицами, и отпускали с миром лететь дальше. И не то чтоб никто в этом городе не нуждался в помощи. Нуждались, и остро. Были там, как и повсюду, и бедные трудяжки-матери с умирающими от болезней и нищеты детьми, были и бедные студенты, замерзающие в холодных каморках, были и бездомные мальчики, обессилевшие от голода. Было, всё было в этом городе. И не то чтоб не было у Принца доброго сострадательного сердца. Ещё и как было! Как же оно рвалось на части от горя при виде чужих страданий, это бедное оловянное сердце! Но оно не лопнуло от лютой стужи: помните, город-то был не северный, – а просто тихо окислилось в неживой груди. Пришёл однажды на площадь к подножию Принца его создатель. Ещё более богатый и влиятельный, чем прежде. Ещё не старый, но уже не радующийся жизни. Случились в жизни создателя к тому моменту три развода с жёнами, один развод бывшим партнёром по бизнесу, один инфаркт, два неудачных замужества дочери… Шёл к Принцу, как будто к своей молодости шёл. Посмотрел на памятник, поморщился, понурился, развернулся, решительно зашагал прочь, сопровождаемый телохранителями и осенним ветром. На следующий день памятник разобрали. И не послал Господь в этот город своего Ангела с просьбой принести самое ценное, что там есть. Ибо ничего ценного в городе том не было. *** Мораль сей басни такова: не в принцах соль жизни, а в их поступках. Лишь бы они (поступки эти) были. А к нашему Happy Prince так и не прилетела его Little Swallow, городто был не южный, как Вы, конечно, помните. Вот и весь сказ. ________________________________________________________________________ Уставший умер не от инфаркта, как можно было предположить, и не было это суицидом, а просто вдруг обнаружилась у него опухоль, от которой он и сгорел в 3 недели; переполошив всех врачей, напугав всех родственников завещанием в пользу сиротских приютов; слава Богу, завещание не было заверено нотариусом, не успел предприниматель. Я бы и рад помочь ему, но не за что уцепиться: ни глубокого чувства, ни яркой мысли. Одно, что и было у него сильного в жизни, – так это памятник и завещание, да и эти дела были лишь бледным ксероксом чужих задумок и прошли как-то тихо и незаметно в суете жизни, не оставив заметного следа на глади его души. История-3 Александр «Поединок с тенью-2» 1. С самого раннего детства, с того момента, с которого я начал себя осознавать и помнить, я помнил его. Он всегда был одет так же, как я. Он питался тем же, чем я. Он видел, слышал, ощущал то же, что я. Он слушал те же сказки, читал те же книги. Он вечно повторял мои движения, мои слова, он дружил с моими друзьями, он ненавидел моих врагов. Он сидел со мной за одной партой. Он возвращался со мной из школы и входил вместе со мной в дверь моей квартиры. Вернее, в дверь нашей квартиры. Он был мой брат-близнец. Не виртуальный. Не бред больного воображения. Настоящий. Мы родились у одних родителей, в один день. Я – на 8 минут раньше. Я знал о своём старшинстве, и мысль об этом так прочно засела в моей голове, что я и воспринимал Вовку как своего двойника, как свою вечную тень, от которой не отвязаться, не открутиться. Иногда я его ненавидел (когда родители ругали меня за непоседливость, а его ставили мне в пример как тихого и рассудительного мальчика). Чаще – просто терпел. Любил? Да, конечно. Как любят свою руку, ногу, без которых не могут жить, к которым привыкли. Любил ли как брата? Нет. Я всегда думал так: «Когда люди рождаются в один день и час, мысль о братстве не приходит им в голову. Вот если бы я был действительно старше (хотя бы года на два), я наверняка просил бы у родителей братика. Ждал бы, воспринимал бы его как брата. А здесь – тень. Моя тень». Вовка и по характеру всегда был мягче, спокойней, не высовывался, не претендовал на моё место лидера. В общем – настоящая тень. Мне было удобно. Родители, казалось, не замечали странности наших отношений. И учителя, и одноклассники тоже воспринимали нас, двух братьев, без вопросов. Внешне нас хотя и с трудом, но всё-таки различали. А в поведении мы были абсолютно разные. Учителя всегда хвалили нас: меня за лидерство, таланты и успехи в учёбе, а Вовку – за спокойный покладистый нрав и за прилежание. Тихому Вовке тоже было комфортно в его роли второго. 2. Однажды в нашем классе появилась Ольга. Все мальчишки сразу дружно влюбились в неё. И я не стал исключением. У меня положение было даже намного лучше, чем у других: я всегда был лидером, активным в учёбе, спорте и проделках на переменах. И Ольга обратила на меня внимание. Я потеснил с парты Вовку, чтобы освободить место для неё. Так началось моё предательство, о котором я тогда ещё не подозревал. Я шутил, корчил рожи, изображал в лицах анекдоты, закачивал на телефон самую модную музыку и самые смешные картинки, побеждал на олимпиадах, спорил с учителями – всё для того, чтобы понравиться Ольге. Но я не думал, что моим главным соперником станет мой брат – моя тень. А он стал соперником. Не знаю, почему, но Ольга обращала внимание не только на меня, но и на Вовку тоже. Наверное, мы своей внутренней непохожестью дополняли друг друга, вместе воплощая в глазах Ольги некий идеал юноши. И тогда я пошёл на предательство осознанное, вступив в поединок с тенью подло и жестоко. Я послал Ольге эсэмэску с телефона Вовки, назначив ей встречу. На встречу Вовка, конечно, не пришёл: он просто не знал о ней. Ольга прождала его целый час. Потом снова с телефона Вовки я отправил Ольге отказ от дружбы. Ольга молчаливо обиделась на Вовку и без объяснений выбрала меня. Я подло радовался и тому, что Ольга теперь всецело моя, и тому, что Вовка даже и не узнал о моей низости. 3. Я ей нравился. Я провожал Ольгу домой, развлекая её по пути новыми анекдотами и историями из своей жизни, по большей части выдуманными. За нами всегда шёл Вовка, шагов на десять позади, чтобы не мешать нам. Когда Ольга приходила к нам домой, Вовка деликатно уходил в гостиную или на кухню, даже если ему надо было делать уроки за компьютером, который стоял в нашей с ним комнате. В классе я тоже общался почти только с одной Ольгой. Так я избавился от своей тени. Но я об этом не часто задумывался. Ведь мы с Вовкой по-прежнему общались, можно сказать, дружили. Я всё знал о нём. По крайней мере, так я думал тогда. Иногда мне становилось стыдно, но стыд как-то легко забывался за всеми делами, заботами и развлечениями. Главное – я победил в поединке со своей тенью, пусть даже поединок был нечестным, пусть даже тень не подозревала о нём. И когда надо было разделиться на пары для предстоящего похода в лес, я, конечно же, выбрал Ольгу. 4. «Заботься о брате, ты старший!» – весело, как бы в шутку, сказала мне мама, целуя нас обоих, когда мы с рюкзаками, в полном туристском обмундировании, выходили из машины у ворот школы. Мне снова стало немного стыдно за своё предательство, и я молча кивнул. В походе я тащил Ольгин и свой рюкзаки и, как всегда, травил байки, подходящие к случаю – о туристах и сломанных ногах. Вовка в паре с нашим одноклассником пыхтел гдето позади. Мы шли под моросящим дождём по мокрому осеннему лесу с самого утра, а уже близился закат. Мы устали. Мы соревновались с командой параллельного класса и, по всем нашим расчётам, были впереди. Победа была почти что у нас в руках. И вдруг я почувствовал, что моя собственная нога скользит на прелой листве и раскисшей земле. А потом – провал и взрыв боли. Я угодил левой ногой в какую-то то ли щель, то ли нору. Было больно, было досадно, что недорассказал анекдот. И было стыдно, что моё падение видела Ольга. Подняться я не мог, вытащить ногу – тоже. Так и сидел, обхватив застрявшую ногу двумя руками. Ольга заплакала. Её слёзы были мне приятны. «Что же делать? – растерянно спросил Максим, студент-практикант, наш проводник в этой игре. – Мы проиграем. Ты не можешь встать? Совсем?» Я опустил глаза и молча отрицательно помотал головой. «До базы осталось километра два, – сказал Максим. – Ты потерпишь? Мы приведём доктора и взрослых спасателей». Я кивнул, не поднимая головы. Буро-блестящие, спрессованные упорными осенними дождями листья сказали мне всё о моей беспомощности. Капли шлёпались на этот почти торфяной слой, разлетались мелкими брызгами и снова падали на листья. И теперь уже листья привычно, хотя и неохотно, принимали в себя небесную влагу. Мне не хотелось оставаться одному, но я надеялся, что Ольга будет рядом. Как будто угадав мои мысли, Максим сказал: «Мы оставим с тобой Олю». «Останешься?» – спросил Максим у Ольги. Ольга молчала. Я посмотрел на неё. Её красивое лицо жалко кривилось. Ей, конечно, тоже хотелось скорее прийти на базу, к финишу, к победе и горячему чаю. Мне стало вдруг очень обидно. Я снова опустил голову и, продолжая рассматривать гнилые бурые листья, упрямо сказал: «Я сам». И тогда вперёд выступил Вовка: «Я посижу, идите. Иди, Оля. Это не женское дело». Он сказал это мягко, как всегда говорил, но мне в его словах и голосе послышалась какая-то непривычная взрослая твёрдость, которой не было раньше, когда он был моей тенью. 5. Отряд ушёл, мы остались вдвоём с моим братом. «Видишь, я обещал маме заботиться о тебе, а получилось наоборот», – прошептал я. От боли, обиды и стыда я не мог говорить громко. «Ничего, – сказал Вовка. – Ты, главное, потерпи. Помощь придёт скоро. Ребята очень торопятся. Видал, как рванули. Хороший у нас класс». «Вовка, – сказал я и закашлялся. И снова: Вовка, я должен тебе рассказать … про тебя и Ольгу… Я поступил подло. Я …». «Я знаю, – мягко перебил Вовка. – Оля мне рассказала. Обвиняла меня. Ты не беспокойся – я всё понял. Я не выдал тебя, я сказал ей, что она не в моём вкусе. Ведь для тебя отношения с ней важнее, чем для меня. Я выдержу». И тогда я заплакал. Я плакал от боли в ноге, от усталости, а ещё – о своём предательстве, о предательстве Ольги, о том, что боролся со своей тенью. Плакал от братской любви, нахлынувшей на меня, от жалости к Вовке. А вот о чём я ничуть не жалел, так это о том, что всё-таки проиграл в поединке, что младший, всегда слабый Вовка, привыкший быть на втором месте, оказался сильнее и лучше меня, считавшего себя старшим и первым во всём. ___________________________________ Взрослые прибежали через полчаса, они очень спешили. Все эти полчаса нам не было скучно: Вовка рассказывал мне фантастические истории, причём такие, которых я не знал. Он ни словом не упомянул об Ольге: ни упрёков, ни оправданий, – и от этого мне было ещё спокойней. И я ничуть не боялся в осеннем вечернем лесу: ведь со мной был мой братблизнец, мой самый лучший и надёжный друг. Моя тень. Теперь я точно знал, что буду прислушиваться и присматриваться к Вовке, стараться понять его, учитывать его желания и интересы. Я никогда не буду дружить с девушкой, если окажется, что она нравится и Вовке тоже. Я просто уже не смогу по-другому. И если будет надо Вовке, я тоже стану его тенью. Я догадаюсь, когда это будет нужно. Ведь мы братья, а кто лучше братьев может понять друг друга! ________________________________________________________________________ Близнец (Тень) – спасал из реки своего брата-близнеца, спас, но сам умер, уже выбравшись на берег: распластался на сером мартовском песке в пятнах инея, пытался отдышаться, набрать в грудь воздуха, и все не мог, пружинился телом, и вдруг обмяк, упал, так и не глотнув морозного воздуха, – сердце не справилось с переохлаждением Цвет для братьев – ОРАНЖЕВЫЙ Оранжевый – радость и солнечный смех; пойдешь за оранжевым – ждет успех Не знаю, почему я выбрал оранжевый именно для близнецов. Может быть, потому, что это цвет апельсинов и мандаринов, один из цветов самого лучшего праздника – Нового года, а у близнецов на двоих шесть детей, и ожидается еще по одному, а ведь именно невзрослые дети искреннее и чище всех любят Новый год. История-4 Александр (еще один) «Измена» Далеко. Далеко-предалеко. Очень-преочень-преочень далеко. За много миллионов где. За много-премного миллионов когда. В безвестности и пустоте. В белой стерильной безвестности и пустоте. В белой стерильной пахнущей лизолом безвестности и пустоте. В белой стерильной пахнущей лизолом, шуршащей по кафельному полу бахилами пустоте. В белой стерильной пахнущей лизолом, шуршащей по кафельному полу бахилами, шепчущейся и покашливающей пустоте. Белая стерильная пахнущая лизолом, шуршащая по кафельному полу бахилами, шепчущаяся и покашливающая пустота покачивает, укачивает, убаюкивает, куда-то везёт (или не везёт?). Мне уж точно не повезло. Мне? А кто это – я? Это яааааааа… Зеваю. Ещё раз. Слышу Олю. Она думает: «Что? Как?...» Она думает: «Неужели?» Она думает: «Не надо! Ну зачем? Зачем?» Я думаю: «Откуда я знаю, чтó думает Оля? Она же ведь молчит?» Оля отвечает-думает: «Да, я молчу. И ты молчи. Спи. Спи, не надо просыпаться. Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста… Господи! Не надо!» Оля думает быстро. Долю секунды. Меньше. Потом она говорит. Кричит. Я слышу крик. Оглушительно-радостный крик. Оглушительно-настороженно-радостный крик: – Сестра! Сестра! В третью палату! Мы очнулись! Мы? Да, были когда-то мы. Давно. Я и Оля. Так неразделимы были, что – мы. Не иначе. Потом госпожа Измена произвела хирургическую операцию. Оглушила наркозом предательства. Рассекла скальпелем недоверия. Зашила рану нитками обиды. Обработала швы раствором ненависти. Ежедневно делала перевязки бинтами равнодушия. И стали порознь. Отдельно я. Отдельно она. Было больно. Даже сейчас не так больно, как было тогда. Да, не так. Тогда болело всё. А сейчас – только ноги. … Оля начинает лихорадочно-возбуждённо шептать-говорить, уже вслух: – Миленький мой! Хороший! Вот и очнулся! И всё у нас будет хорошо! И всё у нас будет прекрасно! Я не верю Оле. Я отворачиваюсь к стене. Оля снова кричит: – Сестра! Не дозвавшись, выбегает из палаты. Ноги болят. … Не могу вспомнить, почему болят ноги. Ничего не могу вспомнить после расставания с Олей. А мы расставались? Разве? Да, кажется. Кажется, да. Да. Расставались. Оля плакала, хотела помириться, я отказал. Не представляю – как можно простить измену? Как вообще можно жить с изменившим тебе человеком? Потом она уехала учиться. Учиться уехала в другой город. Уехала в другой город. В город другой. Я остался сам, один. Наедине с изменой. Потом… Что было потом? Боль. Всё болело. Я, кажется, уже думал об этом. Об этом хватит. Да, были ещё друзья. Они утешали. Говорили: «Всё несерьёзно. Плюнь. Забудь. Какая измена? Вы же знакомы были всего месяц». Откуда им было знать, что мы с первого дня были одним целым? Откуда им было знать, что мы – любили друг друга? Откуда? Ниоткуда. От верблюда. Я не то чтобы плюнул. Но – постарался забыть. Ушёл в поход с … Не помню имя девушки. В общем, в поход. В горы. И было хорошо. Почти хорошо. Нормально было. А потом случился обвал. Мне завалило ноги. Девушка не пострадала. Нас нашли через … Не знаю. Через сколько-то дней. С девушкой, которую не помню как зовут, всё хорошо. А я здесь. В белой стерильной пахнущей лизолом, шуршащей по кафельному полу бахилами, шепчущейся и покашливающей пустоте. Ноги болят и дышу пока через какие-то трубки. … Спасатели сказали потом, что мы сбились с маршрута, зашли в опасный район. С маршрута сбились. На развилке повернули не туда. Надо было направо, а мы – налево. Налево повернули. … Ноги очень болят. Мои бедные перебитые ноги. Это называется фантомные боли. Фантомные… Болеть уже нечему. Нечему болеть. Вот невезуха-то. Оттого лишь всего, что налево повернули. Налево. … Зачем ты пришла? Из чувства долга? Какие долги могут быть между нами? Нам всего по 19. Зачем я тебе нужен … такой я? Такой тебе? Калека – красавице, умнице? Что ты будешь делать со мной ещё 70 лет? Жить на свою нищенскую зарплату, потому что, отягощённая безногим и безвольным мужем, ни карьеру не построишь, ни работы приличной не найдёшь? Какая карьера? Какая работа? Наверняка даже не доучишься в своём как его вузе. А если не дай Бог дети? Ты с ума сошла, что ли? Дети от мужа-калеки? Дети от противного тебе мужа? Ведь я слышал тебя, когда выходил из комы. Мысли твои слышал… Ты не хочешь, чтоб я возвращался. Сама себе не признаёшься. И не признаешься никогда. Наверное… Но – не хочешь… Я и не буду… … И я дотягиваюсь худой бледной рукой до шнура. Со стороны как бы вижу эту руку. Рука дёргает. Ещё. Ещё. С хлопком шнур вылетает из розетки. Ожидаю услышать пищание. Тишина. Ничего не пищит. Не пищит. Ну и славно. С облегчением вспоминаю, как утром медсестра жаловалась: звук барахлит. Просила вызвать мастера. Мастер! Вы где? ау… Не успел мастер прийти. Это славно. Хотя – какая нелепость… Просто поворот налево… Налево… … Далеко-далеко уплывает палата. Далеко-далеко уплывает белая стерильная пахнущая лизолом, шуршащая по кафельному полу бахилами, шепчущаяся и покашливающая пустота… Белая стерильная пахнущая лизолом, шуршащая по кафельному полу бахилами, шепчущаяся и покашливающая пустота, прощай… Оля, Оленька, Оля. Прощай и ты тоже. Прости и меня… … Как болят ноги… … А ты не ходи налево. Не ходи налево ты… Налево! Не! Ходи! Ты! … Да, кстати. Измена-то была моя. ________________________________________________________________________ Предатель (Иуда) – сначала ему ампутировали ноги, заваленные камнями в горах, потом отказало реанимационное оборудование. Для него несомненно – БЕЛЫЙ Белый – не цвет, а – так, пустота, скукота, стерильность, но в то же время и снежная новизна Мимо Летящий Непричастность Сегодня я проснулся от безмятежного сна, в такую пору, когда для сов он наиболее крепок и упоителен. У старинных часов с кукушкой я узнал время: половина одиннадцатого. Стук в дверь повторился. «Видимо, сегодня спокойно день прожить не удастся», - пронеслась в голове ленивая неприятная мысль. – Эй, Федор! – позвал я, – узнай, кого там черти принесли спозаранку! Снизу донесся тяжелый глухой звук – видимо, мой лакей Федор тоже спокойно спал (неудивительно, что он не услышал настойчивого стука, даже грохота, – спит не в пример крепче меня) и упал с кровати, когда мой голос разбудил его. Пока Федор разбирался с нежданными гостями, я привел себя в порядок и спустился в гостиную. Эта комната была не большой, не то что в моем старом имении. Каждый раз, когда прохожу гостиную, вспоминаю былые времена: огромные залы, обилие разнообразных блюд на большом длинном столе; пары, танцующие под то грустную и медленную, то веселую и бодрящую музыку… – Господин Неминов? – вернул меня в реальность твердый, чуть с хрипотцой, но, несмотря на это, приятный голос. В гостиной сидели двое человек: оба в костюмах клерков и с портфелями на коленях. – Он самый, – в тон «костюму» ответил я, – Петр Неминов. – Отлично. Мы принесли вам извещение о неуплате взносов в пользу государства… – Налогов, – перебил их я, – называйте все своими именами, они для того и придуманы. – Конечно, конечно… – каким-то нехорошим тоном продолжил «костюм», – за неуплату этих самых налогов ваш дом описан и продается на аукционе сегодня в шесть часов вечера. Если хотите, можете прийти, посмотреть… – чиновник ухмыльнулся и направился к выходу. – Прощайте, Неминов! Нам еще к нескольким таким лентяям наведаться надо, – и уже на выходе бросил второму: Это же надо! Жить в Москве и не работать! Вот чудак! Да, чудак… Я – чудак! Побыл бы он на моем месте: везде говорят: нет, вы нам не подходите; нет, извините, нет нужных навыков… Работы для таких, как я, сейчас не найти, все состояние растрачено, а учиться чемуто уже поздно. Больше ничего не остается, как доживать свой век… Да и свой ли? И тот поди пустят с молотка за долги… Я пошел наверх, по пути кинув Федору, чтоб собирал вещи. В молчании я вошел в свою комнату и хмуро посмотрел за окно. Серый, унылый пейзаж. Небо затянуто облаками, везде виднеются строительные леса и пышущие трубы заводов. Тишину нарушают стук топоров и молотков, которые рушат старое и строят новое… Где-то вдалеке продудел поезд, несущийся непонятно куда, непонятно за чем… Да, не вернуть уже того светлого, беззаботного времени, когда в кармане было на что жить, а в доме было светло и тепло. Настает новая эпоха. Уходит благословенный 19 век. В дыму, грохоте, копоти летит паровоз нового века, и я, добрый, умный, но такой не приспособленный и никому не нужный я, сгину под его колесами. С этими мыслями я отошел от окна. Пора собираться. Inter Scriptum-1 И вновь я, автор. Позволю себе проявиться в нашей повести и кое-что объяснить. Иногда истории проскальзывают мимо Валеры, лишь легко задевая, или вовсе не трогая. Это истории, которые я условно назвал Непричастностями – Летящими Мимо. Бывают такие люди, живущие как будто во сне, не понимающие и не ищущие смысла, не озадаченные будущим и прошлым, убаюканные уютным ощущением одного момента. После смерти их души зависают, не попадая ни в рай, ни в ад, создавая эмоционально-погодный фон ноосферы всех живущих в материальных гранях. Прозрачное облако, запах моря, идеальная роза, жар пустыни, солнечный луч, теплый ветер, противная осенняя слякоть, беспричинное ощущение счастья или острой тоски, сладость винограда, лунная струна – все это проявления Непричастностей, случайные, но и необходимые, так же, как необходимы и такие люди, эмоциональный планктон Вселенной. Я люблю таких людей, я сам зачастую склонен быть планктоном, несомым мощным течением. И нас, таких космических перекати-поле, неспособных сопротивляться течениям жизни, большинство. Умерев, мы станем травой, кто-то это сказал давно до меня. Непричастности не нуждаются в корректировке, они стихийны и, следовательно, вольны быть где хотят. История-5 Анечка «Галатея» *** Она стояла за витринным стеклом, по внутреннюю сторону стекла, и удивленно распахнутыми, навсегда неподвижными глазами с никогда не смыкающимися веками глядела на суетливую и суетную улицу, плотно заполненную прохожими. Над улицей только что пролился летний короткий дождь, и модерново неуютный центр стал вдруг умытым и солнечно-бликующим. «Солнечно-ликующим», – подумала она, представив, как весело играют лучи на ее розовых туго блестящих щеках и на складках ее белого атласного платья. И внутри себя улыбнулась. «Как кукла может что-нибудь подумать или представить? – одёрнула себя я, придирчиво всматриваясь в завитринье, в его пыльную, никогда не омываемую дождём, картонно-театральную, наигранную глубину. Куклы не могут думать Они ведь всего-навсего куклы. Не правда ли?» Мой нелепый вопрос, а еще более – мой нарочито бодрый и уверенный тон – заставили меня в смущении оглядеться: не подумала ли я вслух, не привлекла ли ненароком к себе внимание? Хотя как тут его не привлечь: бледная девица в инвалидном кресле, со взглядом затравленного зверька, судорожно вцепившаяся худыми руками в подлокотники, с ногами, укрытыми пледом. Сам этот плед всегда, мне кажется, возбуждает любопытство: прохожим хочется узнать, что там, под этой укрывашкой с наивным улыбчивым Винни? Ноги? Покалеченные? Парализованные? Или вообще – протезы? Но сейчас на меня вроде никто не глядел. Парочка явных студентов торопливо перебегала дорогу, удаляясь от меня. «Чего спешат? – вяло удивилась я. – Машин же нет ни одной …» Вдалеке, на самом углу, мелькнула и скрылась за поворотом, мазнув стену, красная пола чьего-то дождевика. И все, больше никого. Никого? На этой улице? В этот час? Странно. Пока я размышляла над умственными способностями куклы, а потом смущенно озиралась в боязни быть замеченной, в витрине что-то переменилось. «Смешная девчонка, – подумала кукла и поправила розовенькими, чистенькими, жеманно сложенными фарфоровыми пальчиками складочку на пышной свадебной юбке, – сидит в коляске, живая, и еще ропщет на жизнь!» «Поправила? Складочку поправила?» – мой взгляд снова метнулся, уже с надеждой: может, еще кто-то видел то же, что видела я? Пустынная улица ответила мне тишиной. Никогда не видела, чтобы в середине дня на этом квартале, в самом центре города, не было бы хотя бы (хотя бы!) сотни человек! А тут поток пересох, истощился, иссяк. Улица обезлюдела. *** Кукла заметила мою беспомощность – я в одно мгновение ясно и наверняка понимаю это. «Ты куклы боишься? Куклы? Ты? Ты, кто столько всего пережила, стольких бед избежала? Ты же в глаза смерти глядела столько раз! А это просто дурацкая кукла! От нее не может исходить такой мощной и острой волны опасности … Что она тебе сделает? Неет, люди, не смешно!» *** Подумав это «люди, не смешно!», я мгновенно забываю о странной кукле и об опасности и переношусь в детский дом. Вспоминаю Сашку, лихого, растрепанного, пахнущего сырыми подвалами, с серым прокуренным лицом и вечной малярийкой на верхней губе. Слезы щиплют глаза. Это «не смешно!», произносимое с разными интонациями, подходящее к любому случаю, приемлемое в любой компании, было Сашкиной визиткой. Отключили душ в самый разгар «помывочных процедур» – растерянно-беспомощное, интеллигентское «не смешно!» Написал на «троечку», а поставили «пять» (неизвестно, по каким таким милосердным или растяпистым причинам) – «не смешно, гос-с-с-пода!» с веселым присвистом сквозь дырку от выбитого зуба, и – чертенята пляшут в серых глазах. Погиб под машиной слепой от старости детдомовский пес Рафаэлло – «заразы! не смешно!» И – кирпич в дорогой «мерс», и – устрашающая истерика снизу вверх прямо в холеную физиономию крутого качка – убийцы лучшего друга и питомца всех детдомовских малышей, рыдающих тут же, рядом. Сашка погиб год назад: украл на вокзале кошелек из чьего-то кармана, и поборники справедливости забили его до смерти. Я была рядом. Меня тоже побили, и теперь я навсегда в инвалидном кресле. Это мне и нужны были деньги. Для меня Сашка крал. *** Отвлекаюсь от воспоминаний, возвращаюсь в реальность. Жуткенькая, надо сказать, реальность получается. Вокруг по-прежнему никого. Стеклянно дрожит воздух, наверно, от страха, моего страха, конечно же. А кукла в витрине разлепляет крашенный розовеньким веселеньким лаком бантик губ. Белый жемчуг зубов раздвигается вместе с губами. Мне становится еще страшнее от сюрреалистического зрелища зубастых губ и черного зияния рта за ними. Сквозь шум крови в ушах слышу мысль куклы: «Галатея. Я – Галатея» Нет, люди, не смешно! Оказывается, до этого момента жизнь мне так и не объяснила, что такое настоящий страх. Ужас сужает мою гортань, не пуская в меня ни глотка воздуха. Сердце замирает, потом решает наверстать пропущенный ход. Потные ладони приклеиваются к подлокотникам. Стеклянный воздух крупными кусками, целлофаново шурша, проталкивается мне в глотку. Продышавшись, включаю мозговую деятельность. Откуда этой глупой кукле известно о самом моем большом страхе? О страхе смерти? *** Еще одно вспоминаю лицо. Веселый открытый взгляд темно-карих глаз, бархатная смуглая кожа, нежный румянец, каштановые кудри. Это Олеся, моя подруга. Мы в детдоме, Олесе 8 лет, мне – 6, я хожу, до коляски еще много-премного дней и даже много-премного лет. Я попала сюда три недели назад и еще не отошла от шока после смерти отца и комы мамы. Я мало кого замечаю вокруг себя, но Олесю обожаю, буквально в рот ей смотрю от уважения и любви. В девчачьей спальне Олеся таинственным шепотом читает мне мифы Древней Греции. Далеко не все понятно, особенно мне. Но жуткие таинственные образы впечатляют наши детские души. Тогда я еще не подозреваю, что эти древние рассказы, прочитанные в вечерний темный час в уголке спальни при свете фонарика, станут основой моих страхов. Один особенно запоминается мне. «Галатея». Мне становится так страшно при мысли об ожившей статуе, что я несколько дней не могу спать, лежу в темноте без сна, абсолютно уверенная в том, что вот сейчас откроется дверь и – Галатея, каменно топая мраморными ступнями по нашему битому кафелю, войдет, шевельнет мраморной рукой, поправит мраморные складки хитона, разлепит в улыбке мраморные губы. Галатея стала кошмаром моего детства. Особенно укрепился этот кошмар, когда уехала Олеся. Ее забрали заграничные родители, и что с ней теперь – никто из нас, ее бывших однодомников, так и не знает. Затерялась Олеся в просторах планеты. А ведь это меня хотели удочерить, и, если бы Олеся не попалась приемным родителям на глаза, за границу увезли бы меня. А я не хотела уезжать. Я очень боялась, что меня разрежут и вынут из меня почку или сердце. И услышанное мельком в разговоре воспитательниц страшное «на органы» заставило меня как бы случайно провести Олесю мимо стеклянной комнаты, где сидели приемные родители. Они увидели Олесю и решили, что им нужна именно она – красивая, жизнерадостная, здоровая хохотушка, а не такой худой и перепуганный цыпленок, как я. Олеся, Олеся, ты жива или уже «разошлась на органы»? Иногда мне кажется, что ты стала Галатеей и ждешь удобного случая, чтоб прийти и забрать меня. *** На улице по-прежнему никого. Галатея по-прежнему готова к телепатическому сеансу. Она его уже и проводит. Гипнотизируя, гипнотизируя, гипнотизируя … Я приглядываюсь к золотым локонам, ярко-синим глазам, розовым пальчикам с синим пластмассовым перстеньком на одном из них … И – вдруг я вспоминаю! Это было перед самым Новым годом, как раз в день аварии, в которой папа погиб, а мама навсегда потеряла связь с реальностью. Мы заходим в гипермаркет, и там на полке в отделе сувениров я вижу куклу. Такую, о которой мечтает каждая девочка неполных 6 лет, – невесту в кокетливой шляпке, с расшитой сумочкой-мешочком на руке и колечком с синим камешком на пальчике. Я прилипаю глазами к этому чуду, я не хочу уходить, я дергаю папу: «Купи! Купи! Родненький! Золотенький! Любименький!» Папа уже растаял и готов купить все, что я пожелаю. Но мама, окинув придирчивым взглядом свадебную королеву, говорит: «Мало, что ли, у тебя игрушек? Зачем тебе еще и эта? Через два дня бросишь, будет валяться ненужным хламом вместе с прочими» И папа отворачивается от заветной полки и идет к кассе, толкая перед собой тележку с совершенно не интересными мне покупками. Я злюсь, но не на маму, к ее строгости и непререкаемости ее решений я привыкла, кажется, с рождения. Я злюсь на папу. На любимого доброго папу, который поступил не так, как хотелось мне. И когда мы уже все втроем сидим в машине и едем по обледеневшему загородному шоссе на дачу (я – впереди, как папина любимица, но в детском автомобильном кресле), я от злости толкаю папу под локоть. Наверно, толкаю неожиданно и излишне сильно, потому что папа не удерживает руль, машина начинает проворачиваться на скользкой дороге, проворачиваться… стремительно скользит в сторону обочины, руль бешено вертится уже сам по себе, а затем мы летим с обрыва вниз… Меня спасает мое детское автокресло. Папа, мама, ведь это я виновата в вашей смерти! Как я могла забыть? А я ведь действительно забыла! *** Я смотрю на куклу и понимаю все о смерти мамы, папы, Сашки, понимаю все о судьбе Олеси: она точно уже не жива, точно-точно. И – неужели это я? Я их всех погубила? Но я же ведь не хотела, я же была ребенок!!! Кукла смотрит на меня вроде бы даже с жалостью. «Я – Галатея. И знаешь, почему ты видишь меня такую, какая я есть? Оглянись, посмотри вокруг. Ты видишь, сколько людей? Никто не обращает на меня внимания. Только ты. Почему ты, одна из всех на этой людной улице, слышишь меня? Потому что ты – мой Пигмалион. Ты создала меня своими убийствами. Я – Галатея Смерти. И я буду жить теперь. Пришло время отмщения и раскаяния. Я буду сопровождать каждый твой вздох, каждое твое движение, каждую твою мысль. Ты не сможешь забыть теперь о том, чтó ты совершила. Никогда не сможешь, никогда …» Я начинаю кричать. *** Улица забита людьми, как муравейник. В центре, да еще в этот час, она не бывает пустой. Прохожие замирают, остановленные непрекращающимся криком, поворачиваются на звук, стекаются к витрине магазинчика сувениров, притягиваемые чужой бедой. Кричит невзрачная девушка лет 17, сидящая в инвалидном кресле, кричит, сжимая голову обеими руками, раскачиваясь вперед-назад, кричит, обращаясь к ничем не примечательной кукле: «Я не убийца, я не убийца! А-а-а-а! Слышишь, ты! Я не хотела! Не хотела никогда! Я-не-хо-тела-а-а-а!» *** Кукла молчит, мило таращась на чисто вымытое солнце, чинно устроив ручки на пышной юбке свадебного платья, сложив бантиком невинные розовые губки. Кукла молчит. Да и что она может сказать? Ведь куклы не говорят, даже если им этого очень и очень хочется. Они ведь всего-навсего куклы. Не правда ли? История-6 Максим «Загадай желание» За оконцем дождь. Холодный серый дождь за моим серым оконцем. За маленьким грязным серым оконцем. Из оконца, если еще добраться до этого квадрата со стороной не более полуметра, да под самым почти потолком, открывается вид на пустой двор под пустым серым небом. Я вишу локтями на холодном каменном подоконнике и отлично вижу двор внизу. Двор засыпан серым отсевом, напоминающим мне о речных берегах, о длинных глубоких карьерах, о больших грузовиках, о весело-злых рабочих ... Вся середина этого довольно большого двора утрамбована тысячами мужских сильных ног на тысячах прогулок. По краям, у серых стен, куда не достигает прогулочная зона, внаглую повыперли изпод земли ярко-зелёные ещё по весне сорняки. Скоро нас заставят выполоть их подчистую. Среди лопухов, чистотела и каких-то колючек – несколько кустиков одуванчика. Эх-х-х, желтопузики ещё, доверчиво подставляют серому небу солнечные свои, удивлённорадостные, добрые лица. Значит, не безнадёжна свинцовая серость неба, значит, где-то за тучами близок луч. Жаль, не созрели семена. Не скажешь, как давно-предавно учила меня таинственным ласковым шепотом в ухо мама: «Дунь на пушинку – исполнится желание!» Загадай желание – дунь на пушинку – обязательно исполнится… Вот один, самый крупный, самый солнечный, почти уже готовый вынянчить в себе веселые парашютики. Эх, одуванчик – одуванчик! И как, каким глупым ветром тебя занеслото в этот серый пустой двор, где гуляют одни мужчины, где нет в небесах просвета, где исполнители желаний всегда нарасхват? И если бы не ты да прочая зеленая мелюзга под серой стеной, в дождливую погоду ни за что не догадаешься: весна сейчас, время надежд и исполнения желаний, или безнадежная умирающая осень. Этот двор – тюремный. Ау, одуванчик, зачем ты здесь? Если так прикинуть, сорняки ещё молоды, прополка минимум через неделю, пока там ещё начальство надумает, а одуванчик запушится дня через три – четыре… Может, успею дунуть? Может, доживёт одуванчик до моего желания? Сегодня среда. Прогулка – в воскресенье. Расти-подрастай, одуванчик, копи силы для исполнения моего желания, растиподрастай … Желание у меня ох и трудное для тебя, малыша … И откуда тебе, такому желторотышу, знать разные там беды-печали? Вот поживи с моё, доживи до 20, тогда, может, и поймёшь. Хотя тебе по человеческим меркам уже немало, тебе через 4 дня умирать … Может, и сейчас моя история до тебя дойдёт? Может, ты мне поможешь всё-таки? Послушай меня, хорошо? Я буду рассказывать просто-просто, чтоб ты понял мою историю. ____________________________ Два года назад влюбился я. Так влюбился, что без удержу просто! А ей 19 тогда уже было, и она уже замужем была. А мужу – 29, тоже тогда. Он, конечно, такой весь герой, правда, герой. Майор, десантник, фронтовик-контрактник. Мужественный, сильный, правильный во всем, защитник настоящий. Вот как девушке в такого не влюбиться? А она – студентка, однокурсница моя. Хорошенькая, весёлая. Главное – милая такая, добрая, безобидная. Но и умная, и с юмором, и за себя постоять может, и всегда могла. Сидели мы на лекциях за одной партой, в кафешку вместе ходили, в скверик прогуляться между занятиями, я её домой провожал, заходил даже частенько, и при муже, и без. Понравился мне, кстати, тогда этот дядька сразу. Ещё я у неё лекции списывал. Она меня по философии подтягивала. Смеялась: «Классическая философия не для современных мужчин! Современные мужчины – герои, деятели, им не до пустых умствований!» Сейчас я понимаю: это она тупость мою так оправдывала, нетонкость мою, тугодумство моё. А может, понимала уже тогда неумную мою несдержанную натуру? А тогда я ходил за ней, как верный пес за хозяином. И хотя сам и лицом, и ростом вышел, от девушек отбоя не было, а перед ней себя ребёнком чувствовал. Всего на год она меня старше, а мне казалось – на много лет. Влюбился как-то незаметно. Стал в один прекрасный момент посреди университетского коридора, стою и понимаю: влюбился. Нельзя, нельзя, не поймёт она меня! А поделать ничего уже не поделаешь. Одуванчик, одуванчик, мне бы твои проблемы: растешь себе и горя не ведаешь. А я вот сразу понял тогда: быть беде. Потому что не могу я свою любовь преодолеть. И она, вижу, к нашей неразлучности привыкла уже, и чувства, я думал, в ней тоже ко мне пробудились. А вот теперь как мне быть? Ей как быть? Что она-то решит? Думаю я так, а сам уже не стою столбом посреди коридора, на лекцию иду. Вошел в аудиторию, а она уже там, книжки разложила, планшет включила, готова к лекции. Сел с ней рядом и без предисловий ляпнул: давай, мол, поженимся! Серьезно так ляпнул, без шуток. И она тут же поняла, что я серьезно говорю, что я ей всю душу открыл. Смотрю я на нее, а она сказать что-то хочет – и не может, не говорится у нее. Лицо у нее покривилось, вскочила она, стул аж перевернулся, книжки на пол попадали. Склонилась надо мной, из глаз слёзы на меня кап-кап, меня нежно-нежно так в лоб поцеловала и – бегом из аудитории. Это я уже сейчас понимаю: испугалась она, сама же еще совсем молодая была. И, как я, мало что в жизни понимала. Пожалела меня, неразумного, от жалости так себя вела. Слов подходящих не нашла и от страха ранить мои чувства убежала, обидеть меня боялась. А я-то, дурак, подумал: она своих чувств боится, мужа своего боится. Потому, думал я тогда, и отреагировала так, что муж ее ко мне не отпустит. И что я там еще нафантазировал себе про ее мужа – это просто роман ужасов написать можно было бы! И что тиран он, и собственник, и что бьет ее, и всячески истязает душевно, и много чего еще. Короче, одуванчик, взял я тогда дома с кухни нож, мужа этого поздно вечером возле его подъезда подкараулил и ножом в него с размаху ткнул. Вот ты, одуванчик, счастливый, не ведаешь таких диких чувств. А во мне тогда что только не бурлило! И жалость к ней, и ненависть к этому мужу, и мечты с ней теперь быть навсегда, а больше всего себя жалел. Так за себя за целый день испереживался, что нож как-то и без боязни всякой воткнул. А как воткнул – так вот тогда и испугался. Упал этот муж, медленно так падал. И пока он падал, я думать начал. Как же, думаю, я человека мог зарезать? Я же на это и не способен вовсе… А она теперь что делать будет? А вдруг она меня и не любит? Вдруг я придумал все ее чувства? Вдруг она мужа любит? И как она без него теперь? И что теперь с нашей дружбой будет-то? Поток мыслей у меня в голове крутится, водоворот мыслей, торнадо просто какой-то … Затягивает меня, стою я шальной, как в тумане. А потом смотрю: муж живой, стонет. Это я удачно так нож воткнул. Я сразу и «скорую» вызвал трясущимися руками, дрожащим голосом. Врачи потом сказали, что жизненно важные органы у него не были задеты. Вот и выжил ее муж. А я все равно считаю себя убийцей, словно как на самом деле зарезал человека. Потому что как замахнулся я, с какой решимостью, да как воткнулся этот нож, с каким звуком, с каким ощущением усилия и в то же время легкости, да как падал дядька этот, какой беспомощный был против моего ножа – вот это все до сих пор помню. А особенно ее лицо помню, когда она все узнала. Как она на меня смотрела, с ужасом, с удивлением таким, как будто я и не человек. Муж не хотел, чтобы меня под суд отдавали. Но я сам с повинной пошел. Вот отбываю теперь. Муж ее ко мне потом сюда приезжал, говорил, что понимает меня, что это я по молодости да по глупости, что в нее разве ж можно не влюбиться, что простил он меня давно. Я его понимаю, мужа этого: он себя ответственным за меня чувствует, как старший за младшего. Казнит себя, что раньше моих чувств к своей жене не разглядел, что меня не остановил, не предупредил мои опрометчивые действия. Но только мне его слова не нужны, и прощение его мне не нужно. Нет, одуванчик, что я говорю, зачем вру-то тебе? Нужно, конечно, нужно. Спасибо ему, что он такой понастоящему добрый оказался. Значит, ей с ним хорошо, я за нее теперь спокоен. Она сама добрая, ей в твердости и жестокости жить нельзя. А вот главное – мне самому как себя простить? После того, как я человека ножом убивал? А еще главнее вот что. Мы с ней в последний раз на суде виделись. И она мне на суде в слезах кричала, что спать из-за меня не может, что каждую ночь ей кошмары снятся, как я, ее лучший друг, мужа ее убиваю. Каждую ночь мужа ее убиваю! Представь, одуванчик, какая это пытка: постоянно такой сон видеть! Так и стоит перед глазами та сцена: как муж, спиной ко мне стоя, ее удерживает, ко мне не пускает, а она из-за его плеча рвется, и плачет, и все кричит мне эти слова про сон свой, все кричит. Это я, выходит, тогда не мужа ее убил. Я ее веру в дружбу убил, ее покой убил. А ей ведь мужа еще на службу провожать, еще ждать его бессонными ночами. Мне, дураку, повзрослеть раньше надо было, а не через убийство. Должен я был ее беречь, покой ее охранять. А я о себе только тогда думал. О себе только. Себя жалел. Дурак, какой дурак!.. Одуванчик, я что попросить-то хочу. Ты продержись до воскресенья, пожалуйста, созрей, опушись. Я ребят попрошу, они на прогулке столпятся ненадолго, как бы невзначай, я к стене подберусь, наклонюсь, будто камешек отсева мне в ботинок попал, загадаю желание и дуну на твою пушистую головку. Понимаешь ты, одуванчик, она, конечно, меня не простит, не об этом я и прошу. А просто очень мне надо желание загадать: чтоб сон этот проклятый ей больше не снился, чтоб спала она спокойно каждую ночь, чтоб снова веселой и счастливой стала. Вот такое желание, а больше ничего мне и не надо. Загадай желание – дунь на пушинку – обязательно исполнится… Только доживи до воскресенья, одуванчик! Обязательно доживи, ты уж постарайся… ________________________________________________________________________ На этой грани у меня Максим и Анечка – раскаявшиеся убийцы и самоубийцы. ОН – повесился в тюремной камере на жгуте, который сплел из разорванной футболки, на футболке была надпись «Чемпион», на койке осталась записка: «желания больше не сбываются» и смятый в гневе стебелек одуванчика, а в кармане джинсов нашли письмо с воли, сообщавшее о смерти какой-то девушки, перерезавшей себе вены в ванне; ОНА – в метро, не таясь, потянула из сумки у какой-то тетки кошелек, и ее, сидящую в инвалидном кресле, запинали до смерти; удивительно – она даже и не пыталась уехать, хотя на колесах с моторчиком легко обогнала бы толстых баб и подвыпивших мужичков; напротив – даже руки не дрогнули, так и лежали, чинно сложенные, на коленках, укрытых детским пледом с Винни, и все время, что ее избивали разъяренные обыватели, до самой смерти, она улыбалась успокоенно, светло и ярко, так, что стала даже на последние 10 минут своей жизни иконно красивой Для этих двоих у меня выбрался КРАСНЫЙ Красный – ужасно цвет опасный, бойся меня, кричит, как огня! Красный – самый сложный, красный связан с кровью, с убийством, а еще – с добровольным выходом из игры. Я не могу полностью помочь убийце. Это как у даунов со словами: встает стена, невидимая, но непреодолимая. Я могу лишь немного выпрямить нить, я даже могу изменить конфигурацию узла, то есть его смысл, а узел – это и есть убийство, но развязать узлы мне не под силу, ведь развязанный узел приносит забвение. Уж слишком черствой должна быть душа, слишком черной, чтобы человек мог забыть об убийстве, которое совершал. Сюда, в Чистилище, такие искалеченные души не попадают, отсеиваются еще перед первыми вратами. Здесь только те, кто мучается осознанием своего греха. Без корректировки-2 Богдан «В тени столетних лип» Весной всегда чувствуется, что всё оживает, что вся Земля покрывается новой жизнью, что обновляется всё старое и рождается новое. Вот и этой весной: чуть только растаяли последние снега, поля оделись зелёной травкой, а деревья народили новые листья и почки… Всё вмиг наполнилось ароматом жизни, свободы, красоты… Я стоял среди того самого луга, у того самого дома, где прошло моё детство. Зайдя в ветхий, заброшенный дом, я поддался потоку нахлынувших на меня воспоминаний. В непрерывной череде видений я различал свою мать, готовившую пироги по воскресным дням ... Отца, давшего мне множество дельных советов, благодаря которым я смог выжить в большом мире … Братьев, с которыми мы всегда резвились в тени уже тогда столетних лип … Это необычное место. Всё здесь пропитано любовью и прежним благополучием. Я переступил порог, вышел на простор, подошёл к одной из трёх лип и, как раньше, уселся на её широкие корни, выпирающие из-под земли. Когда я был маленьким, я любил здесь сидеть и отдыхать. Сейчас, прислонившись к доброму великану, я ощущал, что попал на праздник цветов: по всему полю распустились полевые цветочки, небольшие, но их было так много, что глаза дивились этой яркой пестроте! Облака медленно, спокойно ползли по светло-голубому небу, ветви липы щекотали зелёными ладошками моё лицо … Я смотрел на домик. Он мне казался сказочным и донельзя удобным и уютным. И хоть он был уже серым и покосившимся, но для меня – самым лучшим. А внизу и чуть впереди, прямо передо мной, лежала деревня, мирная маленькая деревня, в которой все живут бок о бок и все друг друга знают. Там живут добрые люди, заботящиеся друг о друге, щедрые и всегда готовые помочь. Эта деревня во много раз лучше города, в котором всё затянуто дымами заводов и равнодушием людей. В городе прохожий не подойдёт и не поздоровается. В городе все куда-то спешат, что-то делают, суетятся… У городских нет времени на такую мелочь, как любовь. Любовь ко всему: к окружающим, к дому, к лесам, к деревьям, к цветам, к полям, к жизни вообще, не к удовольствиям жизни, а к ней самой, во всей ее обыденной простоте. *** Я не заметил, когда небо потемнело и посуровело. Поле уже не светилось золотом, а отдавало холодной сырой землёй. Краски, которые придавали ветхому домику (моему домику!) солнечные лучи, исчезли с его стен. Поднялся ветер, ветви липы хлестали меня по лицу, корни врезались в спину. Из-за поля дохнуло холодом. На дороге вдали обрисовались смутные тени. Они несли в себе угрозу: угрозу мне, моему домику и деревне. Угрозу этому мирному уголку в безумном мире. По дороге ехали машины. Они ехали уничтожать старые здания и создавать новые. Душно-ледяное дыхание городов проникло и в это мирное местечко. Они ехали сносить мой домик, домик, стоящий в тени столетних лип … Без корректировки-3 Виктория «Весна» *** Она лежала в … некоторое время не могла вспомнить название… вокруг были звуки… звукам тоже не было названия… хаос звуков… сумятица звуков… потом среди звуков выделились близкие… потом далёкие… потом совсем далёкие… потом для звуков нашлись слова… и были слова такие: потрескивание, шорох, шёпот, говорок реки, пробежка какого-то маленького зверька … вот такие были звуки… и ещё много разных-преразных… чем дольше лежала – тем больше вливалось в уши… потом пришло: лес… лес?.. лееессс… да, лежала в лесу… азартно, жадно-голодно топтался возле самого виска какой-то ранний насекомыш (муравей, так расторопны и деловиты бывают именно муравьи) с пищащей ещё добычей (судя по звуку, толстой неповоротливой гусеницей) в челюстях… отбивал аритмичную чечётку водопад на той стороне скалы… громко, как масло на сковородке, таял пористый снег… стучался, скрипел, пробивая землю, под мизинцем правой руки напористый росток… мерно, энергично бились в стволах деревьев соки … с треском зарождались в ветках почки… с шёпотом тающей сладкой ваты шли высоко-высоко облака, на вид такие же сладкие, как и на звук… на вид… она могла не только слышать, но и видеть… и увидела… на переносицу опустилась перламутрово-голубая бабочка… попереминалась с лапки на лапку, устраиваясь, вызывая желание от щекотки закрыть глаза… но она не стала тревожить маленькую путницу взмахом ресниц, терпела… оказывается, она понимала эту бабочку… не слова, которых не было, не мысли, которых была всего одна («вот я»), а просто понимала её … понимала её всю… от крохотных волосков на лапках до мельчайшей чешуйки крылышка… каждое движение и желание понимала… бабочка только-только появилась здесь… бабочка была новая… новорождённая… как и она сама … серый сморщенный кокон на ветке ещё хранил память о своей недавней обитательнице… бабочка трепетала от желания жить, летать, найти какой-нибудь цветок… она понимала бабочку… всю её понимала… не только бабочку… понимала росток, тычущийся в мизинец… понимала речь реки… понимала душу облаков… душу каждого дерева и каждого муравья понимала… только мёртвые листья, на которых она лежала, оставались для неё мёртвыми… бабочка устроилась, поглядела ей в глаза… увидела себя, захотела полюбоваться… она увидела в фасетках бабочки свои глаза – ярко-зелёные… бабочка замерла, обождала звенящую секунду… и… и… и… распахнула крылья… распахнула… распахнула… крылья… крылья… эта секунда представилась ей многократно, словно размножившись в глазах-фасетках её визави… кто же мог предположить, что крылья такие… такие… такие нежные… такие скользяще-шёлковые такие прохладные… такие огромные… такие не голубые… такие не скучно-синие… такие лазурно-прозрачные такие живые… такие подрагивающие… насквозь пронизанные узором из ультрамариновых жилок… узором геометрически точным и одновременно волшебно вольным… она взглянула сквозь крылья… *** она взглянула – и… и… и… и… мир взорвался… взорвался… взорвался… взорвался… рассыпался на радужные дрожащие сегменты… разлетелся… закружился… громыхнули, столкнувшись, льдины на реке… ответили им тысячами мелких хлопков почки и бутоны… ультразвуком бабахнули по земле солнечные лучи… дружно пробивающие землю ростки вызвали вибрацию почвы… и… и всё затихло, как бы утверждая только что прозвучавший момент истины и торжества… давая ему отстояться, вызреть… … потихоньку мир собрался… встрепенулся… взорвался с новой, ещё большей силой… она сама взорвалась… Вскочила на ноги, мгновенно ощутив всё своё тело, свои сильные молодые ноги и руки, свои густые волнистые волосы, целую копну волос, до самых пят, своё подвижное молодое лицо, свою молодую упругую и свежую кожу… билась какая-то мысль, билась не в мозгу – во всём её новом существе, свербила в кончиках пальцев, наполняла кровью артерии и вены, мешала оставаться на месте. Бабочка открыла ей истину. Крылья, сквозь которые она, как сквозь волшебные очки, взглянула на мир, сказали ей правду. Всю правду. И правда эта была такова: вот этот мир вот она он есть и она есть есть существует имеется в наличии реально здесь живёт Сразу кольнул босую ступню какой-то острый сучок. Холод от реки лёг на её голое правое плечо, заставил поёжиться. На ложе из старых листьев отпечатался её силуэт, на этих листьях было приятно стоять: тепло тела тоже сохранилось в них. Она переступила с ноги на ногу, с опаской оставила свою лесную постель. Сделала шаг, второй, ещё, с удивлением замечая, что холод земли ей приятен. Более того, понимая, что ступни её горячи, как горячи и ладони. И там, где ступала, земля оттаивала. Оглянулась на ложе: сквозь листья прошла кверху свежая поросль. Тронула пальцем конец ветки – рванулась на ветке коричневая кожа, лопнула, освобождая толстую зелёную почку. Такую же зелёную, как волосы у неё самой. Как она раньше не замечала их яркой зелени? Когда она устраивалась вздремнуть под деревом, волосы были белыми. Седыми. Кожа – тоже белой, прозрачной от старости. Морщинистой. Кости были тонкими и хрупкими. Выцветшие от снежного блеска глаза были цвета тощего молока. Не изумрудно-травяные. Не как сейчас. Сил почти не оставалось. И ложе, которое она себе облюбовала, был снежный сугроб. Не листья. Листья были под сугробом. Тогда сугроб казался таким уютным… Мысль, бившаяся в ней, оформилась в радостный крик. – По-лу-чи-лось! Да! Да! Весёлым эхом ответил лес, пробудились птицы, полезло из-под земли всякое быльё. – Да! Да! Да! – кричала она, кружилась, бежала по лесу, смеялась, понимая о себе всё, всё, всё! И её не волновало, что жить ей осталось лишь год, что меняться и стареть она будет с ужасающей скоростью, что к концу жизни она забудет эту свою радость и потеряет нынешнее своё знание. И будет со страхом искать себе новый сугроб, и будет в отчаянии: вдруг не получится? Сейчас, вот именно сейчас, в начале цикла, она знала, что это всего-навсего новый цикл. Знала, что всё это повторялось столько раз, сколько и муравьёв в её лесу не найдётся. А может, столько даже, сколько не найдётся во всех лесах. Знала, что она жила раньше, живёт сейчас и будет жить ещё. Будет жить вечно. Знала, что всё повторится ещё, и ещё, и ещё. Столько раз повторится, сколько нет даже звёздной пыли во всех ближних и дальних вселенных. *** И радость её, буйство её, одержимость её передавались всему миру. Молодые ростки лезли из глубины наружу, прокалывали, пробивали, дырявили кожу земли. С высоты земля стала выглядеть так, будто её постепенно затопляла зелёная кровь. Сурки выходили из зимней спячки, движимые инстинктом продолжения рода, бурно оплодотворяли сурчих и умирали от разрыва сердца. Коты исступлённо кричали на всех углах и во всех подворотнях. Молодые гуляли до ночи, волнуемые волшебными, пьянящими импульсами просыпающейся природы. Врачи тоннами выписывали пациентам успокоительное и привычно говорили: сезонное обострение. *** А мама утром вышла на балкон, сняла с верёвки холодное ещё после ночи бельё и сказала сыну: – Одевайся сегодня полегче, настоящая весна на дворе. Еще один Мимо Летящий Было страшно… и странно… Я впервые летел на самолете. Следуя инстинкту всех беликовых, нацепил на нос темные окуляры, надвинул на глаза капюшон, съежился, вжался в кресло, пряча затылочный провидческий глаз, как бы чего он не увидел лишнего. За стеклом иллюминатора простиралось воздушное пространство, столь огромное и величественное… Мы болтались над облаками, как не вылупившиеся еще ангелы в железном яйце. Я всегда любил красивые пейзажи, и теперь меня успокаивал лишь вид, открывшийся на высоте 10 километров над уровнем земли… Наслаждаясь страхом и красотой, я не заметил, как уснул. Разбудил меня микрофонный голос, известивший о том, что до конечного пункта остался час полета. По салону начали ходить стюардессы, предлагая разнообразные напитки и закуски. Я снял капюшон и очки, огляделся. Открывшаяся картина почему-то не внушила мне радости, хоть и все было в полном порядке: пассажиры разминали затекшие шеи, читали, слушали музыку или просто разговаривали, но от всего этого спокойствия мне стало как-то не по себе… Что-то как будто мешало смотреть, какая-то серая пелена застилала глаза. – Будьте добры, воды, пожалуйста, – мой голос прозвучал хрипло, но никто не удивился, или просто никто не расслышал. Взяв у стюардессы бутылку воды, я сделал несколько больших глотков. Странное видение исчезло. Через несколько минут, окончательно успокоившись, я посмотрел на часы: до посадки оставалось еще сорок пять минут. Расслабившись в кресле, я снова было решил заснуть, но внезапно самолет сильно тряхнуло. Пилот молчал, меня это встревожило: обычно, входя в зону турбулентности, пилот предупреждает пассажиров об этом, но сейчас предупреждения не было. Самолет тряхнуло еще раз. Мной начала овладевать паника. Очень некстати вспомнился какой-то фильм, в котором основным событием была авиакатастрофа. Самолет начал мелко, а потом все сильнее и сильнее вибрировать. Пассажиры повскакивали с мест, кто-то закричал, кто-то начал молиться. Я не мог двинуться с места, сидел, судорожно вцепившись в подлокотники, как будто они могли спасти меня. С потолка вывалились дыхательные маски, одна из них стукнула меня по голове. Этот несильный удар заставил меня очнуться. Мое внимание привлек один пассажир, сидевший неподалеку от меня. Он сидел, свободно раскинув ноги, попивая лимонад и ничем не выражая своего беспокойства. Просто потому что его и не было в помине. Его лицо не было каменным, он просто не обращал внимания на происходящее. И еще меня поразил другой пассажир, неистово вопящий, рвущий волосы на голове и рыдающий в три ручья. Перед соитием с планетой меня вразумило подумать, как же различны бывают люди, как различно их понимание жизни, их отношение к ней. И как мимолетна бывает жизнь, и как долга… И как ее легко потерять… А еще я отстраненно как-то сказал себе, что не боюсь смерти, что терять мне нечего, что я одинок, мы все одиноки, ну и пусть ждет где-то семья, что у меня нет абсолютно ничего, что удерживало бы меня в этом мире. Я подсел к спокойному пассажиру, по пути ухватив кричащего и посадив рядом с собой. Он послушно осел в кресло, словно ждал твердой руки, которая бы его успокоила. Но все продолжал периодически издавать вопли. – Незачем, друг мой… Незачем оглядываться назад или пытаться посмотреть вперед… То, что уже сделано, не исправить, и того, что еще не произошло, не изменить, – сказал я паникующему. Вопящий сразу притих и как-то обмяк. – Дай-ка мне попить, – попросил я спокойного. Тот неспешно протянул мне бутылку. И в этот момент я увидел в иллюминаторе радугу, причем не над головой, как привык, а под собой, и потянулся к ее сиянию всем своим существом. Самолет уже был совсем близко к земле, но я успел сделать глоток, не из бутылки – из радуги … Интермедия-4 Валера «Без корректировки» Я не знаю, чтó мне поправить в этих историях. Наверно, нечего. И я отпускаю их восвояси. Скажу лишь по несколько слов о каждой. Мститель – он жив, хотя обстоятельства складывались в пользу смерти. Он встретил машины с включенной бензопилой и угрожал разрушителям, и он готов был исполнить свои угрозы. И разрушители отступили, а он добился-таки потом отмены строительства на месте его домика и построил рядом со старым новый, трехэтажный коттедж, где живет со своей большой семьей: родителями, женой и пятью детьми, а также еще двумя братьями с их семьями. Возможно, он мой клиент, так как, хотя помыслы его благородны, в момент опасности он не владеет собой. Но это в будущем, и не наверняка, так как будущее я читать не могу. Вечно Юная – умерла во время очередной операции на столе у пластического хирурга от непредусмотренной анестезиологом аллергии; умерла легко, во сне, с улыбкой на губах. Она тоже не по моей части, хотя и по другой причине, нежели Уставший или Мститель. В ней много, очень много жизни, и поступки ее масштабны, и мышление в высшей степени эмоционально и благородно, а чувства разумны. Но ее путь не нуждается в корректировке, он стрельчато-прямой, хотя и пунктирный. Каждый раз нить восстанавливалась, и значит – она возродится без меня. Непричастный – что о нем сказать? Он стал радугой и питает ноосферу позитивом. Посмотрите в небо после летнего ливня и благодарно помашите ему. А вот следующая история совсем недавняя, не завершившаяся еще. Ее трудно воспринимать, некоторые эпизоды звучат, как поток смятенных мыслей, потому что сам герой не осознал еще ни событий, ни своего места в них, не определился с выбором. Парень лежит в коме, перед ним – развилка пути, но чтобы повернуть, он должен вернуться на год назад, в аномально золотой ноябрьский день с ярко-голубым небом и температурой воздуха +20. Должен вернуться и навсегда запомнить и полюбить этот день, и сделать так, чтобы все последующие дни были не хуже, чтобы его девушка стала, наконец, счастлива с ним. Он проживет долгую жизнь раскаяния и боли за то, что в какой-то другой грани не сберег любовь, что там его девушка жила несчастной и погибла нелепо, а когда он пройдет весь свой телесный путь, он вернется, проживет счастливую жизнь, а потом станет Хранителем. Хранитель выкарабкался было после автомобильной аварии, после тяжелой ЧМТ, после клинической смерти; и вдруг – нервный срыв, и в результате 5-ый месяц не выходит из комы Для него больше всего подходит ЖЕЛТЫЙ – цвет печали, тревоги и безнадеги Желтый разлуку приносит и смерть, желтый любить бойся ты сметь Но желтый еще и цвет солнца И я спешу на помощь. Вот история Хранителя. История-7 Аркадий (Хранитель) «День внутри яблока» я умер … наверное … потому что иначе не объяснишь вдруг пришедшую нечувствительность к физически-материальным проявлениям мира … к свету запахам прикосновениям звукам… бывший-я лежу на поверхности ни мягкой ни холодной ни жесткой ни неудобной … как бы вовсе ни на чем не лежу… лежу нигде… а нет, лежу на бумаге… на белой бумаге… в белой бумаге… завернут в нее… новогодний подарок который не распаковали… незачем… новый год умер вместе со мной… во рту вкус белой бумаги… именно белой глянцевой с трудом стеклянно как-то сминающейся острыми стеклянными гранями и ребрами и белый запах бумаги щекочет волоски в носу… и белый бумажный воздух шуршит во рту и в глотке… лежащая поверх глянцевого поля моей бумажной судьбы сухая шершавая промокашка… я внутри промокашки в одной из ее полостей в маленькой ячейке в кармашке… своем собственном персональном кармане тишины и пустоты… промокашка высосала из меня впитала все мои ощущения … из ощущений осталась только бугристая поверхность промокашечного кармана вокруг души с которой содрали кожу… бугристая волокнистая царапучая поверхность… это должно быть больно на мою несчастную голую обескоженную душу… но бывший-я от бывших-пяток до бывшеймакушки словно накачан анестетиком… нет не совсем так… накачан бесчувствием безболием и безволием безучастием … воздушный шар гиперравнодушия… дирижабль супернепричастности… послевкусие жизни бело-бумажно… пресно… присно… во веки веков… мне так все равно и так спокойно что я снова засыпаю Пробудившись, понимаю, что обстановка изменилась Стало холодно Я не в промокашке, а в сером бетонном тоннеле с энным количеством потолочных ламп, тускло горящих или разбитых я вишу в сумеречном пространстве над желобом серого киселя Кисель булькает вспухает пузырями завихряется там где сталкиваются предметы по нему плывущие по киселю плывут волосатые шары шары странной формы: одна сторона волосатая и ровно-круглая, как и положено шару, другая гладкая, она деформированно бугрится странными выступами и провалами не все шары волосатые, вижу парочку гладких, блестящих, как лысина стойте! я как-то особенно удачно моргаю, взгляд фокусируется, и я понимаю: это же и есть лысины а бугры и впадины – человеческие лица с носом, ртом, глазами приходит понимание – это человеческие головы, кудрявые и гладкие, с копнами и короткими стрижками, брюнетистые и блондинистые, всякие это люди, плывущие по серому киселю тоннеля на лицах написаны тоска и безысходность потому что впереди две арки: одна, справа, высокая, с надписью «НОВЫЙ УРОВЕНЬ», в нее можно залететь… на другой, левой, низкой, куда только по киселю проберешься, слово – «НЕЛЮБИВШИЕ» высокая арка заросла бирюзовым мохом и плесенью, осклизла, сузила проход и неохотно пускает сквозь себя там, куда потоком несет «нелюбивших», – чистенько, гладко, просторно, добро пожаловать приходит прозрение – так вот кто здесь! это люди, грешники, а это метро – чистилище, ведущее в рай или в ад, – куда повернешь «направо пойдешь – в рай попадешь, налево пойдешь – …» и что? «нелюбившие»? всего-то навсего? за нелюбовь – адовы муки? бедные, бедные, несчастные в желудке горячий ком изжоги от жалости еще понимание – меня спасает и не дает булькнуться в кисель единственное светлое мое воспоминание об осеннем дне с иркой-радугой … ноябрь кубанское бабье лето ненормально тепло (+ 20 и с неба прямо на нас струится золотой светопад) мы в кедах джинсах и рубашках в клетку в этой рубашке моя девушка такая трогательная и похожа со своей вихрастой стрижкой на малыша в рубашке старшего брата Мы шли в лес за грибами и мы так искренне радуемся каждой глянцевой шляпке ирка так радостно хрустит яблоком так сладко течет по ее губам и подбородку белый яблочный сок у нее такой веселый смех так вкусно пахнет от нее рыжим кленовым листом и медовым яблоком у нее такие чистые прозрачно-янтарные глаза словно два окна дома в котором живет осень сейчас я понимаю это было мое счастье единственное счастье мое его мне подарила судьба чтобы я всю свою последующую жизнь мерил по этому дню чтобы мы с иркой были счастливы всегда это был наш старт ведь какой старт такой и забег а теперь наше счастье раздавлено колесами какого-то шального камаза и вдруг в потоке несчастных грешников я вижу ирку, вернее – ее эксклюзивную прическу. Еще в 5 или 6 классе ирка, не особо-то прилежная в учебе, вдруг увлеклась греческой мифологией и почему-то взбрело ей в голову по созвучию имен что ли отождествить себя с иридой – богиней радуги. И конечно же, понадобились атрибуты, и в пшеничном поле иркиных пацанячьих волос поселилась яркая радуга. Каждый месяц раздобывались правдами и неправдами свежие цветные краски для волос иркина подруга толстая веселая танька каждый месяц творила шедевр на иркиной макушке и каждый месяц радуга сияла обновленной жизнерадостностью в коротких иркиных прядях и вот я вижу ирку здесь плывущей в этом вонючем тоннеле что ты здесь делаешь? ты значит не любила? Золотое воспоминание тоже тускнеет, выцветает, тело тяжелеет, я падаю, падаю в пресный кисель биомассы. Потому что не камаз раздавил наше счастье, а я сам, своим собственным равнодушием. Я вспомнил сейчас: мне как-то стало все равно, рядом Ирка или нет, и на этом наше счастье закончилось. Биомасса радостно плотоядно чавкает, смыкая щупальца безнадеги на моем горле Я гребу, плыву, толкаю несчастных грешников Нет, ад – это не жестокое наказание для нелюбивших, это малое наказание … хватаю Ирку за волосы, стараясь побольнее, посильнее дернуть за самое ценное – за радугу пусть будет тебе больно… Иркина голова – чпок – вылетает из серой овсянки безумия, и на меня таращится пластмассовая болванка, гладкая и пустая… Ирка – макет, голова от манекена обманули надули даже на туловище и ноги не растратились безлицая голова от манекена в эксклюзивном парике ну я попался вляпался в холодец холодец из отчаяния и боли и приходит еще порция воспоминаний – Ирка погибла сразу, вылетела на обочину и лежала там в позе забытой марионетки, потерянной куклы, с изломанным телом, над которым надругалась судьба… а меня долго везли куда-то под пение сирен наверно это были те самые сирены что давным-давно чаровали одиссея по крайней мере я так же как царь итаки был связан и прикован к своему столбу и так же хотел бежать за этими сиренами к белому сиянию в белой дали и не мог и помню как долго лежал под самым солнцем ужасно слепящим очень близко настолько что даже сквозь сомкнутые веки было больно глазам иногда мне чудилось что это не одно солнце а пять а вокруг парили размытые контуры гуманоидов без лиц они говорили непонятные какие-то слова из прошлой моей жизни зажим пинцет повреждение позвоночника тяжелая черепно-мозговая выкарабкается потом кто-то тонко и очень медленно крикнул почки отказывают подключай к искусственной потом долгий провал потом снова да нет определенно выкарабкается коллеги всем спасибо всех поздравляю с победой потом я увидел за окном ветки деревьев в снегу мы с иркой разбились в августе не может же быть такой прочный снег в августе в наших южных краях очередное понимание – ирка была здесь раньше а теперь ее здесь нет и не будет никогда, я ее потерял она прошла проверку выдержала выстояла это ж наверняка стандартный трюк они всех цепляют на эту удочку кто выдерживает, верит в искренность чувств своего спутника – тому направо, на «новый уровень» мало кто верит и любит безоговорочно, потому и ход заросший и осклизлый – мало веры мало веры у людей отчаяние окутывает меня с головой шершавым коконом из промокашки мне никогда не вернуть тот аномально счастливый яблочный день никогда не выторговать свою ирку у смерти потому что ее смертью стал я сам Inter Scriptum-2 Привет. Это снова я, автор. Позвольте вмешаться и рассказать наконец-то о том, как ведется мое повествование. Я отпустил вожжи, так сказать, отдал бразды правления в руки своим героям. Это их многоголосье слышу я постоянно. Они все разные, каждый со своим характером, от меня, у них, пожалуй, одно – они хотят рассказывать. Я старался передавать их монологи так, как они приходили ко мне, поэтому, надеюсь, Вы тоже услышите различия в их голосах. Пришла пора представить новых рассказчиков. Это Судьи. Они не люди, они – сущности. Добрые? Хорошие? Сложно сказать. Просто Судьи. Их вызвал с другой грани (и может даже, чуть недодумал) Валера. Вот они и появились такие, какие есть. И очень скоро проявится в повести еще один рассказчик – назовем его словом «квартет». Квартет – это слияние ментальностей автора (то есть меня), Валеры и Судей. Мы вместе появляемся в комнате с экраном. Смотрим, вглядываемся пристально в мир на жидких кристаллах. И трудно различить тогда, чей голос – ведущий. Что ж, в жизни и не такое бывает. Интермедия-6 Судьи Где-то там наверху у камер наблюдения – двое. В не нашем мире, отдельно от грехов и страданий, над нашими ошибками и сомнениями. Они не походят на людей не внешним видом даже (внешний вид их неуловим), а сущностью: они – в идеале – непререкаемы и беспристрастны, как анализы, как строчка error на мониторе. Мы воспринимаем их облики как полуразмытые пятна света и тьмы, иногда вливающиеся в контуры человеческих фигур, затем вновь начинающие вываливаться из рамок, перемещаться хаотично по комнате, а при соприкосновении со стеной они могут случайно пройти сквозь нее. Один, обладатель твердого голоса и более четких контуров, констатирует: – Ну вот и все, коллега, клиент готов, он усомнился. Второй, чья сущность не столь непререкаема (может, он просто моложе), задает вопрос: – Я не понимаю, коллега: почему все так прямолинейно и примитивно? Зачем тогда жизнь? зачем радости? падения? надежды? это не стоики, это люди, люди могут быть слабыми, но это не делает их менее… – Делает, коллега, делает, и менее замечательными, и менее сильными, и менее способными. Это ослабляет их энергетику, подрывает баланс начал. Не забывайте: они живут в искаженном мире, считая гениальность отклонением. И мир закрывает на это глаза, как и на другие их заблуждения. В бренном мире многое прощается и есть путь назад. А здесь – он усомнился, и точка. Твердые эти слова замыкают контуры тела вокруг живых пятен, и сами пятна уплотняются, делая говорящего почти осязаемым, почти реальным. Второй, по-видимому, менее эмоционально устойчивый, вытекает из абриса юной фигуры и парит над монитором, вглядываясь в искаженное болью лицо плывущего человека. Произносит неуверенно: – И это причина, чтобы начать войну за его душу… – Да, друг мой, Вы правы. Пусть вернется. Пусть поживет сам. И пусть не помнит, но мучается ощущением, что потерял что-то бесконечно важное. Пусть грызет себя. Не находит покоя. И тогда… Тогда он вспомнит и будет вознагражден… Как по книжке (видимо, так и есть, надо же им как-то учиться работать с заблудшими душами), второй отчеканивает: – И тогда душа страданием очистится от греха и получит высшую награду: воссоединение с прежней жизнью. Пусть пройдет свой путь Хранителя. А попав сюда, вновь возродится. – Да. Он станет таким, как мы, станет Судьей. Но для этого он должен сделать счастливыми тех, кто любит его. – Судьей? Не больше? На Корректора не потянет? – Вряд ли, слишком доверчив и поспешен в решениях, и слишком неразумен душевно. Явно не Корректор. Кстати, как там…? – ОН? Как всегда. – Играет? И что на этот раз? Все еще кубики? – У-гу, они. «Пятнашки» продержались 5 месяцев, потом были игры-лабиринты, хватило на 2 месяца с половиной. И вот кубики, полгода уже. Соберет все грани, повертит в пальцах, и – на полку. Уже стеллаж почти весь забит. И это ведь судьбы. Понимаете, коллега? Человеческие судьбы, распутанные, выпрямленные линии жизни. Сидит, мучается, соображает, стишки сочиняет какие-то, бормочет, и – категорически не признает никаких схем. Вы же знаете, ОНИ особенные: кропотливые систематизаторы и при этом безудержные фантазеры, безумно талантливые. И главное – наш ОН очень внимателен к каждой судьбе, он взвешивает все и всегда выбирает нужную нить. Мне кажется, НАШ вообще уникальный, дай ЕМУ здоровья … – ОН сам. – Именно! И оба смеются. История-7 Аркадий (Хранитель) «День внутри яблока» (продолжение) я чувствую как сильно безумно горестно люблю ирку но любовь не спасет меня, не соединит меня с девушкой, которую я предал Я просыпаюсь… И последняя моя мысль из того сна: зачем? зачем просыпаться? Зачем жить? без ирки? И тут я все забываю Я снова не душа, а человек Это был сон Я почти здоров Меня выпишут через неделю Но Ирка мертва Жаль, я ж ее любил вроде как Любил? в голове непонятно все, все путается И вообще не могу избавиться от мысли, что что-то забыл; что забыл? что-то И самая-самая последняя сонная мысль: я забыл мою душу Где забыл? в каком-то месте, где был только что. Там еще были шары, их несло по какому-то желобу; боулинг, что ли? Нет, атмосфера, ощущения были не те, что в боулинге: не было опьянения свободой, веселья, безделья и беспечности, как в боулинге Какой-то смутно знакомый голос шепчет невнятно Раньше я любил этот волшебный ласковый голос и то ощущение счастья, в какое он погружал меня Это голос из детства, так шептали мне мои детские сны. Этот голос звучал там, где я был давно – может, еще до рождения, в утробе мамы, может – в темноте комнаты, увешанной синими новогодними фонариками (однажды, когда мне было лет 7, мама так украсила мою спальню). Или в осеннем листопадном золотопадном лесу под теплым золотым солнцем. Или внутри прозрачно-спелого золотого яблока… Ну и чушь … В детстве я понимал шепчущий голос и следовал ему. Теперь ничего не могу разобрать (( – наверно, из-за травмы ((( Наверняка из-за травмы (( И постоянно наворачиваются слезы, точно – из-за стресса, вызванного аварией (( На телефоне три пропуска – мама звонила Надо перезвонить… Надо принять снотворное, чтобы выспаться без кошмаров – вечером ко мне зайдет моя новая девушка Инесса Надо догонять в универе Надо отдать диски Коляну Надо забрать страховку за машину Надо жить Вот только – зачем? И я закрываю глаза и ухожу в свою промокашку Интермедия-7 Квартет Комната с мониторами «Киносеанс одновременной жизни» *** Где-то далеко и высоко, там, куда нам позволили заглянуть всего лишь на пару ударов сердца, с натужным скрипом проворачивается невидимая ось, один раз, второй, еще, разноцветные грани упорядочиваются, стирая границы между квадратиками, сливаясь каждая в незыблемость одного своего цвета, и в мире – в разных мирах – довершаются не довершенные ранее судьбы. И тогда на пустой стене вдруг проявляется черная кристаллическая поверхность экрана, наливается светом, и на экране, разделенном на части, мы видим много разных картинок, прибывших с разных мониторов, внизу кадриков подписи с названиями мест, в которых происходит действие. Некоторые геообъекты узнаваемы без объяснений, о существовании других мало кто знает. *** Краснодар, мой любимый город. Высокий спортивный парень, и маленькая девушка с пшеничными короткими волосами, одна прядь которых выкрашена радугой. Они молодые счастливые родители. Парень толкает перед собой коляску, девушка с доверчивой властностью держит парня под локоть. Поверхностному наблюдателю он может показаться юнцом; но от внимательного взгляда не скроется заботливость, с какой парень поддерживает девушку и дует на мягкую разноцветную прядь, и твердая осторожность рук, держащих и направляющих коляску. Молодожены одеты в одинаковые джинсовые костюмы, их правая и левая ноги словно склеились, джинсовка штанин весело шуршит в ласковой тишине дня. День южной осени, теплый, золотой. Внутри этого дня чувствуешь себя как косточка внутри янтарно-спелого, прозрачного на свет яблока. А теплым вечером, когда звезды станут ближе к земле, вдруг почему-то вспомнится другой вечер – зимний, в комнате, увешанной синими новогодними фонариками … Ячейки проворачивались под пальцами легко и быстро, словно сами желали стать на нужные места. И это желание, я знаю, было волей новой жизни, которая год назад зародилась в девушке, а сейчас, воплощенная, беспомощная и всемогущая, собравшая пару воедино, лежит в коляске. Парень вдруг поднимает голову и смотрит прямо в камеру глазами, помнящими боль. Такое ощущение, что он тоже видит нас. Ему труднее всех, потому что он Хранитель и будущий Судья, он единственный из этой компании помнит и осознает прошлую жизнь и смерть, и знает, что получил свой шанс, и он его не упустит, будьте уверены! Он оправдает доверие. А еще он будет тем, кто соберет в конце концов всех из этого куба вместе, личным ли контактом, через интернет ли. Соберет тогда, когда завершатся их нынешние пути, и приведет всех на суд, и спросит с каждого по совести. *** Большое Яблоко, штат Нью-Йорк, США, с высоты полета мы видим очертания Манхеттена посреди синей воды, снижаемся на одну из его улиц. Молодая очень красивая девушка, красивая какой-то южной, не то испанской, не то кавказской, красотой, толкает перед собой кресло на колесиках с невзрачной девущкойинвалидом, укрытой ярким детским пледом с веселым диснеевским Винни. Они болтают, красавица говорит, говорит, мешает русские и английские слова, она искренне рада, и это видно невооруженным глазом. «Помнишь Галатею? – спрашивает она, – Она стала жива, так надо сказать? Стала жива и стала делать счастье Пигмалиону. Я так говорю? Это правильно по-русски? It,s right? Так?» Девушка-инвалид кивает, светло улыбаясь. Она была неправа, думая, что обрекла подругу на смерть. Она нашла свою Олесю, свою красавицу и хохотушку. Теперь они будут вместе, теперь все будет хорошо. Все-все будет хорошо. И толстый оптимист Винни беззвучно смеется. В этом случае мне надо было найти тот единственный квадратик, который подчинился бы многовариантности жизни. И я его нашел: в самый последний момент преступный замысел американской пары был раскрыт, их осудили на пожизненное заключение за убийства и торговлю человеческими органами, и Олесю удочерили совсем другие родители. Олеся живет в любви и заботе. Ячейки со смертью Сашки и родителей Анечки остались на местах, я говорил уже, что ничего не могу поделать с очевидным фактом убийства, и эти ячейки жгут пальцы, значит – Анечка будет жить со своей виной, но с этим приходится мириться. *** Центральная Россия. Холодная осень. Старое заброшенное здание. Закрытые на висячий замок ворота, опечатанная дверь, полувыбитые окна за ржавыми решетками. Ветер гремит жестяной полуоторванной вывеской «Неврологический интернат для несовершеннолетних № 1 г Рязани». Здесь уже год никого нет, даже Валеры, он исчез бесследно, его искали недолго, потом перестали. И лишь старый пес, крупный седой самец немецкой овчарки, приходит сюда каждое утро, как на работу. Ложится под порогом и воет на гремящую табличку. Он живет неподалеку, у добрых людей, в тепле, сытости и холе, исправно охраняет, но не забывает и старого своего дома, особенно помнит и хочет увидеть другую собаку – молодую пушистую дворнягу – и доброго мальчика, собакиного друга. Потому и воет, зовет. И он с ними обязательно встретится, но в свой час. *** В тюремной камере, в городе с незапоминаемым названием (и ладно, ведь тюрьмы и камеры одинаковы по всему миру) парень-зэк получает письмо. Садится прямо на бетонный пол, дрожащими пальцами судорожно вскрывает конверт, чуть не разрывая само письмо. Лихорадочно бежит глазами по строчкам, еще, еще, словно не веря написанному, и вдруг – поток рыданий, хлынули слезы, бурно вздымается грудь, и долго-долго он не может оторвать взгляд от строчек, потрясших его. Наконец, поднявшись, заключенный шаткими шагами доходит до окна, взбирается на нары и смотрит, смотрит, жадно смотрит в тюремный двор, впитывая всем сознанием и подсознанием своим то, что хоть малость свободнее, чем камера. На полу остается лежать письмо. Крупный по-детски почерк школьницы-отличницы, или студентки-отличницы, разница не может еще быть видна. Объектив увеличивает строчки, и мы читаем: « … все ребята из твоей группы поддерживают тебя и передают пламенный приветище. Макс, ты, пожалуйста, держись, мы стараемся, как можем. Олег сегодня встречается с самым лучшим адвокатом, и он обязательно – слышишь? обязательно! – оправдает тебя. Спасибо тебе, что защитил меня от тех пьяных бездельников. Как же я их ненавижу!!! Ненавижу их и их папашек за то, что с тобой сделали! И не вини себя, не вини, ведь ты меня спасал. Олег встречается на только с адвокатом, он нанял еще и частного детектива, и детектив нашел свидетелей, сразу двух (помнишь, та пара на лавочке?), которые видели нож в руке нападавшего. И они согласны дать показания в суде. И еще Олег советовался по скайпу с юристом из Франции. И все-всевсе обнадеживают, говорят, что была всего лишь оборона, и не было даже ее превышения. На следующую среду назначено слушание в Киеве. Максим, родной наш, не раскисай, верь в нашу дружбу, мы тебя любим и вытащим обяза-» Закончилась страница, камера не в состоянии перевернуть листок, поэтому оставим письмо. Но добавим, что бесценный этот листочек будет теперь бережно храниться в книге. Конечно, книга эта – «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, и надо ли говорить, что сострадательную девушку зовут Соня; и конечно, рядом с письмом в той же книге так же бережно всегда будет храниться высохший совершенно лысый стебелек одуванчика. А что же наш заключенный? Поворот камеры, объезд. Он все плачет, но плачет светло, сквозь улыбку, и смотрит, не может насмотреться на тюремный двор, на тюремное небо, и все шепчет, шепчет, шепчет беззвучно. Кто умеет читать по губам, тот прочитает слова благодарности, обращенные в высь. *** Ленинградская область, заповедные леса между Свирью и Ладогой. Она выглядит заносчивой, так как голова ее всегда откинута назад, но на самом деле это не от высокомерия, а от тяжести роскошных рыжих волос, целого огнепада волос. Она – одинокая, молодая, красивая, но красивая какой-то строгой, дисциплинированной красотой. Да и в жизни ее все упорядочено, неукоснительно подчинено четким ритмам: каждое утро и каждый вечер она на старом армейском джипе объезжает по периметру свои владения, на каждую сторону уходит по часу. После утреннего объезда – обход определенного, намеченного на сегодня, участка. Тщательный осмотр коры, дерна, опада, а также: подкормка, поливка всходов, окапывание и рыхление, высадка саженцев, погребение умерших деревьев, вырубка, расселение червей, муравьев и диких пчел. Работы невпроворот. Потом снова объезд. Под ночь она садится на какой-нибудь поляне и начинает общение с лесом. Для нее общение – не баловство, а необходимость, своеобразный экологической сеанс психо- и физиотерапии для всех лесных обитателей. Вокруг нее собирается лесная живность, и хотя девушка в большей степени специалист по растениям, она счастлива их присутствием, ведь животные – ее помощники и друзья, господа и рабы одновременно. Все животные организмы, кроме одноклеточных, обладающих не индивидуальным, а коллективным, к тому же зачаточным, разумом, движутся в едином порыве в одном направлении. Точка, где сидит хозяйка, становится вечером средоточием жизни позвоночных и хитиновых. Бессмысленный труд называть их всех, стоит лишь отметить, что ближе всех осмеливается подходить к королеве Старый со всем своим многочисленным (хвала нашей заботнице!) семейством. Он – волк, и он остается в лесу за главного, когда хозяйка уезжает по делам в город, и почему-то девушка и крупный дикий зверь, положивший голову ей на колени, смотрятся естественно и гармонично. Жители окрестных хуторов глядят на егершу-отшельницу с опаской и уважением. Она – великая труженица, а кому как не крестьянам понимать всю тяжесть и ценность труда. И пусть о ней ходят странные слухи, что якобы она обладает колдовской силой над любым зверем. И пусть она свихнута на пожарах: в своем лесу она заставила-уговорила богатых фермеров поставить 20 навесов с мощнейшими дымоуловителями, расположив их так, чтобы зона покрытия охватывала всю территорию. Лес и без того ограничен двумя реками и буквально усыпан сетью маленьких озер и болот, но разве ж можно убедить в чем-то такую упрямицу? Ну и пусть, если уж ей от этого спокойно спится. Зато благодаря разумной деятельности егерши у всех деревень в округе всегда богатый урожай грибов и ягод, и в обилии ловится рыба, и всегда есть дрова для баньки, и лесные птицы исправно поедают вредителей крестьянских садов и огородов, и на Новый год в каждом доме стоит пушистая елочка. В конце концов, у каждого свои тараканы в голове, не так ли? Лишь бы чужие насекомые не переселялись в наши квартиры. *** Волхов На берегу одной из рек, тоже имеющих отношение к Ладоге, только на много километров западнее и севернее, мы видим концовку несчастного случая. Два братаблизнеца, мужчины, что называется, в цвете лет, тащили из мартовской воды пассажиров рухнувшего туда с моста автобуса. Они всегда все делали вместе. Даже женились в один год, и детей у каждого поровну – трое, по одному мальчику и по две девочки-близняшки. Братья спасли уже 26 жизней, по 13 на каждого, а потом один из братьев, вдруг отяжелев от стресса и физических усилий, пошел ко дну, и второй, не менее уставший, замерзший и потрясенный несчастьем, потянул на себе уже своего брата. И вот они, два отражения друг друга, лежат на берегу, один потихоньку приходит в себя, откашливаясь, налаживая дыхание, а второй пытался отдышаться, набрать в грудь воздуха, и все не мог, пружинился телом, и вдруг обмяк, упал, так и не глотнув морозного воздуха, – сердце не справилось с переохлаждением. Живой брат начинает делать искусственное дыхание, выкрикивая при этом что-то, упоминая какую-то Ольгу, какой-то поход, какой-то овраг, обещание маме, и через многие минуты попыток умерший приходит в себя. Все ячейки стали на свои места. Больше нам нечего здесь делать, теперь они справятся сами. *** Атлантический океан, много-много водного простора В истории с Дельфином я повернул всего лишь одну ячейку: Дельфин никогда не был женат. Избежим ненужных жертв. А большего от меня и не требовалось. Зачем помогать тому, кто и без нас счастлив? Он правда ушел в море и правда переродился, он действительно больше не человек. Если Вы будете в Атлантике, с той стороны, где она кромсает побережье Америки кружевом пены, с юга на север от Мертл-Бич через Вирджиния-Бич до самой Филадельфии, а может – там, где она незаметно переливается в дочернее Эгейское море, у западных берегов благословенного острова Родос … Неважно, где Вы будете. Главное – Вы можете увидеть его резвящимся в море со своей стаей и с красавицей-русалкой, если Вы, конечно, захотите открыть сознание и увидеть то, что обычно люди называют детскими фантазиями. *** Москва, Воробьевы горы В библиотеке главного вуза России сидят за одним столиком под электронной лампой студент и студентка. По их синхронным движениям, по схожей одежде, по любящим взглядам мы понимаем, что они вместе, и понимаем, что вместе они навсегда. Они вечные влюбленные. Они будут работать вместе, они родят детей, дети родят им внуков, они проживут вместе много-премного лет и уже годам к сорока пяти станут похожи друг на друга, как две половинки яблока. Они веселые, активные, посещают студенческие КВНы, футбольные матчи, ходят в походы, и только от вылазок в горы они отказываются: это его категорическое желание, и она не возражает. С этой гранью, как ни странно, было труднее всего, может быть, потому, что легче исправить неудачное действие, чем неудачную мысль, а таких мыслей было много с обеих сторон, и еще больше было непонимания. *** И еще кадр – весна. Просто весна. Повсюду. Со всех точек обзора: с поляны в лесу, из окна дома с видом на городскую улицу, с высоты птичьего полета… Постистория Валера «Все вернулось» Я ставлю собранный кубик на полку, к его товарищам, смотрю в окно, солнце ослепляет меня мгновенным лучом сквозь веселые зеленые листья, еще одним, еще, лучи пляшут, подмигивают мне. Я щурюсь, вглядываюсь в прорези веточек и листочков, хочу увидеть лицо солнышка. Вот оно – круглое, как и мое лицо, невозможно яркое. Если смотреть на него больше одного взмаха ресниц, оно становится серебряно-зеленым, с пляшущим белым ободком. Входит бабуля, несет в руках поднос с несквиком и свежими домашними булочками. Булочки я очень люблю, и горячий несквик тоже. Бабуля ставит поднос на мой стол, садится в свое любимое кресло. Она выглядит на год старше. И это означает, что я все сделал правильно, что мы не в законсервированном раю, а живем обычной нормальной жизнью. Значит, что я повернул грани. Я поднимаюсь из-за стола, ложусь в ногах у бабули, на мой любимый ковер, на котором под тумбой для телевизора живет россыпь пятнышек от зеленки, я пролил ее прошлой зимой, и бабуля перевернула ковер так, чтоб спрятать пятна. У меня по-прежнему круглое лицо с раскосыми глазами, толстые пальцы, которые я, правда, научил быть проворными, и мозг, который думает так же хорошо, как и прежде. «Бабуля, сегодня пойдем гулять?» – спрашиваю я. Я знаю, что пойдем, а спрашиваю для проверки, и слышу, что слова выходят внятные и радостные, и голос не пищит, как было раньше. Хоть это мне позволили оставить. «Попозже», – отвечает бабуля, по ее будничному тону я понимаю, что для нее моя новая дикция никакая не новость. Стуча когтями по паркету, в комнату свободно, без страха, но чуть смущенно, бочком («Опять кошек гонял, ай-яй-яй, проказник», – нестрого упрекает бабуля) вторгается мой лучший друг Жулик. Дверь нашей квартиры всегда открыта специально для него. Он садится на задние лапы, виляет хвостом, улыбается, глаза у него такие выпрашивающие, и я делюсь с этим вечным обжорой булкой. Я смог, я все вернул. Значит, все в порядке, все хорошо. Да, люди, живущие под общим нашим небом, теперь вы можете смотреть вверх, небеса не останутся безучастными. Ведь я вернул нам всем Боженьку. Не надо печалиться теперь. Ведь теперь все будет хорошо. Все-все и для всех. Ах, да, это был, наверно, мой последний кубик: утром бабуля подарила мне сотовый. Это сколько же в нем головоломок, а сколько помещается стеллажей, мне никогда не сосчитать! А уж КОМУ я смогу дозвониться, и ЧТО теперь будет!.. Интермедия-4 Квартет Комната с мониторами «Киносеанс. Последний кадр» Мы вновь в комнате с мониторами. Мы видим последний кадр, уже во весь экран – небо, высокое, чистое, ярко-голубое, дающее надежду. Post Scriptum Автор И снова я – Богдан, автор. Если Вы действительно одолели предыдущие страницы, а не пролистнули их, чтоб поскорее добраться до конца, то мне сказочно повезло. И пишу для тех, кто дошел до этих строк честным путем. Прошу заметить, эта повесть – не фантастика. Автор (я) не позволил себе ни слова лжи или выдумки. Хотите увидеть пару из Краснодара – пожалуйста. Вы легко найдете сотню таких пар, а может, и тысячу. Из МГУ – запросто. Заходите на любой факультет! А также Анечку, Олесю, Максима, обоих Александров, да кого угодно из нашей истории! Боюсь только, Хранитель Аркадий не будет с Вами до конца откровенен, с ним Вы рискуете нарваться на вежливую холодность. А остальные расскажут о себе все, вот только ничего – о своей прежней жизни: они не помнят того, что было с ними до. Валера? Он по-прежнему с бабулей и Жуликом, он вымолил для них обоих долгую здоровую жизнь. Так что ищите подростка-дауна с бабушкой и собакой. Если увидите таковых гуляющими в сквере – возможно, это они и есть. Что? Вы были в Рязани? Интерната для солнечных детей нет? Конечно, его же закрыли. И не было? Ну-у, не знаю. А Вы внимательно искали? И в лесах Ленинградской области нет рыжей егерши-отшельницы? И в Волхов не падал автобус? И даже с дельфином Вам не удалось пообщаться? И Вы не такой простачок, чтобы верить в дриад, русалок, живую душу природы, космические путешествия, инвариантность Вселенной, взаимопроницаемость прошлого и будущего, а также в раскаяние, возможность исправления и доброту? И вообще, скажете Вы, такие чудеса случаются только во сне? Или в голове обезумевшего от горя мальчика? И по логике вещей Валера по-прежнему в интернате, только разум его навсегда закрылся от реального мира? Да, логика – великая вещь )) Только – позвольте, а на той ли грани реальности Вы живете? *** А вот и обещанный тест. У меня действительно есть фраза, которой я с недавних пор тестирую людей: _БОГ_ЕСТЬ_ Зачем? А это моя идея-фикс. Я проверяю реакцию. Ведь кто-то в ответ на простое БОГ ЕСТЬ скажет: «Конечно, есть!», кто-то угрюмо помотает головой, третий пожмет плечами, мол, не уверен, еще кто-то вообще не найдется, что сказать, и лишь немногие добавят – ЛЮБОВЬ. По реакции человека я понимаю о нем хоть и не все, но все-таки … Смешно, но именно ради этой единственной фразы я и задумал повесть. Я думал: может, мои истории помогут кому-то определиться с отношением к жизни? Может, кто-то поднимет взор в ясное голубое небо и поверит в его милосердие? Может, кто-то даже найдет в себе Бога? И, может даже, этим кем-то стану я сам?.. Что? Вас интересует, прошли ли тест лично Вы? Не знаю, у меня нет верного ответа. А у Вас?