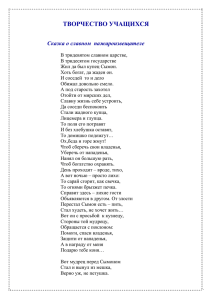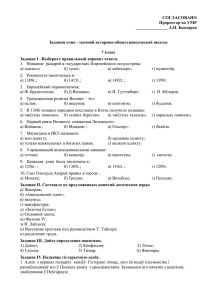РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
advertisement
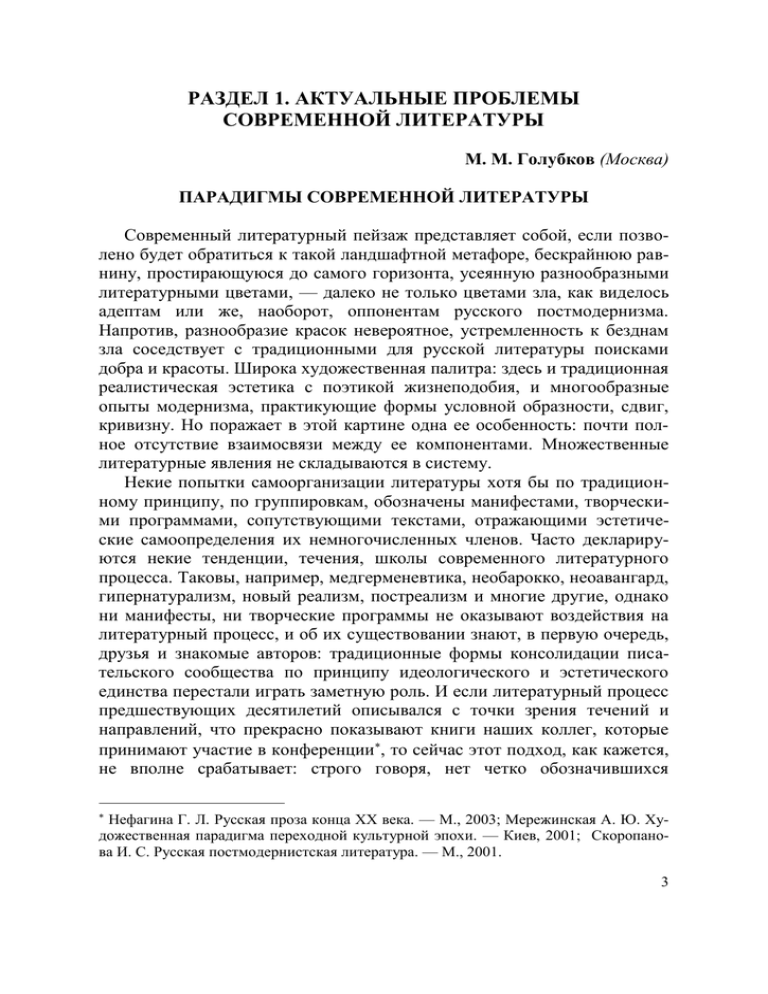
РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ М. М. Голубков (Москва) ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Современный литературный пейзаж представляет собой, если позволено будет обратиться к такой ландшафтной метафоре, бескрайнюю равнину, простирающуюся до самого горизонта, усеянную разнообразными литературными цветами, — далеко не только цветами зла, как виделось адептам или же, наоборот, оппонентам русского постмодернизма. Напротив, разнообразие красок невероятное, устремленность к безднам зла соседствует с традиционными для русской литературы поисками добра и красоты. Широка художественная палитра: здесь и традиционная реалистическая эстетика с поэтикой жизнеподобия, и многообразные опыты модернизма, практикующие формы условной образности, сдвиг, кривизну. Но поражает в этой картине одна ее особенность: почти полное отсутствие взаимосвязи между ее компонентами. Множественные литературные явления не складываются в систему. Некие попытки самоорганизации литературы хотя бы по традиционному принципу, по группировкам, обозначены манифестами, творческими программами, сопутствующими текстами, отражающими эстетические самоопределения их немногочисленных членов. Часто декларируются некие тенденции, течения, школы современного литературного процесса. Таковы, например, медгерменевтика, необарокко, неоавангард, гипернатурализм, новый реализм, постреализм и многие другие, однако ни манифесты, ни творческие программы не оказывают воздействия на литературный процесс, и об их существовании знают, в первую очередь, друзья и знакомые авторов: традиционные формы консолидации писательского сообщества по принципу идеологического и эстетического единства перестали играть заметную роль. И если литературный процесс предшествующих десятилетий описывался с точки зрения течений и направлений, что прекрасно показывают книги наших коллег, которые принимают участие в конференции, то сейчас этот подход, как кажется, не вполне срабатывает: строго говоря, нет четко обозначившихся Нефагина Г. Л. Русская проза конца ХХ века. — М., 2003; Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. — Киев, 2001; Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. — М., 2001. 3 направлений и течений. Сейчас они утратили номинативную функцию и не определяют ничего. И если все же поддаться инерции выстраивать их парадигматику, то как много их ни выделять и как мудрено ни называть, это не подвигает, как нам кажется, в нынешней ситуации к постижению закономерностей литературного процесса. Необозримый и неосмысленный пока современный литературный ландшафт контрастирует не только с пейзажем советского времени, но и с тем, что наблюдался в конце ХХ столетия, когда постмодернисты, подвергнув тотальной деконструкции художественный опыт последних двух столетий, выстроили свою четкую парадигму, имевшую иерархию литературных ценностей, целей и писательских репутаций. Сейчас эта парадигма тоже в прошлом, ибо постмодернизм, по нашему глубокому убеждению, завершил круг своего развития, и его конец обозначен достаточно явно — романом Т. Толстой «Кысь». Увидевший свет в 2000 году, последнем году ХХ века, этот роман закрыл предшествующий период, разрушив принципы постмодернистской эстетики ее же собственными приемами, т. е. изнутри самого постмодернизма, но вовсе не обозначил начало нового. В современной литературе работает множество писателей, разобщенных, атомизированных, связанных с собратьями по перу лишь личными отношениями симпатии или антипатии, часто не знающих и, что характерно, не желающих знать о факте литературного существования своего ближайшего соседа по необозримой литературной равнине. Их художественное самосознание характеризуется узостью социальных да и личных связей, эстетической глухотой в отношении к творчеству другого, равнодушием к общему литературному процессу, фатальным ощущением его отсутствия или неважности для себя. Нежеланием читать других и обидой на то, что не читают их. В писательской среде стало модным объяснять невнимание к перу другого страхом сбиться с собственной «ноты», нарушить свою мелодию присутствием чужого ритма. Почва для этой пестрой и разнообразной литературной среды возделывается множеством крупных и мелких издательств, выпускающих тысячи книг и публикующих сотни писателей, имена которых так и остаются неизвестными. Таким образом, наблюдателя, который взял бы на Во избежание повторов адресуем читателя к статьям, в которых автор настоящего доклада уже пытался осмыслить роль романа Татьяны Толстой как текста, разрушающего эстетику постмодернизма изнутри — приемами самого постмодернизма: «Русский постмодернизм: начала и концы» // Литературная учеба, 2003, № 6; «Завершенная эстетика: сорок лет русского постмодернизма» // Slavia orientalis (Краков), том LIV, NR 2, ROK 2005. 4 себя труд вглядеться в литературную панораму повнимательнее, поразили бы, во-первых, ее необозримость и многообразие красок; во-вторых, хаотичность, случайность, отсутствие логики и видимой закономерности развития. Эти два обстоятельства ставят под вопрос саму возможность выстраивания парадигм современного литературного процесса — т. е. заставляют усомниться в правомерности темы нашего выступления. Литература начала ХХI века предстает как явление, не организовавшееся в систему. Такое ее состояние наводит на мысль о неких принципиальных изменениях в современной культурной ситуации в целом. В понятиях структурной антропологии Леви-Строса присутствует дихотомия «холодной» и «горячей» культуры. В парадигме их противопоставлений есть оппозиция вертикали и плоскости. В «холодной» культуре, застывшей, ориентированной на классику, сформировавшей свой идеал и стремящейся к его оттачиванию и воспроизведению классического образца, существуют вершины, пики, воплощающие незыблемые ценности, в том числе и художественные, литературные. Напротив, «горячая» культура, обладающая большим творческим потенциалом, находится в развитии, отрицает канон, стремится к вариативности и многообразию, а потому не знает вершин, располагается на плоскости, стремясь не к утверждению классического образца, но, наоборот, всячески отрицая его. «Горячая культура» полицентрична, каждый ее узел, вокруг которого группируются те или иные литературные явления, самоценен. В сущности, она не имеет центра и периферии. Современный литературный ландшафт ближе, скорее, к этому варианту. Разумеется, соблазн отнести нынешнюю культуру к «горячей» очень велик, но воздержимся пока… «Горячей» культура является тогда, когда ее потенциал востребован, т. е. когда общество нуждается в ее открытиях, когда искусство в целом и литература в частности оказывается значимым фактором общественного сознания, существенным обстоятельством национальной жизни. «Горячее» состояние не может быть следствием лишь процессов и явлений, имманентных литературе, но оказывается результатом национальной жизни в целом, ответом на общественные потребности. Нынешнее состояние литературы, когда общество не знает и не видит ее, вряд ли может соответствовать «горячей» стадии. Напротив, многообразие литературных красок не востребовано: как довелось услышать автору этого доклада в редакции одного из «толстых» журналов: «Писателей-то полно. Читателей мало». В сущности, утрата традиционного для нас еще с петровского времени литературоцентризма произошла невероятно быстро. Описывая по5 добные по своей молниеносности процессы, Ю. Лотман говорил о взрыве, рассматривая его как результат накопления культурой творческого потенциала, который в короткое время реализуется в национально значимых художественных явлениях, создающих новое качество литературного сознания. В конце 1980-х — в 1990-е годы русская литература действительно пережила взрыв, — именно так и могут быть осмыслены те несколько лет, когда фактом общественного сознания стали «задержанные» произведения. В очень короткое время, «спрессовавшее» под высоким давлением семь советских десятилетий, диаспору и метрополию, несколько столиц русского рассеяния, произошло накопление критической массы, что и обусловило последующий культурный взрыв, только вот эффект его был не совсем тот, о котором размышлял Ю. Лотман. Этот взрыв, соединяя и хаотически перемешивая несовместимое, создал питательную среду для постмодернистского релятивизма. Его результатом явилось господство постмодерна как главенствующей эстетики и философии русской литературы 1990-х годов, целью которой было не созидание, но тотальная деконструкция не только литературы, но и базисных принципов национального сознания. И взрыв рубежа 80 — 90-х годов, и последовавшее десятилетие постмодернистской деконструкции привели к нынешней ситуации. Литература первых лет нового века выглядит крайне противоречиво: с одной стороны, она значительно расширила эстетический арсенал; с другой стороны, почти полностью утратила прежний высокий статус в культурной иерархии. Изменение культурного статуса литературы привело к потере важнейшей ее функции: формирования национального сознания, рефлексии о национальной судьбе, поисков места страны в современном мире. Литература почти перестала быть идеологической сферой, формирующей национальную идентичность, перестала быть формой общественной саморефлексии, потому что общество утратило способность и потребность мыслить о себе языком литературы. И виновата не словесность, не художник, который больше не хочет быть «зрячим посохом», но объявляет себя беллетристом, — виновато общество, распавшееся на первичные элементы и утратившее потребность (или способность?) к саморефлексии и самоидентификации — не только посредством литературы, но и других сфер общественного сознания. Ведь судьба А. Солженицына — яркий пример невостребованности пророка и интеллектуальной анемии не только читателя, но и критика, а часто и литературоведа, автоматически повторяющего штампы о превосходстве «ранних рассказов» над 6 всем написанным позже, которые лишь скрывают профессиональное неумение прочесть «Красное Колесо». Слишком сложный текст, не по зубам нынешнему читателю. А читатель — это и есть представитель общества, притом лучшей, думающей его части. Литература стремительно обретает новые функции в контексте культуры. Раз общество не хочет видеть в писателе учителя и нравственную инстанцию, то появляется новый писатель: профессионал — технолог. Поистине удивительная фигура современной жизни, он теснит писателя, традиционно воспринимающего свою роль как творческую. Он изучает как социолог спрос нынешней аудитории, потакает ему и упрощает его, превращая писательство в производственный процесс, иногда с привлечением наемной силы. Часто производство ставится на конвейер: один член творческого коллектива придумывает незамысловатые сюжеты, другой пишет постельные сцены и т. д. Это невероятно ускоряет производственный процесс: по три-четыре романа в год не писал даже Боборыкин. Естественно, что появление такого рода коллективной творческой личности резко изменяет всю литературную ситуацию, и в первую очередь, отношения в системе «писатель — издатель — читатель — критик». Литература все более мыслится как своеобразная сфера бизнеса, как рынок, на котором конкурируют различные коммерческие проекты. Издательства становятся «фабрикой литературы», фирмами, конкурирующими друг с другом, воюющими за потребителя. Они фабрикуют новые писательские имена (сейчас мода почему-то на женские, и такая тенденция, по мнению знающих людей, продержится еще лет пять), занимаются их «раскруткой», рекламой, сбивают во всевозможные серии — без серийности сейчас не проживешь. Главная цель такой фабрики, как и любого «дела», — прибыль. Именно поэтому возможны такие феномены (действительно интересные, невероятно знаковые для сегодняшнего дня), как А. Маринина или Д. Донцова. Еще более своеобразным явлением оказывается литературный проект, например, псевдоисторический детектив Б. Акунина. Это проект упрощения литературных задач. Пользуясь весьма скудными историческими сведениями, которыми обладает его читатель, и эксплуатируя естественную потребность осознать себя в контексте национальноисторическом, Б. Акунин конструирует образ упрощенной исторической реальности, формирует псевдомифологию, культурными героями которой становятся монахиня Пелагея и детектив Фандорин, кочующие из романа в роман, т. е. обеспечивающие еще более высокий уровень серийности: все книжки Б. Акунина читаются как гипертекст — с любого 7 места и в любом направлении, как хочет того читатель, скорее, потребитель. Литературный проект заменил писателя. Если и можно говорить о писателе в традиционном понимании, то здесь выделяются всего несколько фигур, возвышающихся над равниной и имеющих относительно широкую аудиторию, завоеванную еще в прошлые времена: В. Сорокин и В. Пелевин; А. Проханов; Л. Улицкая; В. Маканин… Список может быть продолжен в зависимости от индивидуальных пристрастий продолжающего. Аудитория А. Варламова, Д. Липскерова, П. Крусанова, интересных и ярких авторов, уже значительно меньше. Остальные писатели с трудом находят место в журналах со съежившимися тиражами, в издательствах, где их встречают, спрашивая о всевозможных грантах или об издании за свой счет. И их множество, и они все же издаются! Они очень разнообразны как с эстетической, так и с идеологической точки зрения. Назовем несколько имен, прекрасно понимая, что они мало что скажут. Михаил Холмогоров, опубликовавший в прошлом году большой серьезный роман «Жилец», с жанровой точки зрения восходящий к «Жизни Клима Самгина» и «Доктору Живаго»; Вера Галактионова, работающая на стыке реализма и модернизма, обладающая богатым стилевым арсеналом, часто отходящая от поэтики жизнеподобия; Вячеслав Дегтев, адепт русского национального сознания, жесткий реалист, критик негативных черт современности; Герман Садулаев, молодой военный романист; Станислав Фурта, утонченный прозаик, автор книги «Имена любви», обладающий богатой палитрой для того, чтобы говорить о не такой уж и новой теме, как любовь. Эти писательские имена, названные почти наугад, заслуживают самого пристального общественного внимания. Но только вот читателя эти авторы не находят! Читательская среда сократилась до каких-то минимальных величин. И все же книги выходят, журналы издаются, и круг писателей растет едва ли не с каждой новой журнальной книжкой (посмотреть хотя бы поквартальные обзоры библиографической службы «Континента»), однако их произведения не складываются в литературный процесс, художественные концепции мира и человека, в них содержащиеся, почти не вступают друг с другом в идеологическое и эстетическое взаимодействие. Может быть, что-то изменилось в самой природе литературы, в ее сущности, а наш исследовательский инструментарий пока не дает возможности обнаружить эти изменения? Современные литературоведы воспитаны на представлениях о литературе как саморазвивающейся динамической системе, основанной на творческом взаимодействии различных течений, направлений, эстетиче8 ских систем, авторских художественных миров (Их теоретические основания отчетливо сформулированы в трудах московско-тартуской школы). Связи, притяжения или отталкивания, интенсивный диалог между ними и является первопричиной литературного развития. Той сферой, где сталкиваются противоположные художественные концепции бытия, становится читательское сознание, и критика артикулирует сложные и разнонаправленные процессы, идущие там. В результате диалога читателя, писателя и критика происходит приращение смыслового богатства текста, находящегося в поле зрения интерпретатора. Но что делать, если этого взаимодействия нет? Значит ли это, что развитие литературы подчиняется теперь каким-то другим закономерностям? Литература, как и любая система, если следовать выводам синергетики, испытывает на себе воздействие как обстоятельств причинноследственного характера, так и случайных. В том случае, если система устойчива и стабильна, она подчинена причинно-следственным закономерностям и воздействие случайности на нее крайне маловероятно. Если же система находится в неравновесном состоянии, то роль причинноследственных отношений снижается и, напротив, нарастает роль случайности, даже и совершенно ничтожной, но способной направить развитие в иную сторону или вообще заставить функционировать по-другому. В этот миг, в точке бифуркации, система оказывается как бы на распутье. Может быть, сейчас литература как саморазвивающаяся динамическая система и находится в точке бифуркации? Закономерности прошлого развития практически перестали определять ее нынешнее состояние. Еще несколько лет назад, привычно говоря об общественной значимости художественного слова, мы размышляли о перспективах его развития, полагая, что пучок возможностей, содержащийся тогда, и реализуется с той или иной степенью вероятности завтра. Эти возможности так или иначе были связаны с проблематикой и художественными формами ее выражения, со способностью ставить социально и философски значимые вопросы, отражать общественное сознание и формировать его. Теперь же мы видим, что тот потенциал оказался и нереализованными, и невостребованными. Увы, чтение перестало быть престижным занятием, во многом утрачен навык серьезного чтения, а семейное чтение почти ушло из бытового обихода. Слово писателя неразличимо в акустике современной культуры и заглушено голосом телеведущего или шутками мастеров эстрады. Книга перестала быть фактором общественной и частной жизни. В подобной ситуации наши былые представления о художественном тексте как смыслопорождающей структуре, принципиально неисчерпаемой, нуждаются в корректировке. Создаются предельно простые вещи, 9 одноплановость которых становится их важнейшим потребительским качеством. Чем проще и понятнее, тем меньше усилий требует произведение от читателя. Чем проще коды вторичной дешифровки, если вновь вспомнить Ю. Лотмана, тем шире аудитория, которой доступен текст. Тем больше тираж. Тем выше прибыль. Да и читатель перестал рассматриваться как фигура, способная к сотворчеству, к обнаружению новых смыслов и обогащению произведения. Потребитель потребляет, но не производит. Нет, вероятно, и места для творческого взаимодействия между альтернативными художественными концепциями, напротив, один автор стремится не читать другого, дабы не нарушить чужим влиянием свой мир, тем более, если речь идет о раскрученном коммерческом проекте — в этом просто нет нужды, он герметичен и замкнут сам на себя. В ситуации начала ХХI века логика литературного развития подменилась логикой рынка, а литературный быт с его бесконечными большими и малыми презентациями, премиями и прочими рекламными акциями и вовсе утратил специфические элитарные формы. В этом, наверное, нет ничего катастрофического, во всяком случае, такова закономерность времени. В конце концов, текст тоже может (или должен даже?) быть товаром: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Ужасно другое: рыночные отношения, вытеснив собственно литературные, вытеснили и настоящую литературу. Сфабрикован новый тип писателя — производственника, и новый тип читателя, потребителя этой продукции. Читатель же, взыскующий прежней литературы, теперь на периферии, на задворках, его занятие чтением не престижно, неинтересны никому его интерпретации прочитанного, а уж тем более они не имеют общественной значимости. Изменились сами функции литературы: она стала формой досуга, делом сугубо частным и вполне факультативным. В таком же положении оказались писатели (и их огромное большинство), оттесненные со своими крохотными тиражами не просто на периферию, на самые задворки литературной жизни. В сущности, те немногие читатели, которые еще хотели бы читать, не могут сориентироваться на этой огромной равнине и найти своего писателя, а тем более вступить с ним публичный диалог, как это было еще совсем недавно, на рубеже 80 — 90-х годов. Голос критика, посредника в этом диалоге, почти неразличим. Опыт предшествующего литературного развития учил, что в литературе, как и в языке, нет ничего случайного, что закономерен любой текст. Но сейчас разнообразие литературы предстает именно как хаотическое нагромождение художественных явлений, случайных и необяза10 тельных. Полное отсутствие иерархии и соподчинения, потребности художника сориентироваться в литературном пространстве дополняет картину. Мы далеки от того, чтобы драматизировать нынешнюю ситуацию. В самом разнообразии литературы, не ставшей коммерческим проектом, содержатся большие возможности — и общественного, и художественного планов. Не вполне понятно только, какие из них реализуются. Но очевидно и другое: любая из литературных случайностей, маргинальных сегодня, завтра может определить характер литературного процесса. Какие из возможностей, существующих сейчас, реализуется завтра? Случайность или закономерность предопределит литературное будущее? Синергетика утверждает: случайность, которая потом сформирует свои, уже новые, закономерности системы. Вероятно, филология может увидеть иные пути и предопределенности. Хочется надеяться, что конференция хотя бы отчасти их прояснит. 11 И. С. Скоропанова (Минск) КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА ХХI ВВ. Литература каждой эпохи обладает своим неповторимым лицом, каковым ее наделяют а) содержательно-эстетические параметры, отражающие использование нового литературного материала и новых способов его художественной интерпретации, а также характер взаимоотношений с традицией, б) вписанность в утвердившуюся (вариант: утверждающуюся) эпистему, обусловливающую мировоззренческую систему координат и воссоздаваемую картину мира, в) прагматическая установка, связанная с внедрением в общественное сознание определенных идеалов, ценностей, норм, призванных обеспечить сохранение и прогресс социума. Все три уровня находятся в отношениях релевантности, что позволяет рассматривать как единую социокультурную и эстетическую общность самые разнообразные произведения. Выявлению отличительных черт современной русской литературы может служить создание ее концептуальной модели как теоретического конструкта, парадигматически описывающего и характеризующего вышеуказанные уровни и раскрывающего существующие между ними связи. Рассмотрение содержательно-эстетических параметров русской литературы конца ХХ — начала ХХI вв. позволяет квалифицировать ее как итожащую, аналитическую, переориентирующую, предупреждающую при утверждении эстетического плюрализма в условиях свободы слова и ситуации постмодерна в культуре. Итожащий характер современной русской литературы выражается в появлении большого пласта произведений, в которых подводятся итоги советской, российской, мировой истории. Таковы «Дом, который построил Дед» Б. Васильева, «Москва ква-ква» В. Аксенова, «МСМХСIV» И. Бродского, «Век двадцать первый. Человечья особь…» Б. Кенжеева, «Флейта и прозаизмы», «Двери закрываются» В. Сосноры, «Всех ожидает одна ночь» М. Шишкина, «Голова Гоголя» А Королева, «До и во время», «Мне ли не пожалеть…» В. Шарова, «Ермо», «Желтый дом» Ю. Буйды и др. Импульсом для их создания послужили: провал Проекта Коммунизма, распад СССР, необходимость выбора дальнейшего пути, потребность осознать, в какой точке исторического развития находится человеческая цивилизация. Доминирует в произведениях этого типа разочарованность и критический пафос, так как жертвы истории неисчислимы, общество всеобщего благоденствия за века и тысячелетия так и 12 не создано, прогресс породил свою зловещую тень — угрозу всеобщего уничтожения. На смену историческому оптимизму, господствовавшему в советской литературе, приходят исторический пессимизм либо исторический скептицизм, что проявляется в распространенности мотивов конца, гибели, рукотворного Апокалипсиса (исключения немногочисленны и, как правило, основаны на утопических постулатах). Легализуется утаивавшееся, осуществляется демифологизация прошлого*, прежде всего советско-российского, неотделимая от критики исторического насилия, осуждения тоталитаризма. Сам взгляд на историю утрачивает линейность, что сказывается в появлении альтернативной исторической прозы, романов-версий, образа «прошло-настояще-будущего» времени в произведениях постмодернистов. Рассматриваются факторы благоприятные и неблагоприятные для исторического процесса. Революции и контрреволюции квалифицируются как социальные катастрофы («Теория катастроф» Н. Исаева); более предпочтительным признается путь социальной эволюции («Гений местности» А. Королева). Вскрывается связь между господствующей в обществе идеологией (в широком смысле слова) и либидо социально-исторического процесса («До и во время» В. Шарова). При разработке исторических проектов предлагается учитывать национальную ментальность и фактор реального человека ну и, конечно, предапокалипсическую ситуацию нашего времени («Желтый дом» Ю. Буйды). Другой аспект русской литературы конца ХХ — начала ХХI вв. на уровне содержательно-эстетическом связан с художественным освоением постсоветской реальности, сопровождающимся прояснением сущности совершающихся в обществе процессов. Писатели воссоздают последствия распада СССР, начавшегося демонтажа тоталитарной системы и новые веянья в жизни России, как позитивные, так и негативные. К числу первых относятся: появление гражданских свобод и свободы совести, создание демократических институтов, раскрепощение жизни, легализация ранее запрещенных культурных ценностей, духовное воссоединение метрополии и эмиграции, расширение связей с миром, использование возможностей интернета. Об этом идет речь в произведениях А. Солженицына «На изломах», М. Арбатовой «Мобильные связи», Б. Ахмадулиной «Нечаяние: Дневник», Г. Сапгира «Жар-птица», З. Зиника «Встреча с оригиналом», А. Гостевой «Притон просветленных» и др. Отрицательно оцениваются формы борьбы за власть и переВ отдельных случаях старые мифы сменяются новыми, касающимися характера русской государственности и личностей русских царей, главным образом, в произведениях почвенников и «государственников». * 13 дел собственности, криминализация и олигархизация страны, внедрение стандартов общества потребления, падение жизненного уровня, межнациональные конфликты, чему посвящены «Город Глупов в последнее десять лет» В. Пьецуха, «Смута» А. Зиновьева, «Золото гоблинов» Б. Кенжеева, «Whо by fire», «Generation ‘П’» В. Пелевина, «Время ночь», «Номер Один, или В садах других возможностей» Л. Петрушевской, «Хуррамабад» А. Волоса и др. книги. В повести В. Крупина «Прощай, Россия, встретимся в раю», поэме В. Корнилова «Рулетка», книге стихов С. Стратановского «Тьма дневная» возникает образ терзаемой корыстолюбцами России, проступает разочарование в характере реформации общества. Роман А. Проханова «Господин Гексоген» отражает начавшуюся борьбу с олигархами, идущую, однако, под знаком усиления позиций ФСБ и утверждения «мягкого» авторитаризма, следовательно, — частичного отката назад. М. Берг в книге «Письмо президенту» предупреждает в связи с этим об опасности реставрации старых порядков. В своей совокупности литература о современности свидетельствует: в результате «революции сверху» Россия освободилась от тоталитаризма, получила большой «глоток свободы», но в силу неуправляемого развития событий, цинизма «верхов» и пассивности «низов» подверглась разграблению и с трудом выходит из экономического кризиса и национальной депрессии, отдавшись в руки «государственников». Окончательно в своем историческом выборе она не определилась. Наконец, третий аспект содержательно-эстетического уровня русской литературы конца ХХ — начала ХХI вв. связан с футурологическим моделированием и предупреждением о потенциальных опасностях, угрожающих России и человечеству, если негативные тенденции настоящего получат свое полное развитие. Можно сказать, расцвет переживает жанр антиутопии, чаще предстающей как дистопия. Угрозе третьей мировой войны, изображению ее губительных последствий посвящены романы «Кысь» Т. Толстой, «Последняя башня Трои» З. Оскотского, антиутопические сцены в романе Л. Леонова «Пирамида». Как возможные причины всепланетарной катастрофы рассматриваются идеологическая расколотость мира, взаимная нетерпимость, претензии на гегемонизм. Литература осуждает национальный и групповой эгоизм, агрессивность, фанатизм, несущие Взрыв-Смерть. П. Крусанов в романе «Укус ангела» вскрывает опасность «эсхатологической активности» (Н. Бердяев) и последовательной реализации «русской идеи», так как ожидаемое «спасение» на самом деле приведет к гибели человечества. 14 С другой стороны, как неприемлемая воспринимается глобализация в форме подчинения Западу и усвоения стандартов потребительскотехнизированной цивилизации. Проецируя наметившуюся уже сегодня тенденцию в будущее, А. Зиновьев в романе «Глобальный человейник» дает сатирическое изображение Глобального Общества как социального сверхмонстра, навязавшего человечеству технократическую долларизованную цивилизацию примитивных человьёв. Как бесперспективное рассматривается механическое перенесение западного опыта на российскую почву. В. Тучков в рассказе «Остров свободы и счастья» повествует о провале попытки создать в Сибири русскую мини-Америку. Искусственные проекты неприложимы к жизни, настаивает писатель. В романе Е. Радова «Якутия» осмысляется перспектива возможного распада России. Подтолкнуть к этому могут несоблюдение прав национальных меньшинств, нарушение суверенитета автономий, рост национализма и расизма. Как противовес дезинтеграции рассматривается учет взаимных интересов, расширение русского сознания до российского. В романе «Суть» Е. Радов моделирует последствия реализации идей метафизического реализма: это всепланетарная катастрофа, превращение человечества в гомогенный «зельц». А. Волос в романе «Маскавская Мекка» прогнозирует упадок в обществе, лишенном свободы, и моральную деградацию олигархизировавшейся и криминализировавшейся государственной системы. Э. Лимонов в романе «316, пункт В», создавая антиутопию, осуждает государственную дискриминацию по возрастному признаку, приравнивая принудительную отправку на пенсию к поставленному на человеке кресту. Критически оценивается перспектива утверждения в России общества потребления, вытесняющего на задворки духовную жизнь. В антиутопиях, входящих в книгу В. Сорокина «Пир», прослеживаются негативные последствия воздействия на человека идеологии (индивид-жертва), массмедиа (субъект-потребитель), техники (кибернетический субъект), генной инженерии (клон в форме человеческого существа). Автор стремится вызвать отталкивание от разлагающей души дискурсии, враждебной жизни, инициирующей «исчезновение» человека. В антиутопии «День опричника» В. Сорокин выступает против всевластия «чекизма» (В. Ерофеев), прослеживая до логического конца тенденцию, возникшую в путинскую эпоху. 15 Будущее, таким образом, видится как преисполненное опасностей. В меру своих сил литература осуществляет «стратегию сдерживания» и снимает страх перед будущим использованием средств комического. Воплотить столь многоплановое содержание, причем многоракурсно, используя различные творческие методы, предлагая самые разнообразные художественные решения позволяет присущий русской литературе конца ХХ — начала ХХI вв. эстетический плюрализм. Доминируют в ней реализм, модернизм, постреализм, постмодернизм, постпостреализм, пост-постмодернизм, представленные многочисленными течениями и творческими индивидуальностями. Реалистический принцип сгущенного жизнеподобия наиболее действенен при воссоздании новых жизненных реалий. В активе реализма — современный политический роман («Камикадзе», «Революция сейчас!», «mASIAFuker» И. Стогоff ’а, «Хуррамабад» А. Волоса, «Естественный отбор» А. Звягинцева и др.), сатирическая («Бухтины вологодские (завиральные)» В. Белова, «Член общества» С. Носова, «Испытание деньгами» М. Жванецкого и др.), психологическая («Кавказский пленный» В. Маканина, «Лох» А. Варламова, «Рахиль» А. Геласимова и др.), эротическая («Дорога в Рим» Н. Климонтовича, «День Божоле: Озорные рассказы» А. Стефановича и др.) проза, а также — социальнопсихологическая драма и комедия («Дранг нах вестен» М. Арбатовой, «Страсти на подмосковной даче» Л. Разумовской, «Дураков по росту строят» Н. Коляды и др.), лирико-публицистическая и лирическая поэзия («Стихи о первой чеченской кампании» М. Сухотина, «Рулетка» В. Корнилова, «Fifia» О. Чухонцева и др.). Достаточно характерной приметой современности является распространенность «жестокого» («Жизнеописание Хорька» П. Алешковского, «Вечная мерзлота» Н. Садур, «Мальчик со спичками» Е. Садур и др.) и «грязного» («Лучшая грудь победителя» Я. Могутина, «Больница» С. Купряшиной, «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж», «Высший пилотаж» Б. Ширянова и др.) реализма, без прикрас (в том числе — в языке) живописующего непарадные стороны действительности. Широко представлен также фантастический и гротескный реализм, апробирующий, используя средства условности, различные социальные модели («Стражница» А. Курчаткина, «Большой футбол Господень» М. Чулаки, «День денег» А. Слаповского и др.). Современная модернистская литература на субъективной основе воссоздает реальность сознания и бессознательного, отражает поиски смысла существования (личного и всечеловеческого) в обращении к философским системам, сосредоточенным на сфере духа, либо — в выстраивании 16 новых концептуальных моделей духовного бытия. Для модернистовэкзистенциалистов характерно восприятие жизни сквозь призму смерти и стремление вырваться из мира объективации в сферу трансценденции («Театральное» И. Бродского, «И рвота душная…» Н. Кононова и др.). Но для большинства авторов личного спасения недостаточно, они ищут его для всех и находят в различного рода метафизических утопиях. Активизируется «метафизический реализм», претендующий на постижение Высшей Реальности, стремящийся указать путь к бессмертию («Онлирия» А. Кима, «Здесь» Г. Айги, «Дикопись последнего времени» Е. Шварц и др.). Популярны восточные учения, ориентирующие на игнорирование земной действительности и отречение от своего земного «я» как иллюзорных и обещающие просветленным посмертное блаженство паранирваны («Блуждающее время», «Мир и хохот» Ю. Мамлеева, «Близнец» А. Кима, «Желтая стрела» В. Пелевина и др.). На основе метафизического идеализма создаются и новые грандиозные утопии. В «России Вечной» Ю. Мамлеев осуществляет синтез Веданты и «русской идеи», обосновывая бессмертие Космологической России, даже если земная погибнет. К. Кедров в «Инсайдауте. Новом Альмагесте» в духе метаметафоризма трансформирует идеи русского космизма и создает утопию нового — космического рождения человечества. Таков ответ модернизма на вызов времени. Более связана с реальностью неоавангардистская ветвь модернизма. Особенно продуктивна она в таких течениях, как неофутуризм («Флейта и прозаизмы» В. Сосноры, «Россия воскресе» А. Вознесенского), неопримитивизм («Новое Лианозово» Г. Сапгира, «Азбука абсурда» В. Николаева и др.), абсурдизм («Опять двадцать пять» Л. Петрушевской, «Следствие» С. Шуляка и др.). По-прежнему большое значение придается обновлению языка, образной системы («МКХ — мушиный след» Г. Сапгира, «Из минских заметок» Вс. Некрасова и др.). Резко возрастает в конце ХХ — начале ХХI вв. количество постмодернистских произведений, создаваемых посредством деконструкции культурного интертекста и практики нелинейного цитатного письма и характеризующихся плюрализмом культурных языков, стилей, методов, выходом за очерченные традицией границы. Постмодернизм имеет дело с реальностью знаков — религиозными, философскими, этическими, эстетическими, идеологическими системами, которыми руководствуются в своей жизни и деятельности люди, и, утверждая представление о множественности становящейся истины, подвергает деабсолютизации и релятивизации абсолютизированное, лишая его монополистскогегемонистских притязаний. Такое течение постмодернизма, как соц-арт, 17 осуществляет развенчание коммунистического метанарратива, занимавшего монопольное положение в советском обществе и формировавшего зомбированных людей («Изгнание бесов» А. Сергеева, «Голая пионерка» М. Кононова, «Омон Ра» В. Пелевина и др.). Принципы соц-арта используются и для профанации «перестроечных» и «постперестроечных» мифов и идеалов общества потребления («Иван Безуглов» Б. Кенжеева, «Пятая русская книга для чтения» В. Тучкова, «Стереоскопические картинки частной жизни» Д. А. Пригова и др.). В то же время наблюдается поворот к культурфилософской, культуристорической, антропологической проблематике. Особенно интересен современный постмодернистский философский роман («Змея в зеркале» А. Королева, «Чапаев и Пустота» В. Пелевина, «Притон просветленных» А. Гостевой и др.), фиксирующий пришествие «философии текста» и осуществляющуюся смену модернистской эпистемы – постмодернистской, воплощающий новые концепции мира и человека. Феномен «конца истории» получает реализацию в произведениях культуристорического характера («Всех ожидает одна ночь» М. Шишкина, «Хоровод» А. Уткина, «Желтый дом» Ю. Буйды и др.). На свой лад его преломляет постмодернистская антиутопия («Кысь» Т. Толстой, «Якутия» Е. Радова, «Укус ангела» П. Крусанова и др.), являющаяся и составной частью киберпанка («Пир» В. Сорокина»). Популярны постмодернистские «прозы» («Мардонги» В. Пелевина, «Тетради Лоаса Ингрира» Р. Аксенова, «Мадайк» С. Мартынчик, И. Степина и др.) и ремейки («Город Глупов в последние десять лет» В. Пьецуха, «Выхожу один я на дорогу…» И. Иртеньева, «Чайка» Б. Акунина и др.). В поэзии выделяются на общем фоне аструктурированные тексты — «Невозможно охватить все существующее» Л. Рубинштейна, «Речь идет (маргиналии к Французской книге)» М. Сухотина и др., в драматургии — пьесы М. Угарова «Зеленые щеки апреля» и Л. Петрушевской «Мужская зона», где использованы новые принципы создания персонажей. Наряду с художественными создаются «удвоенные» — паралитературные произведения («Оглашенные» А. Битова, «Три шага в сторону» А. Секацкого, «Дойче Бух» Вс. Некрасова и др.). Сфера концептуализма обогатилась мистификациями М. Берга и М. Фрая, культурными проектами куртуазного маньеризма и киберманьеризма. Все это расширяет возможности художественного творчества, свидетельствует о стремлении к пересечению границ. Наблюдается активное воздействие друг на друга различных эстетических систем, выступающее в самых разнообразных комбинациях и порождающее новые литературные феномены, пограничные зоны. Доста18 точно характерен для современной русской литературы постреализм, возникающий в результате заимствования реализмом элементов поэтики модернизма* («Проза поэта» Ю. Малецкого, «Семейное положение» И. Померанцева, «Тапирчик» А. Бычкова и др.) либо постмодернизма («Козленок в молоке» Ю. Полякова, «Суперженщина» Ю. Дружникова, «Бескрайняя плоть» Е. Радова и др.); при заимствовании же и того, и другого, мы вправе уже говорить о пост-постреализме («Кочевание до смерти» В. Максимова, «Время ночь» Л. Петрушевской и др.). Модернизм также может «присваивать» себе элементы постмодернизма, не отказываясь при этом от собственной философии («После запятой» А. Нуне, «Travel Агнец» А. Гостевой, «Жизнь насекомых» В. Пелевина и др.); не исключено в таком случае его обозначение как неомодернизма. Пост-постмодернизм предполагает использование смешанноизбирательной поэтики, жестко не привязывающей писателя ни к какой эстетической системе, но предоставляющий в его распоряжение все существующие («Вездесь» В. Павловой, «Конь Горгоны» М. Амелина и др.). Творчество Т. Кибирова породило феномен «новой искренности», выражающейся во внедрении в постмодернизм реалистического лирического «я» и дорогих для автора постулатов христианства («Парафразис»). Постконцептуализм предлагает преодоление явления «смерти субъекта» путем использования модели «человека именного» и выстраивания вокруг этой фигуры «персонального пространства» («Опыты бессердечия» Д. Давыдова, «Больше Бена» С. Сакина, П. Тетерского, «Душа и навыки» М. Скорцова и др.). Формы синтеза либо гибридного соединения элементов различных эстетических систем неисчислимы, что свидетельствует о расшатывании последних, утрате ими четко очерченных границ. Это подтверждает и достаточно характерная для современной литературы межжанровость и полижанровость («Черный ящик» В. Зуева, «Прошлое в умозрениях и документах» Н. Байтова, «Энциклопедия мифов» М. Фрая и др.). В. Аксенов в «Кесаревом свечении» в духе мениппейности соединяет прозу, драматургию, поэзию. Все чаще созданное, вбирающее разнообразный материал, обозначается как «книга» («Дойче Бух» Вс. Некрасова, «Книга с множеством окон и дверей» И. Клеха, «Книга номада» А. Секацкого и др.). За всем этим проступает потребность преодоления канонов, эстетическая свобода как характерная примета времени. В том числе его течений, появившихся по завершении эпохи Серебряного века (когда возник неореализм). * 19 Новые возможности открыл перед литературой интернет, что сказалось в появлении пласта сетературы: гипертекстовой, мультимедийной, динамической («Жидкое стекло» А. Андреева, «Сад Расходящихся Хокку» Р. Лейбова и Д. Манина, «Анатомия русской литературы» М. Берга и др.). Печатной литературе сетевая поставляет новые идеи, и Сеть сама уже стала объектом художественного освоения («Паутина» М. Шелли, «Танцор», «Смерть приходит по интернету» В. Тучкова и др.). Второй уровень современной русской литературы отражает процессы перестройки и изменения самой эпистемы (если сравнить ее с эпистемой советской эпохи), отнюдь не устоявшейся, вбирающей в себя различные мировоззренческие системы и присущую им аксиологию. В данном отношении литературу можно охарактеризовать как полисемантическивариативную, преломляющую широкий спектр религиозных верований, философских и научных концепций, политических убеждений, господствующих в обществе. Первое, что бросается в глаза, это отход большинства авторов от марксизма-ленинизма как универсального (будто бы) принципа объяснения бытия. Современными писателями он по преимуществу рассматривается как разновидность позитивизма с солидным утопическим креном. Да и в тех случаях, когда писатели хранят приверженность советской идеологии, чаще она синтезируется с православием («Вербная песня» Н. Тряпкина, «Час Беловежья» Т. Глушковой), выступает в форме национал-коммунизма («Бермудский треугольник» Ю. Бондарева, «Господин Гексоген» А. Проханова). В книге лидера нацболов Э. Лимонова «Другая Россия» национал-коммунистические идеи переплетаются с анархистскими. А. Цветков-мл. выражает свои убеждения уже названием книги — «Анархия NON-STOP». Панк-протест против существующей системы обретает националистическую окраску («Умри, старушка!» Спайкера (С. Сакина)). Противоположный полюс национал-патриотизма связан с ориентацией на идеалы почвенничества. На проблемы современности их проецирует А. Солженицын в работах «Как нам обустроить Россию», «Россия в обвале». На первый план в этом случае выдвигается задача национальнорелигиозного возрождения, защиты интересов русского этноса. Проповедуются ценности православия: жизнь в Боге, святость, соборность. Особенно много таких произведений у Ю. Кузнецова (циклы «Душа повторит этот путь», «Слава Богу на месте святом», «Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона», «Река времен шумит», «Ноет душа к переменам»). В поэме «Юность Христа» в качестве идеала поэт выдвигает фигуру Иисуса Христа. 20 Вообще роль религии в связи с утратой почвы под ногами возрастает. Доминирует традиционное для России христианство («Третий путь» Ю. Кублановского, «Разговоры с Богом» Г. Русакова, «Fifia» О. Чухонцева и др.). Христианство расценивается как фактор, способный исцелить дух страны, напомнить о священной ценности всего живого в Божьем мире, соединить людей в Боге. Вместе с тем акцентирование эсхатологической специфики русского христианства ведет к утверждению оптимистического Апокалипсиса (например, в «Ловушке для Адама» Л. Бородина), что в контексте угрозы термоядерного уничтожения внушает необоснованные надежды. Параллельно с этим литература отражает и всплеск интереса к религиям Востока, прежде всего — Веданте, буддизму, даосизму («Блуждающее время» Ю. Мамлеева, «Священная книга оборотня» В. Пелевина, «Последний сон разума» Д. Липскерова и др.). Исповедуя иллюзорность земного существования и возможность открытия в себе Высшего, бессмертного Я, эти религии помогают преодолеть депрессивность, отрешиться от тревог современности, но — ценой «упраздения» мира и человека. Активизируется метафизический идеализм, признающий онтологическую первичность потусторонней, духовной реальности и предлагающий различные способы перехода на более высокий духовный уровень развития личности и обретения бессмертия («Инсайдаут: Новый Альмагест» К. Кедрова, «Фоторобот запретного мира» И. Жданова, «Остров Ионы» А. Кима и др.). Проекты спасения метафизиков основаны на отождествлении мышления и бытия и — при всей их фантастичности — отвечают желаниям коллективного бессознательного. Религиозно-метафизический пласт современной русской литературы, с одной стороны, свидетельствует о расширении духовных горизонтов и объектов постижения, с другой — отражает неизжитость утопизма в российском обществе — переход из одного чертога иллюзий (социального) в другой (потусторонний). По-видимому, для сохранения психической устойчивости при резкой перемене курса и девальвации прежних идеалов это неизбежно, мифологическо / теологическая модель мира предпочтительнее. Вопреки учениям, отрицающим ценность земной жизни и саму ее реальность, заявляет о себе в литературе противоположная тенденция — прославления земных радостей, преломляющая и отстаивающая философию гедонизма. К. Плешаков в книге «Св. искусство» главную ценность искусства определяет тем, что оно дает человеку наслаждение, почему автор считает возможным уподобить его воздействие на людей воздей21 ствию антидепрессантов и транквилизаторов. С помощью искусства живописи писатель реабилитирует блаженное упоение жизнью. Тотальный гедонизм в обширной республике наслаждений исповедуют куртуазные маньеристы: В. Пеленягрэ, В. Степанцов, А. Добрынин, К. Григорьев и др., в творчестве которых большое место занимает сексуальноэротическая тематика. Воскрешается представление античности о жизнипире, предполагающее наслаждение и упоение бытием. Находит в литературе выражение и активизация феминистских идей. Наблюдается переход к их гендерной интерпретации, рассмотрению в аспекте дискурса, формирующего полоролевые отношения в обществе. Проблема господства «одной половины человечества над другой» (Р. Айслер) рассматривается в произведениях М. Арбатовой, отражающих и тенденцию пробуждения женского сознания, открывающего свою субъективность, ищущего путей утверждения равноправного с мужчиной социального и семейного статуса («Меня зовут женщина», «Взятие Бастилии», «Пробное интервью на тему свободы»). Общечеловеческие гуманистические ценности: право на жизнь и полноценное развитие индивида, человечность, дружба, любовь — стержень большого числа произведений современной русской литературы («Жарптица» А. Слаповского, «Утюг» М. Кудимовой, «Летучая гряда» А. Кушнера и др.). Как хранитель единящих людей уз расценивается семья («Парафразис» Т. Кибирова, «Третье дыхание» В. Попова и др.), защищаемая в противовес характерному для нашего времени промискуитету. Немало в литературе рубежа веков и произведений, отстаивающих либерально-демократические идеалы — свободу, гласность, права человека, равные возможности для всех («Современные ямбы» Б. Чичибабина, «Самозванец» А. Кабакова, «Письмо президенту» М. Берга и др.), без чего беззащитность индивидуума перед государством останется непреодоленной. Наряду с устоявшимися в веках утверждаются и новые концептуальные представления и аксиологические ориентиры — ориентиры эпохи постмодерна. С наибольшей последовательностью их воплощает постмодернистская литература. Она отражает потребность в переоценке ценностей, расколовших человечество и подведших его к грани самоуничтожения и переориентирует на плюрализм / монизм — представление о множественности становящейся истины, фактор «примирения непримиримого». Это предпологает преодоление логоцентризма, тоталитаризма мышления и языка («смерть Бога», «смерть автора»), пантекстуализацию сферы знания («мир как текст»), производство смысла в сцеплении со 22 всем культурным интертекстом в качестве аструктурированной открытой системы симулякров (по Ж. Делезу / Ж. Деррида) в роли «дионисийских машин» («ризома»). Основные философские категории: «мир», «человек», «пространство», «время», «природа», «культура», «истина», «гармония», «хаос» и др. получают новые — а-линейные, а-бинарные, множественные, вероятностные, процессуальные, синергетические характеристики («мир как хаос», «конец времени», «конец истории», «конец логоцентризма», «воскрешение субъекта», «номадизм» и др.). Постмодернистские установки проецируются на область соицально-исторической и общественой жизни; прогнозируется становление эсхатологической цивилизации, осознавшей угрозу конца как свое начало (А. Битов). А. Королев в романе «Змея в зеркале» изображает смену античной эпистемы — христианской и подводит к мысли, что сегодня ей на смену в глобализирующемся мире идет постмодернистская, призванная обуздать тоталитарно-моноцентристские притязания метанарративов, порождающих конфронтацию в висящем на волоске мире, и на плюралистической основе примирить непримиримое. Ю. Буйда в романе «Желтый дом» утверждает необходимость создания всепланетарной духовной ойкумены, основанной на полицентризме и плюралистическом единстве гетерогенно множественного. Х. ван Зайчик в цикле романов «Плохих людей нет (Евразийская симфония)» творит образ Ордуси — государства, на плюралистической основе соединяющего национальные традиции Востока и Запада, различных религий и культур; благодаря этому в обществе царит мир. Как возможный противовес национализму, фундаментализму, расизму рассматривается космополитизм («Ермо» Ю. Буйды, «Встреча с оригиналом» З. Зиника), который в постмодернизме не предполагает стирания национальных различий, а ориентирует на мирное, равноправное сосуществование инакового в контексте единой парадигмы полинационального множества. Во взаимоотношениях человека и природы на смену антропоцентризму приходит принцип: «не все дозволено» — не только по отношению к человеку, но и к природе. А. Битов в книге странствий «Оглашенные» проповедует принцип панэкологизма, который распространяет на природу, культуру, человека, сам феномен жизни. Предлагается новый тип субъективации, основанный на номадическом экзистенциальном самопроектировании и позволяющий ускользнуть от стандартизации, превращения в объект манипулирования власти, состояться как свободная, самотождественная личность, движущаяся от «одной идентичности к другой» (Ю. Кристева) («Книга номада» А. Секацкого). А. Гостева в романе «Притон просветленных», констати23 руя «затяжной климакс», переживаемый российским обществом, инсталлирующим в своих представителей стагнационные программы, указывает возможные пути деинсталляции «директивного», рассматривает различные техники расширения сознания и «собрания себя», формирования ризоматического типа мышления, «вертикального» роста личности. Деиерархизируется в постмодернизме иерархия в оппозиции «мужское — женское», высмеивается фаллогоцентризм («Мужская зона» Л. Петрушевской); интеллектуальный феминизм рассматривается как альтернатива маскулинистскому «шовинизму». Постмодернистская субъективация соответствует «устройству гибкого общества, основанного на информации и поощрении потребностей индивида» [2, с. 19]. Если оценивать данный уровень в целом, можно сказать: литература рубежа веков ведет напряженный мировоззренческий полилог, помогающий уяснить, на чем должно держаться человеческое бытие, чтобы не рухнуть в наше непростое, отмеченное знаком катастрофизма время, дать людям возможность сделать приемлемый выбор. Современная русская литература не только отражает, но и вторгается в жизнь, стремясь оказать на нее воздействие. На уровне прагматики это связано с резким переломом в истории российского общества и осуществляемым переходом (пусть непоследовательным и виляющим) от тоталитарных норм существования к более раскрепощенным и гуманным, что преломляет общую тенденцию движения человечества от эпохи модерна к эпохе постмодерна и побуждает искать адекватные новой реальности решения. Главная задача эпохи постмодерна — преодоление мирового общецивилизационного кризиса, чреватого термоядерной войной и экологической катастрофой, а, следовательно, прекращением жизни на Земле. Отсюда — потребность в «смене вех», ослаблении конфронтации между странами и народами, поиск стратегий, объединяющих, а не разъединяющих людей. Наиболее отчетливо эта линия просматривается у писателей-постмодернистов, утверждающих идеи всеобъемлющего плюрализма, полицентризма, религиозного экуменизма, этно-культурного разнообразия, панэкологизма, направленной эволюции, признающих главной ценностью жизнь на Земле. Но скорее это дальняя перспектива, вызывающая слабый резонанс в обществе, обремененном массой нерешенных текущих проблем и в качестве отдушины избравшем религию. Тем не менее источник постмодернизации сознания существует, и желающий может из него испить. 24 Постмодернистские идеи и концепции — проявление своеобразного западничества в русской литературе, указывающее на близость тенденциям, существующим в мировом сообществе. С другой стороны, авторов-традиционалистов объединяет стремление возродить национальную самобытность, повысить роль православия и его святынь как основы русской духовности. Они реактуализируют идеи христианского гуманизма и свято-отеческой праведности, воскрешают заповедь любви к ближнему и всему Божьему миру, надеясь просветлить человеческие души, дать достойный пример для подражания. На первый взгляд, современные западники и почвенники несовместимы, но в общей парадигме культуры они дополняют друг друга: одни укореняют в традиции, другие поставляют новые идеи, созвучные «шуму времени» (О. Мандельштам). Хорошие книги представителей различных литературных направлений противостоят воздействию массовой литературы, формирующей массовых же людей, отвечают на духовные запросы имеющих таковые, наращивают культурный потенциал общества. Наконец, появление сетературы формирует читателя нового типа, активно «сотрудничающего» с текстом-проектом (вариант: «заготовками» будущего произведения) в качестве своего рода «соавтора» и тем развивающего свои интеллектуальные и творческие способности. Кроме того, «свобода Сети, ее вседоступность, активность — это очень полезно именно для сегодняшней русской литературы, которую за одну ногу уже прихватил шустрый рынок («талант — ничто, реклама — все!»), а за другую держат костяной рукой «традиции классики» [1, с. 10]. Из «сопротивления материала» и создается настоящая литература, выделяющая воздух, необходимый для дыхания. Она чутко реагирует на движение времени и запросы современности, а в ряде случаев и опережает их, оставаясь непонятой, неоцененной, невостребованной. Но если в начале 90-х гг. она была заслонена «возвращенной» и бульварной литературой, то к началу нового века словно вышла из подполья, заявив о себе как состоявшийся, зрелый и очень интересный феномен культуры. Множатся специализирующиеся на издании современной русской литературы издательства («Вагриус», «НЛО», «Ad Marginem», «ЭксмоПресс», «Амфора», «Zебра Е» и др.), она обретает конвертируемость на международной арене. Наряду с давно признанными авторами (В. Астафьев, В. Аксенов, Г. Айги, Б. Ахмадулина, М. Берг, Л. Бородин, С. Гандлевский, З. Зиник, А. Зиновьев, Б. Кенжеев, А. Ким, В. Кривулин, Ю. Кузнецов, А. Кушнер, В. Маканин, Ю. Мамлеев, Вс. Некрасов, Л. Петрушевская, В. Распутин, Г. Сапгир, А. Солженицын, В. Сорокин, 25 В. Соснора и др.) свой вклад в ее развитие внесли писатели, получившие известность в постсоветский период (А. Арбатова, Ю. Буйда, Д. Галковский, Е. Гришковец, А. Гостева, А. Иванов, Н. Коляда, А. Королев, Т. Кибиров, Н. Кононов, П. Крусанов, Д. Липскеров, В. Пелевин, Е. Радов, А. Слаповский, М. Сухотин, С. Стратановский, М. Угаров, М. Фрай, В. Шаров, М. Шишкин и др.). Запас творческих сил России, кажется, неисчерпаем, и литература конца ХХ — начала ХХI вв. — результат их мощного «выброса». Можно сказать, что в плане прагматики современная русская литература полифункциональна и способствует адаптации к меняющемуся на глазах миру. ________________________ 1. Андреев А. Cetera. Манифест Сетевой Литературы, или Личный Опыт Поэтической Независимости / А. Андреев. [Электронный ресурс]. — runet,1997. —Режим доступа: http://www.letera.ru/slova/esse/manif.htm. Дата доступа. 1.06.2005. 2. Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / Ж. Липовецки. — СПб.: Владимир Даль, 2001. 26 А. Ю. Мережинская (Киев) РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА В ОБОБЩАЮЩИХ МОДЕЛЯХ. ТИПОЛОГИЯ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ На рубеже ХХ — XXI веков ученые ощущают потребность обобщить многогранный художественный опыт литературы прошедшего столетия, вычленить доминанты развития художественного слова. Попытки создать целостную картину литературы ХХ века свидетельствует о высоком уровне теоретического освоения материала и одновременно об актуальности такого направления исследований. Единая, всеми признанная модель русского литературного процесса ХХ века в целом и его ярчайшей составляющей — последних десятилетий — пока не сложилась, можно говорить лишь о попытках ее сконструировать, об отдельных авторских концепциях. И в этом процессе теоретизирования, на наш взгляд, просматриваются общие закономерности, а предлагаемые учеными отдельные модели или гипотезы, которые могли бы послужить основанием для обобщений, также можно объединить в типологические группы, которые, в свою очередь, формируют целостную картину научной рефлексии чрезвычайно сложного столетия. Сложность и специфика такой научной рефлексии связаны с тем, что, как полагают ученые, литература ХХ века во многом исключительна, а протекавшие в ней процессы выходят за рамки уже сложившихся представлений о закономерностях литературной динамики. Как представляется, на формирование моделей русской литературы ХХ века влияет несколько факторов. Во-первых, единый культурный контекст, кризисный в конце ХХ столетия. В наиболее обобщенной форме рассуждения о кризисности и ее последствиях нашли воплощение в модели Ю. Борева в работе «Литература и литературная теория ХХ в. Перспективы нового столетия». Замечая, что ранее в каждый переломный период культура, отбрасывая старые ориентиры, всегда предлагала новые — новую концепцию человека, картину мира, ученый с горечью констатирует, что в конце ХХ века этого впервые не произошло, литература (и культура в целом) не выработали новую «формулу бытия». Этот отказ от выполнения «своих миссий» ученый квалифицирует как «месть культуры за то, что большая часть человечества отвернулась от нее, превратив в товар массового потребления и создавая ее поп-масс суррогаты»; в результате «мы впервые 27 в истории человечества вот уже почти четверть века живем без парадигмы, без формулы бытия» [1, с. 42, с. 43]. С влиянием кризисного контекста связаны как пессимистические оценки современного состояния литературы и ее движения на протяжении всего ХХ века к кризисному рубежу, так и, напротив, оптимистические ожидания нового качественного поворота в развитии, и, наконец, обнадеживающие сопоставления современного периода с другими переходными эпохами, с былым успешным опытом преодоления кризисов. В этом отношении одинаково показательны как надежды на выход из модернистского и постмодернистского «лабиринта» (например, Т. Касаткина отмечает «тоску» современной литературы по утраченному в ХХ веке, «по действию вместо мечты, по жизни вместо приключения и «инициации», по настоящему времени и истинной вечности, а значит – по ответственности и свободе» [2, с. 134], так и достаточно оптимистичные прогнозы (А. Мережинская [3]), и кроме того, «усталость» ученых от самой идеи кризиса и «нигилистических» тенденций в литературоведении и критике, наконец, констатация появления новой эстетической и научной парадигмы (В. Бычков, Н. Маньковская, А. Мережинская [4; 5; 6; 7; 3]). Во-вторых, на формирование моделей русской литературы ХХ века повлияли некоторые научные теории, имеющие общефилософское значение (например, синергетические и постмодернистские представления о мире). Воздействие этих теорий ощутило не только литературоведение, но и другие области гуманитарного знания: культурология, социология, эстетика и др. То есть эту особенность можно отнести к культурному контексту всей эпохи. В-третьих, в новых моделях отразились традиция, «старый опыт», например, авторитетные научные концепции, предлагавшие интерпретацию литературной динамики, смены художественных систем (скажем, чередования риторических и антириторических эпох, маятникообразной смены стилей, существования общих тенденций «поверх» стилей и др.). Эти концепции обнаруживаются в изучаемых нами новых моделях как в достаточно традиционном, так и модифицированном виде. От них часто отталкиваются в поисках принципиально иного подхода к осмыслению сложнейшего художественного опыта ХХ века. И, наконец, в моделях находим традиционные архетипические структуры, присутствующие как в литературе, так и в ее научной рефлексии (например, борьбы противоположных начал, получающих авторские позитивные и негативные оценки, либо описания «смерти» литературы, подобной ги- 28 бели старого космоса, наконец, возникновения новой гармонии после «хаоса» и др.). Попытаемся составить типологию моделей русской литературы ХХ века. Начнем с группы, специфика которой обусловлена отражением общефилософских представлений. В качестве наиболее репрезентативных проанализируем синергетические и постмодернистские модели русской литературы ХХ века. Модель синергетическая. Отметим достаточно последовательное стремление литературоведов и культурологов соотнести синергетические представления о мире с областью художественной, с динамикой культуры. Самой убедительной попыткой подобного соотнесения можно признать работы Ю. Лотмана, в которых изучаются процессы, протекающие внутри культуры как сложной самоорганизующейся системы (взаимодействие и «переворачивание» центра и периферии, активность границы, закономерности возникновения кризисов) [8]. Думается, что синергетические представления вошли в ряд новейших литературоведческих работ именно через посредство и интерпретацию трудов Ю. Лотмана. И хотя ученый непосредственно литературой ХХ века не занимался (как известно, его теоретические построения базируются на материале литературы и культуры XVIII — XIX веков), тем не менее, его концепция прикладывается исследователями к литературе ХХ века. В актуализации синергетических представлений наблюдается закономерность. Так, показательно обращение к ним тех филологов, которые исследуют переходные моменты в развитии литературы ХХ века. Это рубеж XIX-XX столетий с его полистилистикой и сменой художественных ориентиров, тесными типологическими связями с другими видами искусства (монография В. Силантьевой [9]), а также вторая половина ХХ века, особенно постмодернизм (монография М. Липовецкого [10]). Предпринималась даже попытка распространить синергетическую модель на всю русскую литературу ХХ века, рассмотреть ее как результат противоборства хаосогенных и гармонизирующих начал (учебник Н. Лейдермана и М. Липовецкого [11]), постепенного выстраивания «порядка» из «хаоса». Обращение филологов к философским проекциям синергетики имеет свою логику. Действительно, кризисные этапы развития литературы могут восприниматься как хаос, причем, что важно, временный, преодолимый, сменяемый «гармонией» вновь устанавливаемых системных связей. Кроме того, привлекает и близость некоторых моментов интерпретации мира в научном, синергетическом мышлении и художественном. А 29 именно — центральное место категории «хаос» в модернизме начала века и постмодернизме второго рубежа столетия, кроме того, эта категория является центральной в научной, эстетической рефлексии всего ХХ века (например, в ориентирах постнеклассической эстетики, описанных в работах В. Бычкова, Н. Маньковской). В связи с этим абсолютно логичным представляется и тот факт, что большинство исследователей русского модернизма и постмодернизма, а также рубежного художественного мышления ссылаются на работы теоретиков синергетики Ильи Пригожина и Изабеллы Стингерс (монография и учебное пособие И. Скоропановой, статьи Н. Ильинской [12, с. 13] и др.), но при этом далеко не все склонны масштабно распространять на область литературы синергетические представления (вызревшие в междисциплинарной науке, но на базе не гуманитарных знаний, а в рамках физики, химии, математики, астрономии). Вопрос о том, насколько это вообще методически корректно и необходимо, пока не решен, тем более что и литературоведение, и эстетика имеют свой категориальный аппарат описания кризисных эпох, смены художественных систем, переходных состояний. Обратим внимание и на различную степень соответствия литературоведческих моделей синергетическим представлениям. Наиболее последовательно эти параллели проведены в компаративных исследованиях В. Силантьевой литературы и живописи рубежа ХIХ — ХХ веков. Исследовательница находит литературные соответствия физическим процессам, происходящим в сложных самоорганизующихся системах. То есть в терминах синергетики описываются кризисные потрясения художественной системы всей литературы и индивидуальной системы писателя (в данном случае как воплощение переходного мышления представлено творчество А. П. Чехова) и художников (Коровина, Левитана и др.). Более опосредованно синергетические представления использует в своих работах М. Липовецкий. Так, в монографии «Русский литературный постмодернизм» (1997) ученый применяет их не столько к изучению художественной системы, сколько к характеристике сдвигов в художественном и научном мышлении, в сложной рефлексии современности. А в более поздней работе — учебнике «Современная русская литература» (2001), написанном в соавторстве с Н. Лейдерманом, синергетическая модель предстает в сильно модифицированном и адаптированном к литературе виде. Но при этом ее использование соотносится с достаточно неожиданными выводами, касающимися авторской гипотезы о развитии русской литературы ХХ века в целом. Так, в едином процессе борьбы «хаоса» и «порядка» в русской литературе ХХ века появляются островки «гармонии» (в синергетической теории это «порядок из хаоса»). Напри30 мер, к таким островкам авторы относят соцреализм, воплотивший стремление к «порядку» после усталости литературы от хаосогенных тенденций модернизма. Заметим, что подобные характеристики соцреализма резонируют с традиционными литературоведческими представлениями о нем как о стиле нормативном, модифицированном классицизме (А. Синявский), как о стиле риторическом (Е. Черноиваненко, В. Руднев), как о стиле с доминирующим аполлоническим началом. К этим квалификациям Н. Лейдерман и М. Липовецкий пытаются добавить новое измерение — общефилософские представления о самоорганизующихся сложных системах. Именно таковой видится ученым литература ХХ века. Синергетический подход и система представлений синергетики особенно привлекают ученых, анализирующих кризисные состояния литературы, механизмы качественных скачков, адаптации системы после изменений. Поскольку кризисные явления вообще были характерны для литературы ХХ века и присущи его второму рубежу, появление новых «синергетических» моделей и развитие самого подхода кажется закономерным. К подобным же масштабным общефилософским и общекультурологическим моделям можем отнести, помимо «синергетической», постмодернистскую, сложившуюся в отличие о первой на базе гуманитарных знаний. Влияние постмодернистских представлений на выявление учеными логики литературного процесса ХХ века обусловило, на наш взгляд, по крайней мере, две позиции исследователей. Первая: ХХ век, как и другие эпохи (например, эллинизм, барокко) рассматривается как время «усталости» литературы (позиция В. Велша, Д. Затонского [14] и др.), а раз так, то искусство слова этого периода вводится в общий типологический ряд литератур кризисных времен. В таком контексте оказываются возможными широкие и достаточно рискованные сближения и определения (например, «постмодернистом» видится Пушкин, Чехов, а также многие другие знаковые фигуры, обнаруживается неожиданная связь между классиками и современной эпатажной литературной молодежью; именно такой подход зафиксирован в монографии Б. Парамонова «Конец стиля» [15]). Вторая позиция все же выводит русскую литературу ХХ века из общей типологической цепи смены стабильных и кризисных эпох. Если вся предыдущая русская литература мыслится как смена и сосуществование великих стилей (романтизма, реализма и даже соцреализма), то к концу ХХ века, по мнению ученых, в литературе пропадают великие стили и общая стабильность (позиция Б. Парамонова), начинает торжествовать плюрализм, а сама русская литература мыслится как ли31 шенное единства и целостности дискретное образование. Эта позиция оформляется по-разному. Например, А. Гольдштейн в своей монографии «Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики» [16] делает вывод об «окончании» русской литературы в том качестве, в котором она традиционно представлялась. Критика по этой же причине отказывается определять общие (в том числе и стилевые) особенности и объединяющие тенденции современной литературы. Отсюда традиционное для многих публикаций в «Новом литературном обозрении» заявление об отсутствии единых стилевых установок в современной поэзии, о ее «рассыпании» на «отдельные индивидуальные поэтики». Создается такая модель: распался великий стиль соцреализм и образовалась некая плюралистичная, демократичная множественность, которую невозможно обобщить, но можно описать отдельные ее фрагменты. Такая позиция связана с постмодернистским принципом децентрации и с еще одним явно устаревающим тезисом о постмодернизме как позитивном итоге и завершающей «демократической» фазе философского и литературного развития всей культуры с эпохи Нового времени. Заметим, позиция эта совершенно справедливо критиковалась М. Эпштейном, который увидел в такой «окончательности» новую властность и утопизм постмодернизма. Еще раз подчеркнем, постмодернистские по своему духу модели не ограничиваются рамками современной литературы, а имеют тенденцию пояснять весь литературный процесс ХХ века и даже распространяться на предшествующие эпохи. Например, вся русская литература трактуется как борьба авангардных по духу тенденций с «традиционализмом» (Б. Гройс [17]), либо вся литература прошедшего столетия преподносится как смена и перераспределение «власти», «идеального капитала» (М. Берг [18]), либо как нарастание тенденций к синтезу языков культуры, слиянию эстетических и неэстетических сфер (И. Скоропанова [19]) либо их тесному сосуществованию (Э. Шестакова [20]), наконец, как адаптация литературы к нарастающему «информационному шуму» динамичного столетия («информационная травма постмодерна», по определению М. Эпштейна [21]). Характерной и логичной особенностью таких моделей является также описание в терминах постмодернизма тех явлений, которые находятся в иной художественной плоскости. Например, квалификация соцреализма как авангардного, близкого к постмодернизму искусства (Б. Гройс, саморефлексия концептуалистов [22]). Такие модели, еще недавно воспринимавшиеся как новаторские, сейчас в связи с кризисом самой постмодернистской теории и обретением художественными и философскими текстами новых качеств, справедливо подвергаются критике. Возникают сомнения в перспективности подоб32 ных моделей, хотя их опыт, безусловно, будет учитываться в новой складывающейся теоретической парадигме. Вторую группу моделей составляют те, что основаны на непосредственно эстетических, теоретико-литературных принципах. Интегрирование их специфики и многообразия позволяет вычленить определенные доминанты, которые можно считать критериями типологии моделей. Первое. Ученые акцентируют либо уникальность литературы ХХ века, либо, напротив, ее соответствие общим процессам динамики и смены художественных систем. Оказывается возможным также синтез этих двух контрастных позиций, соединение в моделях «традиционности», «вписанности» в типологический ряд и принципиальной новизны, что, безусловно, создает специфическое качество. Второе. Анализ моделей показывает, что учеными акцентировалась оппозиция «поступательности», логики, «линейности» / прерывности, нелинейности развития литературы ХХ века. Приведем примеры. Достаточно часто как «разрыв» в естественном (то есть соответствующем западноевропейской модели) развитии русской литературы ХХ века трактовался соцреализм, понимаемый как результат внешнего идеологического вторжения в жизнь искусства, вследствие чего было прервано естественное развитие модернизма, «отменены» многие художественные открытия Серебряного века. Такая установка моделирует следующую картину русской литературы ХХ века. Определяются две вершины на его рубежах, разделенные качественным провалом. Либо иной вариант — возвращение по кругу, через некий пробел в развитии к урокам к не пройденным урокам (М. Липовецкий [23]). Или же еще одна интерпретация — преодоление застоя, «раскола» (по М. Голубкову [24]) и восхождение к новой вершине, равновеликой тем, которые остались в прошлом. Чаще всего эту новую вершину символизирует творчество А. Солженицына, которого признают единственным классиком русской литературы этой поры (учебник М. Голубкова, статьи П. Е. Спиваковского, монография Т. В. Клеофастовой и др.). Так, например, П. Е. Спиваковский отмечает закономерное внимание именно к творчеству Солженицына теоретиков литературы («Симптоматично в этом смысле обращение к творческому наследию А. И. Солженицына в «Теории литературы» И. Ф. Волкова, «Эстетике» Ю. Б. Борева, «Теории литературы» В. Е. Хализева, не случайно и то, что П. Николаев указывает на особую значимость произведений Солженицына с теоретиколитературной точки зрения» [25, с. 30]). Сам же ученый выстраивает свои иерархию русской классики ХХ века и, соответственно, модель рус33 ской литературы: это постепенное восхождения к вершине, которая возникает лишь к концу столетия. Данная модель строится на достаточно дискуссионной посылке: гении русской литературы начала и середины века (называются Шолохов, Булгаков, Платонов) не могли адекватно описать весь ХХ век, художественно его интерпретировать и подвести ему своеобразный итог. Эту миссию выполняют волею судеб писатели конца столетия: прежде всего Солженицын, но также и В. Распутин, Г. Вадимов, «деревенщики», то есть те художники слова, которые имели талант и возможность осмыслить действительность ХХ века в «целостности и развитии» [26, с. 61], а кроме того, соединить художественный опыт реалистической, модернистской и отчасти постмодернистской литератур, совместить художественное и документальное начала в новый тип полифонии, что, в результате и приводит к появлению нового художественного качества и расширяет «представления о художественности» в конце ХХ века. Однако «двухвершинные» и «одновершинные» модели не вытеснили более традиционную, в которой общая картина русской литературы ХХ века намечается точками-ориентирами, обозначающими творчество ряда новых классиков. В рамках такой модели «спады» не зафиксированы, поскольку каждый из периодов представлен крупными фигурами, вершинами, причем независимо от идеологической и стилевой принадлежности произведений писателей. Но зато в рамках такой модели внимание фиксируется на «поворотных» текстах, которые знаменуют возникновение новых циклов внутри литературы ХХ века, меняют динамику и векторы художественных поисков и, собственно, позволяют вычленить отдельные периоды в развитии литературы минувшего столетия. Эта модель сложилась в изысканиях М. Чудаковой (статьи «Без гнева и пристрастия», «Сквозь звезды к терниям», «Пастернак и Булгаков: Рубеж двух литературных циклов» [27]), а также традиционно используется в учебниках и учебных пособиях. Например, в «периодизации» М. Чудаковой таким «поворотным» текстом является «Один день Ивана Денисовича», явивший новую тематику, нового героя, автора, художественный язык. Другой исследователь — Л. Ф. Киселева в качестве текста, знаменующего поворот внутри литературы ХХ века от первой половины ко второй, рассматривает «Доктора Живаго» Б. Пастернака. Критерием становится появление нового чувства историзма и связанные с ним новые трактовки человека, изменения в поэтике. Роман рассматривается как «мост» или, по словам исследовательницы «переключатель» между классикой первой и второй половины века: являясь итоговым текстом в ряду произведений «большого исторического синтеза» (имеются в виду 34 «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Последний из удэге» Фадеева), роман Пастернака одновременно воспринимается как очень современное и актуальное чтение на новом рубеже веков. По словам Л. Ф. Киселевой, «роман о событиях революции, написанный в середине века, читается как книга о дне сегодняшнем, второй русской революции в этом столетии и постперестроечной поре. Тупиковые ситуации судеб героев, замусоренная жизнь и природа, заблудившийся ход истории, маскарадность одних героев и резкая смена обликов других — все это создает впечатление, будто автор и вправду предугадал конечную судьбу описываемых явлений, поистине “уловил в далеком отголоске, что случилось на его веку”» [28, с. 264]. В качестве «поворотных» может быть представлены группа текстов, воплощающих как бы различные особенности процесса смены художественных систем, поливекторность поисков. Например, в учебнике Н. Лейдермана и М. Липовецкого в качестве циклообразующих квалифицируются три романа, созданных в 50-е годы, «Русский лес» Л. Леонова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Лолита» Набокова. Есть определенная логика в подобном композиционном сближении на страницах учебника столь непохожих произведений. Все они демонстрируют различные направления стилевого и жанрового поиска, возникшие хронологически одновременно. Это, во-первых, соединение традиций философского романа с соцреалистическим каноном и новыми тенденциями, что создавало возможность двойного прочтения «Русского леса» («двойной композиции», по Л. Леонову). Во-вторых, соединение модернистских и реалистических принципов письма в «Докторе Живаго». И, наконец, развитие новых, постмодернистских особенностей в «Лолите» Набокова. Все вместе создает некую стереоскопическую картину художественных поисков в переломный период развития русской литературы. Заметим, что важное теоретическое значение имеет сам факт признания новой классики. Это помогает, во-первых, преодолеть исследовательский нигилизм по отношению к литературе ХХ века (по словам В. В. Ванслова, у нас «сложилась своя классика, соизмеримая с классикой прошлых веков, которой мы вправе гордиться» [29, с. 68]. Вовторых, признание новой классики позволяет определить особенности научной и художественной саморефлексии. В-третьих, это позволяет указать на возможные доминанты развития, характерные именно для литературы ХХ века. Показательным в этом плане является замечание А. Д. Михайлова: «Литература ХХ века очень скоро стала создавать свою классику. Причем такой классикой становились наиболее выдаю35 щиеся достижения модернизма, а не нового варианта классического реализма» [30, с. 50]. Выводы ученого относительно достижений модернизма базируются в основном на материале западноевропейских литератур, выявление же доминанты в русской литературе остается до сих пор проблематичным. Но показателен сам подход ученого: именно тексты, воспринимаемые как классика, служат основой для обнаружения векторности развития, доминант и определяют общую картину литературы ХХ века. Теоретическое значение имеет и вопрос о критериях отнесения тех или иных явлений к классике ХХ века, поскольку решение его затрагивает проблему традиций и новизны, центра и периферии, роли содержательной и формальной составляющих и др. Модель описания русской литературы по пиковым точкам — произведениям классиков и поворотным, «переключающим» текстам — давно апробирована и перспективна, не случайно она доминирует в учебниках и учебных пособиях. Однако эта модель не претендует на более широкие обобщения, на раскрытие механизмов функционирования литературы, смены художественных систем, хотя она и может стать основой для изысканий в данном направлении. Заметим, что в качестве точек-ориентиров общей картины литературы ХХ века учеными могут предлагаться не обязательно писателиклассики или вершинные тексты, а и такие произведения и знаковые фигуры, которые, с точки зрения исследователей, наиболее ярко воплощают определенные тенденции. Так, например, Т. А. Касаткина, изучая русскую литературу ХХ века как целостность, «организм», по ее словам, опирается на наиболее «репрезентативные» тексты, авторы которых «с чуткостью уловили и адекватно отразили происходящие изменения» [2, с. 87]. В качестве таковых избираются модернистские и постмодернистские произведения последних десятилетий. Они трактуются как воплощение спада либо тупика, лабиринта в развитии всей русской литературы ХХ века. Заметим, что эта модель контрастирует с описанными выше «двухвершинной» и поступательной. При этом в соответствии с установкой на поступательность развития литературы (а это, как упоминалось выше, является одной из опор при моделировании, как и контрастная ей «нелинейность», прерывистость) исследовательница объясняет причины спада и новые негативные качества современной литературы развитием до крайней степени уже существовавших в литературе Нового времени особенностей. В модели Касаткиной акцентируются такие: наличие оппозиций реализм / психологизм, реализм / идеализм; проявление либо отсутствие духовной вертикали; признание либо отрицание существования истины; оппозиция конкретного времени, истории и провозглашение 36 множественности интерпретаций, нелинейности. Во всех оппозициях в конце ХХ века побеждает второе начало, что и образует непродуктивный перекос в развитии литературы и в понимании писателями современности и человека. В результате создается следующая «нелинейная» модель на основе анализа времени и пространства текстов последних десятилетий ХХ века. «Картинка, способная описать наше положение во времени», образна и остроумна: «В бочку укладывают шланг. Он ложится кольцами, на коротком отрезке создающими впечатление поступательного развития, на длинном – известную диалектическую модель развития по спирали. Это и есть время... Каждый отрезок шланга пущенной струей воды приходится без всякого даже намека на возможность возвратного или иного, кроме поступательного, движения. В какой-то момент спираль шланга заполнит ... пространство... Однако останется еще пустующая середина. Шланг продолжают засовывать, и он комкается внутри себя самого... неожиданно оказываясь вблизи самых произвольно взятых своих витков. Шланг прозрачен. Вода может наблюдать самые неожиданные стадии уже пройденного пути. Но вот бочка заполнена. Вода выплескивается из шланга... Время остановило свое течение... Однако вода, находясь в пространстве бочки, получила доступ к любой точке пройденного ею пути — хотя и лишь как к музейному экспонату... Может быть, роль прозрачных стенок шланга, у которых мы пучим глаза, как рыбы, давно уже выполняет та грань, которая разделяет «первичную» и «вторичную» реальность» [2, с. 123 — 124]. Выход из сложившейся ситуации видится исследовательнице в возвращении литературы к ориентирам, зафиксированным в первых частях оппозиций, то есть к реальности, реалистическим установкам, духовной вертикали, нравственным основам, а также в отказе от релятивизма и «нелинейных» представлений. Все это могло бы исправить наметившийся непродуктивный перекос. Заметим, что «нелинейная» модель — «картинка» современной литературы создана ученым, доказывающим последовательность развития художественного слова. Таким образом, подчеркнем еще раз, структурирующими ориентирами при создании моделей русской литературы ХХ века могут быть следующие: 1) акцентирование уникальности литературы этого периода либо, напротив, его 2) «вписанности» в общий механизм смены художественных систем, или же констатация 3) синтеза традиционности, типологической схожести с иными периодами и «новизны»; 37 4) акцентирование поступательности развития либо «нелинейности», разрывов; 5) обозначение векторности; 6) вычленение оппозиций, противоположностей, доминирование одной из которых или же противостояние контрастных черт обеспечивает либо «перекос» системы, либо же ее равновесие и обновление. Попытаемся описать модели по данным критериям, претендуя не столько на полноту охвата, сколько на выявление логики моделирования, типичных черт научной рефлексии. 1. Наиболее репрезентативную группу представляют модели, в которых ХХ век «вписывается» в типологический ряд других периодов развития литературы. Критерии определения такого ряда могут быть разными, но все новые модели опираются на классические теории динамики литературы. Наиболее высокий план обобщения — это ряд риторических и антириторических эпох. В соответствии с теорией А. В. Михайлова, риторическая эпоха простирается от конца «века Аристотеля» до рубежа XVIII — XIX веков и сменяется антириторической (периоды романтизма и реализма). В новейших моделях начало ХХ века вновь возвращается к риторической эпохе, и, по словам А. В. Михайлова, нет «никакого модернизма и гипермодернизма, а просто культура возвращается к некоторым своим традиционным основаниям» [31, с. 133 — 134]. Таким образом, указана и вектроность движения — по спирали с широким кругом, к модификации достаточно давнего опыта. К риторическим эпохам склонен относить литературу ХХ века и украинский ученый Е. Черноиваненко, но при этом ученый обращает внимание на специфику именно русской литературы, несовпадение фаз ее развития с западноевропейскими [32]. По отношению ко всей русской литературе такая квалификация еще нуждается в уточнении (заметим, А. В. Михайлов строит свою концепцию преимущественно на материале западноевропейских литератур, а Е. М. Черноиваненко подробно литературу ХХ века не анализирует). Собственно это и происходит в ряде работ, посвященных доказательству существования типологического сходства между литературами риторических эпох и русским художественным словом ХХ века. Это, прежде всего, работы Л. Сазоновой, которая доказывает соотносимость русского барокко и русского авангарда начала века по целому ряду принципов (мышления словом, «активного обращения со словом», моделирования поэтического языка, использования риторических конструкций, стремления к универсализму и постижению мира во всей полноте, создания всеобъемлющих картин, использования образов алфавита и пя38 ти чувств, книги как макрокосма, развитие риторического приема соединения далековатых идей, принципов остроумия и др.). Исследовательница подчеркивает, что опирается на теорию Михайлова, квалифицируя ХХ век (по крайней мере, его рубеж и первые десятилетия) именно как риторическую эпоху [33, с. 26 — 52]. Заметим, что эта модель — вписывания литературы ХХ века в ряд риторических и антириторических эпох — активно расширяется. Так, украинский ученый И. Заярная дополняет эту картину исследованием принципов барокко в русском постмодернизме, то есть в направлении последних десятилетий ХХ века. [34]. А если учесть, что соцреализм (то есть официальная литература 1930 — 1980-х гг.) традиционно рассматривается исследователями в этом же ключе, то есть как возврат к риторической культуре (использование «готового слова», разработка жесткого и нормативного «фундаментального лексикона» (см. Е. Добренко [35, с. 36]), то вырисовывается достаточно полная модель ХХ века как риторической эпохи в русской литературе. Независимо от того, соотносят ли ученые свои изыскания с названной моделью, следует отметить возрастание пристального внимания к судьбе и трансформациям слова, в том числе и готового слова, экспериментам со словом в литературе ХХ века в работах исследователей [37, с. 38]. То есть подобный подход мыслится как перспективный, и результаты его реализации могут подкрепить названную модель, существенно расширить ее рамки. В целом можно отметить обозначившееся стремление ученых вписать литературу ХХ века в ряд крупнейших историко-культурных эпох, соотнести по ряду типологических схождений с давними, даже архаическими периодами. Это происходит в работах, не претендующих на создание обобщающей модели ХХ века, но зато отражающих некие единые тенденции научного поиска. Чаще всего внимание акцентируется на повышенной мифологичности литературы ХХ века, ее внимании к архетипическим основам. Но есть и иные акценты. 2. Ученые отмечают как бы «новый синкретизм» литературы ХХ века, вобравшей в себя некоторые особенности других, нехудожественных сфер гуманитарной мысли, размывшей границы между художественным и нехудожественным. Именно в таком ключе И. Скоропанова характеризует русский литературный постмодернизм. А эстетики Н. Маньковская и В. Бычков в таком направлении квалифицируют состояние научной мысли, когда стираются границы между научной и непосредственно художественной рефлексией (это явление получает обозначение «ПОСТ39 адеквации» — «особого метода вербализации опыта медитативноассоциативного проникновения в художественные феномены и артефакты ХХ в., в объекты ПОСТ-культуры» [39]). Приведенные характеристики можно соотнести с тем состоянием культуры, когда литература еще не выделилась как автономный сегмент культуры, была слита с религией, философией, этикой в едином культурном поле. Добавим, что о возможности такого нового повторного слияния размышляли в свое время Андрей Белый и Василий Розанов и реализовывали эту установку в художественном творчестве. О возможности актуализации синкретизма на более поздних этапах развития культуры говорит С. Н. Бройтман, подчеркивая, что «древний синкретизм литературы родственен мифологии» (заметим, акцентированную мифоценричность литературы ХХ века отмечали многие исследователи). «И в более позднее время — в момент своего становления — каждая литература переживает состояние, типологически родственное тому, что мы называем синкретизмом. Почему, например, Пушкин — это «наше все» (Ап. Григорьев)? Очевидно потому, что он для русской литературы был тем началом, в котором в синкретическом виде заложены возможности ее будущего развития» [40, с. 18]. Не исключено, что и сейчас, на новом, кризисном витке развития, когда складывается новая культурная парадигма, литература возвратилась к опыту эпохи синкретизма (тем более, что мы видим из приведенных выше примеров, что это происходило в узловые для развития русской литературы эпохи — ее становления и перелома на рубеже XIX — XX веков). О происходящих сдвигах в области не только литературы, но и культуры в целом рассуждают сейчас многие. Так, В. Б. Земсков говорит о кризисе традиционных дифференцированных видов искусства и их замене гибридным художественно-философским дискурсом [41].Украинская исследовательница Э. Шестакова видит в современном состоянии культуры определенные последствия развития тенденций культуры Нового времени, среди них сосуществование и взаимодействие литературы и нехудожественных дискурсов, в том числе коммуникативных. Фиксируется ряд актуальных современной литературы «пограничных территорий», в которых взаимодействуют художественные и нехудожественные начала, а также различные языки культуры, переплетаются непосредственно эстетические функции и прагматически-утилитарные [20]. Все перечисленные особенности могут интерпретироваться нами как тенденции к «новому синкретизму», новому синтезу, тенденции, противоположные характерной для Нового времени дифференциации языков искусств и контрастные центробежным процессам и дискретности, кото40 рые постмодернистская теория провозглашает доминирующими в современном состоянии культуры. Таким образом, можно утверждать следующее. Идея «нового синкретизма», возникшая в исследованиях литературы ХХ в., отражает как недостаточную степень изученности самой литературы, так и специфику ее научной рефлексии (то есть стремление ученых к поиску типологических параллелей с удаленными крупными культурными эпохами, к итоговым крупным обобщениям) и, наконец, возникновение новой научной парадигмы и течений внутри ее рамок (ПОСТ-адеквация), которым еще предстоит доказать свою перспективность. 3. Тенденция вписывать литературу ХХ века в типологический ряд обширных историко-культурных эпох и представлять в связи с этим литературное развитие как движение по спирали проявляется и в других моделях, в частности, смены стабильных и переходных эпох (Л. Черная, А. Мережинская, О. Кривцун [41; 3; 42]). При этом в качестве переходных эпох мыслятся как рубежи ХХ столетия, так и оно все в целом. Разработаны и критерии определения переходных эпох (Хализев, Кривцун [44, с. 43]) и показано их несовпадение с более узкими критериями отдельных стилей (А. Мережинская). Переходные эпохи — это более конкретный, узкий по сравнению с риторическими / антириторическими типологический ряд. Ученые обнаруживают типологические параллели между ХХ веком и эпохами эллинизма, перехода от средневековья к Новому времени и др. 4. Еще более узкий ракурс обобщения — это создание моделей на основе стилевой динамики. В отношении литературы ХХ века наиболее ярко проявилось два подхода. Во-первых, «вписывание» всей литературы ХХ века или отдельных ее крупных периодов в модель маятникообразной смены стилей с доминированием либо «аполлонического» (по Ницше) начала («первичные» стили по Д. Лихачеву), либо «дионисийского» («вторичные» стили). Принципы конструирования такой модели традиционны, они разрабатывались в классических исследованиях Ницше, Курциуса, Чижевского, Лихачева. По такому образцу квалифицируется литература ХХ века в трудах И. Скоропановой, И. Заярной и других. Во-вторых, литература ХХ века описывается как результат противоборства двух «основных» стилей. В качестве таковых чаще всего называют реализм и модернизм. Так, В. Ванслов в качестве ярчайшей черты литературы ХХ в. называет «поляризацию тенденций модернизма и реализма, незнакомую прошлым векам» [29, с. 63]. При этом внутри каждого из этих направлений, по мысли ученого, также происходит 41 дифференциация, а, кроме того, проявляются особенности «общенациональных» школ. Постмодернизм в такой модели может даже не называться, его, видимо, рассматривают как кризисную фазу модернизма. При этом может указываться победитель данного противостояния, например, модернизм (работы А. Д. Михайлова, Н. И. Ильинской и др.). Пример такой позиции: О. А. Овчаренко полагает, что определяющая особенность ХХ века — это стремление к обновлению художественной палитры. А оно связано именно с кризисом реализма, повлекшим на Западе возникновение «измов», а в русской литературе — ряда специфических инноваций (в виде отрицающей прошлый опыт «пролетарской литературы», затем соцреализма), а также характерного для всех литератур бурного экспериментирования (см.: [45,с. 51]. Часть ученых, напротив, полагают, что в процессе противоборства двух стилей одержал победу обновленный реализм, концентрирующий основные достижения литературы ХХ в., представляющий ее «лицо» (позиция авторов учебников по русской литературе ХХ. М. Голубкова, Минералова и др. [24, с. 46]). Так, например, П. Е. Спиваковский констатирует возрождение реализма, связанное с необходимостью отразить и осмыслить бурные исторические изменения и культурные сдвиги ХХ века (заметим, что эти же аргументы приводили сторонники постмодернизма, считающие именно его художественным языком эпохи адекватно отражающим специфику времени). По словам исследователя, «интеллектуальный подход к окружающей человека жизненной реальности дает в эту эпоху намного больше, чем раньше. Именно этим, а вовсе не любовью к литературной архаике объясняется тот факт, что наиболее крупные прозаики второй половины столетия тяготеют к реалистической художественной типизации: время предчувствований и предвестий прошло, наступила пора осмысления и понимания» [26, с. 61]. 5. Исследователи, безусловно, учитывают то, что модернизм и реализм в ХХ веке — явления многоликие, развивающиеся и меняющиеся, поэтому расширяют значение этих квалификаций или применяют их к синтезу явлений. Это отражается в моделях, построенных не по стилевому принципу, а фиксирующие явления более общие, «поверх» стилей (если воспользоваться определением Д. Лихачева), отражающие противоборство масштабных эстетических установок. Так, например, модель А. Д. Михайлова также строится на бинарной оппозиции. Но в качестве противоборствующих сторон фигурируют, во-первых, «неотрадиционализм» (который включает в себя «добрый старый реализм», но также и романтизм, традиции символизма, порой в их слиянии), во- 42 вторых, «неомодернизм», возникший как развитие традиций модернизма в новых условиях [30, с. 49]. Фактически, как нам представляется, речь идет уже не столько о стилях или литературных направлениях, сколько о контрастных тенденциях к сохранению и воспроизведению опыта, с одной стороны, а с другой — к его отрицанию, эксперименту. Подобная модель, построенная на противоборстве контрастных начал, появилась и на материале русской литературы (Михайлов обобщал опыт западноевропейских), причем независимо от концепции А. Д. Михайлова, что уже показательно само по себе и может свидетельствовать об определенных тенденциях в изучении литературы ХХ века. Так, например, Б. Гройс в качестве двух системообразующих установок развития русской литературы называет «традиционалистскую» (ее представляют многие писатели: от Ахматовой до Солженицына) и «авангардистскую». Первая оценивается негативно, является, по мысли ученого, консервативной и отражает негативные стороны русской ментальности и культуры. Вторая же квалифицируется как позитивная, новаторская, ориентированная на западные общеевропейские образцы. Схожая концепция, но свободная от идеологических коннотаций и претенциозной критики ментальности, сложилась у В. Кожинова. Исследователь вычленяет не две, а три тенденции или установки — «классика», «модернизм», «авангардизм» и видит в их противоборстве особенности литературы ХХ века и необходимое условие жизни и обновления художественной системы. Сохранение художественной системы обеспечивается взаимодействием контрастных устремлений и их уравновешиванием. «Классика основана на стремлении непосредственно продолжать традиции литературы XIX в., от Пушкина до Чехова; модернизм преследует цель создать «новое», «современное» искусство, хотя и не порывающее с классикой; авангардизм — это в той или иной мере отрицание, отвержение классики, в значительной мере модернизма» [47, с. 9]. В работе ученого доказательством верности и эффективности модели должна стать демонстрация ее возможностей объяснить непонятные явления в литературе ХХ века, их систематизировать и показать взаимосвязь на всех уровнях. Например, на конкретном, узком уровне одного направления (так, в акмеизме проявляются все три тенденции: Ахматова стремится к «классике», Мандельштам воплощает модернистские тенденции, Нарбут — авангардистские). На более широком уровне обобщений модель, по мнению В. Кожинова, объясняет особенности отдельных периодов русской литературы ХХ века (например, смену «волн» авангардизма: Серебряный век, 1946-1953 годы, современность). И, наконец, наиболее 43 широкий уровень обобщения особенности динамики всей русской литературы ХХ века: на протяжении всего столетия доминировало то одно, то другое «устремление». В качестве ориентиров приводится «Тихий Дон» — классика, «Мастер и Маргарита» — модернизм, «Котлован» — авангардизм, «хотя и умеренный» [47, с. 17]. К недостаткам модели следует отнести отсутствие характеристики модернистских устремлений (более подробно описаны контрастирующие «классика» и «авангардизм»), что превращает трехсоставную модель в двухсоставную, в традиционное противостояние тезиса и антитезиса. Важно, что две ведущие тенденции не мифологизируются автором, не предстают воплощениями традиционных (и архетипических) сил сохранения космоса и его разрушения. Напротив, несмотря на четко выраженную антипатию автора к авангардным экспериментам, ученый констатирует творческую и созидательную их функцию, рассматривает их как своего рода инструмент обновления. То есть, еще раз подчеркнем, В. Кожинов рассматривает русскую литературу ХХ века именно как сложную живую систему, которая выработала механизмы обновления и стабилизации. Именно этот ракурс сближает модель В. Кожинова с представлениями синергетики о самовосстанавливающихся саморегулируемых системах, а также с моделью семиосферы Ю. Лотмана, особенно с описанием ядра культуры, «центра», сохраняющего опыт и вечно «бунтующей» периферии. В этом видится не влияние (Кожинов на указанных авторов не ссылается), а общие особенности научной рефлексии литературы ХХ века на рубеже столетий. Возникает еще одна параллель — с размышлениями Д. С. Лихачева о недостаточности стилевого критерия, механизма смены стилей для характеристики сложного литературного процесса ХХ века, о необходимости поисков неких общих устремлений «поверх стилей» [48]. В. Кожинов в подобном же ключе выступает против модели литературы ХХ века как смены группировок, школ, течений («глядя из уже начавшегося нового столетия особенно ясна необходимость выдвижения на первый план более масштабных понятий, нежели понятия о течениях и группах» [47, с. 8]. Однако стилевая составляющая у Кожинова все же остается (модернистские и авангардистские устремления), но акцент делается на внутрисистемных механизмах обновления. Д. Лихачев представляет более широкие принципы – «прогрессивные линии» развития литературы, укрепляющиеся на всем протяжении ее развития и имеющие перспективы в будущем [48]. То есть модель Д. Лихачева выполняет еще и прогностическую функцию. Литературой ХХ века ученый не занимался, при44 ложимость же модели к художественной словесности этого периода можно отрицать [3, с. 49]. Но следует признать типологическое сходство с ней других концепций ученых, сложившихся на рубеже XIX-XX веков, особенно тех концепций, в которых подчеркивается, с одной стороны, уникальность ХХ века, неприменимость к нему эффективных для описания предшествующих периодов моделей (например, маятникообразной смены стилей), а с другой, — наличие преемственности литературного развития и существования неких общих для всего века тенденций. Как нам представляется, обнаруживаются знаменательные совпадения и несовпадения с моделью Лихачева, что, может свидетельствовать не о влиянии мнения классика (его не цитируют), а о наличии общего вектора научного поиска, общих идей, «растворенных» в воздухе эпохи. Попробуем проинтегрировать предложенные литературоведами обобщения на материале моделей второго типа, — то есть фиксирующих уникальность литературы ХХ века. 1. В качестве ведущей особенности исследователи называют «ускоренное развитие по сравнению в предыдущими веками» [29, с. 63]. (Лихачев трактовал эту особенность как усиление динамики развития и смены стилей). Такую тенденцию отмечают В. Ванслов, Я. Н. Шередко. Причем Я. Н. Шередко фиксирует не только количественный показатель, то есть убыстрение, но и качественные сдвиги в самом процессе ускорения. «Скорость претерпела качественные изменения. Перестав быть величиной, характеризующей смену одного канона другим, она трансформировалась в показатель, описывающий обмен культурно значимой информацией между ними» [50, с. 51 — 54]. Отмечается как ускоренное развитие всей системы, так и нарастание динамичных процессов внутри ее. В частности, А. Михайлов говорит о «жанровой подвижности, постоянной смене одних жанров другими как ведущими» [30, с. 50]. 2. Второй наиболее часто вычленяемой особенностью литературы ХХ века является такая, которую можно обозначить как «расширение поля» литературы. Эта составляющая модели трактуется учеными по-разному. Вопервых, как синтез культур и литератур Запада и Востока (Я. Шередко [50]), во-вторых, как «включение» в мировой литературный процесс большого числа новых литератур (А. Д. Михайлов характеризует «волны» этого процесса: открытие литератур Северной Америки в первой половине века, латиноамериканских стран и Японии во второй половине, на рубеже веков прогнозируется включение в общий процесс художественной словесности Азии и Африки). В-третьих, открытие достижений «малых европейских литератур», которые выходят на уровень общеми45 ровых благодаря отдельным крупным фигурам (румын Элиаде, чех Кундера, серб Павич, поляк Милош и др.) [30]. В четвертых, развитие национальных литератур в бывшем Советском Союзе и нынешней России (В. Ванслов [29, с. 64]). Русская литература и другие сегменты расширившегося в ХХ веке поля литературы, безусловно, оказывают друг на друга влияние, характер которого еще предстоит изучить, как и качество нового возникшего синтеза «мировой литературы ХХ века» в целом. Названная особенность трактуется и в ином аспекте: выхода непосредственно художественной словесности за традиционные рамки, появление контактов с внехудожественными сферами, взаимное обогащение и стирание границ между различными (и в том числе принципиально новыми, например, интернетом) областями культуры. Подобное «распространение художественной культуры вширь» связано, по мнению В. Ванслова, как «с демократизацией общества и возрастанием общей культуры людей, так и с невиданным развитием средств массовой информации и всевозможных видов коммуникаций» [29, с. 64].Данный процесс сейчас начинает изучаться литературоведами и культурологами [51], а также самими писателями (вспомним, например, художественную интерпретацию влияния интернета, рекламы, средств массовой информации на сознание человека в прозе В. Пелевина, В. Тучкова, статьях М. Бутова). 3. С вышеназванной особенностью связана следующая. Это «перенасыщенность» культуры (и литературы) информацией, приводящая, в интерпретации ученых, к негативным последствиям (М. Эпштейн говорит об «информационной травме постмодерна»), так и к открытию новых перспектив развития (Я. Шередко). 4. Следующей чертой можно считать сложное взаимодействие разнонаправленных процессов синтеза и дифференциации, протекающих на границах литературы и различных языков культуры, а также внутри системы: элитарной и массовой литературы [29, с. 64], литературы художественной и документальной [30], художественной и научной [14]. При этом нельзя сказать, что литература «растворяется» в поле культуры и утрачивает свою специфику. Идут и обратные процессы дифференциации, связанные, в том числе и с осознанием литературой своей специфики. Так, О. А. Овчаренко, характеризуя литературу ХХ века, замечает: «Во всем мире появляется особая категория «поэтов для поэтов» (Хлебников, Г. Стайн, Дж. Джонс), создателей экспериментальной литературы, чьи достижения берутся на вооружение их более известными собратьями по перу» [45, с. 51]. 46 Идет небывалый по интенсивности процесс саморефлексии литературы на протяжении всего ХХ века: от литературы модернизма (о чем писал М. Липовецкий) до метапрозы и самопародирования постмодернизма (А. Мережинская). Заметим, что исследователи по-разному оценивают его значение для литературы (позитивно М. Липовецкий, негативно — Т. Касаткина). Но нельзя не признать, что саморефлексия литературы связана с осознанием ею своей сущности и возможностей в новых изменившихся условиях, с признанием своей специфики и «нерастворенности» и открывшихся возможностей обновления. Под «дифференциацией» художественной жизни исследователи понимают и обилие «направлений, школ, стилей, индивидуальностей». По мнению В. Ванслова, ХХ век в этом отношении уникален: «В сравнении с этим художественное развитие в ХIХ в. более однородно» [29, с. 63]. Кроме того, нужно отметить характерное именно для русской литературы деление на ветви: литературу официальную, андеграунд (и промежуточные формы), художественную словесность метрополии и трех волн эмиграции. А в конце ХХ века этот процесс дифференциации, по мнению некоторых ученых, пошел еще интенсивнее. Литература поделилась на множество «автокефалий» по образному выражению М. Золотоносова [52]. И, тем не менее, это множество составило специфический синтез русской литературы ХХ века. Столь же сложные процессы синтеза и дифференциации протекают внутри отдельных литературных направлений. Примером могут служить отдельные «ветви» русского постмодернизма, создающие весьма сложную типологию, а также обилие групп писателей, творчество которых синтезирует черты различных традиций и разнонаправленный поиск. Подобная пестрота литературы и ее динамичное развитие требуют от ученых нахождения новых ракурсов исследования, которые бы позволили с позиций более высоких обобщений увидеть в хаотичном движении отдельных частиц — индивидуальных поэтик новую целостность, синтез, приведший к возникновению нового качества. 5. В тесной связи с названной особенностью находится следующая, которую можно обозначить как маркированность канона. Большинство исследователей говорит о нарушении канона и его отмене как характерной черте именно литературы ХХ века. «ХХ век, — по словам Я. Шередко, — исчерпал этот принцип через создание и разрушение «канонов». Начав с рекордного количества новых художественно-эстетических форм, опровергавших одна другую (в России яркие примеры тому — Серебряный век и 20-е годы с манифестами, авторы которых «сбрасывали с корабля современности» классиков и друг друга), ХХ век пришел к эк47 лектике модернистских коллажей и признанию значения традиций и культурного контекста, что проявилось в интертекстуальности» [50, с. 52 — 53]. Именно такая трактовка характерна для большинства исследований постмодернизма и современной литературы (Б. Парамонов, А. Гольдштейн, И. Скоропанова), но не для всех. Так, например, Д. Затонский, исследуя «Имя розы», говорит не столько об отмене канона в постмодернизме, сколько об обыгрывании (в данном случае жанрового кода детектива). Действительно, постмодернистская игра с читателем, с его ожиданиями во многом связана с наличием у читателя представлений о жанровом, стилевом канонах. На этом строятся произведения русских концептуалистов, обыгрывающих соцреалистические тексты; «Сердца четырех» В. Сорокина обыгрывают канон приключенческого романа и др. При этом осмысливаются и обратные процессы. Ученые высказывают опасение, что сам постмодернизм в своей претензии на роль ведущего и завершающего стиля эпохи создает свой канон или, по словам М. Эпштейна, приобретает властность. Это подтверждается пародированием постмодернистского канона в текстах самих писателей (романы В. Пелевина, рассказы В. Тучкова и др. [53]). Русская литература ХХ века канон неоднократно создавала (например, соцреалистический, постмодернистский), но его же обыгрывала и разрушала, а массовая литература его «консервировала». Это говорит не столько об отмене канона, сколько о его маркированности. Об этом же свидетельствует обращение к риторическому готовому слову в русской поэзии рубежей ХХ века. Если отмену канона можно подвергнуть сомнению, то маркированность его очевидна, и логичным будет предположить особую роль данного явления в процессах обновления. Например, обыгрывание жанрового канона романа, самопародирование позволило роману в ХХ веке обновиться (что отмечал американский писатель и литературовед Джон Барт). Маркированность канона — его ниспровержение, обыгрывание, обновление — отражает процессы формирования новой художественной парадигмы. Среди особенностей литературы ХХ века вычленяются такие, которые соединяют содержательную и формальную стороны развития искусства слова. 6. Это формирование новых концепций человека и, соответственно, новых моделей героя. 7. А также возникновение новой картины мира и, соответственно использование особых приемов моделирования и стратегий модификации «старых» картин мира. Это пласт новаторских особенностей 48 обусловлен особенностями самой реальности: небывалыми историческими и социальными потрясениями минувшего столетия, его научными открытиями, ставящими всякий раз заново вопрос о человеке и его «месте во вселенной», проблему судьбы культуры и развития цивилизации. По словам В. Ванслова, именно в ХХ веке «наше искусство сказало новое слово о Человеке и его месте в мире. Оно отразило неведомые ранее общественные коллизии и потрясения, раскрыло новые отношения индивида и масс, мироощущения и миропонимания современного человека, помогало ему преодолеть нравственные противоречия, ставить и решать проблемы его утверждения в мире. Искусство вписало свою особую страницу в историю гуманизма. Оно обновило и обогатило свой язык, художественные средства, выработало новую стилистику и приемы» [29, с. 66]. Новаторство обусловлено и внутренними имманентными законами развития литературы, ее художественного языка, включающего и особенности национальной специфики. Поэтому, в частности, русская и украинская литературы не восприняли некоторые особенности западного постмодернизма, а иные существенно адаптировали, а восточные литературы и вовсе отвергли чуждый их художественным традициям опыт, релятивистскую картину мира и «смерть субъекта». Отметим, что зафиксированная многими исследователями такая особенность литературы ХХ века, как появление новых моделей героя, находится в тесной связи с процессом укрепления личностного начала (по Д. Лихачеву), который захватывает все эпохи и относится к «прогрессивным линиям» развития литературы. Знаменательно, что литература ХХ века в целом и русская в частности дала много разнообразных и порой контрастных моделей героя, отражающих смену концепций человека. Только по двум параметрам проявленности / непрявленности, социализации / индивидуализации можно определить большое количество моделей, а ведь таких параметров несколько и круг их еще должен быть определен. Диапазон разнообразия моделей героя огромен. От полного растворения личности в коллективном социальном «мы» послереволюционной литературы («150 000 000» В. Маяковского, «Падение Даира» А. Малышкина, пролетарская поэзия) к утопическому идеалу «нового человека» соцреализма и противопоставленному ему «сокровенному» человеку (А. Платонов), а затем индивидуальному сознанию, замещающему реальность (модернистские произведения обоих рубежей века), «приватному пространству» личности, противопоставленной социуму (B. Бродский, диссидентская поэзия); к контрастной вышеназванной модели активной личности, «вписанной» «в 49 обстоятельства исторической жизни страны и всего мира» («лирика социальных эмоций» второй половины ХХ века, по определению Т. Л. Рыбальченко [54]) и «экзистенциальному человеку» (поэзия и проза 60-90 – х, например, «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева), народному характеру «деревенской» прозы, христианскому архетипу страстотерпцаборца в произведениях «лагерной темы», наконец, к ироническому изображению человека-носителя массового сознания в концептуализме (Д. А. Пригов, Т. Кибиров, Е. Попов) и «растворенному» сознанию, смерти субъекта в постмодернизме. В исследованиях литературоведов представлены противоположные точки зрения. Но все полагают, что в области художественного воплощения личности и реализации личностного начала в литературе ХХ века произошли кардинальные сдвиги. Приведем хотя бы две контрастные позиции. Так, В. Кожинов полагает, что модель человека-индивида (оформившаяся в XIV веке и развивавшаяся на протяжении столетий) в ХХ веке себя исчерпала. Вектор «переворота» «в поэтическом воплощении проблемы личности» [47, с. 105] наметился в первой трети века (творчество Н. Заболоцкого, А. Твардовского) и воплотился в отрицании избранности индивида, его отделенности и особости, в утверждении обыденности, неотделимости от массы. Последнее трактуется не как следствие нивелировки личности в условиях тоталитаризма, а как осознанное ограничение индивидуальности в целях общего дела, общих задач («по Гвардини это солидарность с самим делом и с соседями по работе... Это товарищество по грядущему человеческому делу и по грядущей человеческой опасности» [47, с. 105 — 117]). На диаметрально противоположных позициях стоит Т. Касаткина, полагающая, что «странности нового положения человека в мире» [2, с. 87] зафиксировали в художественной литературе ХХ века модернистские и постмодернистские тексты, отразившие гипертрофированное внимание к личности, замещение реальности личностным субъективным восприятием, повышенным психологизмом. Истоки явления видятся как в секуляризации литературы Нового времени, так и в развитии психологизма в словесности XIX века, наконец, в модернистских течениях рубежа веков и литературе «потока сознания». На материале прозы конца ХХ века (произведений А. Битова, В. Маканина, Саши Соколова, Вен. Ерофеева, Л. Петрушевской, В. Аксенова) демонстрируется гипертрофия личностного начала. По словам исследовательницы, «разрушительное воздействие психологизма на реальность объясняется уже описанной ситуацией Нарцисса. Психологизм — это и есть всматривание в себя без посредников, разрушительное самолюбование, когда отдельные черты 50 приобретают самодовлеющую ценность и перестают служить созданию лика, облика, когда человеческая ценность возрастает неизмеримо — чтобы немедленно свергнуться в пропасть разложения, ибо отрицается ценность высшая, интегрирующая» [2, с. 98]. Доминирование подобной модели оказывается тесно связанным и с формированием специфического образа автора, изменением принципов повествования. «Лирический герой постепенно теряет дистанцию... и снимает маску, отделяющую его лицо от лица автора... Авторы начинают играть самих себя... Последняя грань, отделяющая Нарцисса от совпадения с самим собой и аннигиляции, последняя оставшаяся реальность — это сам процесс письма. За нее хочется ухватиться, поэтому очень часто процесс писания становится процессом, описания процессом писания» [2, с. 94]. Безусловно, между описанными исследователями контрастными моделями располагаются иные, отражающие другие мировоззренческие установки. Это и народные характеры «деревенской» прозы, и «маргинальные» герои реалистической литературы 70-80-х, наконец, героические характеры военной прозы; художественная концепция человека, выживающих в экстремальных условиях («лагерная» литература), «новый маргинал» эпохи социальных потрясений 90-х годов и, наконец, экзистенциальный герой, представленный во множестве ипостасей. Эти модели в совокупности не изучены, не установлена логика их взаимодействия и смены, не определены доминанты целостной картины художественного поиска. В связи с этим любые выводы о специфике решения проблемы человека в русской литературе ХХ века пока кажутся преждевременными. Но определен круг актуальных задач. Что же касается художественной картины мира, то и здесь литература ХХ века имеет яркие особенности, отличающие ее от художественной словесности предшествующих эпох. Ю. Борев полагает, что первейшей такой особенностью является отсутствие единой и целостной картины мира, наличие их множества. По словам ученого, если иные литературные эпохи определялись концепцией-парадигмой мира и личности, то в ХХ веке эта логика разрушается, «в этом отношении развитие литературы во второй половине XIX в. и в ХХ в. принципиально отличается от художественного процесса всех прежних эпох: отсутствует единое художественное направление, представляющее эпоху; разные направления литературы предлагают разные концепции личности и мира – возникает своеобразный художественно-концептуальный системный плюрализм» [1, с. 8]. Видимо, для вычленения общих черт во множестве художественных концепций потребуется нахождение новых точек отсчета и ракурсов изу51 чения литературы ХХ века, что является актуальной теоретической задачей. 8. В тесной связи с содержательными преобразованиями находятся традиционные категории исторической поэтики — автор, герой, жанр, стиль. Исследователи констатируют определенные сдвиги в литературе ХХ века именно по этим параметрам. Например, отмечается повышенная жанровая динамика, размывание границ, переворачивание центра и периферии жанровой системы, взаимовлияние жанров художественной литературы и нехудожественной словесности, журналистики и др. Фиксируется также существенное изменение образа автора и структуры повествования. Речь идет, с одной стороны, о кризисе всезнающего автора (характерного для литературы XIX века), доминировании повествования, «основывающегося на чистом изображении как непосредственно состояния сознания персонажей» [55, с. 119], постмодернистской «смерти автора» и утверждении нелинейного письма. С другой же стороны, фиксируется прямо противоположный процесс «нарциссического» авторского самолюбования (Т. Касаткина). И в этом случае, как и во многих других, литература ХХ века демонстрирует поливекторность поисков. Итак, можно сделать вывод: многочисленные попытки ученых создать целостную картину русской литературы ХХ века пока не привели к однозначному позитивному итогу, но определен ряд существенных закономерностей развития художественного слова в данный период, предложено несколько систем координат, в которых видны и типологические связи литературы ХХ века с иными эпохами, и ее существенные отличия, а также ярко проявились особенности научной рефлексии данного явления. Определились актуальные направления изучения данного феномена и сформировались основы для интеграции результатов исследований в единую обобщающую модель. _________________________ 1. Борев Ю. Литература и литературная теория ХХ в. Перспективы нового столетия / Ю. Борев. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1: Литературное произведение и художественный процесс. – М., 2003. 2. Касаткина Т. А. Пространство, время в русской литературе конца ХХ века / Т. А. Касаткина. // Теоретико-литературные итоги ХХ в. – Т. 2: Художественный текст и контекст культуры. – М., 2003. 3. Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х годов ХХ века / А. Ю. Мережинская. – Киев, 2001. 4. Бычков В. После «КорневиЩА». Пролегомены к постнеклассической эстетике / В. Бычков. // Эстетика на переломе культурных традиций. – М., 2002. 5. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под ред. В. В. Бычкова. – М.: «Рос. политич. энцикл.» (РОСПЭН), 2003. 52 6. Маньковская Н. Б. Что после постмодернизма? / Н. Б. Маньковская. // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания. – Материалы российско-французской конференции: В 2 ч. – М., 2002. – Ч.2. 7. Маньковская Н. Б. Саморефлексия неклассической эстетики / Н. Б. Маньковская. // Эстетика на переломе культурных традиций. – М., 2000. 8, Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История / Ю. М. Лотман. – М., 1999. 9. Силантьева В. И. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись) / В. И. Силантьева. – Одесса, 2000. 10. Липовецкий М. Русский литературный постмодернизм: Очерки исторической поэтики / М. Липовецкий. – Екатеринбург, 1997. 11. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: Новый учебник по литературе: В 3 кн. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М., 2001. 12. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие / И. С. Скоропанова. – М., 1999. 13. Ильинская Н. И. Поэтическое пространство новейшей русской поэзии: К вопросу о целостности процесса / Н. И. Ильинская. // Русская литература. Исследования: Сб. научн. трудов. – Вып. VII. – Киев, 2005. 14. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д.В. Затонский. – Харьков-М., 2000. 15. Парамонов Б. Конец стиля / Б. Парамонов. – СПб.-М., 1999. 16. Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом: Опыты поминальной риторики / А. Гольдштейн. – М., 1997. 17. Гройс Б. Искусство утопии / Б. Гройс. – М., 2003. 18. Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе / М. Берг. – М., 2000. 19. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И. С. Скоропанова. – М., 2000. 20. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени / Э. Г. Шестакова. – Донецк, 2005. 21. Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна / М. Эпштейн. // Звезда. 1999. № 11. 22. Словарь терминов Московской концептуальной школы. – М., 1999. 23. Липовецкий М. Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе / М. Липовецкий. // Знамя. – 1999. – №1. 24. Голубков М. Русская литература ХХ в. После раскола: Учеб. пособие для вузов / М. Голубков. – М., 2001. 25. Спиваковский П. Е. Теоретико-литературные аспекты творчества А. И. Солженицына / П. Е. Спиваковский. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 26. Спиваковский П. Е. Художественное освоение реальности в русской литературе XIX–XX вв. / П. Е. Спиваковский. // Там же. 27. Чудакова М. О. Пастернак и Булгаков: Рубеж двух литературных циклов / М. О. Чудакова. // Лит. обоз. 1991. № 5. 28. Киселева Л. Ф. Отечественная классика и историзм / Л. Ф. Киселева. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 53 29. Ванслов В. В. Художественный опыт России в ХХ веке / В. В. Вансалов. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 30. Михайлов А. Д. Особенности литературного процесса ХХ века / А. Д. Михайлов // Там же. 31. Михайлов А. Д. Музыка в истории культуры: Избранные статьи / А. Д. Михайлов. – М., 1998. 32. Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте / Е. М. Черноиваненко. – Одесса, 1997. 33. Сазонова Л. И. Барокко – авангард: типология принципов конструирования художественного мира / Л. И. Сазонова. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 34. Заярная И. С. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм / И. С. Заярная. – Киев, 2004. 35. Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и теоретические предпосылки рецепции советской литературы / Е. Добренко. – СПб.., 1997. 36. Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры / Е. Добренко. – СПб., 1999. 37. Драгомирецкая Н. В. Проза 1920–1930-х годов: от эксперимента к классике. Слово как герой / Н. В. Драгомирецкая. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 38. Свенцицкая Э. М. Концепция слова и младшие символисты / Э. М. Свеницкая. – Донецк, 2005. 39. Бычков В. Пост-адеквация // Лексикон нонклассики. Художественноэстетическая культура ХХ века / В. Бычков. – М., 2003. 40. Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – Т. 2. – М., 2004. 41. Земсков В. Б. Одноглазый Янус. Пограничная эпоха – пограничное сознание / В. Б. Земсков. // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания. Материалы российско-французской конференции: В 2 ч. – М., 2002. – Ч. 1. 42. Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к Новому времени. Философско-антропологический анализ русской культуры XVII – первой половины XVIII века / Л. А. Черная. – М., 1999. 43. Кривцун О. А. Эстетика / О. А. Кривцун. – М., 1998. 44. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 1999. 45. Овчаренко А. О. Литература ХХ века / А. О. Овчаренко. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 46. Минералов Ю. История русской литературы. 90-е годы ХХ века / Ю. Минералов. – М., 2002. 47. Кожинов В. В. Классицизм, модернизм, авангардизм в ХХ в. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. Т. 2. / В. В. Кожинов. – М., 2003. 48. Лихачев Д. С. Прогрессивные линии развития в истории литературы / Д. С. Лихачев. // Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение. – СПб., 1999. 49. Росовецкий С. К. Спадкоємні зв’язки національних словесних культур / С. К. Росовецкий. – К., 1997. 50. Шередко Я. Н. Законы художественного процесса / Я. Н. Шередко. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 54 51. Лебрав Ж.-Л. Гипертексты – Память– Письмо / Ж.-Л. Лебрав. // Генетическая критика во Франции: Антология. – М., 1999. 52. Золотоносов М. Отдыхающий фонтан: Маленькая монография о постсоциалистическом реализме / М. Золотоносов. // Октябрь. – 1991. – № 4. 53. Мережинская А. Ю. Ироническая саморефлексия постмодернизма в русских текстах рубежа XX–XXI столетий. Стратегии преодоления постмодернистских художественных принципов / А. Ю. Мережинская. // Мережинская А. Ю. Русский литературный постмодернизм. Художественная специфика. Динамика развития. Актуальные проблемы изучения. – Киев, 2004. 54. Поэзия ХХ века: Хрестоматия-практикум к курсу «История русской литературы ХХ века / Сост. Т. Л. Рыбальченко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. 55. Смирнова Н. Н. Развитие идеи коммуникативности в ХХ веке / Н. Н. Смирнова. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 55 М. П. Абашева (Пермь) ДИСКУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ Современное литературоведение в изменившейся литературной и социокультурной ситуации ищет новые параметры для адекватного описания современного литературного процесса. Предлагаются исследовательские парадигмы, определяемые не только привычными в литературоведении категориями метода, стиля (И.С. Скоропанова, Г.Л. Нефагина, М.А. Черняк и др.), но и философскими концепциями (категории космос/хаос как организующие логику литературного процесса – у Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого). Возможно, в поиске новых оснований для осмысления литературного процесса недооценен извечно укорененный в человеческом сознании аспект – геопоэтический: связь литературы с местом жизни человека (писателя и читателя), с характером ландшафта, в каком сформировался и каким его воспроизводит художник, с чувством земли. Нельзя сказать, что это понятие закрепилось как термин. Приведем здесь одну из попыток его определения. Геопоэтика - «особый вид литературоведческих изысканий, сфокусированных на том, как Пространство раскрывается в слове – от скупых, назывных упоминаний в летописях, сагах, бортовых журналах пиратских капитанов до сногсшибательных образнопоэтических систем, которые мы обнаруживаем, например, у Хлебникова (применительно к системе Волга – Каспий), у Сент-Экзюпери (Сахара), у Сен-Жон Перса (Гоби, острова Карибского моря) или у Гогена (Полинезия)» [1, с. 158]. Разумеется, этот аспект изучения литературы неразрывно связан с другим – собственно антропологическим. И речь здесь, на наш взгляд, должна идти не о специфике региональных литератур, но о разработке единого методологического принципа, который может лечь в основу одной из возможных целостных интерпретаций литературного развития. Разумеется, сегодня мы можем говорить пока только о возможности подобного подхода к изучению литературы (имеющего, впрочем, свои предпосылки в работах И. М. Гревса, Н. П. Анциферова, П.Н. Сакулина, В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана и др.). Сегодня для такого подхода имеются и социальные предпосылки – и не только в России. Унификация экономического пространства (глобализация) сопровождается дифференциацией политического пространства (регионализацией) – и, как следствие, культурным переопределени56 ем личности. Символические смыслы, мотивированные геополитикой советских лет, окончательно обрушились, и новая художественная символика (знаковые ее ресурсы) нередко формируется на основе локальных истории, мифологии, географии. Опыт показывает, что продуктивное формирование дискурса об идентичности возможно при участии агентов литературного процесса: и художников, и людей «социального действия», сознательной рефлексии о семиотике ландшафта. Территории бывшего СССР, где такие люди есть, и создают свой дискурс об идентичности. Это, например, Прикарпатье, Галиция – здесь важна и литературная практика, собственно художественные тексты (проза Юрия Буйды, Игоря Клеха – на русском языке), но не меньше и энергия понимания, концептуализация (то, что называют сегодня «Станиславский феномен», создано Юрием Андруховичем, Владимиром Ешкилевым, Тарасом Прохасько). Культуротворческую деятельность по освоению территории Крыма, например, ведет (правда, преимущественно в Москве) «Крымский клуб». Семиотизирующую работу по осмыслению пространства Урала, Перми, взял на себя фонд развития культуры «Юрятин» (фонд, существующий уже 10 лет, назван по имени пастернаковского города в романе «Доктор Живаго»; прототипом Юрятина стала Пермь). Очевидно актуальна проблема новой самоидентификации для бывших советских республик. Мы видим, насколько активно идут процессы самоидентификации Украины: от жертвенной «колониальной» идентичности к новой, послереволюционной. Остро стоит эта проблема, насколько мы можем это наблюдать, в современной Белоруссии. Об этом можно судить по вышедшей в 2005 году книге Юрия Шевцова «Феномен Беларуси», по пьесе В. Щербаня «Мы! Самоидентификация», по дискуссиям в интернете и «Газете национального сообщества Беларуси». Применительно к Белоруссии речь пока, нам представляется, идет не столько о герменевтике ландшафта, сколько о самопонимании народа. Сценарии идентичности строятся как нарративизация различных периодов национальной истории. Вот несколько вариантов: белорусы осознают себя через символику пограничности и рубежности; как «народ катастрофы» (сказывается трагический опыт Великой Отечественной и Чернобыль); как нацию, сформировавшуюся в качестве самостоятельной только в составе Советского Союза… [2], [3], [4]. Похоже, понимание новой идентичности Белоруссии только предстоит. В настоящей работе в качестве примера региональной идентификации, осуществляемой в художественном тексте, мы рассматриваем случаи, где процесс идентификации, ее следы определяют логику, в ка57 кой движется, по нашему мнению, этот процесс в современной русской литературе в целом. Логика эта такова: от осмысления своей территории как провинции вообще — к осознанию уникальности конкретного ландшафта, к наполнению его экзистенциальным личностным опытом, от факта – к мифу, от мифа — к личной и общей истории. Чтобы обеспечить наблюдения достоверностью опыта собственной региональной идентификации, обратимся к текстам, созданным на Урале. Пермская писательница Нина Горланова являет собой пример стихийной территориальной самоидентификации: городское пространство, описанное в ее текстах, - особое, конкретное, неповторимое и «сюжетогенное». Правда, город в прозе Горлановой отмечен отнюдь не географическими, ландшафтными приметами – скорее социальными, психологическими. Пермский читатель может легко узнать события, случавшиеся в городе: как в конце 1980-х годов ранним утром сработал вдруг сигнал воздушной тревоги, и люди бросились искать бомбоубежище, как в начале 1990-х встречали опасность прорыва плотины и возможного затопления. Но какой интерес это представляет для читателя, к Перми отношения не имеющего? Секрет успешной стратегии писательницы (у нее вышло восемь книг, ее произведения охотно публикуют едва ли не все центральные литературные журналы и газеты), на наш взгляд, обусловливают (кроме, конечно же, писательского таланта) два обстоятельства. Во-первых, конкретная географическая укорененность горлановских героев создает эффект достоверности для любого другого читателя – тульского, тюменского и даже московского. Во-вторых, важна искренность интонации, что будит ответные, возможно, неосознанные и, конечно, словесно не оформленные «интуиции места». Комментируя собственное переживание места жизни, Горланова актуализирует вполне архетипические образы. Например, атрибуты материнства: «Я припала к груди родной Перми и не хочу уезжать никуда, никогда» [5, с. 365]. В случае Горлановой речь идет не о топосе провинциального города вообще — таких примеров немало в современной прозе: в произведениях Марка Харитонова, Петра Алешковского, Петра Зайончковского и др. Здесь же мы имеем дело с индивидуальной авторской мифологией конкретного города. В мифе же необходимо Имя, которое Горланова словно бы заимствует у города реального — создавая свою Пермь, собственный миф, город-текст. В 1980-1990-е годы в Перми (более всего — в поэзии) постепенно формируется иная по природе мифология. Происходит локально58 семиотическая конкретизация понятия: Пермь предстала не просто провинциальным городом, но городом в своих узнаваемых географических приметах и вместе с тем окруженная мифологическими, историческими, символическими коннотациями. В современную литературу входит даже не сам город, но Пермь как огромная территория, земля (город ведь и получил имя так – метонимически, от земли, которая называлась Пермь Великая). Постепенно, к началу нового века, особенно востребованной в пермской поэзии оказывается семиотика границы («континентальный зазор», у Вячеслава Ракова [6, с. 11]) — края земли, где за географией открывается иная история, связанная прежде всего с дохристианским, языческим прошлым Перми: Здесь сплошное язычество в градах и весях:/ поедание Солнца, сжигание чучел» [7, с. 17]. Частотны в пермской поэзии и мотивы подземных тайн, тоже наглядные в процитированной выше недавней книге В. Лаврентьева: Где-то должен быть выход! В затопленных пермских подвалах, / в катакомбах Губахи, хтонических ямах Кунгура... [7, с. 125] (Губаха, Кунгур – местные топонимы, это названия небольших городов возле Перми). Примечательно, что пермская мифология подземных глубин вполне своеобычна, отлична от екатеринбургской, например, мифологии горных сокровищ, характерной для сказов Павла Бажова. Мифология пермских подземных лабиринтов, возможно, отчасти питается преданиями местных малых народов (этих источников как будто и вовсе не существует для нашего литературоведения, что, безусловно, несправедливо). В частности, важна мифология чуди – племени, жившем на Урале (иногда чудь называют предками современных коми, живущих ныне и в Пермском крае). По преданиям, чудь ушла в землю, закопав себя. Мифология пермских хтонических глубин, инфернальных ландшафтов оказалась привлекательной настолько, что ее охотно эксплуатирует и массовая литература. В 1998 году в Москве вышел авантюрный роман (с элементами фэнтези) Сергея Алексеева. Действие разворачивается в реальном географическом пространстве, на севере Прикамья – на реках Вишере и Колве, в горах, где живут в пещерах потомки древних ариев, хранятся сокровища древних цивилизаций, а также надежно спрятано золото партии. Уральский хребет предстает здесь как особое мистическое место («словно кто-то встал посредине Евразийского континента и сгреб руками все астральные точки с запада и с востока, заодно насыпав гряду Уральского хребта») [8, с. 40]. По мнению автора, здесь Россия, как Северная цивилизация, должна осознать свое призвание и восстановить триединство человечества, соответствующее космическому порядку: Восток, Запад, Север. 59 К началу ХХI века пермский миф приобрел такую смысловую интенсивность и суггестивность, что стоило надеяться на развернутое его воплощение. И это случилось. Проза Алексея Иванова – романы «Сердце Пармы»(2004), «Географ глобус пропил» (2003), «Золото бунта» (2005), теперь уже не раз выпущенные престижными издательствами «Пальмира», «Вагриус», «Азбука» — стали бестселлерами, автор получил множество литературных премий. Успех у читателей и критиков вызвали завораживающие описания уральской земли – Перми Великой. В романе «Сердце Пармы» рассказана история средневековых уральских княжеств. Русский князь Михаил обороняет Чердынь, столицу своего княжества, от воинственных местных народов. Потом, вынужденный подчиниться централизованной власти Москвы, Михаил расширяет границы своего княжества, покоряя местные народы. В романе Иванова описания бесчисленных сражений, подвиги, предательства, осады городов, походы, поиски сокровищ, строительство и поджог храма имеют особую имагинативную убедительность и достоверность. Главный конфликт романа отчасти определен характером места: это столкновение могучего мира язычества и становящейся православной цивилизации. Питательный источник романной образности – языческий культурный субстрат. Для автора, искусствоведа по образованию, архаика стала, по его собственному признанию, своего рода изобразительным кодом: «Я смотрю на изделие пермского звериного стиля и что вижу? Что-то древнее, непонятное, косматое, дикое, обломанное по краям, с окалиной, зеленое от окиси, выкопанное из земли. И я старался писать так, чтобы мир у меня был такой же дикий, косматый, обломанный по краям, вышедший из каких-то непостижимых недр» [9, с. 16]. Как раз непостижимые недра — природа, ландшафт — и составляют сердцевину художественного мира писателя. И в романе «Географ глобус пропил», по контрасту с непритязательной фабулой (учитель ведет учеников в поход), по контрасту с языком, засоренным подростковым сленгом, еще выразительнее секрет, ферментирующий романный мир и в «Сердце Пармы» — несмотря на то, что в обеих книгах не прописаны характеры, есть длинноты и стилевые огрехи. Этот секрет можно назвать геокосмической интуицией. Созерцание неба, созвездий, скал, Земли (последнее слово Иванов чаще всего пишет с заглавной буквы), особенно бегущих рек — образует то, что Мирча Элиаде назвал бы религиозным чувством. Ни в каких богах не персонифицированное, оно выражено у Иванова в сакрализации самого природного космоса, хочется сказать — тела древнего ландшафта. Вот пример: «В громаде Шихана, 60 угрюмо нависшей над долиной, было что-то совершенно дочеловеческое, непостижимое ныне, и весь мир словно отшатнулся от нее, образовав пропасть нерушимой тишины и сумрака. От этой тишины кровь стыла в жилах, и корчились хилые деревца на склоне, пытающиеся убежать, но словно колдовством прикованные к этому месту. Шихан заслонял собою закатное солнце, и над ним в едко-синем небе горел фантастический ореол» [10, с. 122]. В такой перспективе поход школьников под руководством учителя прочитывается как инициация под водительством посвященного. А чрезмерно, по-голливудски кинематографичный язык видится следствием специфической «экзистенциальной географии» Алексея Иванова. Думается, ею в первую очередь и объясняется успех его прозы. Роман «Золото бунта» (2005) снова убедил читателя в способности Алексея Иванова строить авантюрный сюжет, активно используя при этом инструментарий массовой литературы. Согласно местным легендам, собранным и переосмысленным автором, Пугачев, уходя с берегов реки Чусовой, спрятал здесь клад. Привлекательность этого замысла обеспечена прежде всего детальным знанием истории уральских земель (в этом невозможно усомниться: за год до выхода романа Иванов выпустил двухтомный путеводитель по реке Чусовой «Вниз по реке теснин»), умением увлечь читателя великолепными описаниями уральской природы – картинами весеннего сплава (так доставляли продукцию местных заводов в торговые большие города). Интрига романа напоминает и модные сегодня в мировой литературе, известные из произведений Умберто Эко («Маятник Фуко») и Дэна Брауна ходы: это создание альтернативной истории, фундированной художественной интерпретацией религиозных ересей. Таково в романе Иванова «истяжельчество» кержаков, староверов, держащих в своих руках души и судьбы чусовских сплавщиков. Ставшие популярными романы А.Иванова редко воспринимаются критикой в качестве региональной литературы. Они прочитываются как книги «писателя-онтолога» о судьбе России, как начало новой литературной парадигмы, основанной на «новой метафизике» [11], [12]. Алексей Иванов стал сегодня одним из лидеров литературного процесса. Его успех, кажется, стимулирует и других авторов. В 2006 году вышел футурологический роман Ольги Славниковой «2017», где, кроме вяло прописанной модной социально-политической темы (предчувствие новой революции), яркую интерпретацию получает уральская мифология. Последняя у Славниковой имеет питательным источником бажовские сказы, но также и современные реалии – героем ро61 мана становится «хитник» - искатель драгоценных камней. Славникова в своих интервью усиленно подчеркивает значимость уральской мифологии и свою к ней близость: «Урал насыщен подземными сокровищами, многие их ищут, то есть прямо с загородной электрички ступают в неизвестность. На Урале существуют так называемые хитники – люди, без лицензии добывающие самоцветы. Они не профессионалы, не геологи. «В миру» они чаще всего связаны с высокими технологиями: оборона, космос. Но их подлинная жизнь – это «роман с камнем». Я выросла на Урале и знаю о камнях не понаслышке. Через шоссе от нашей дачи начиналось Мурзинское самоцветное месторождение: можно было перейти дорогу и детским совочком накопать аметистовых щеток. «Роман с камнем» – это азарт, удача, фарт. Это риск: хитник может в старой шахте попасть под завал, сломать ногу и не выйти из тайги. Все люди рискованных занятий суеверны. Рифейский человек глубоко связан с миром горных духов. Этот мир описал в свое время Павел Бажов, но этот мир существует и вне бажовских сказов. Для рифейца он реален!» [13] Реальность рифейского мира и мифа убедила и читателей, и критику. Оба романа – и «Золото бунта» А. Иванова, и «2017» О. Славниковой номинированы на престижную премию «Большая книга», что лишний раз свидетельствует о востребованности литературы, тяготеющей к осмыслению региональной истории и мифологии. Это значит, что современное литературоведение не может обходить вниманием столь значимые процессы в литературе. И здесь представляются явно недостаточными традиционные (по большей части, эмпиричные и описательные) подходы так называемого литературного краеведения. Очевидно, необходимо думать о какой-то филологической регионалистике, которая изучала бы литературные тексты именно с точки зрения геопоэтики (такие тексты могут быть написаны как внутри региона, так и извне). Это позволило бы не только глубже понять поэтику отдельных писателей, но описать семиотику того или иного ландшафта. В изучении таких текстов предстоит также выявить «систему правил», по которым строится текст о месте. Геопоэтика, понятая таким образом, может стать необходимой составляющей в новой истории литературы. _________________________ 1. Голованов В. Геопоэтика Кеннета Уайта / В. Голованов. // Октябрь. 2002. № 4. 2. Шевцов Ю. Объединенная нация. Феномен Беларуси / Ю. Шевцов. — М.: Европа, 2005. 3. Окара А. Беларусь в отсутствие третьей альтернативы / А. Окара [Электронный ресурс]. — runet, 2005. — Режим доступа: //www.russ.ru. — Дата доступа: 1.09.2005. 4. Копенкина О. Белорусския. Логика номоса / О. Копенкина. // Художественный Журнал. N°22 www.guelman.ru. 62 5. Горланова Н.В. Вся Пермь / Н. В. Горланова. — Пермь, 1996. 6. Раков В.М. Число π. / В. М. Раков. — Пермь, 2006. 7. Лаврентьев В. Постоянство места / В. Лаврентьев. — Пермь, 2004. 8. Алексеев С. Сокровища Валькирий / С. Алексеев. М. – СПб., 1998. 9. Ландшафт формирует мышление (Интервью с А. Ивановым) //Современная русская литература: проблемы изучения и преподавания. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Часть 1. — Пермь, 2005. 10. Иванов А. Географ глобус пропил / А. Иванов. — М., 2003. 11. Володихин Д. Минуя теснины / Д. Володихин. // Знамя. 2006. № 4. 12. Быков Д. Сплавщик душу вынул, или В лесах других возможностей / Д. Быков. // Нов. мир. 2006. № 1. 13. Славникова О. «Старшее поколение провоцирует творческий климакс у молодых…» / О. Славникова. // http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=937 63 Т. Н. Маркова (Челябинск) СТИЛЕВАЯ ЭКЛЕКТИКА КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА Современная литература дает мощный стимул для разработки действительно новых, оригинальных концепций литературного движения и развития. Текстуальный, конкретно-аналитический подход к произведениям русской словесности последних полутора-двух десятилетий позволяет выйти к разработке ряда принципиальных для современной науки теоретико-литературных идей, определяющих специфику литературного процесса конца двадцатого столетия. Среди них – идея максимальной интенсификации (творческой «агрессии») индивидуальных стилей, идея формотворческого эклектизма, а также – идея активной трансформации различных стилевых форм и традиций. Исследуемый нами период литературного развития (1980-1990-е годы), характеризующийся решительной сменой эстетических принципов и стилевых тенденций, с полным основанием может именоваться переходным. По нашему убеждению, понятие «стиль» более, чем какоелибо иное («направление» или «течение», «метод» или «жанр»), соответствует задаче анализа сущности переходных явлений, скажем больше: категория стиля нам представляется категорией, определяющей своеобразие литературной эпохи конца ХХ в. Основное русло движения современной литературы в плане поэтики мы определяем категорией эклектика, настаивая на актуализации этимологической семантики этого слова (по-гречески eklektikos означает выбирающий). Действительно, выбор притяжения или отталкивания, избирательность как акт свободы (и даже вызова) в общении с традицией определяют лицо современной словесности. Эклектика представляется нам формой существования современного искусства, ведущим его стилевым качеством, обнаруживающим себя в особом многообразии и широте специфичного для современной литературы формостроения. Сам характер современной действительности, тип сегодняшнего сознания и языкового мышления предопределяет те речевые, сюжетно-композиционные, жанровые конструкции, которые наиболее адекватно передают облик мира конца ХХ века. Мощная преобразовательная энергия новой словесности прежде всего устремляется в русло собственно повествовательное. Мы видим, как усиленно раздвигается семантическое поле художественного слова и как многообразно и противоречиво осуществляется активное проникно64 вение разговорной стихии в художественную сферу. Вследствие этих процессов в новейшей литературе возникают сверхсложные, гибридные языковые формы, в которых литературное и «мифологизированное» слово оказывается включенным в слово разговорное, диалогическое, просторечное, даже жаргонное, и этот контрастный речевой план делает особо зримыми рождающиеся в «пограничной» зоне новые речевые модели. Общие механизмы образования смыслов – коллажность, смешение, интенсивная метафоризация – специфически проявляются в индивидуальных художественных системах. Так, у В. Маканина – это спиралевидное множество, цепочка голосов разных уровней, у Л. Петрушевской – разработка «терриконов речевого шлака», внедрение в глубину бытового слова, у В. Пелевина – создание «одноразового» языка в пределах индивидуального текстового пространства. С релятивным характером современного сознания связаны такие синтаксические особенности новой прозы, как экспансия безличности и повышение функции модальности. Нетрадиционные речевые модели, гибридные синтаксические формы (несобственно-прямой диалог, несобственно-косвенный диалог, удвоенная косвенная речь) также обусловлены энтропийным и интровертивным характером художественного сознания и выражают спонтанность и саморефлексию прозы конца ХХ века. В стремлении осмыслить новую реальность современная литература напряженно экспериментирует, расширяя свой художественноаналитический потенциал. Если внимание художников предшествующих эпох было приковано к человеку в его социально-историческом и психологическом опыте, то литературу конца века преимущественно интересует человек феноменологический, «человек как он есть». Вместе с распадением реальности в литературе усиливается процесс деперсонализации, ускользает характер, на смену ему приходит человек-стереотип, человек-архетип, виртуальный субъект. Традиционные формы психологизма оказываются неадекватными действительности, поэтому в новой литературной ситуации писатели заняты поисками новых форм и способов изображения мира и человека. Анализируя тексты В.Маканина, Л.Петрушевской, В.Пелевина, мы убеждаемся в том, что проза конца ХХ века предъявляет достаточно специфические состояния и ощущения современного героя, понять и объяснить которые средствами «старого» психологизма не представляется возможным. Поэтому преимущественное внимание современных художников обращено к сфере бессознательного, что позволяет выразить глубинные, непонятные самим героям-персонажам страхи и тревоги, эпи65 стемологическую неуверенность как доминанту «рубежного сознания». Специфика «нового» психологизма, как нам это представляется, в том, что разные способы и формы психологического изображения, вступая в различные сочетания, сплетения, комбинации, реализуют те функции, которые в литературе классической выполнял авторский психологический дискурс. Новый психологизм носит неявный, нерасчлененный характер, он необычайно активизирует психологическую роль различных структурных элементов текста: сюжетно-композиционных, ритмикоинтонационных и т.д. Наблюдения над процессами, происходящими на разных уровнях поэтики современной прозы, показывают, что преодоление инерции рационалистических концепций и представлений идет через обращение, с одной стороны, к приемам феноменологического анализа, с другой – к архаическим концептуальным «кладовым» – древней мифологии и жанровым моделям. Архаические формы в новом обличье входят в актуальное поле современной поэтики; переплавленные в горниле индивидуального художественного творчества структуры и модели древней мудрости превращаются в новые, оригинальные идеи. Так возникают «голоса» и мифологемы «лабиринта», «лаза» в повестях В. Маканина, архетипы и мифологические коннотации имен и сюжетов в рассказах Л. Петрушевской, картины реинкарнации и метаморфоз человеческого сознания в художественных реконструкциях В. Пелевина. Обращение к еще одной области формообразования в современной литературе – к строению и трансформации жанровых форм малой прозы – еще раз подтверждает мысль об эклектике как доминирующем стилевом качестве новейшей литературы. Эклектичность здесь проявляется в том, что непосредственный контакт с «неготовой, становящейся современностью» в сегодняшней прозе парадоксально сопровождается регенерацией отшлифованных многими веками культуры сюжетных архетипов, обнаруживая глубинное родство романа с архаическими формами фольклорно-мифологических сюжетов. Старые формы, употребленные в новой функции, не только обнаруживают свою жизнеспособность, но и создают ощущение литературного новаторства, что особенно наглядно проявляется в способе функционирования архаических жанров в современной словесности. «Неканоничность» и «пластичность» романного слова (М. Бахтин) в настоящее время передается всей литературе, сообщая ей дух вечного поиска и эксперимента, трансформации и переосмысления всех ранее сложившихся жанровых моделей, в первую очередь таких, как анекдот, притча, мениппея, сказка, утопия. Интенсивный процесс гибридизации 66 разноприродных жанровых форм (включая невербальные виды искусства) порождает феномены, эклектичные по генезису и весьма значительные по художественным результатам. Говоря о специфике современного жанрового мышления, мы определяем его как поливариантное, демонстрирующее движение жанровых конструкций в сторону их усложнения, скрещивания, варьирования, смещения центра, организующего художественную целостность, причем это смещение происходит в уже известном направлении – к стилю как принципу конструирования художественного произведения. 67 К. Д. Гордович (Санкт-Петербург) ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН В РУССКОЙ ПРОЗЕ РУБЕЖА ХХ — ХХI вв. Тема Великой Отечественной войны – одна из центральных в русской литературе на протяжении более чем полувека. В литературоведческих исследованиях отражены особенности проблематики и поэтики произведений, изображающих человека в экстремальных ситуациях военного времени, прослежена эволюция в подходе авторов к теме «человек и война». Последние десятилетия ХХ века и начало ХХI ознаменованы трагическими событиями новых войн – в Афганистане, на Кавказе. Нас интересует, как литература откликнулась на эти войны, какое отражение они нашли в творчестве авторов разных поколений и различных литературных направлений. Я не буду обращаться к книгам чисто публицистическим (например: Политковская А. Чужая война, или жизнь за шлагбаумом. – М., 2002). Вне поля зрения останутся и произведения массовой литературы, в которых трагедия предстает в жанре боевика, авторы «описывают невероятные приключения русских суперменов» 1. Читателю демонстрируют победителей и предлагают не обращать внимания на жестокость и зверство. Не случайны сами названия серий в проекте «Мужской клуб» издательства «Крылов»: «Историческая авантюра», «Современная авантюра», «Военная авантюра». Жизнь героев на страницах этих книг – «игра со смертью по самым высшим ставкам … риск, азарт, борьба» 2. Я обращусь к произведениям, создатели которых не решали ни политических, ни развлекательных задач. Они подключают читателей к решению проблем нравственных, психологических, мировоззренческих. В этих книгах главное – мир эмоций, напряженные раздумья тех, кто оказался на фронтах современных войн. В отличие от участников Отечественной войны для современных солдат и офицеров не становится бесспорной поддержкой мысль о защите родины, дома. Что же руководит и продолжает руководить ими? Светлана Алексиевич, автор художественно-документальных книг о войне, в своем дневнике еще в 1989 году так определила задачу писателя при обращении к подобной теме: «Мой предмет исследования все тот же – история чувств, а не история самой войны. О чем люди думали? Чего хотели? Чему радовались? Чего боялись? Что запомнили?» 3. Попытаемся на материале произведений современной прозы решить аналогичную задачу – как показан человек, его внутренний мир в 68 экстремальных условиях. Параллельно коснемся вопросов о ракурсе наблюдения, о типах героев, об основных мотивах, отметим жанровые и стилистические особенности книг. Интересными и репрезентативными для такого анализа, на мой взгляд, являются произведения, не демонстрирующие успехи и хладнокровие суперменов, а задающие вопросы, даже если они замыкаются на самого себя и заведомо не имеют ответов. Показалось правомерным начать разговор с произведений, созданных писателями старшего поколения и лично не участвовавших в военных событиях. Первое по времени написания из них – «Цинковые мальчики» С. Алексиевич (1990). О задаче книги писательнице пришлось говорить не только в заметках, предваряющих текст, но и отстаивая свою позицию на суде: «О том, что были мы все повинны, мы все причастны к той лжи, — об этом моя книга» 3, с. 202. «Цинковые мальчики» составлены из рассказов тех, кто воевал в Афганистане, и их матерей. В рамках книги эти рассказы и исповеди становятся особыми человеческими документами: «Документ – это и те, кто мне рассказывает, документ – это и я как человек со своим мировоззрением, ощущениями», — подчеркивала Алексиевич 3, с. 203. «Цинковые мальчики» появились на свет, когда уже можно стало говорить открыто об Афганской войне, но еще слишком трудно и страшно оказалось принять всю правду: «Это такая страшная правда, что она звучит, как неправда. Отупляет. Ее не хочется знать. От нее хочется защититься» 3, с. 185. Уникальность произведения, как и всей нашей истории, определила возможность возникновения тех судебных разбирательств, которые проводились по жалобам «героев книги». Автор тщетно добивалась литературоведческой экспертизы, признания статуса книги как художественно-документального текста. В ходе этого суда столкнулись политика и литература, массовое сознание и сознание интеллигентов, чувствующих свою ответственность. Выяснилось, что правда не нужна никому. Стало очевидно, что обывателей, включая и оскорбленных родителей погибших, и самих «афганцев», волнует больше всего материальная сторона вопроса – желание добиться компенсации, обида, что автор получает большие гонорары, и т. п. Алексиевич выдержала и такое испытание. Ее «Цинковые мальчики», как и книга об Отечественной войне («У войны не женское лицо») дают срез эмоций, психологических и интеллектуальных реакций на самые болевые проблемы современной действительности. В вошедших в книгу рассказах зафиксированы моменты душевного слома, предельная трудность примирения с собой, профессионально убивавшим людей. На 69 значимости этих раздумий, этого процесса осмысления настаивала писательница и во время суда, воспринимая свою книгу как звено в борьбе за человеческую душу, за ее право на существование, ее участие в борьбе против войны. Следующее произведение, к которому обратимся, — рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный». Написан он до начала второй Чеченской войны, в 1995 году. В его сюжете практически нет военных событий, но есть главная особенность войны, то, без чего она не обходится, – убийства. В современной действительности часто приходится говорить о том, как обесценена жизнь человека, как убийства сопровождают не только криминальные разборки, но вошли в быт, в повседневную жизнь. В ряде поздних произведений Маканина («Квази», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Буква “А”») убийства, совершаемые героями, стали обязательной составляющей сюжета. В «Кавказском пленном» нет даже попытки ни нравственного, ни какого-то другого оправдания убийства. Больше того, оно совершается не в бою, не в перестрелке, не в ходе самозащиты и даже не с помощью оружия. Важно и то, что никакой злобы убивающий к своему пленному не чувствует. Даже наоборот. Предваряет убийство повышенное внимание Рубахина к красоте юного кавказца. В рассказе отмечены и другие случаи убийства. В самом начале найдено тело застреленного в упор спящего ефрейтора Бояркова. Затем мы видим целую группу разоруженных людей, о будущей судьбе которых сказано подчеркнуто спокойно, без всяких эмоций: «С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут, их не без удовольствия постреляют … война!» 4. Может быть, одна из задач автора и состояла в обнаружении античеловеческой сущности любой войны. На решение этой задачи работает и акцентированная в тексте необыкновенная красота гор и человеческая красота. Грустно звучит оговорка писателя в самом начале: «Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир» 4, с. 350. Перекликаясь с этим зачином, в последних строчках писатель заставляет самого героя поставить вопрос о том же. Ответа по-прежнему нет, но важно, что вопрос возник: «Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность – но что, собственно, красота хотела ему сказать? Зачем окликала?» 4, с. 374. Безусловно, особый интерес представляют произведения о современных войнах тех, кто в них участвовал и сумел воплотить собственный опыт, раздумья и потрясения. Молодой «военной» прозе посвящена ста70 тья В. Пустовой «Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель» («Новый мир», 2005, № 5). В ней рассмотрен ряд концептуальных вопросов, касающихся особенностей изображения современных войн. Представляется интересным сопоставление с художественным опытом В. Некрасова. Убедительно показаны успехи и просчеты авторов при изображении человека «между жизнью и смертью» 5. По художественной выразительности критик выделяет роман Захара Прилепина «Патологии» («Север», 2004, № 1-2). Олег Ермаков (смоленский писатель, 1961 г.р.) пришел в литературу в начале 90-х с афганской темой (цикл рассказов и роман «Знак Зверя»). С тех пор им написано довольно много произведений и не только о войне. Я обращусь к последней повести, в которой автор из сегодняшнего дня снова возвращается к горячему материалу Афганской войны – «Возвращение в Кандагар» (2004). Встают неизбежные вопросы – стоит ли ворошить прошлое и обращаться к неразрешимым проблемам? Какой груз несут с собой по жизни те, кто через подобные войны прошел? Что для них (и нас) важнее – забыть или попытаться разобраться? Необходимость возвращения чувствуется уже по названию. В произведениях Ермакова пространство и время всегда содержательно значимы. В «Транссибирской пасторали» герою надо было проехать через всю страну, чтобы понять себя. Костелянцу – герою последней повести – еще более необходимы все его поездки, чтобы осознать свою жизнь и свое участие в войне. Но путь возвращения – это не воспоминания о военных действиях. Герой еще раз совершает когда-то пройденный путь сопровождения цинковых гробов. Среди них есть и тот, к которому он лично приставлен, в нем останки близкого человека, воевавшего и погибшего рядом, на глазах. Несколько путешествий совершает герой на страницах повести. Из прошлого – в сегодняшний день. Из Афганистана – в Москву. Затем – в деревню. Из воссозданной памятью военной обстановки – в сугубо мирную. Может быть, она и окажется спасением, позволит обрести успокоение. Хотя на сегодняшний день – война не отпускает. Потому и происходит возвращение в Кандагар, в Пустыню Отчаяния, Пустыню Смерти. Финал неоднозначен. Сначала в словах героя слышим полное отрицание: «Тогда я еще на что-то надеялся. Теперь мне все ясно. И я ничему и никому не верю, в первую очередь себе» 6. Но вслед за этим самые последние строчки («Мы должны это еще раз увидеть, мама») – мысль о необходимости вернуться в Кандагар звучат как обращение к нигде 71 раньше не упоминаемой маме. В данном контексте – это мольба об излечении, о возвращении к нормальной жизни, о преодолении в себе войны. Следующий писатель, о котором я хочу сказать, — Евгений Даниленко (живет в Омске, 1959 г.р.). Он автор уже нескольких произведений. В 2003 году в «Знамени» опубликован его роман «Дикополь». События в нем происходят в Чечне. Их главные участники – взвод спецназа. Отношение к войне, соответственно, профессиональное. Без тени иронии о себе и своих друзьях говорит повествователь: «Мы были элита. Вскормленные с ножа. Убийцы без страха и упрека» 7. Может показаться, что «Дикополь» — тоже книга о суперменах. Однако принципиальное отличие ее от подобных произведений — в ощущении внутренней потребности преодолеть войну, выйти из этой игры. Писатель заставляет своего героя (а повествование ведется от первого лица) пройти через плен, пытки, испытание предложением пойти на службу к боевикам и за большие деньги обучать их снайперскому искусству. Реальность воспринимается как сон. Секретные задания полагается забыть. Сама жизнь на войне не подлежит огласке – о ней тоже надо забыть, но память не подчиняется этому приказу. Как бы во сне оживают эпизоды из самого начала военной службы и все последующие кошмары: «Я спал. Мне снились абсолютно невинные люди. Белый кролик с черными исподами лап. Малая саперная лопатка» 7, с. 63. Этот кролик попал в финальные строчки из самого начала книги. Там этот пушистый зверек на одном из первых занятий по психологической подготовке был «для примера» разрублен малой саперной лопаткой. «Ма-ма!! – вскрикнул кто-то из курсантов. Но никакой мамы рядом, разумеется, не было» 7, с. 7. Как и у Ермакова, стянуты воедино начало и конец, сон и явь, сохраненное памятью и не отпускающее ни на миг. У Ермакова сюжет осложнен временными перекличками и перемещениями в пространстве. В произведении Даниленко все действие происходит на войне. Но к моменту написания текста взвода уже нет – все ребята погибли. Герой Ермакова в сегодняшней жизни приезжает к одному из бывших друзейафганцев. Герою Даниленко приехать и придти не к кому. Он в финале – один. И, наконец, еще один писатель, самый молодой из тех, о ком шла речь, — Аркадий Бабченко, (он 1977 г. р.). За последние годы им о Чеченской войне написано и опубликовано не одно произведение: в 2001 году цикл коротких рассказов «Десять серий о войне» («Октябрь», 2001, 72 № 12); в 2002 повесть «Алхан-Юрт» («Новый мир», 2002, № 2) и в 2005 снова в «Новом мире» повесть «Взлетка» (№ 6). О цикле рассказов я уже писала. Остановлюсь на повестях. В них усилено личностное начало и более подробно передано осмысление своего участия в войне, своего к ней отношения. Сначала о повести «Алхан-Юрт». Изображен один из острых эпизодов Кавказской войны. Но как только напряжение отступает, герой переключается на быт: «Извечные солдатские проблемы: пожрать бы чегонибудь, погреться и покурить» 8. Здесь-то и настигают героя мысли о войне. Они возникают в тексте повести не впервые. Уже в самом начале прозвучал вопрос к самому себе: «Что он здесь делает?» 8, с. 14; «Зачем мы здесь?» 8, с. 18. Теперь же может показаться, что звучит ответ на эти вопросы. На самом же деле этот положительный ответ – сильнейшее отрицание, настоящее проклятие войне: «Я люблю тебя, война. Люблю за то, что в тебе моя юность, моя жизнь, моя смерть, моя боль и страх мой. За то, что ты меня научила, что самая паскудная жизнь в тысячу раз лучше смерти … Ты навсегда во мне. Мы с тобой – одно целое. Я вижу мир твоими глазами, меряю людей твоими мерками … Да будь ты проклята, сука!» 8, с. 24. Память извлекает из прошлого не столько события, сколько чувства, впечатления, страхи. Случай, когда «захотелось стать маленькиммаленьким, свернуться в клубок и раствориться в земле» 8, с. 41. Молитва, обращенная к Богу и маме, в надежде, что они могут сделать так, «чтобы он не был в этой Чечне». Потрясение, когда узнал, что им убита восьмилетняя девочка: «Ни у кого не попросишь прощения. Он убил, и это все необратимо» 8, с. 48. Убивают на войне те, кто воюет. Но умирают не только убитые. «Поле это ему не забыть никогда. Умер он здесь. Человек в нем умер» 8, с. 50. Необратимость последствий войны – вот что стало предметом художественного исследования в «Алхан-Юрте». Эта же тема развивается и в последней повести Бабченко. Обращаем внимание на выбор момента. Для героя война еще не началась – запечатлен момент ожидания отправки на фронт. Огромная масса людей находится на взлетном поле (полторы тысячи) – троих из этой толпы мы наблюдаем близко. Напряженность ожидания усиливается не за счет частоты рейсов в сторону войны, а невозможностью не обращать внимание на обратные рейсы – с погибшими. Страх – главное чувство, которое живет в собравшихся на этом страшном поле: «После войны это поле надо будет чистить от страха, как от радиации» 9. Современного писателя никто уже 73 не упрекнет, как когда-то Б. Окуджаву, за то, что его юный герой боится, что ему на войне страшно. Бабченко, как раньше Маканин, сталкивает ужас войны и красоту природы, желание жить и близость смерти: «Не верится, что в такой красивый, сочный день на взлетку садятся эти чертовы вертушки… Хочется, чтобы здесь любили и рожали, а не убивали друг друга» 9, с. 15. Выделим общие для всех авторов особенности в изображении современных войн. Пожалуй, прежде всего бросается в глаза подчеркнутая жестокость. Убийство входит в сюжет как фактор повседневной жизни. Нельзя не почувствовать неестественность того, что о смерти постоянно думают молодые. У своих предшественников пишущие о современных войнах восприняли многое: стремление показать будни войны; умение о страшном писать без подчеркнутых эмоций; готовность почувствовать и передать в слове самое тайное, самое сокровенное, что переживает человек на пороге смерти, в момент потери близких. Принципиальное отличие от произведений о Великой Отечественной войне в подходе писателей – для современных авторов, во всяком случае ко времени создания произведения, не существовало спасительной идеи о том, что жестокость войны оправдана защитой отечества. Практически во всех книгах, о которых шла речь, чувствуется антивоенная направленность, их смысл в отрицании войны, в противостоянии ей. Авторы часто используют при изображении войны мотив сна – военные события вспоминаются как кошмарный сон; военные сны преследуют и кажется, что они не прекратятся никогда. Героя Ермакова возвращают в палаточный городок в степи «в смирительной рубашке сна демоны ночи» 6, с. 13. Герою Даниленко Дикополь «будет снится до конца дней» 7, с. 29. Один из главных принципов изображения – сочетание несоединимого. Это не только контраст красоты природы и жестокости войны. В повествовании постоянно сталкивается сугубо будничное – и имеющее отношение к судьбе. Так в повести Бабченко из-за жары «солдаты на взлетке в обрезанных по колени кальсонах грузят мертвых людей в мешках, как картошку» 9, с. 14. В романе Даниленко говорится о контрактниках, которые «открыли розничную торговлю предметами военного ширпотреба» 7, с. 43. Обращаем внимание и на то, что чаще всего эти тексты написаны от первого лица, в форме исповеди. Вопросы задаются главным образом самому себе. 74 Содержательное значение имеет и мотив возвращения, закольцованность пространства и времени. Уже говорилось об идее возвращения у Ермакова – она заявлена в названии повести, задает настроение в первой ее части, где рассказывается о путешествии со страшным грузом: «Он невероятную петлю описал в самолетах, поездах, машинах – и возвращался» 6, с. 53. Закольцованы начало и конец в последней повести Бабченко. «Нам страшно. Нас везут на войну» 9, с. 9, — так она начинается. В финале герой, от лица которого ведется повествование, чудом избежал отправки к месту военных действий. Ему неловко перед друзьями: «Я чувствую себя дезертиром, но мне легче… Я не хочу на войну!» 9, с. 18. Время действия в произведениях о войне и время написания разделены. Многих из героев к этому моменту уже нет в живых. Для авторов создание книги – долг памяти и в определенном смысле попытка оправдания за собственную сохраненную жизнь. Интересно в этом контексте рассмотреть и понятие «пленный». Все участники войны остались навечно у нее в плену. Не случайно в рассказ Маканина введен диалог русского подполковника и его гостя-чеченца Алибекова. Военные события еще не начались, пока идет мирная «торговля» оружием. В домашней обстановке, за чаем и возникает разговор о том, кого же считать пленным: «Это ты здесь пленный, — говорит чеченец. – Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: — Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат – пленный» 4, с. 354. Если продолжить аналогию, то во всех произведениях рассказывается о «пленных», «заложниках». Это все несвободные люди. Даже если они участвуют в войне добровольно и показывают профессиональное мастерство. Главное их стремление – забыть, освободиться, вернуться в нормальную жизнь. Нельзя же всерьез думать о том, что «нас всех родили, вырастили и воспитали только затем, чтобы отправить в Чечню» 9, с. 16. Общая для разных писателей мысль – о противоестественности войны. Художественными средствами решается задача осмысления общей ответственности за то, что войны ведутся и конца им пока нет. __________________________ 1. Бродски А. Чеченская война в зеркале современной российской литературы / А. Бродски. // Нов. лит. обозр. 2004. № 6. 2. Из аннотации к серии // Миронов В. Маков О. Не моя война. – СПб., 2004. 3. Алексиевич С. Цинковые мальчики / С. Алексиевич. // Алексиевич С. Зачарованные смертью. – М., 1994. 75 4. Маканин В. Кавказский пленный / В. Маканин. // Маканин В. Собр. соч.: В 4 т., т. 4. – М., 2003. 5. Пустовая В. Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель В. Пустовая. // Нов. мир. 2005. № 5. 6. Ермаков О. Возвращение в Кандагар / О. Ермаков. // Нов. мир. 2004. № 2. 7. Даниленко Е. Дикополь / Е. Даниленко. // Знамя. 2003. № 11. 8. Бабченко А. Алхан-Юрт / А. Бабченко. // Нов. мир. 2002. № 2. 9. Бабченко А. Взлетка / А. Бабченко. // Нов. мир. 2005. № 6. 76 Ю. Б. Орлицкий (Москва) ОСОБЕННОСТИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1990 — 2000-е гг.). Проблема специфики стихосложения современной русской поэзии относится к числу наименее разработанных в современной русистике. Действительно, классическое стиховедение занимается в основном стихом XVIII – первой половины XX века, а лириковедение сосредоточивает внимание в первую очередь на описании индивидуальных поэтических миров, сложившихся в новейшей русской поэзии, на проблемах жанра и т. п.. Отдельные работы по современному стиху, созданные М. Гаспаровым, П. Ковалевым и М. Шапиром [1], проблемы в целом не решают, поскольку их авторы также сосредоточены чаще всего на отдельных стиховых явлениях, а не на общей картине современного русского стихосложения. Между тем эта картина представляет большой интерес, прежде всего — в силу ее уникального даже для русской поэзии разнообразия. Параллель напрашивается сразу: нечто подобное наблюдалось в России во времена так называемого Серебряного века, когда поэты разных поколений и творческих ориентаций самым активным образом начали расшатывать, казалось бы, окончательно сложившуюся к концу ХIХ века монополию рифмованной в основном силлаботоники, обратившись для этого как к опыту прежних столетий истории русской словесности, так и к стиховым новациям, продиктованным достижениями иноязычных стиховых культур, причем как западных, так и восточных. Достаточно вспомнить своеобразную квинтэссенцию этих поисков – знаменитую книгу В. Брюсова, так и названную – «Опыты»; в ней, напомню, мэтр первой волны русского модернизма демонстрирует владение практически всеми известными к тому времени стихотворными техниками прошлого и настоящего. Как известно, книга Брюсова была воспринята современниками далеко не однозначно. Тем не менее она объективно отразила широту технических поисков поэтов рубежа столетий, с одинаковым интересом обращавшихся как к традициям античности (гексаметр, логаэды) и европейского Средневековья (сонет, триолет, рондо, фигурная поэзия), так и к новейшей поэзии Европы (верлибр, визуальная поэзия) и к неевропейской экзотике (японской, персидской, китайской, малайской). Анализ современного материала показывает, что и современные русские стихотворцы, ища выхода из «ямбохореической» монотонности, 77 сложившейся в русской лирике советского извода, всеми силами стремятся к освоению (а чаще – к вспоминанию) разнообразных стихотворных техник. К сожалению, для исследователя, работающего с современной ему литературой, всегда оказывается практически не разрешимой задача соблюдения полной объективности исследования. Столь же сложно – почти невозможно – оказывается определить необходимый и достаточный круг источников, позволяющий с минимальной погрешностью определить соотношение тех или иных типов стиха в современной русской поэзии. Правда, в самые последние годы появился ряд серий и периодических изданий, претендующих на роль универсально репрезентативных (поэтическая серия издательства «Пушкинский фонд», «Поэтическая серия Клуба “Проект ОГИ”», серия «Нового литературного обозрения» «Премия Андрея Белого») и выпускающих в основном произведения так называемых актуальных авторов, однако более или менее общего признания они пока не получили. С другой стороны, выжившие «толстые» журналы ориентируются, в основном, на авторов старшего поколения и на поэтов, исповедующих традиционную стиховую поэтику. Соответственно, традиционную по преимуществу продукцию продолжают выпускать и сохранившиеся советские издательства, начиная с пресловутого «Советского писателя», «Современника» и «Молодой гвардии». Таким образом, определить круг имен, чьи произведения являются сегодня действительно репрезентативными, представляется крайне непросто. В свою очередь критики тоже ориентируются на принципиально разные представления о «настоящей» современной поэзии: сторонники, условно говоря, охранительного подхода (С. Рассадин, И. Шайтанов, И. Роднянская, критики «патриотических» изданий) признают право на существование только за «классическим» стихом, не замечая и не желая замечать реального разнообразия современной русской поэзии и современного русского стиха. Им оппонируют, с другой стороны, радетели актуальной поэзии; так, известный своей полемичностью и непримиримостью поэт Вс. Некрасов пишет: «Если мерный стих и мог ощущаться само собой разумеющейся технической нормой, фоном в пушкинские и даже домаяковские времена – и то не без своих потерь, не бесплатно, то сейчас – вряд ли. Сейчас это эстетическая идеология застоя, антипрофессиональной солидарности, один из признаков глубины дыры, в которой мы сидим – если не сказать, невылазности. При этом он заявляет себя нормой, хранителем и носителем культурных традиций. Ну, действительно же, так жить нельзя. Нельзя жить в 78 поэзии, всерьез имея ориентиром стихописание Ахмадулиной» [2, с. 560]. Очевидно, для объективной оценки ситуации в современной поэзии следует учитывать обе эти полярные точки зрения. При этом невозможно не замечать, что наряду с традиционными типами стиха (силлаботоникой, тоникой и, как это не парадоксально прозвучит, верлибром) в поэзии последних десятилетий появилось немало нового. Как правило, это новое в штыки воспринимается традиционной критикой, поэтому ради объективности мы считаем необходимым сделать определенный крен в сторону изданий нетрадиционного толка, намного шире представляющих именно новые веяния в поэзии (в том числе – и в стихе). Таким образом, мы будем отталкиваться в первую очередь не от массовой традиционной поэзии, по преимуществу эпигонской, ориентирующейся на рифмованную силлабототнику, а на широкий спектр исканий и экспериментов, предлагающих новые пути русского стиха, ни в коей мере не стремясь к качественной оценке и тем более к сравнению достоинств и недостатков традиционной и новой поэзии. Прежде всего, постмодернистская эпоха (произнесем все-таки это роковое слово!) с неизбежностью ведет к реанимации литературных систем и техник прежних эпох, в том числе и в области стиха. Наблюдения показывают, что общая картина стихосложения современной русской поэзии принципиально изменилась в два последних десятилетия по сравнению с десятилетиями, непосредственно предшествующими: вместо противопоставления классической силлаботоники достаточно редким образцам тоники, в основном – дольника, которым Гаспаров предложил называть шестым силлабо-тоническим размером, и еще более редкому свободному стиху, сегодня мы имеем, как я уже говорил, беспрецедентно широкий спектр стиховых форм и вариаций. Первая из них по порядку (по отношению к истории русского стиха) – рифменная система, или литературный раек, т.е., стих, обладающий практически неупорядоченной структурой каждой из строк, обязательно при этом скрепленных рифмой (чаще всего, парной). К его услугам охотно прибегают в 1990-е годы поэты самых разных ориентаций – от непосредственных имитаторов народной и псевдонародной поэзии до вполне изысканных авторов, например, Александра Анашевича: СИГНАЛЫ СИРЕНЫ Мы ходим красивые как короли Как самолеты, как корабли Летаем на черном вороньем крыле Над Красной площадью, над Кремлем 79 И видим, как временное реле Срабатывает. И всё полыхает огнем А было детство: цветочки, бумажки, хорьки Безмерные мокрые страхи, мороженые ларьки Теперь стучат в голове молотки Тают под языком таблетки Гудит в ушах золотая труба Гиллеспи Блестит в глазах, как в южном фонтане монетки 1971 Затем – силлабика; сначала русские поэты нового поколения обратились к ней для имитации русского стиха XVIII века (И. Бродский. Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром (1966); Г. Сапгир. Цикл «Жития» (1970 – 1974), воспроизводя его (стих), однако, с серьезными структурными коррективами. Позднее, в 1990-е годы опыты силлабического стиха по большей части утратили экзотическую подражательную окраску и стали достаточно широко использоваться в стихотворениях, абсолютно лишенных архаического ореола (А. Корецкий. Песенка о смерти Симеона Полоцкого (Опыт дословного перевода); Д. ГолынкоВольфсон. Десятисложник: опыт силлабики; С. Соколовский. Опыт силлабической организации; опыты Д. Полещука и Ф. Минлоса и т. д.). При этом авторы неосиллабики, как правило, сами указывают на ритмическую природу своих стихотворений. Разумеется, большинство названных произведений не просто воспроизводит силлабический стих, а так или иначе его преобразовывает. Так, Голынко-Вольфсон в стихотворении «Десятисложник: опыт силлабики» отказывается от рифмы (и соответственно – от скрепляемых смежной рифмой двустиший, простейшей формы строфической организации), в большинстве строк не использует и обязательной в силлабике цезуры, хотя и жестко упорядочивает окончания всех строк с помощью женских клаузул: Говорил мне Геб, земля Египта: Вон Суворов-Марс взял на штык вечность, приставила горло к ножу нежность, спас-на-крови кровь переупрямил, заставил течь её в тело смерти, в пра-смерти теплотворную пойму вдоль заячьего острова в европу и сквозь обруч второго пролиться в ковыль третьего тысячелетья. 80 Далее, неожиданно широкое распространение получила в современной поэзии (не только русской, но и зарубежной) такая специфическая форма силлабики, как подражание японским классическим формам – танка и особенно хайку. В последние годы в России прошел первый фестиваль хайку, выходят альманахи русской хайку «Тритон» и «Хайкумена», в интернете создан ряд сайтов хайку (например, «Лягушатник»). Однако современные авторы подражаний японской миниатюре чаще всего нарушают строгий силлабический принцип, лежащий в ее основе: не соблюдают норму количества слогов как в отдельных строчках, так и в тексте в целом, сохраняя только приблизительное подобие иноязычного образца. При этом русские хайку, в том числе и основанные на традиционном распределении количества слогов, могут иметь силлаботоническую природу или писаться свободным стихом [3]. Апелляцией к инокультурным литературным авторитетам античным (Катулла, Сафо и Горация – прежде всего) поначалу оправдывалось и обращение в 1990-е гг. к логаэдическим метрам [4]. При этом следует помнить, что активизация логаэдов стала также результатом эволюции дольников – сначала Цветаевой, а затем и Бродского; можно сказать, что неожиданно широкое использование твердых метрических форм, отсылающих к античной метрике, стало равнодействующей совершенно разных по своей природе процессов. При этом наряду с логаэдами в полном смысле слова (и значительно чаще, чем их) русская поэзия конца ХХ века активно использует разного рода псевдологаэдические конструкции — более или менее точные имитации логаэдических метров. Из современных поэтов к логаэдам чаще других обращаются И. Вишневецкий, Г. Дашевский, М. Амелин, Л. Березовчук, Д. Кутепов. Часто логаэды отсылают к античности демонстративным образом — например, стихотворение Максима Амелина начинается характерным обращением: «Мой Катулл! поругаемся, поспорим…». Каждая строка этого стихотворения состоит из двух частей: первая половина (до цезуры) – две стопы анапеста с женским окончанием, вторая – две стопы хорея тоже с женским окончанием. Несмотря на разнородность стоп, а также на пропуски отдельных ударений в хореической части стиха (пиррихии), регулярное повторение порядка стоп создает вполне регулярный стих. Интересно, что логаэд Амелина к тому же рифмованный. Вообще большинство современных авторов чаще только намекают читателю на античные образцы, чем следуют строгим законам их построения: это касается и достаточно частого использования отсутствовавшей в античных образцах и прежних русских подражаниях им рифмы, и пиррихизации, и во многих частных отступлениях от традицион81 ных метрических схем. Например, в стихотворении Кутепова «Знаю, тишина всех чудес выше…» начало первых трех строк каждой из трех строф состоит из расположенных в произвольном порядке хореев, дактилей пиррихиев с обязательным мужским окончанием на цезуре, за которым следует обязательная финальная стопа хорея. Четвертые усеченные (двухударные) строки всех строф также кончаются хореем, однако перед ним располагаются соответственно по стопе дактиля (первая строфа), ямба и хорея. Кроме того, нередко в качестве логаэдов воспринимаются любые тексты, состоящие из так или иначе упорядоченных комбинаций двух- и трехсложных стоп, так что по их поводу стоит говорить скорее о более или менее свободной имитации сложных античных форм в области метрики и строфики. Особое место в экспериментах с античной метрикой и строфикой принадлежит С. Завьялову – петербургскому поэту и специалисту в области античной культуры. Многие его стихотворения состоят из строк различной структуры, метрические формулы каждой из которых автор изображает на полях страницы с помощью греческих аббревиатур. Для обозначения цезуры внутри строки он регулярно пользуется специальным знаком — пробелом. Кроме того, Завьялов обращается также к видоизмененным приемам античной строфики. Так, многие его стихи строятся по традиционной для античной поэзии триадной схеме: строфа — антистрофа — эпод. В композиции трех од Завьялов идет еще дальше и применяет семичастную форму (Арха — Метарха — Кататропа — Омфалос — Метакататропа — Сфранис — Эпилогос). Необходимо отметить заметное повышение интереса и к русскому гексаметру, до недавнего времени использовавшемуся в основном в чисто иронической функции. Однако примерно с середины 1990-х гг. гексаметр переживает новый взлет – на этот раз во вполне серьезных контекстах. К нему обращаются поэты разных поколений: П. Барскова, С. Богданова, Е. Вензель, С. Гандлевский, Д. Давыдов, В. Земских, Б. Канапьянов, Т. Кибиров, А. Корецкий, И. Кручик, В. Куприянов, Д. Кутепов, В. Кучерявкин, С. Моротская, О. Николаева, В. Нугатов, А. Парщиков, А. Ровнер, Г. Сапгир, О. Седакова, В. Соснора, С. Стратановский, Д. Суховей, Е. Шварц. Интереснейшие опыты по модернизации русского гексаметра находим в творчестве одного из самых «античных» современных поэтов Сергея Стратановского, сына известного переводчика римской прозы. Однако большинство его стихотворений правильно будет назвать не собственно гексаметром, а его самыми разнообразными дериватами. Например, стихотворение «Русская красавица»: 82 Маргинал антирыночный ее изнасиловал в каше Жизни барачно-ублюдочной, но встала и кажется краше Сексуалок нью-йоркных и коня на скаку остановит Оно состоит из трех строк, две первые из которых скреплены рифмой. Все строки написаны трехсложным размером (первая и третья – пятистопным анапестом, вторая – шестистопным дактилем) – т. е., стихотворение формально можно трактовать как цезурированный трехсложник с переменной анакрусой, которые иногда встречаются в русской классической лирике. Однако, если предположить, что первые стопы нечетных строк – это пиррихии на месте хореев, перед нами предстанет столь же традиционный шестиударный стих, т. е. гексаметр, а точнее – его дериват, т. к. в классическом варианте этого стиха пропуски ударений не допускались. Таким образом, названное стихотворение можно рассматривать как «неправильный» гексаметр: с одной рифмой и двумя пропусками ударений. Точно так же стихотворение Стратановского «За обязательным чтением…» можно трактовать как дериват гексаметра, состоящий из трех усеченных строчек (трехстопного дактиля), трех строк шестистопного дактиля и одной – пятистопного хорея (который вполне можно рассматривать, как говорилось выше, как гексаметр с пиррихием на первой хореической стопе). В определенной степени античным влиянием можно объяснить особый интерес современных русских авторов и к моностиху, палиндрому, другим формальным экспериментам в духе Авсония и иных авторов поздней античности. Так, моностих, бывший до недавних пор своего рода диковинкой, в русской поэзии последних десятилетий занимает все более и более заметное место. Интерес к этой форме, принципиально амбивалентной по своей природе (в силу ограниченного объема мы не можем точно определить, является тот или иной однострочный текст потенциально стихотворным или потенциально прозаическим), связан, прежде всего, с минималистским вектором, подчиняющим себе многих авторов. Чаще всего моностих употребляется внутри цикловых образований. Знаменательно и то, что многие моностихи создаются сегодня без казавшейся прежде обязательной метрической организации [5]. Значительное распространение получил в современной поэзии также палиндром, до самого недавнего времени тоже считавшийся мар83 гинальной, игровой по преимуществу формой организации стихотворной речи. Причем наряду с традиционными палиндромами-моностихами современные авторы достаточно часто обращаются к многострочным текстам, или состоящим из последовательного ряда строк-палиндромов или представляющим собой единый палиндромический текст. Возникает также значительное количество палиндромов, предполагающих особую визуальную форму, так называемые «видеопалиндромы» Д. Авалиани, предполагающих переворачивание страницы при чтении и т. д. Расцвет «палиндромного движения» в конце века связан с именами В. Гершуни, Е. Кацюбы, А. Бубнова, С. Федина и т. д.; он привел к разработке новых типов палиндромной поэзии, к созданию «палиндромических словарей» и подведению под палиндромное творчество солидной теоретической базы [6]. В современной русской поэзии становится неотъемлемой частью повседневной стиховой практики также то, что в XIX – начале ХХ века считалось признаком неумелости (например, «неспособность» от начала до конца произведения выдержать выбранный размер, зарифмовать все строки и т.д.), присущим дилетантскому творчеству, или использовалось в различных стилизациях и радикальных экспериментах. В отличие от этих экспериментов, современный гетероморфный (неупорядоченный) стих – это, прежде всего, способ преодолеть излишнюю жесткость канонического («отрицательного») верлибра, требующего принципиального и последовательного отказа от всех вторичных стихообразующих факторов. По мере развертывания текста в нем постоянно происходит изменение текущих конструктивных закономерностей стиховой структуры: «теряется» и вновь возникает рифма, отдельные строки имеют отчетливую силлабо-тоническую структуру, другие — тоническую; кроме того, могут встречаться и попарно зарифмованные строки раешника, и свободный стих. Варьируются также стопность стиха, объем клаузул, способы рифмовки и, соответственно, строфика. При этом строки аналогичной структуры, как правило, объединяются в небольшие (от двух до пяти и более строк) группы (строфоиды), что позволяет читателю выработать установку на тот или иной тип стиха, которая затем также закономерно нарушается. «Первой ласточкой» понимаемой таким образом гетероморфности в русской поэзии следует считать «сверхмикрополиметрию» Хлебникова и Введенского. В разных проявлениях и на разных уровнях структуры гетероморфность в той или иной мере отмечается также в стихе многих русских авторов конца ХХ в. (например, Г. Айги, Г. Сапгира, О. Седаковой, Е. Шварц, В. Кривулина, В. Филиппова, С. Стратановского, В. Ку84 черявкина, А. Петровой, Е. Фанайловой, И. Вишневецкого, Я. Могутина, М. Гронаса, Д. Давыдова, И. Шостаковской и др.). Гетероморфным стихом написано, например, следующее стихотворение Василия Филиппова: 1. Читал Афанасия Александрийского 2. О нашествии ариан на церковь. ВЛ, двустишный строфоид 3. Афанасий — крепкий человек, 4. Прожил долгий век. Х5 Х3 5. В церкви сейчас темно, 6. Все ушли, осталось в потире вино. Раек, двустишие 7. А в субботу была служба. 8. Передвигались старухи-привидения. ВЛ, двустишный строфоид 9. А сейчас я лежу и ничего не делаю, 10. Вспоминаю соль, которую купил в магазине, ВЛ, двустишный строфоид 11. Курю «Опал», который купил в пивном ларьке 12. От магазина невдалеке. Раек, двустишие 13. Вспоминаю церковных писателей, 14. Терновый куст расцвел в их творениях. Ан3дак Дол4 15. Христиане успокоились в 4 веке, 16. Не стало гонений, и стало возможным молиться на Божьем свете. Раек, двустишие 17. В букинистических лавках Константинополя стали продаваться Писания, 18. Отцы Церкви составляли поездов-прихожан расписания. Раек, двустишие 19. Мечтаю уйти на болото, (Амф3) 20. Зарыться носом в снега до горизонта, 21. Быть подальше от советско-германского фронта. Раек, трехстишие 22. На болоте нет жилья, 23. Только небо и земля. Х4, двустишие Айги Г. Разговор на расстоянии (ответы на вопросы друга) // Там же. С. 159. 85 24. За болотом рай-лес, 25. Где Илия воскрес. Раек, двустишие 26. Сучья деревьев охраняют Эдем — озеро Лахтинский разлив, 27. К которому я пробирался этим летом. ВЛ Я6 28. Крылья-айсберги — дома новостроек оставались за спиною. ВЛ, одностишный строфоид 29. Я шел к лесу. 30. Давно я не путешествовал. Х2 ВЛ 31. Теперь зима, 32. И в лесу теперь расположена тюрьма. 33. А в районе-коктейле 34. Плавают дома-льдинки. Раек, двустишие Ан2 ВЛ, двустишный строфоид 35. Пью виски солнечного света. 36. Лежу в комнате. Бабушка на кухне. 37. Сейчас поеду в центр города. 38. Буду ехать и помнить, 39. Что оставил дома сложенные крылья-простынь. Я4ж ВЛ Я4д Ан2ж ВЛ Несколько слов необходимо сказать также о свободном стихе (верлибре) в его традиционном (гаспаровском) понимании – то есть, как о типе стиха, предполагающем принципиальное отсутствие слогового метра, рифмы, изотонии, изосиллабизма и традиционной строфики [7]. К концу ХХ века такой верлибр получает достаточно широкое распространение как в элитарной, так и в массовой поэзии и перестает восприниматься, как мы уже говорили, в качестве альтернативы классическому силлабо-тоническому стиху. Тем не менее он остается принципиально иным типом стиха по отношению как к силлаботонике, так и силлабике и тонике, отличаясь от них более или менее жестким запретом на все виды традиционной стиховой дисциплины. При этом жесткость этих запретов сама становится достаточно сильным ограничителем стиховой свободы, поэтому со временем «чистые формы» русского верлибра начинают постепенно отступать под натиском разного рода переходных форм: либо тем или иным способом упорядоченных на уровне целого текста, либо организованных полиметрически. 86 Новый расцвет свободного стиха в русской поэзии начинается еще в «оттепельные» 1960-е годы, а в 1980-2000 годы к свободному стиху обращаются крупнейшие поэты самых разных творческих ориентаций. Причем если одни авторы используют его достаточно последовательно, то другие прибегают к свободному стиху спорадически, по мере необходимости. Соответственно, одни авторы чаще используют верлибр изолированно, а другие – в контексте полиметрических стихотворений и циклов. Ряд новаций в современной поэзии (в том числе и в стихе) связан с актуализацией ее визуальной формы. Причем тут речь может идти как о собственно визуальной поэзии (о чем несколько ниже), так и о возрождении античной и средневековой традиции фигурных стихов (А. Вознесенский, К.Кедров, Е. Кацюба), а также о различных способов повышения активности внешней формы стихотворений, в том числе и написанных традиционными размерами; это могут быть различные виды «лесенки», использование разных шрифтов и ненормативных знаков препинания, пробелов, зачеркиваний текста, его ветвлений и т. д. (В. Некрасов, Г. Сапгир, Г. Айги, Н. Искренко, С. Бирюков, А. Горнон, И. Лощилов). Большинство названных явлений приводит к нарушению линейного течения стиха, к определенным сложностям в однозначном определении его типа и т. д. [8]. Далее, характерная для современной поэзии минимализация стихотворного (равно как и прозаического) текста приводит в пределе к созданию т.н. нулевых, или вакуумных текстов, состоящих из заголовочнофинального комплекса и чистого листа бумаги или нескольких рядов многоточий. Первые опыты таких стихотворений создали в русской поэзии А. Добролюбов и В. Гнедов; они долгое время казались тупиковыми экспериментами. Однако в последние годы эквиваленты текста публикуют в своих книгах Г. Сапгир, А. Очеретянский, А. Карвовский, Л. Рубинштейн, С. Петрунис и другие авторы; как правило, такие тексты сопровождаются развернутым заголовочным комплексом и входят чаще всего в состав разного рода циклических образований [9]. Так, «Новогодний сонет» Генриха Сапгира (1975) представляет собой двухчастную композицию, в которой под общим текстом посвящения («Посвящается Герловиным») следуют два пронумерованных сонета: «1. Новогодний сонет», состоящий из заглавия и пустой страницы, и «2. Сонет-комментарий» — четырнадцать традиционно зарифмованных строк. Причем вторая часть — это своего рода комментарий к ненаписанному (или стертому?) первому сонету цикла: 87 На первой строчке пусто и бело Вторая - чей-то след порошей стертый На третьей – то, что было и прошло И зимний чистый воздух на четвертой На пятой - вздох: «как поздно рассвело» Шестая - фортепьянные аккорды Седьмая - ваше белое письмо Восьмая - мысль: «здесь нечто от кроссворда» И две терцины: все, что вам придет На ум когда наступит Новый год И все о чем вы здесь не прочитали И основное: то, что мой концепт Из белый звуков сотканный концерт Поэзия же - просто комментарий. Таким образом, главная тема второй, «видимой» части цикла — его конструкция и порождаемые ей вероятные толкования смысла нулевой половины мини-цикла; при этом Сапгир подчеркивает второстепенное, служебное значение («просто комментарий») вербальной части сообщения по отношению к визуальной пустой (ср. с тыняновским утверждением о неизмеримости роли неизвестного и известного текста при их непосредственном монтаже). Далее всего по этому пути пошла известный поэт-экспериментатор Ры Никонова, которая создала целый цикл «вакуумных» (то есть, не содержащих ни единого вербального знака) книг. Наконец, особую проблему для стиховедов представляет собой так называемая заумная поэзия, которая в конце ХХ века тоже становится фактом традиции. Собственно заумных текстов в последние годы создано немного, однако заумь часто становится заметной составляющей многих текстовых образований, в том числе и написанных в традиционной в целом манере. Известно, что применительно к классической (футуристической) зауми особенно сложно стоял вопрос о ее ритмической природе, т. к. по письменному тексту невозможно восстановить, где именно ставятся ударения в выдуманных словах. Правда, большинство заумных стихотворений Хлебникова, Крученых, Терентьева и Гнедова были написаны силлабо-тоническими размерами, которые можно восстановить благодаря языковому опыту читателя. Так, хлебниковское «Заклятие смехом» — это по преимуществу хорей, что нетрудно установить по принятому в русском языке ударению в форме множественного числа — «смехачи». С 88 другой стороны, не имей мы соответствующий воспоминаний современников, мы могли бы предположить, что в этом выдуманном слове названная форма могла бы иметь ударение и на средний слог, тогда строка превращалась бы в амфибрахическую. В других же заумных стихотворениях мы с трудом можем восстановить «правильное» (то есть, единственно возможное) ударение в большинстве слов, тем более если они лишены привычных флексий или состоят исключительно из согласных букв. Очевидно, применительно к таким стихотворениям можно говорить о принципиальном отсутствии в них фиксированного ударения и, следовательно, о невозможности отнести их к той или иной системе стихосложения [10]. Для современной русской поэзии характерно также использование в стихах структурных элементов драматических произведения: прежде всего, наименований субъектов речи и ремарок, с помощью которых стихотворный текст приобретает черты своего рода мини-драмы. В условиях небольшого объема текста эти структурные элементы тоже могут занимать значительно большую его часть, чем в традиционных драматических поэмах, и также образовывать прозиметрию. Кроме того, эти элементы в современной поэзии могут вовлекаться в ритмический рисунок целого (прежде всего – в его метр). Наиболее интересные примеры здесь — «Монологи» Г. Сапгира и «Драмагедии» В. Эрля. «Мини-драмы» нередко выступают также как форма вербальной фиксации хэппенингов и других форм современного акционного искусства (Л. Рубинштейн, Д. Пригов, А. Бренер, А. Монастырский). На стыке поэзии и другого искусства – музыкального – тоже возникают интересные гибридные формы. Прежде всего, это два специфических вида поэзии – так называемая авторская песня и рок-поэзия. И то, и другое явление, пользующиеся в два последние десятилетия особой популярностью, особенно у молодежи, также нельзя рассматривать как чисто литературные феномены; будучи изъятыми из синтетической формы, песенные тексты чаще всего оказываются беспомощными, их необходимо слушать, а не читать. Тем не менее, содержащийся в них вербальный компонент чаще всего имеет стихотворную форму и нередко становится объектом литературоведческого анализа. Наконец, так называемая сонорная (или фонетическая) поэзия, располагающаяся на границе стихотворной речи и конкретной музыки. В последние годы этот синтетический вид искусства получил заметное распространения во все мире; работают в нем и наши соотечественники (А. Проворов, Д. Булатов, С. Бирюков, А. Горнон). 89 Все перечисленные выше конкретные явления современной стиховой культуры не являются самостоятельными системами стихосложения. Тем не менее, их специфику нельзя не учитывать, анализируя общую картину русского стиха, палитра которого принципиально расширяется за счет всех перечисленных выше явлений. __________________________ 1. См. напр.: Гаспаров М. Русский стих как зеркало постсоветской культуры / М. Гаспаров. // Гаспаров М. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С. 308. 2. Некрасов Вс. Две реплики и некоторые замечания (1995) / В. С. Некрасов. // Журавлева А., Некрасов Вс. Пакет. — М., 1996. 3. См. об этом теоретические материалы, опубликованные в альманахе «Тритон», а также: Орлицкий Ю. Стих и проза в русской литературе / Ю. М. Орлицкий. — М., 2002. 4. См. подробнее: Орлицкий Ю. Античные метры и их имитация в русской поэзии конца ХХ века / Ю. Орлицкий. // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. 5. См. подробнее: Марков В. Трактат об одностроке / В. Марков. // Марков В. О свободе в поэзии. СПб., 1994. Бирюков С. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма / С. Бирюков. — М., 1994. Кормилов С. Маргинальные системы русского стихосложения / С. Кормилов. — М., 1995. Кузьмин Д. «Отдельно взятый стих прекрасен!» / Д. Кузьмин. / Арион. 1996. № 2. Орлицкий Ю. Стих и проза в русской литературе / Ю. Орлицкий. — М., 2002. 6. Только в последние годы вышли две обширные антологии палиндромической поэзии (Антология русского палиндрома ХХ в. / Сост. В. Рыбинский. Под ред. Д. Минского. — М., 2000 и Антология русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии. / Сост. и комм. Г. Лукомникова и С. Федина. — М., 2002), с достаточной регулярностью выходят два периодических издания «Амфирифма» (Курск) и «Тит» (Пермь), ей посвящен специальный сайт в интернете; в 2003 г. А. Бубновым защищена первая в России докторская диссертация по теории палиндромии (Лингвопоэтические и лексикографические аспекты палиндромии. — Орел, 2003). 7. Гаспаров М. Очерк истории европейского стиха / М. Гаспаров. — М., 1989. Орлицкий Ю. Стих и проза в русской литературе / Ю. Орлицкий. — М., 2002. 8. См. подробнее: Орлицкий Ю. Там же. С. 615-625. 9. См. подробнее: Орлицкий Ю. Там же. С. 600-607. 10. См. Бирюков С. Зевгма. С.221-279. 90 А. І. Бельскі (Мінск) ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МІФАТВОРЧАСЦЬ ЯК ВЫЯЎЛЕННЕ КАТАСТРОФЫ СВЯДОМАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ) А. Адамовіч у красавіку 1990 г. зазначыў, што “стварылася новая сітуацыя ў свеце, для ўсіх новая пасля Чарнобыля” [1, с. 4]. Такой жа думкі прытрымліваецца і С. Алексіевіч: “Пасля Чарнобыля жывём у іншым свеце, ранейшага свету няма”; “...Перад намі рэальнасць, новая для ўсіх...” [2, с. 20 — 21]. Чарнобыль — знакавая падзея ХХ ст., яе паставілі ў адзін шэраг з такімі трагедыямі, як Хатынь, Асвенцім, Хірасіма і Нагасакі. Адзін з сучасных мысляроў лічыць: “…Чарнобыль у пэўным сэнсе слова з’яўляецца вяршыняй філасофіі абсурду, прычым для ўсяго чалавецтва” і згадвае А. Камю, які, пачуўшы пра атамны выбух у Хірасіме, сказаў: “Гэта немагчыма. Тое, што там адбылося, пераўзыходзіць сілу нашага ўяўлення” [3, с. 189]. С. Законнікаў, аўтар “Чорнай былі”, прызнаўся: “Пабачыў і перажыў многае, а вось пісаць адразу не змог. Настолькі ўсё гэта было жахлівае, недарэчнае, за межамі чалавечага ўяўлення пра бяду” [4, с. 18]. Чарнобыльская катастрофа спарадзіла разбурэнне традыцыйнага укладу жыцця, хаос, перасягнула межы разумовага і ўнутранага досведу. І як рэакцыя — зварот пісьменнікаў да ўмоўна-мастацкага ўвасаблення рэчаіснасці, прыёмаў міфалагізацыі, містыфікацыі, фантасмагорыі, абсурду. Чарнобыль — надзвычайная і незвычайная падзея: з чымсьці падобным на нашай зямлі не сутыкаліся. Ніхто не пабачыў рэальнага аблічча небяспечнага ворага. Часам здавалася, што гэта нейкая прыдумка фантазіі. Дзеялася неверагоднае, жахлівае. Людзі ў пацярпелых ад радыяцыі раёнах, пакідаючы жытло, часам не маглі да канца зразумець, хто і што ім пагражае. Зрабілася відавочна, што здарылася “катастрофа свядомасці — гэта азначае, што разумення падзеі няма, што яна пераўзыходзіць магчымасці свядомасці” [3, с. 195]. Ранейшы досвед і логіка мінулых часоў былі непрыдатнымі. І вось тады “свядомасць адступала... А падсвядомасць пачала дзейнічаць. Людзі баяліся монстраў, яны расказвалі гісторыі пра дзяцей з пяццю галовамі, пра безгаловых ці бяскрылых птушак. Такім чынам, і тут чалавек таксама спрабаваў перасягнуць свае межы” [3, с. 190 — 191]. Беларуская літаратура пачала асэнсоўваць Чарнобыль, апелюючы да традыцыйнага народнага вопыту і культурнай памяці чалавецтва, найперш да Бібліі, яе універсальных 91 вобразаў. Яна імкнулася разгадаць і асэнсаваць феномен Чарнобыля як містычную з’яву, фантасмагорыю. Мастацкая думка імкнулася спазнаць невядомае і анамальнае, адшукаць духоўнае апірышча, вызначыць галоўныя асновы маральнай трываласці нацыі. Беларуская літаратура пасля Чарнобыля падключылася да “сілавога поля” міфалагічнай традыцыі, якая дае спецыфічнае тлумачэнне з’яў і падзей. “Мова традыцыі — сімвалічная па сваёй сутнасці: яна не зводзіцца да аднамернасці фармальнай логікі і заўсёды ўказвае на нешта — невядомае, але нешта адчувальнае” [5, с. 97]. Разглядаючы чарнобыльскую творчасць, нас цікавіць “міф як жыццеадчуванне”, “які дапамагае чалавеку выявіць таемныя “канстанты” свайго духоўнага стану” [6, с. 31 — 32], і тое, як у паэтычнай міфасвядомасці ўзаемадзейнічаюць традыцыйнае і сучаснае і якія вобразныя асацыяцыі і мадыфікацыі ўзнікаюць у ёй у абставінах крызісных, экстрэмальных, катастрафічных. Актуалізавалася пазнавальна-філасофская, прагнастычная функцыі і ўзрасла сэнсаватворная роля міфа, які паўплываў на мадэрнізацыю мастацкага мыслення. Традыцыйныя вобразы і матывы пэўным чынам трансфармаваліся ў сучаснай свядомасці: набылі спецыфічнае праламленне, новую семантыку ў выніку пераасэнсавання ці знайшлі арыгінальную эстэтычную адаптацыю. Зварот да народнай міфасвядомасці спарадзіў фантазійныя асацыяцыі, дапамог увасобіць свет Чарнобыля ў адметных вобразах. Выяўленне сутнасці катастрофы вымагала глыбінна-вертыкальнага зрэзу, таму літаратура скіравалася да архетыпаў, міфасімволікі, міфасэнсаў, антыномій і ў выніку выйшла на філасофскія разважанні пра лёс чалавека, праблемы дабра i зла, праўды і хлусні, жыцця i смерцi. Выкарыстанне мастацкай умоўнасці, вобразаў і матываў нацыянальнай і біблейскай міфалогіі дазволіла стварыць своеасаблівую карціну свету, паказаць падзеі ў надзвычай трагічным аспекце. Міфалагізм надае чарнобыльскай творчасці розныя зместы, глыбіню ў выяўленні сутнасных з’яў і катэгорый быцця, праявы фантастычнага, містычнага, патаемна-віртуальнага сведчаць пра драматычна-складанае пазнанне свету. Чарнобыльскі міф адлюстроўвае разбурэнне духоўнай сувязі паміж чалавекам і прыродай. Навакольны свет выклікае ў чалавека ўнутраны страх: “...Людзі павінны // Зіхоткай хмурыны, // Зямлі і вады, // Як бяды, // Як духу злога, // Баяцца...” [7, с. 20]. Чарнобыль атруціў прыроду, разбурыў уладкаванне нацыянальнага космасу, звузіў “ландшафтнае існаванне” народа. На беларускую зямлю бяду прывёў “дух злы”. Яна зруйнавала 92 народнае жыццё, ладзіць хаўтуры. Бяда з’яўляецца канцэнтрацыяй негатыву і сімвалізуе сабой разлад, занядбанне: “…Статак пасвіць бяда. // А ва ўдавы // Някошаны паплавы // І пожні някошаны. // Госці запрошаны // З ласкі бяды. // На Дзяды” [7, с. 16]. У чарнобыльскай паэзіі сімволіка-трагедыйнае ўвасабленне набываюць міфаматывы бяды, гора, нядолі, ліха і смерці. Усе яны — персанажы чарнобыльскай містэрыі. Гэтыя злавесныя сілы з’ядналіся і абрынуліся на беларускі край, пагражаюць жыццю і народнай долі. Чарнобыльскае бедства набыло татальны характар: “Зноў небывалая бяда // Збірае новых далакопаў. // Нясецца лютая арда // Нябачных воку ізатопаў” [8, с. 133]. Многія рытуальныя моманты (шлюбаванне, хаўтуры, скокі смерці і інш.) раскрываюць вялікую трагедыю жыцця: “Доля з бядой заручана…”; “Легла змучаная Доля, // І не ўстала Доля больш” [8, с. 138, 141]. Чарнобыль — іншасвет, іншабыццё. У гэтым перакуленым свеце, нібы па пякельных колах, вандруе герой паэзіі М. Мятліцкага. На яго вачах ладзіцца дзея тэатра смерці. Доля, Ліха і Гора — галоўныя персанажы трагедыі. Адбываецца метамарфоза: ролі памяняліся, творыцца жахлівае. Ліха і Гора рабуюць Долю: “Адчыніла куфар Ліха… // Ладавала куфар Доля. // Адняло пажыткі Гора” [8, с. 157]. Гэтак, як і Ф. Багушэвіч, Я. Купала, Я. Колас, сучасны паэт са скрухай гаворыць пра абяздоленасць чарнобыльскага краю, яго нешчаслівы лёс. Доля — нявольніца, ахвяра, выгнанніца з зямлі продкаў. У мастацкім уяўленні Чарнобыль найперш асацыюецца са смерцю, якая зрабіла людзей сваімі ахвярамі. Паўсюль раскашуе трава нябыту і забыцця. Смерць паўстае нібы злая чараўніца, якая набыла свае ўладанні і ўладу: “І смерць // Шаптала ў цішыні: // — Я тут адна, // Нябачна дна // Маіх магіл, // Канца дарог. // Жыццё — мана. // Яму цана — // Асот, крапіва // І быльнёг!” [9, с. 221]. Чарнобыль завастрыў праблему супрацьстаяння жыцця і смерці, і гэты міфалагічны антынамізм вызначальны ў многіх паэтычных творах: “Жыццё не вернецца назад, // Тут смерці вечнае жніво!” [9, с. 280]. М. Мятліцкі малюе касьбу смерці гіпербалізавана, паказвае містэрыйнае дзейства як фатальную згубу. Смертаносная радыяцыя ператварыла свет у абшары цемры, “чорнае пекла”. Невыпадкова тут ўсё змрочнае і жудасна-жахлівае: чорная рака з амярцвелымі водамі, пустэчы агалошваюць крумкачы, “зданямі чорнымі кружаць наўзбоч чэрці” [9, с. 161]. Часта аўтарская трактоўка свету адлюстроўвае абсурдны па сваёй сутнасці карнавал смерці са злавеснымі маскамі ліха, бяды, з пачварнымі прывідамі, ценямі, чарнобыльскімі мутантамі, дэманамі, з’яўляецца тут і “страшны Іудаў лік” [7,с. 8]. З Чарнобылем звязана дэманізацыя рэчаіснасці. У зоне з’яўляецца 93 д’ябал, Чорны Бог, прывіды, розныя хімеры. Атамная АЭС уяўляецца паэтам як пачвара, монстр, дэманічна-злавесная сіла. Чарнобыль, радыяцыйная пошасць, паводле паэтаў, насланнё злавесных, цёмных сіл, д’ябальшчыны. Касмаганічныя і эсхаталагічныя ўяўленні так ці інакш звязаны з народнымі і біблейскімі архетыпамі, і гэтыя аналогіі відавочныя, калі гаворыцца пра дзейства “духу злога”, “д’ябла Ночы”, пра “Чорны Дух лейкеміі”, “пір Сатаны”. Пераасэнсаванне і канцэптуальнае новае напаўненне мiфалогii — адметная з’ява сучаснай паэзii пра чарнобыльскую трагедыю. Пашырылася кола міфавобразаў, якія ў выніку антрапамарфічнага прыпадабнення або персаніфікацыі набылі аблічча рэальна дзейных істот. Іх з’яўленне абумоўлена працэсам мастацка-вобразнага пераасэнсавання каляндарных міфаў, традыцыйных народных абрадаў і свят (памірання-ўваскрашэння зерня, заручын, вяселля, хаўтураў, Дзядоў, жніва, касьбы і інш.). На нашай зямлі з’явіліся чарнобыльскі бог, палыновы бог, “ажылі” і сталі персанажамі чарнобыльскай трагедыі стронцый, плутоній, цэзій, катаклізм, катастрофа, зона: “Катаклізм, Апакаліпсіс і Катастрофа… // нахабна шыбуюць па тутэйшай зямлі і вучаць // сваёй чорнай, д’ябальскай працы сваю // нашчадніцу з такім ужо, ці чуеце, тутэйшым // імем — Бяда…” [7, с. 236]. Біблейская зорка Палын паўстала з твораў як знак апакаліпсісу, трагічнасці лёсу: “...Маўчыць, нібы камень, зямля, // Палын невядомасцю свеціць....” [7, с. 198]. У чарнобыльскай паэзіі палын-трава гэтак, як і ў фальклоры, становіцца ўвасабленнем гаркоты, горычы, смутку. Вобраз палыну робіцца ў паэзіі Чарнобыля адным з самых распаўсюджаных і сімвалізуе бяду, гора, скон жыцця. Палын-трава выклікае адмоўныя эмоцыі, бо яна — горкая праўда пра Чарнобыль, сама жуда, “пошасці буянне”. Палын — спараджэнне цемры, чорных сіл: “Абудзіўся Палын! І пайшоў, бо пачуў, // Што прывабна вядзьмаркі спявалі!”; “Гэта — Чорны Палын пахадзіў па зямлі!”; “...І нічога няма. // Чорны космас — і царства Палыну” [7, с. 161]. Чарнобыль — касмічна-глабальная катастрофа, якая перакуліла свет, дзе раскашуе палын як вынік уздзеяння чорных энергій, панавання сіл ліха і смерці. У многіх вершах і паэмах гучаць матывы Божага пакарання, укрыжаванай Беларусі, страты зямнога раю, мёртвай зямлі, іншабыцця і нечалавечых пакут у чарнобыльскім пекле. Зямля, дарога, дом і іншыя вобразы набылі трагічнае праламленне. Вобразы мёртвай зямлі, “раскіданага гнязда” — знакі чарнобыльскай бяды. М. Танк з жалобай аплаквае “забітую Чарнобылем Зямлю”, яго паэтычны трэн — 94 развітанне, напоўненае пачуццём сыноўняга пакаяння і просьбы аб дараванні: “Даруй нам, грэшным // І неразумным, // Маці!” [7, с. 150]. Перад пагрозай д’ябальскага наслання літаратура не магла не шукаць духоўнага заступніцтва. Яна знайшла “цэнтр апоры”, выратавальны шлях — гэта шлях да Бога. У многіх вершах і паэмах беларускіх паэтаў выяўляецца малітоўная апеляцыя з просьбай аб выратаванні і ўваскрашэнні роднага краю: “...на Чарнобльскім Крыжы мой Край... // Хрысце Божа, не пакідай...” [7, с. 80]. Ад імя чарнобыльскай ахвяры гучыць просьба да Усявышняга: “Дык маліся... // каб вярнуць табе, Божа, наш чарнобльскі крыж” [7, с. 143]. Чарнобыльская літаратура ўтрымлівае антыутапічную складовую, што выяўляецца, напрыклад, у матывах прарастання, уваскрашэння: “І ўсё ж падай, семя, на маю зняможаную зямлю! // І прарастай” [7, с. 250]. Традыцыйная народная вера, арыентаваная на духоўна-хрысціянскі ідэал, намагаецца пераадолець крызісны разлад свядомасці, выстаяць, перамагчы ў гэтым супрацьборстве цемры і жыцця. У выразнай бінарнай апазіцыі знаходзяцца разнаполюсныя энергіі свету, кантрастныя колеры святла і цемры. Відавочная міфасімвалізацыя чорнага колеру. “Шмат на жыццi нашым // Чорных слядоў”, — папярэджвае П. Панчанка пра небяспеку паглынання змрочнымi сiламi ўсяго светлага, чалавечага. Паэт міфалагізуе вобраз “чорных дзірак”, адкуль вырвалася чарнобыльскае насланнё і якія прагнуць засмактаць дзіцячыя жыцці: “Злосна якочуць // На чорным ігрышчы: // Цяпер яны хочуць // І нас усіх знішчыць. // Прагне глынуць // І дзяцей у вантробы // Чорная дзірка — // Чарнобыль” [10, с. 19]. Матывы д’яблавай пячоры і ракі нябыту палохаюць уяўленне паэта, які ў стане жаху звяртаецца з малітоўным заклінаннем да Бога: “…А сёння ўсюды цьмяна, дымна, чорна, // Не звіняць у небе жаўрукі… // Божа, не гані мяне ў пячоры, // Божа, не гані у глыб ракі!” [7, с. 125]. Паэт, які паэтызаваў зямны садрай, цяпер стварае змрочную міфавыяву: “Уся Беларусь ад Чарнобыля // да сцежак і мінскіх, і брэсцкіх // Закладзена д’яблу...” [10, с. 40]. Я. Сіпакоў у паэме “Одзіум” звяртаецца да міфаколеравага жывапісу: “Чорнае слова, як чорнае сонца, бязлітасна // ўскацілася на беларускі небасхіл. // Яно, нібы чорнае зацьменне, усё пачарніла — // і зялёную траву, і празрыстую ваду, // і блакітнае неба. // Трава зелянее, але яна чорная. // Вада свіціцца аж да дна, але яна чорная. // Неба блакітнее, але і яно чорнае” [7, с. 228 — 229]. Гэты “чорны жывапіс” нагадвае “Чорны квадрат” К. Малевіча. Чарнобыль прадвызначыў у паэзіі і літаратуры гэты “чорны колер-знак” [11, с. 9]. У літаратуры мінуў час услаўлення жыццяноснай сілы сонца. Пасля атамнага калапсу з’явіўся страх перад 95 гэтым нябесным свяцілам, якому здаўна пакланяліся нашы продкі. Беларускі апакаліпсіс сімвалізуе “чорнае сонца”, у злавеснае аблічча якога беларускія паэты працягваюць узірацца і на пачатку ХХІ стагоддзя: “І неба чарнее, нібыта згарае, // І чорнае сонца ўзыходзіць над краем...” [12, с. 9]. Такім чынам, беларуская літаратура стварыла чарнобыльскі неаміф. У паэзіі пра чарнобыльскую рэчаіснасць асабліва заўважная трансфармацыя рэальнага ў міфалагічны план светаадлюстравання, пры гэтым адбылася перакадзіроўка семантыкі ў поглядах на прыроду, інтэрпрэтацыі народнай абраднасці. Чарнобыль надаў віток дэманізацыі ў паэтычнай вобразатворчасці. Ён стаўся неверагоднай, містычнай з’явай, якая змусіла мастацкую думку актывізавацца, адшукаць найбольш адэкватныя спосабы і формы міфатворчасці, каб, паглыбляючыся ў сферу ірацыянальнага, інтуітыўна выявіць сутнасць таго, што не магло ўкласціся ў звыклыя межы чалавечай свядомасці. _________________________ 1. Адамовіч А. Апакалапсіс па графіку / А. Адамовіч. — Мн.: Беларусь, 1992. 2. Алексіевіч С. Чарнобыльская малітва / С. Алексіевіч. // Полымя. — 1998. — № 4. 3. Радыеактыўны агонь: Чаму досьвед Чарнобылю ставіць пад сумнеў нашае бачаньне сьвету // Дзеяслоў. — 2003. — № 6. 4. Законнікаў С. Беларускае сэрца: Публіцыстычны роздум, эсэ / С. Законнікаў — Мн.: Беларусь, 1993. 5. Шамякіна Т. Элементы беларускай геасофіі як аснова нацыянальнай літаратурнай класічнай традыцыі / Т. Шамякіна. // Беларуская філалогія: Зб. навук. прац вучоных філал. ф-та БДУ / Пад агульн. рэд. д-ра філал. н. І. С. Роўды. Вып. 1. — Мн.: ВТАА «Права і эканоміка», 2003. 6. Гусев В. Художественное и нравственное / В. Гусев. — М.: Худож. лит., 1988. 7. Зорка Палын: Творы беларускіх паэтаў пра чарнобыльскую трагедыю. — Мінск: Маст. літ., 1993. 8. Мятліцкі М. Хойніцкі сшытак: Вершы. — Мн.: “Беллітфонд”, 1999. 9. Мятліцкі М. Бабчын: Кн. Жыцця / М. Мятліцкі. — Мн.: Маст. літ., 1996. 10. Панчанка П. Высокі бераг: Вершы, эсэ / П. Панчанка. — Мн.: Маст. літ., 1993. 11. Вабішчэвіч В. Чорны боль: Вершы / В. Вабішчэвіч. — Мн.: Маст. літ., 2003. 12. Шніп В. Выратаванне атрутай; Рублеўская Л. Над замкавай вежай / Бібліятэчка час. “Куфэрак Віленшчыны”, № 5. / В. Шніп. — Маладэчна, 2003. 96 С. Я. Гончарова-Грабовская (Минск) СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ: НОВАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА Художественная парадигма современной русской драматургии отражает неоднородность ее направлений и течений. Среди них – «новая драма», о которой критика заговорила еще в начале 1990-х годов (П. Кротенко, Н. Бржозовская, В. Мирзоев), отнеся к ней пьесы М. Угарова, О. Михайловой, К. Драгунской, О. Мухиной, поэтика которых отличалась насыщенной метафоричностью, интертекстуальностью и ярко выраженной конструкцией игровых отношений. В конце 1990-х — начале века в драматургию пришли такие авторы, как М.Курочкин, О. Богаев, В. Сигарев, братья Пресняковы, И.Вырыпаев, братья Дурненковы, Д. Привалов и др., пьесы которых расширили контекст «новой драмы», обогатив ее поэтику новыми интенциями шокирующим неонатурализмом, гиперреализмом, гипернатурализмом [1], неоисповедальностью. Наследуя, в первую очередь, традиции западноевропейской драмы ХХ века (абсурдизм и экзистенциализм), а также традиции «новой волны» (в особенности Л. Петрушевской) изображение жуткого быта и дисгармонии социума как следствия неустроенности человека в этом мире, они в более «жесткой» форме показали тотальное одиночество человека, абсурдность существования, безысходность, жестокость среды и быта. Сегодня «новая драма» стала эпицентром критики. Одни связывают это понятие с фестивалем «Новая драма», другие с пьесами-вербатим, третьи (Г. Заславский) увидели в ней черты, присущие европейской “new writing” (трагическая тональность, жестокость, одиночество), представленной такими авторами, как Марк Равенхилл, Сара Кейн, Вернер Шваб, Мариус фон Майербург. Большинство исследователей «новую драму» ассоциируют с «Театром. doc» (Е. Гремина, М. Угаров, М. Курочкин, И. Вырыпаев, Е. Нарши, Г. Заславский, Е. Калужских, О. Дарфи, В. Леванов и др.) и «уральской школой» (ученики Н.Коляды В.Сигарев, О.Богаев, братья Владимир и Олег Пресняковы), представителями тальятинского центра новой пьесы братьями Вячеславом и Михаилом Дурненковыми. Отсутствие четкого определения «новой драмы» обусловило и неоднозначность мнений (от позитивных до негативных). Одни 97 выделяют в ней лучшую «дюжину драматургов», творчество которых вызывает интерес (А. Соколянский), другие вообще не соглашаются признать многие их произведения собственно пьесами (М. Тимашева), третьи упрекают авторов в незнании «элементарных законов драматургии» (Г.Заславский). Какова же художественная специфика «новой драмы», в чем ее особенности? На фоне современной традиционной драмы «новая драма» выглядит экспериментальной. Она тяготеет к альтернативному, «другому» искусству, реактуализируя эстетическую парадигму реализма, модернизма и постмодернизма. В поэтике пьес «новой драмы» явно наметились два модуса: условнометафорический, в котором присутствует философско-интеллектуальное начало, и гиперреалистический, содержащий социальнокатастрофическую направленность. Пьесам условно-метафорического модуса присущ «немотивированный» (Ортега-и-Гассет) тип моделирования художественной условности, органическое сочетание реального и виртуального, их взаимодействие в рамках художественного пространства драмы. В них присутствуют интертекстуальность и элементы абсурда, постмодернистская игра идеями, мифы и литературные архетипы, интеллектуальные метафоры, фантастика и реальность. Это пьесы М. Курочкина, М. Угарова, О. Богаева, О. Михайловой, О. Юрьева, братьев Дурненковых и др. При этом драматурги в пародийно-ироническом ключе показывают современную действительность, погружая героев в подробности быта и размышлений. Драма утратила динамику действия, стабилизировала «открытый финал». Она тяготеет к гибридному комбинированию элементов поэтики различных эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма). Пьесы гиперреалистического модуса, интегрирующие признаки реализма и натурализма, отражают жестокость среды. При явной тяге к оригинальности в них действительность изображается в гиперболизированной форме, показано «социальное дно», шокирующее читателя / зрителя концентрацией жестокости, поданной в ракурсе брутального эпатажа, что проявилось в пьесах-вербатим (Театр.doc) Е.Греминой, М. Угарова, М. Курочкина, И. Вырыпаева, Е. Нарши, Г. Заславского, Е.Калужских, О. Дарфи, В.Леванова, С. Калужанова, а также социальной драме, представленной пьесами В. Сигарева, И. Вырыпаева, братьев Пресняковых и др. 98 «Новая драма» – это определенная художественная философия, связанная не только с обновленной поэтикой, но с новым пониманием театра века, который стремится увидеть реалии современности, переосмыслить социальность и создать новых кумиров. И в этом плане экспериментальный театр новой драмы активно утверждается: фарсовофилософский театр братьев Пресняковых, посткатастрофический театр братьев Дурненковых, документальный театр – «Театр.doc» и др. Авторы «новой драмы» пытаются представить жизнь социума постсоветского времени с такими ее составляющими, как отчужденность, одиночество, растерянность, жестокость. Этим обусловлен и характер конфликта. Он решается по линии Я – Социум не только в противопоставлении личности обществу, но исследуется их обоюдное состояние. Наблюдается разрушение стереотипов положительного героя, сформированного традицией веков, происходит деконструкция прежней концепции героя и осуществляется поиск новых его моделей. В начале 1990-х годов «новая драма» вывела на сцену героя «бездеятельного», как определила его критика («Русский сон» О.Михайловой, «Русскими буквами» К. Драгунской), психология которого рефлексивна, он больше говорил и рассуждал, чем действовал. Такой герой осознавал сложность жизни, его не покидало состояние безысходности, что дало основание говорить об апокалиптическом (эсхатологическом) мировосприятии, обусловленном самой действительностью, ее глубоким кризисом. Однако в конце 1990-х в «новой драме», как и в современной традиционной драме, стал доминировать «маленький человек-маргинал» («Русская народная почта» О.Богаева, «Культурный слой», «Mutter», «Ручеек» братьев Дурненковых) с его внутренним миром, не лишенным комплексов. В обыкновенной обстановке коммунальной квартиры происходит нечто, что выходит за рамки обыденности. В «Культурном слое» Дед просит нарисовать его желудок, говоря, что это его «внутренний мир», а реэлторы рассуждают о самоопределении: «Каждый решает, кто он – артефакт или органоминеральный субстрат» [2, с. 70]. Как правило, это герои маргинальные (наркоманы, проститутки, скинхеды), но маргиналы особого рода – подростки, выброшенные за пределы нормального существования («Пластилин», «Божьи коровки возвращаются на землю» В.Сигарева). Молодые люди попадают в страшные ситуации и подвергаются грубому насилию. Поведение героев не идеальное: они пьют, курят, грубят взрослым, матерятся, ввязываются в преступления. Однако это «не отбросы» общества. Характерно то, что социальное отчуждение, ненависть представлены как норма жизни. 99 Эту модель героя дополнил «реальный» герой «новой драмы», взятый непосредственно из жизни. Документализм, заложенный в структуре пьесы-вербатим, позволил автору изображать человека натуралистично: он без грима внутреннего и внешнего, кажется предельно искренним или псевдоискренним. Этим обусловлена и «неоисповедальность», присущая пьесам, погружающим нас в частную жизнь. Однако их герой – скорее типаж, нежели индивидуальность. В начале века в «новой драме» усилился социальный аспект, что способствовало появлению героя-жертвы («Пластилин» В.Сигарева). Как правило, это молодые люди, жизненные перспективы которых заменены безысходностью или фатальной обреченностью («Культурный слой» Дурненковых, «Агасфер» В.Сигарева). В целом драматурги хотят рассказать о том, как тяжело быть подростком. В «новой драме» отсутствует герой, ищущий истину. В лучшем случае он задумывается над тем, что в мире самое важное, как в пьесе «Кислород» И.Вырыпаева. Как альтернатива герою-жертве, стал утверждаться герой жестокий, для которого социальное отчуждение и ненависть становятся нормой жизни. Подобные герои есть в пьесах В.Сигарева, И.Вырыпаева, братьев Дурненковых, братьев Пресняковых и др. Таким образом, всех героев можно разделить на три категории: геройжертва, реальный герой, маленький человек-маргинал. Последние заявляют: «вот мы какие, но другими пока быть не можем». В конце начале века в «новой драме» наглядно проявилась анормативность: нарушение классической системы «завязка – развитие действия – кульминация – развязка». Драматурги модифицировали художественную структуру (вместо актов /действий главы / части: «Вступление», «Начало» «Знакомство»), как в пьесе «Декабристы или В поисках шамбалы» Д.Привалова. Показателен в этом плане «Кислород» И.Вырыпаева, состоящий из «композиций», «куплетов» и «припевов». Фрагментарная структура знаковый признак поэтики «новой драмы». Примером могут быть пьесы братьев Пресняковых («Терроризм») и братьев Дурненковых («Культурный слой»). Драматурги расщепляют текст пьесы на фрагменты, на первый взгляд, не связанные между собой, и подчиняют их общей концепции произведения. В итоге эти «части» составляют сюжет пьесы с «недосказанным» финалом. Экспериментальной выглядит и структура пьес-вербатим (монтаж сцен, главы-воспоминания, письма и т.д.). Многие из них представляют «сцены из жизни» или «ток-шоу», действие которых имитировано дина100 микой диалогов. Документальная основа иногда кажется иллюзией. Этим объясняется художественный примитивизм, снижающий статус подобных пьес как полноценных и профессиональных. Жестокий натурализм, приправленный искренностью (исповедь-монолог, интимная доверительность), оказывает шоковое воздействие на зрителя. Ко всему прочему эти пьесы изобилуют ненормативной лексикой, пестрят неровностью стиля, насыщены социодиалектами, просторечиями. В «новой драме» претерпевает изменение и структура художественного пространства: с одной стороны, доминирует асинхронность событий, метафоризация реальности, в которой прошлое, настоящее и ирреальное причудливо переплетаются; с другой – его конкретизация и упрощение. «Условно-безусловное» пространство в большей степени свойственно модернистским и постмодернистским произведениям (О.Богаев, А. Хряков, С. Носов, М.Угаров и др.). Не случайно в 1990 – е годы критика упрекала современную драму в оторванности от реальности. Быт в ней присутствовал, но был отодвинут на второй план. Реальность переосмысливалась драматургом через призму его рефлексивного восприятия. И если тогда молодые драматурги (М.Угаров, О.Михайлова, О.Мухина, А.Сеплярский, О.Юрьев и др.) стремились уйти от жизнеподобия, выстраивая экстраординарные сюжеты, то в начале века они все чаще обращаются к формам объективной реальности в отражении жизненных коллизий (о чем свидетельствуют пьесы В. Сигарева, И.Вырыпаева, братьев Пресняковых, Театра.doc.). При этом пространственновременной континуум проявляется в разных дискурсах: бытовом, социальном и экзистенциальном. Эксперимент наблюдается и на уровне жанровой модели. Наблюдается отход от традиционных канонов, что проявилось в размытости жанров и смещении понятий «жанр» «текст». Давно фигурирующее слово «текст» относительно многих пьес «новой драмы» постепенно заменило термин «жанр». И в то же время происходит обновление традиционных жанров (социальная драма, документальная драма). Экспериментальный вектор «новой драмы» представлен социальной драмой, эстетика которой базируется на гиперреализме: пьесы братьев Пресняковых («Терроризм»), В.Сигарева («Пластилин», «Черное молоко», «Агасфер»), братьев Дурненковых («Культурный слой»), отражающих духовную и реальную нищету общества, грубость и жестокость его нравов. Пограничное состояние человека, его экзистенциальный выбор, страшная безысходность, контраст черного (невыносимая жизнь) и свет101 лого (будущее после смерти) все это придает пьесам эсхатологический характер. Драматурги философски осмысливают деструктивную реальность, гиперболизируя ее, что усиливает эффект шокового воздействия. Так, в пьесах братьев Пресняковых («Изображая жертву», «Терроризм») жестокий мир подается натуралистично, пронизан авторской иронией, комизмом фарсового характера. Основным структурообразующим элементом этих пьес является оппозиция двух миров темного и светлого с характерными для них символами Добра и Зла. Глубокое философское содержание отражает рефлексию переживаний современного общества, в котором зло, абсурд, бессмысленная жестокость стали закономерностью. Отсюда эсхатологический взгляд на «больной» мир, стоящий на грани апокалипсиса, в котором происходит всеобщий распад христианской цивилизации. Как следствие в пьесах доминирует растерянность, причем безнадежная. Данные пьесы не дают ответов на вопросы, а лишь «будоражат умы». Драматурги отражают катастрофическое сознание современного общества. Позитивных сторон в социуме они не показывают, так как не ставят перед собой этой цели. Шокирующая натуралистическая экспрессия практически не оставляет светлых пятен. Не случайно драматургов «новой драмы» называют «молодыми рассерженными» (К.Серебренников), которые пытаются встряхнуть зрителя, чтобы он преодолел инертность и критически посмотрел на мир. Главную задачу они видят в поисках правды, поэтому объявили своим учителем Льва Толстого, который ввел принцип постоянного и непрерывного изучения реальности. Возрождает себя документальная драма (Театр. doc), представленная пьесами-вербатим, выполняющими социальную функцию в культурном пространстве современности. И хотя поэтика и эстетика пьес-вербатим ничего общего не имеет с документальной драмой 1970-1980-х гг. («Брестский мир», «Шестое июля», «Большевики» («30-е августа»), «Синие кони на красной траве», «Так победим!» М.Шатрова), тем не менее их роднит факт документа, но факт не исторический, а реального социума. Они тесно связаны с социальной драмой, ибо поднимают острые проблемы, исследуют пограничные зоны человеческого существования, дают нетрадиционный взгляд на привычные явления. Драматургов интересуют провокационные темы, которые ранее не затрагивались, но имеют явно социальную значимость. Пристрастие к документу обусловлено тем, что драматурги жизненную достоверность считают фактом художественным. Среди проблем, поднимаемых в документальной драме, – война в Чечне («Сентябрь.doc» 102 М.Угарова, «Часовой» С.Решетникова, «Мы, вы, они…» А.Кормановой и А. Северского). Как правило, герой документальной драмы имеет реального прототипа («Записки провинциального врача» Е.Исаевой ). Как ни печально, но в современной драматургии исчезла сатирическая комедия. «Новая драма» возрождает сатиру в форме памфлета. Молодые драматурги издали сб. «Путин.doc», в котором представлена политика в разных ее аспектах. Под этим названием вышла пьеса В.Тетерина. К памфлетам следует отнести и «Присядкин на том свете» Андрея Мальгина. Авторы выводят реально существующих персонажей, лишь слегка изменяя их фамилии. Как видим, «новая драма» характеризуется социальной проблематикой (экстремизм, социальный негатив), экспериментальной художественной структурой, особым языком. Она представлена авторами разных художественных направлений, новизна эстетических поисков которых неоднозначна. Одни обновляют реалистические традиции (В.Сигарев, Е.Гремина), другие идут путем синтеза модернизма, реализма и постмодернизма (О.Михайлова, О.Богаев, братья Дурненковы, братья Пресняковы). Современную «новую драму» частично роднит с «новой драмой» конца начала ХХ века неопределенный финал, эксперимент формы, рефлексия героя, ощущение безысходности, а также интерес к изображению личности, находящейся в критической ситуации переломной эпохи. К сожалению, современная «новая драма» лишена многоуровневого подтекста, широты обобщений, хорошо выстроенной структуры, что было свойственно истинно «новой драме». Экспериментальный характер «новой драмы» свидетельствует о новой фазе развития, о том, что в общественном сознании формируется новая ценностная иерархия и возникает потребность в оценке явлений социальной и духовной жизни в соответствии с реалиями времени. _________________________ 1. Термин «гиперреализм» (Умберто Эко и Бодрийяр) обозначает – «усиленный, чрезмерный, доведенный до предела». Термин «гипернатурализм» используется в итальянской литературе (Альдо Нове) – «шоковое, провакационное». Применительно к современной русской драме этот термин использовал М.Липовецкий (См. Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля // НЛО.№73.3’2005) . 2. Дурненковы Вячеслав и Михаил. Культурный слой // В.и М. Дурненковы. Совр. драматургия. 2004. №1. 103 Раздел № 2. Новые тенденции в современной прозе А. Н. Андреев (Минск) «БОЛЬШЕ БЕНА», НО НИЖЕ ПОЯСА В принципе неисчерпаемость литературы обеспечивается не за счет «гибкого», неизвестно с какой стати «предрасположенного» к бесконечному разнообразию стиля, а за счет того, что подталкивает стиль к вечному обновлению – за счет относительно нового мироощущения, сквозь которое прорастают зерна мировоззрения. Новое содержание облекается в новую форму: ничего, как видим, нового. Именно содержательная основа является своего рода гарантом вечного обновления вечно существующего. Ничто не ново под луной в данном случае означает: все будет меняться в частностях, не меняясь в принципе. Любопытный пример подобного «удивительного» поворота событий, весьма и весьма традиционного, с точки зрения логики культуры, демонстрируют нам некоторые произведения современной молодежной прозы. Мне представляется, что произведения заслуживают серьезного аналитического рассмотрения в двух случаях: 1) когда они представляют собой образцы выдающегося художественного уровня; 2) когда им удается затронуть ту золотую (содержательную) жилу, что в принципе может такой уровень обеспечить (хотя они до этого уровня явно не дотягивают). В данном случае мы имеем дело с вариантом вторым. Строго говоря, нас интересует даже не явление литературы, а явление культуры, отраженное в литературе. Речь идет о повести Спайкера и Собакки (С. Сакина и П. Тетерского) «Больше Бена» (2001). В подобном ключе можно говорить и о повести И. Стогoff «Мачо не плачут». Иными словами, перед нами тенденция, в определенном отношении заслуживающая внимания. Собственно литературных достоинств у «ББ» не очень много, но они, несомненно, есть. Новое – это хорошо забытое старое: эту истину, чтобы не забывалась, и актуализируют забавные авторы. Смесь слэнга («бичеств»), которого запредельно много в повести, с хорошим литературным языком – уже сам по себе прием, чрезвычайно освежающий стиль и дающий немало выразительных возможностей (если подойти к ним с чувством меры). Новые ситуации речевого общения, лексика, звукопись, новые возможности тропики (метафоры), новые способы словообразования… Много, много всего. Вспомним диалектизмы М. Шолохова. При желании тоже можно придраться к засилью ненормативного и неканони104 ческого. Прием не нов; новым является слэнг, язык времени. А если слэнг становится способом не просто «поприкалываться», но и выразить протест против всего традиционного, «закоснелого», буржуазного, а главное – ложного, способом выразить новое мироощущение, которое в той или иной степени свойственно целому поколению, – то слэнг становится больше, чем слэнг, а именно: содержательным приемом, своего рода культурной заявкой, попыткой осознать свое место в культурных координатах. Авторы «ББ» этого и не скрывают. Информационная эпоха требует от эффективно функционирующего общества значительной мобилизации. Крен в сторону рационализма, пресловутого западного прагматизма, тенденция к интеллектуализации жизни, к аналитизму – неизбежны. Эффективный социум становится реальной культурной опасностью, поскольку он нивелирует личность, стандартизирует проявления человечности, делает уникальность личности характеристикой избыточной, факультативной. Социум перестает считаться с запросами личности, разбрасывая живых людей по ячейкам, нишам, ярусам и кастам. Правам человека – да, правам личности – нет. Жить будете, но о роскоши человеческого общения – забыть, please. Таков невербальный императив времени, неписаный закон, который очень не понравился Спайкеру и Собакке, называющих себя «подонками» (к этому снобистскому жесту писателей, имеющих явно не аристократическое происхождение, мы еще вернемся). Они смотрят на Биг Бен снизу вверх, со дна – и у них получается сверху вниз. В такой ситуации, когда у общества рыльце в пушку, протест против такого типа общества, такого социального прогресса и общества вообще – становится слегка культурно мотивированным, не пустым (То досадное обстоятельство, что протест становится одновременно формой самоубийства протестантов, – в расчет принимать как-то скучно, «не прикольно»; это уже иная сторона вопроса, с которой много диалектической возни; тут уж пропадает легкий кураж и начинается зона скучной ответственности, к которой «подонки» по определению не способны. Короче говоря, болезнь времени героями времени указана, а как с ней быть – Бог весть. Вот так-то.). В смутном культурном противостоянии нечто живое, пусть даже извращенное, противопоставляется роботамкиборгам, лень – работе, кайф – чувству долга, черные – белым, белые – черным, Москва – Лондону, чувство – мысли и т.д. Вот почему путешествие двух «подонков» по Лондону (основная часть повести называется «Жизнь подонков в Лондоне (дневник)») превращается в умилительное зрелище протеста двух весьма непосредственных детей против всех злых взрослых, против «всего», с перебором, 105 конечно, но зато цивилизации человеческой досталось по полной программе. При этом важна степень вменяемости и осознанности позиции. В повести разбросаны культурные вехи и знаки-ориентиры; есть, наконец, даже некое эссе, претендующее на программность. «Подонкам» отнюдь не чужд язык культуры. Более того, они настаивают на своей полной культурной легитимности, вписываются, с одной стороны, в традицию, а с другой – видят немалые перспективы за «подоночьим» образом жизни. «Подонки» со своим слэнгом превращаются в прочное звено культуры. Если бы этого не было, мы бы их «дневник» и не разбирали. Но они настаивают – мы и заглянем. В программном эссе, которое называется «Подонки», читаем: «Соотношение полов м/ж – 85% на 15 % Средний возраст – до 25 лет, лучшие экземпляры остаются подонками всю жизнь КПД мозга – до 100 % Эрудиция – до 100 % Вес в обществе – как правило, 0» [1, с. 16]. Бедные подонки! Их уже жалко. Такие умные, талантливые – но отвергнутые. Не нравится гнусному обществу, что они воруют, употребляют всевозможные наркотики, ведут асоциальный образ жизни (чем они и пытались покорить Лондон; Лондон-урод их не понял). Злые люди доброй киске не дают украсть сосиски. Просто беда. Читаем дальше: «Культовая подоночья книга – «Три товарища» (Не путать с «Тремя мушкетерами»; мушкетерам, людям служивым, нормальный подонок руки не подаст. – А.А.) Очевидно, что эмоции и душевные порывы играют в биографии подонка куда большую роль, чем мозги, хотя последние у него варят довольно неплохо, до тех пор, пока он не сгубит их алкоголем и наркотиками. Если хотите поподробнее узнать об этом подоночьем свойстве, прочитайте книгу американского битника (подонка, разумеется) Д. Керуака «В дороге». Вспоминая о русской же культуре, нельзя не упомянуть С. Довлатова, подонка с большой буквы «П», Венедикта Ерофеева, В. Высоцкого (В другом месте список продолжен: «Маяковский, В. Хлебников, Эдичка Лимонов» — А.А.). Однако образ подонка впервые проступает в русской культуре уже XIX века. Конечно, подонки той эпохи были чуть менее отвратительными и чуть более одухотворенными, чем их нынешние последователи. Хотя в отношении Базарова, или, например, М.Ю. Лермонтова можно поспорить. История знает немало имен подонков, оставивших свой след в мировой культуре. Это Гете и Сальвадор Дали, Франсуа Вийон, все без ис106 ключения ваганты, Омар Хайям и Абу Нувас, Джим Моррисон и Курт Кобейн. Эти примеры – (…) попытка констатировать пользу, принесенную человечеству кланом «отверженных и неприкасаемых». Конечно, все уже поняли, что слово «подонок» не имеет в данном повествовании того однозначно негативного смыслового оттенка, каким оно характеризуется в русском языке в целом. Просто уж очень часто так называли и называют нас представители т.н. «интеллигенции». В конце концов мы и сами себя так стали называть. «Подонок – персонаж положительный!» (…) Как уже ясно из дневников, подонки ведут гедонистический образ жизни, связанный, помимо прочего, с периодическим употреблением алкоголя и наркотиков, беспорядочными половыми сношениями, спонтанными вояжами Бог знает куда и постоянными взрывами эмоций вплоть до мордобоя. (…) Хотелось бы верить, конечно, что будущее за подонками, хоть и нет к этому никаких предпосылок.» [1, с. 17]. Не правда ли, обескураживающая искренность и открытость? Им нечего скрывать – потому что они уверены, что какая-то важная часть Правды на их, «подоночьей», стороне. И они по-рыцарски, с открытым забралом идут «на вы», на весь белый свет. Великаны и прометеи, несколько нетрезвые и потому нетвердо стоящие на ногах. Обратим внимание: представители т.н. «подонков» не на жалость бьют, а упирают на вектор культурного прогресса: в фокусе их внимания не изживающий себя социоцентризм (с его культом разного рода героев, служивых и т.п.), а персоноцентризм (отсюда – характерная подборка новых культурных героев, которые служат самим себе, героически плюют на общество). Но! Три раза – но! Что имеется в виду под ценностями личности, персоны, с точки зрения «негодяя» Спайкера и его верного друга Собакки? Эти ценности, как мы помним, делают личностей «лишними», приводят к трагической ситуации «горе от ума». Это происходит потому, что лишние умны, собственно, лишними их делает разумное отношение к жизни. Не «эмоции» и «душевные порывы», обратим внимание, и не «мозг» с его бесподобным КПД, и не запредельная «эрудиция» – а разумное отношение к реальности. Эрудиция с мозгом чаще всего выступают формой невежества, а эмоции и порывы усугубляют ее до размеров варварства. С точки зрения «подонка» Спайкера и его преданного друга Собакки, такого же «подонка», ценностями личности (и особого, личностно ориентированного типа культуры) являются даже не дружба, любовь и т. п. чувства, а подлинность переживания. Это больше, чем дружба, силь107 нее, чем любовь. Умение чувствовать, переживать – вот что отличает человека от киборга; чувства как таковые – вот ценность. А думать умеют и дураки, у которых КПД мозга зашкаливает за 100 %. Ясно, что самыми яркими эмоциями молодости являются всякого рода наслаждения. Кайф любой ценой – наш девиз, аморальность – вот наш принцип, гедонизм – наша религия. А в остальном мы атеисты. Все, что мешает наслаждаться – работа, учеба как вид работы, долг, обязанность, порядок, регламент – являются врагом личности. Мы будем петь и смеяться, как дети. Что тут скажешь? Валяйте, подпевайте Бобу Марли. Слэнг в таком контексте является оппозицией нормативному литературному языку, норме вообще, этому монстру культурно-социального происхождения. Говорить на слэнге, материться – значит бросать вызов вашей нормальности. У вас имена – а у нас клички, у вас какой-нибудь Толстой, пусть и Лев, а у нас просто Собакка, Дог. Животное. Слэнг противостоит литературному языку, дно – верху, чувство – мысли, психика – сознанию, натура – культуре: живое – мертвому. Вот что значит не думать: это значит оказаться выше всех вас, думающих. Хорошо быть кисою, хорошо собаккою… Разум выносится за скобки как-то сразу и незаметно, де факто, безо всяких скучных предварительных обоснований. Вот мы, доги, и стали уже героями нашего времени, а попутно и укором цивилизации, а также ее спасительным ориентиром. Да-да, поверьте нам и присоединяйтесь. В каком смысле «подонков» можно считать лишними людьми? В том разве что смысле, что они не люди, они так и не стали людьми. Горе от ума им явно не светит. Этим героям грозит, если повезет, цирроз печени или, если удача отвернется, передозировка. Человеком можно стать и продолжать оставаться им одним-единственным традиционным и, увы, не подоночьим способом: начать думать. «Рэггей» не сделает вас человеком (хотя в нем нет ничего плохого). Как оценить их культурные претензии, подкрепленные незаурядной эрудицией? Спайкер вместе с Собаккой психичны настолько, что не дотягивают до философского формата. Их мироощущение никак не перерастает во внятное мировоззрение. Но дело не в этом. Не одни они такие – вот в чем беда. Оставаться на уровне мироощущения стало уже культурной традицией. Вот почему вонючие лондонские бомжи и дегенераты вполне уютно чувствуют себя в современной литературной гостиной: они здесь не лишние, они как все. Здесь от всех в известном смысле пахнет одинаково. Неплохо знакомые с экспериментами культуры в XX веке, они пред- 108 лагают разделить ответственность за то, что человек такой подонок. Каждый человек – отчасти подонок. Вновь и вновь в литературе «разумом» объявляют худосочный интеллект, а высшим разумом – способность сделать два-три упреждающих логических хода и на этом основании объявить себя умными, КПД мозга – до 100 %. Самое смешное и грустное здесь то, что господа Спайкер и Собакка с чистой совестью присоединяются к традиции, которую авторитетно поддержали Лев Толстой и Достоевский. Бросишь камень в Собакку – попадешь в Льва. «Эмоции и душевные порывы» не только для «подонков», но и для всей литературы, для всей художественной культуры являются куда более значимыми, нежели «ума холодные наблюдения». В данном случае сама современная культурная ситуация «работает» на «подонков»: художественная культура является исключительной альтернативой социальной регламентированности. Их симпатичный порыв к свободе (то и дело на страницах повести мелькает мастер свободных ощущений Булгаков, тоже, разумеется, отчасти «подонок») совершенно естественно совмещается с творчеством и воплощается в творчестве. «Подонки», творчество, свобода, Булгаков (можно легко продолжить) – это один ассоциативно-смысловой ряд; другой – киборги, Лондон, мораль ваша … культура. В такой ситуации, когда кризис цивилизации налицо, когда голос личности не слышен, любая собакка может походя зачислить себя в писатели или музыканты. Умение воспользоваться ситуацией – , конечно, тоже особый дар – дар приспособления, дар ощущать мир и время кожей, фибрами души. Нет, не большой (больше Бена?) Собакка с его славным другом Спайкером создали ситуацию, а ситуация создала этих самых «товарищей». Они уловили и скрестили множество узловых (проблемных) точек времени. В этом смысле они удивительно своевременны, современны. Сочувствие всему живому, пусть даже в форме, угрожающей этому самому живому, – это актуально. Зеленые и антиглобалисты будут рукоплескать, даже если и не прочтут «ББ». Перенос духовной жизни в сферу душевную, подмена психикой сознания – это вечно актуально и современно. В этом отношении их поддержали бы все писатели мира (не читая). Колоритность протеста – это конъюнктурно: здесь есть «фишка», следовательно (вот где необходим КПД!), это будет неплохо продаваться. И читаться. А то, что хорошо продается, не может быть плохим. Культурная легитимность – это почти солидно. Круто. Вот вам и подоночий забористый коктейль: простой, и при этом замысловатый рецепт. Периферийное, маргинальное явление, однако весьма симпатичное: оно отважно выражает кризис сознания героического, того самого социоцентрического, так всем обрыд109 шего. Вьетнам, Афганистан, Сербия, Ирак… что там еще? Сколько можно воевать (а война – всегда дело рук героев)? Миру мир – это тоже в ногу со временем (то есть со всеми, с социумом, который, якобы терпеть не могут утомленные «подонки»). Добавьте к этой позиции разум, разумное чувство меры – и перед вами откроется личность современного типа, которой сегодня просто нет в литературе. Если угодно – Герой Нового Времени. Свято место, вопреки поговорке, всегда пусто, если нет соответствующего экспоната; другое дело что на это место претендуют и примериваются к нему всякие…, в общем, типа «Больше Бена». А теперь – изнаночная сторона медали. Симптоматично также и то, что «мироощущение минус вразумительная концепция» – сегодня уже явно устаревший (несмотря на вечную актуальность) литературный материал. Все это не дотягивает до классики и не может до нее дотянуть. Классика мироощущения, так и не ставшего внятным мировоззрением, – это как раз те самые Ремарк, Булгаков, Довлатов, к которым так тянутся «подонки». Парадокс, всегда ставящий в тупик продвинутых дураков: самая современная литература – очень несовременна, пугающе дряхла. Если мир держится на трех китах (ха-ха!), то самая современная литература – на двух архетипах. Она стара как мир, невнятна как мироощущение и мила как глупость. Культ такой литературы – это диагноз ее апологетов, или, если хотите, укор обществу, где возможен культ такой литературы. Живое (психика) сопротивляется рациональному (бездушнокиборговому). А где же разум (от которого, правда, горя не оберешься)? Бессознательная полухудожественная возня давно исчерпала себя в культурном смысле, и Спайкер вместе с Собаккой (впрочем, кто-то из них, кажется, Сергей Сакин: ничто человеческое им не чуждо) вновь это убедительно доказали. Иногда (и все чаще, чаще) жаль, что рукописи не горят. Странное поколение: они могут восхищаться достоинством, но при этом не брезгуют пороком (порок пороку рознь; они не брезгуют тем пороком, которым следует брезговать всем приличным людям), сводящим на нет любое достоинство. Грязноватые мелкие души с проблесками некой искры. Культурный мусор. У них даже нет права сказать: печально я гляжу на наше поколенье. Потому что у них нет точки отсчета. Они до нее так и не доросли, вечные «подонки». Если говорить о пользе, которую принесли человечеству два товарища, практически брата (кто-то из молодых Бруда-старший, а кто-то – Бруда-младший: они братья на немецкий, ремарковский лад, только с русским «тупиковым» размахом) из клана «отверженных и неприкасаемых», то польза эта состоит в том, что братья наши меньшие (в смысле – 110 молодежь) продемонстрировали, с одной стороны, новые возможности литературы, а с другой – скудные культурные возможности литературы. Что касается новых возможностей, то «отверженные и неприкасаемые» (тут чувствуется непосредственное влияние Шиллера с Гюго – смесь благородных разбойников с людьми дна; интересный мотив: романтическая изнанка подоночьей души; так можно и до Гомера добраться – оказать ему честь и сделать родоначальником всех подонков; КПД…) с большой пользой для себя и общества, которое они так презирают, утерли нос тем представителям писательской «интеллигенции», которые видят развитие литературы только как развитие стиля, которые брезгливо отлучают литературу от жизни. Подонки, напротив, совсем не элитарно скрестили жизнь с литературой, сделали жизнь фактором развития литературы – и оказались правы. К золотой жиле гораздо ближе подобрались невменяемые «подонки», нежели искушенные постмодернисты. «Золотой шнурок», воплощение бессодержательных золотых грез А. Тер а, превращается в банальную эстетическую соплю на фоне «грязных» экспериментов «брудеров» (см. [2]). На фоне «золотых шнурков» – будущее за «подонками», точнее, за «содержательной» литературой. Что касается скудных культурных возможностей… Хорошо, профессионально сделанная и хорошо продаваемая литература сегодня перестала быть духовной продукцией. Протест оборачивается прибылью, мироощущение – игрой и пустотой. Профессионализм убивает литературу, да и не только литературу: все живое. Именем живого все живое истребим. Как-то нехорошо получается. Впрочем, «подонкам» всегда было наплевать на неувязочки. Главное – братство, гедонизм и что-то очень большое в душе, смутно напоминающее просто непреодолимую, наркотическую тягу к презренным, грязным деньгам. Что-то большое и чистое. Больше Бена. ___________________________ 1. Спайкер, Собакка (Сакин С., Тетерский П.). Больше Бена / Спайкер, Собакка (С. Сакин, П. Тетерский). — М.: Аксиан, 2001. 2. Андреев А. Золотой шнурок, или Конец литературной эпохе / А. Андреев // Чалавек. Грамадства. Свет. — Мн., 2004. № 4. 111 Г. Л. Нефагина (Минск-Слупск) МОТИВ ЗЕРКАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ С древних времен зеркало воспринималось как таинственный, магический предмет, наделялось колдовскими свойствами. В народных суевериях разбитое зеркало предвещало несчастье, пустое, без отражения зеркало означало вмешательство в жизнь человека нечистой силы. В мифологии зеркало выступало и как средство спасения от трансцендентальных сил, несущих человеку гибель (миф о Персее, убившем Горгону с помощью зеркального щита), и как граница, предохраняющая от потери своей целостности (миф о Нарциссе, нарушившим дихотомию «я»-«не я», преступившем грань между собой и своим отражением). В русскую литературу образ зеркала входит с творчеством А.С.Пушкина, хотя еще «Юности честное зерцало» или «Истинное человеческое зерцало, в котором ясно видеть можно подлинное качество человека» Ивана Лопухина дают образ зеркала в его отражающей функции. Смыслообразующие возможности зеркала особенно широко начинают использоваться в литературе ХХ века. Зеркало как явление литературы интересовало многих ученых. Символика, функции, семантика зеркала исследовались в работах М.М. Бахтина [1], ученых тартуской школы [2], функционирование образа зеркала в искусстве описал в книге «Зеркала» А. Вулис [3]. Для Бахтина зеркало является способом самопознания героя через свое отражение. В работе «Проблемы поэтики Достоевского» ученый сближает зеркало и персонажа-двойника в их гносеологической функции. Авторы сборника «Зеркало. Семиотика зеркальности» исследуют другую функцию зеркала. Они рассматривают его как границу: между «своим»-«чужим», «этим»-«иным», живым-мертвым мирами, между внешним-внутренним. О. Заболотная, анализируя организацию художественных произведений В. Набокова, основанных на идее двоемирия, на противопоставлении взаимоотражающихся миров, исследует принцип зеркальности в стиле и композиции произведений В. Набокова [4]. Таким образом, зеркало в художественных произведениях обозначает и образ-предмет, и прием, и симметричность композиции. Необходимо отметить, что часто образ-мотив зеркала трактуется расширительно. С зеркалом связывают не только прямое отражение, но и двойничество, сон и сновидения, круг, тень, отпечаток, луну и солнце, водную поверхность, портрет, картину. Признавая, что все перечисленное образует один семантический ряд, все же остановимся на семантике 112 и функциях в современной прозе именно материально выраженного зеркала-предмета, а не приема зеркальности, выражающегося в двойничестве, оборотничестве, дихотомии, симметрии и т.п. Зеркало прежде всего отражает. Человек узнает свой внешний вид по зеркальному повторению. Чтобы вписать себя в окружающий мир, человек должен сознавать объемлющие его внешние границы. «Этот момент неразрывно связан с наружностью и лишь абстрактно отделим от нее, выражая отношение внешнего, наружного человека к объемлющему его внешнему миру, момент ограничения человека в мире» [2, с. 34]. Перестать узнавать себя в зеркале — значит лишиться самоидентичности, разорвать связь своего внутреннего «я» со своим представлением о себе, следовательно, с окружающим пространством и объемлющим временем. В романе «Инстинкт № пять» А. Королев показывает распавшиеся ипостаси героя через ситуацию неузнавания: «Стою и пожираю глазами лицо человека, которого когда-то хорошо знал. Я не видел себя в зеркале больше двух лет и с трудом привыкаю к своему чужому лицу: как ты постарел… Я вижу, что глаза отражения полны слез, и я знаю почему — этот человек потерял всякую надежду узнать когда-нибудь свое собственное прошлое» [6, с. 181]. Неразделимое с «я» отражение воспринимается как чужое, что свидетельствует о трагическом несовпадении личности и ее судьбы. Вообще, когда человек смотрит на себя в зеркало, он видит отражение наружности. «Зеркало дает лишь материал для самообъективации, притом не в чистом виде» (Б.31). Отражение в зеркале, воспринимаемое как иной, другой, говорит о нарушении внутреннего мира, его целостности. Отражаемый предмет удваивается, само же зеркало по природе своей нейтрально. М. Бахтин замечает, что отражение человека не тождественно ему самому прежде всего потому, что «мы остаемся в самих себе и видим только свое отражение, которое не может стать непосредственным моментом нашего видения и переживания мира: мы видим отражение своей наружности, но не себя в своей наружности» [1, с. 3]. При этом отражение обратно симметрично отражаемому. В романе М. Кураева «Зеркало Монтачки» зеркала как раз перестают отражать. Отсутствие отражения в зеркалах всех жителей коммунальной квартиры семьдесят два на канале Грибоедова первоначально воспринимается как вмешательство какой-то потусторонней силы. Ведь «в зеркалах не отражаются …призраки! привидения! и мертвецы!» [7, с. 20]. М. Кураев передает бытовое поведение и внутреннюю жизнь каждого персонажа, напуская некоего мистического тумана. В пространстве романа исторически конкретное тесно сопрягается с мистикой, замешенной на отголосках суеве113 рий. Потеря зеркального отражения означает невозможность самоидентификации, потерю собственной личности. В народном сознании отсутствие отражения равносильно смерти. То есть, в романе смыкаются духовная смерть и физическое бесплотие. Зеркало в романе выступает в функции критерия духовности. Добровольное растворение в мире зла, служение, пусть вынужденное, пошлости, неумение следовать идеалу и отстаивать свои принципы ведут к потере личности. Зеркала М. Кураева отражают не форму, а содержание. По сути, они перестают быть нейтральными, а становятся средством дифференциации духовности и бездуховности. Зеркало может выступать и как символ истины, и как символ обмана. В «Священной книге оборотня» В. Пелевина есть совсем крохотный эпизод с упоминанием зеркала. «В каждой женщине есть зеркало, с рождения установленное под определенным углом, и что бы ни врала индустрия красоты, изменить этот угол нельзя» [8, с. 110]. Это зеркало подает отражение, вряд ли льстящее женщине. Но зеркало оборотня, пелевинское зеркало, предназначено не для отражения глядящего в него, а для фокусирования луча отраженного света в глазах (зеркалах) жертвы. Это своеобразное оружие, способное внушать нужный образ. И, представляется, в художественной системе писателя это не столько способ влияния оборотней-лис на мужчин, сколько нечаянно проговоренный принцип воздействия на читателя. В романе А. Королева «Инстинкт № пять» зеркальце, которым Красная Шапочка пускает солнечных зайчиков, также способно убивать, причем сначала исчезает отражение. Отражение – это возможность существования, и лишиться отражения (как и тени, что тоже входит в семантическое пространство зеркальности) означает умереть, перестать быть. Зеркало, отражая, создает другой мир, мир мнимый, таинственный, потусторонний. Само зеркало как бы перестает существовать, истончается до невидимой границы между реальностью и мнимостью. ЛизаРозмарин на фамильном кладбище обращает внимание на странность: «На всех плитах красовались резные медальоны с гербом старинного рода фон Хаузеров: змея, оплетающая ручку овального зеркала, а на могильной плите моей мамочки вместо медальона вмуровано само овальное зеркальце, в котором я увидела свое отражение — красные глаза тлели слезами. Это мать смотрела на свою дочь из могилы» [6, с. 184]. Отраженный мир сориентирован в пространстве координатами верх-низ, право-лево и вперед. В нем не отражается задняя плоскость отражаемого. Это изображение плоскостное, но динамичное одновременно, 114 лишенное не то что бы прошлого, а именно того, что находится с обратной стороны отражаемого. Такое состояние адекватно определяется английским словом «behind», означающим «позади» — и в пространстве, и во времени. «Все предметы вокруг нас — отражение и эхо сокрытого. Там начало и источник явлений. Обычный человек видит только одну плоскую сторону феномена — внешнюю обложку. <…> Только ясновидец способен обойти предмет со всех сторон и заглянуть в тайну изнутри: увидеть затылок нарисованной Моны Лизы» [6, с. 141]. Еще в раннем романе «Белка» А.Ким создал образ: «плоские, словно зеркальная амальгама, люди». Это призраки людей, лишенные духовного наполнения. Они пусты, вторичны по природе своей, как отражения. Это, по словам писателя, антиподы нашего бытия. Они нейтральны, бездушны, равнодушны ко всему в окружающем мире. Их среда обитания — двухмерное пространство, плоскость (зеркала, стекла, поверхности воды). В «Белке» таким плоским человеком, «видимым только спереди, а сбоку совершенно незримым», является некто Тюбиков. Плоский человек «живет всего в двух измерениях, и там нет места для волшебства и сказки; ему так тоскливо, что хоть вешайся, но он даже не осознает того состояния, в котором всегда пребывает» [9, с. 266] Два зеркала, поставленные одно напротив другого, многократно умножают отражения, рождая множественные миры. В романе А. Королева «Инстинкт № пять» маленькое зеркальце в пудренице, на крышке которой отчеканена «кудрявая женская головка самых пошлейших черт», с первых страниц соотносится с зеркальным щитом Персея через упоминание яростного лика Медузы Горгоны. Образуется оппозиция добро — зло, жизнь — смерть. Зеркальце оказывается связующим элементом разных времен и разных миров. Герой «падает» в книгу, как в иную реальность, но книга тоже является отражением, зеркалом. Поэтому герой А. Королева пребывает во множестве своих отражений в расколотом на куски мире, где противо(со)поставлены земное и небесное, прошлое и настоящее, вневременно сказочное, мифологическое и сиюминутное, многобожие и монотеизм. Но они равно мнимы и реальны одновременно, как это и бывает в зеркальных отражениях. Зеркало никогда не бывает пустым. Оно живет жизнью отражения. Правда, здесь надо сделать оговорку в определении пустоты. Пустота понимается не как отсутствие, а как возможность наполнения. В романе М. Кураева «Зеркало Монтачки» множество зеркал. Они населяют все комнаты коммунальной ленинградской квартиры и отражают до некоторых пор каждого из персонажей, выступая как члены человеческого сообщества, как свидетели и хранители частной жизни. Зер115 кала окружают Аполлинария Ивановича Монтачку, который отражается не только в музейном многообразии старинных зеркал, но и является обратным отражением своего брата-близнеца Акибы Ивановича. Зеркала имеют свой характер. Хранительница коллекции из 783 единиц Лилия Васильевна одушевляет зеркала: «Однажды вы подойдете здесь к какому-нибудь зеркалу и не узнаете себя. Значит, вы его чем-то обидели» [7, с. 3]. Зеркало имеет не только свою особенность отражать (одни – добрые, приукрашивая, другие – с притворством, третьи – как бы напуганные), но они обладают способностью звучать, при этом звуками, которые вобрали в себя при жизни хозяев. В романе представлены все возможные функции зеркала. Зеркала только номинативно предметы интерьера или музейной коллекции. В пространстве романа они являются инструментом и способом самоидентификации, средством предсказания будущего и воспроизведения прошлого. Являя человеческое отражение, они наделены властью над человеком и могут быть причиной его смерти. Это аналитическое средство познания и средство выражения причинно-следственных связей. Зеркало – универсальное средство организации бытия по принципу симметрии и способ создания множественных миров. Образуя оппозицию к действительности, зеркало приобретает этико-философские функции. В «Зеркале Монтачки» хранительница сравнивает зеркало с театром. Не театр – это зеркало, а зеркало – это театр, где «каждый из нас и драматург, и актер, и зритель, и даже критик. <…> Каждый наш подход к зеркалу, каждый наш взгляд в зеркало – это же маленький спектакль, сыгранный для себя» [7, с. 11]. В этом смысле зеркало имеет социализирующую функцию: оно готовит человека к «игре» в обществе. Зеркало само является элементом социализации, ибо осуществляет свои функции только среди людей. В романе использует эффект выпуклого и вогнутого зеркал. Выпуклое зеркало отражает весь окружающий мир: в жизни коммуналки воспроизведены все переломы истории и изгибы судеб людей, населяющих страну. Вогнутое зеркало увеличивает, фокусирует внимание на деталях. И в романе частная жизнь каждого дана в увеличительном зеркале. Зеркало, его функции и значение в контексте произведения представляют огромное поле для исследования. Необходимо отметить еще один, думается, существенный момент. Зеркало равно использовалось и используется в различных художественных системах. При этом функции, как правило, одни и те же, но различны, в зависимости от системы, истолкования самого мотива зеркала. В классицизме, где доминирует ра116 цио и логика, зеркало является способом дихотомической композиции. В романтизме оно средство контрастирования разлада идеала и действительности, раздвоения личности. В барокко зеркала определяют стереоскопическую пестроту, соединение разных планов изображения. Реализм во всех его стилевых проявлениях включает зеркало в сферу и прямого, и условного изображения. В целом можно сделать вывод, что зеркало безразлично к художественному направлению и системе. Его основная функция – отражать отражаемое. ____________________________ 1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. — М., 1994. 2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. — М., 1979. 3. Зеркало. Семиотика зеркальности / Ученые записки Тартус. гос. ун-та. Вып. 831. Тарту, 1988. 4. Вулис А. Зеркала / А. Вулис. — М., 1992. 5. Заболотная О.Д. Система энантноморфизма в творчестве В.В. Набокова. Автореф. дис… кандидата филолог. Наук / О. Д. Заболотная. МПГУ, М., 2003. 6. Королев А. Инстинкт № пять / А. Королев. — М., 2004. 7. Кураев М. Зеркало Монтачки / М. Кураев // Нов. мир. 1993. № 5. 8. Пелевин В. Священная книга оборотня / В. Пелевин. — М., 2004. 9. Ким А. Белка / А. Ким. / — М., 1984. 117 Т. Г. Симонова (Гродно) МЕМУАРНЫЙ АСПЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Вторая половина ХХ в. и особенно рубеж ХХ — XXI вв. ознаменованы активизацией мемуарного начала в литературе, что нашло отражение как в развитии собственно мемуарной прозы, так и в произведениях немемуарного плана. Появляется множество воспоминаний, созданных непрофессиональными литераторами: политиками, деятелями искусства. Одновременно усиливается также внимание писателей к мемуаристике. Современная литературная ситуация демонстрирует тенденцию приближения мемуаров к художественной прозе, вплоть до слияния с ней. Возникнув как явление «литературы факта», с ее стремлением к точному воспроизведению реальности, мемуары с течением времени все сильнее подпадают под влияние литературы вымысла. Соблазн беллетристики оказывается чрезвычайно силен, и мемуариста уже не всегда устраивает прямой рассказ о виденном и пережитом. Появляется стремление сделать его увлекательным, облечь содержание в форму более изощренную, чем обычная информация. Так возникает мемуаристика на стыке документального и художественного начал, выделяется разновидность литературных мемуаров. Все чаще наблюдается активное включение мемуарной прозы в немемуарный текст, что порождает особые, не имеющие аналогий в предшествующей литературе жанровые образования: соединение мемуарных фрагментов с беллетризацией, системой литературно-критических и литературоведческих рассуждений. Подобное соотношение вызвало к жизни книги А. Гениса «Довлатов и окрестности», А. Наймана «Славный конец бесславных поколений», «Поэзия и неправда», «Сэр» и т. д. Если попытаться обозреть сложившийся на рубеже ХХ–XXI вв. корпус мемуаристики, то можно выделить книги с отчетливо выраженной мемуарной тенденцией – собственно мемуары (А.Солженицын. «Угодило зернышко промеж двух жерновов», А.Рыбаков. «Романвоспоминание», С. Михалков. «От и до…», В. Розов. «Удивление перед жизнью», Д. Бобышев. «Я здесь» и др.) и произведения, где мемуарная основа очевидна, но установка на создание традиционных мемуаров со свойственной им манерой воспроизведения фактов отсутствует (А. Вознесенский. «На виртуальном ветру», М. Ардов. «Легендарная Ордынка», «Возвращение на Ордынку», И. Губерман. «Пожилые записки»). 118 Наиболее полно мемуарность реализуется там, где акцентировано намерение создать развернутые воспоминания, охватывающие разные сферы жизни. Отражение реальности раскрывает существенные, с точки зрения автора, аспекты действительности; формируется, таким образом, определенная концепция прошлого, заметно влияющая на содержание мемуарного произведения. Обзор значительного пласта истории осуществляется в книгах С. Михалкова, А. Рыбакова, А. Солженицына. П р и этом каждый писатель отражает действительность советской эпохи, руководствуясь сложившимся на основе собственного опыта и мировоззрения пониманием ее. Данное обстоятельство определяет тематическое содержание мемуаров, отбор фактов и их интерпретацию. Солженицын живописует судьбу неординарной личности в условиях советского режима, враждебных свободной мысли. Процесс активного выживания человека, его подспудного сопротивления силе обстоятельств демонстрируют воспоминания Рыбакова. Редкий случай «счастливого» варианта биографии представлен в книге Михалкова. «Почему моя жизнь сложилась так, а не иначе?» – задает он вопрос, интересующий многих, и, понимая, что однозначный ответ здесь невозможен, рассказом «о времени и о себе» пытается объяснить сложности бытия. Одной из модификаций мемуаристики являются воспоминания эссеистического характера. Обдуманная последовательность рассказа о прошлом уступает место свободному повествованию, которое подчиняется движению авторской мысли, ее прихотливым ассоциациям, избирательной концентрации на отдельных проблемах, объектах, явлениях. «Легендарная Ордынка» Ардова – своеобразная мозаика из осевших в памяти осколков прошлого, объединение разнообразных воспоминанийминиатюр. Эпизоды детства, короткие рассказы о знаменитых современниках, житейских происшествиях, обрывки разговоров, совокупность этих компонентов производят впечатление живого непритязательного комментария к прошлому, уточняющего некоторые обстоятельства, дополняющего характеристики известных лиц. Книга воспоминаний эссе Вознесенского «На виртуальном ветру» также фрагментарно высвечивает отдельные явления мировой культуры XX столетия, персонифицированные в образах ее знаменитых представителей (Рихтер, Шостакович, Пастернак, Грасс и др.). При отсутствии единого сюжетного стержня цементирующим началом оказывается авторское отношение к изображаемому как важному, общезначимому. «Собраньем пестрых глав» создается представление о культурной среде, о творческой интеллигенции второй половины XX века. 119 Заявивший о себе в 90-е годы жанр филологического романа демонстрирует возможность обогащения мемуаристики путем взаимодействия ее не только с художественной прозой, но и литературоведением (критическая статья, заметка, эссе, биографический очерк). Мемуарная основа книги «Поэзия и неправда» Наймана (воспоминания об А. Ахматовой, ленинградской группе молодых поэтов 60-х годов и т. д.) дополняется вымыслом, о чем предупреждает читателя сам автор, корректно разграничивая документальность и беллетристику. Образ Германцева – обобщенное воплощение сущностных свойств творческой интеллигенции советской эпохи. Конкретные исторические фигуры своеобразно дополняются, итожатся посредством этого персонажа. Одновременно с изображением литературной среды дается характеристика состояния литературы, творчества отдельных писателей. Совмещение воспоминаний о писателе с профессиональным анализом его творений характерно для книги А. Гениса «Довлатов и окрестности». Тематическая разноплановость предопределяет специфику стиля, вобравшего в себя образную выразительность художественной прозы и фразеологию литературно-критических работ. Возможность сопряжения мемуаристики с другими разновидностями прозы предопределена исторически: мемуары выделились в самостоятельный жанр из синкретических произведений эпохи античности («Записки о Галльской войне» Ю. Цезаря, «Анабасис» Ксенофонта). Позднее, в период становления в качестве самостоятельного жанра (XVII в. в русской литературе), мемуары сохранили связь с автобиографией. Личностное отражение прошлого, присущее этим типам прозы, делает их ближайшими родственниками по жанровой иерархии и поныне. Разграничение мемуарных и автобиографических текстов до сих пор в отдельных случаях вызывает существенные трудности. Автобиографическая проза смыкается с мемуарами по части обращения к прошлому, лично пережитому рассказчиком, но отличается большей степенью выраженности личностного начала. Объектом изображения становятся события, связанные с самим автором. Мемуаристика тяготеет к эпичности, разворачивает картину прошлого в более масштабном объеме, отходя от сугубо личных обстоятельств повествователя. Заключительные главы книг «Последний поклон» В. Астафьева, «Встань и иди» Ю. Нагибина, «Сны об отце» Д.Самойлова продолжают автобиографическую традицию русской литературы на современном этапе. Важной особенностью автобиографии оказывается лирическое переживание, связанное с прошлым, когда раскрывается эмоциональная подоплека былых событий и человеческих отношений. Да и сами собы120 тия имеют более «камерный», «семейный» характер. Все названные книги затрагивают проблему отношений отца и сына. «Главный герой… не ребенок, а отец, уже ушедший из жизни, но только теперь по настоящему понятый взрослым сыном» [1, с. 307]. В. Астафьев воскрешает историю «забубенной головушки», человека, позитивные задатки которого искорежены обстоятельствами. Автор испытывает к отцу сложные смешанные чувства: любви, ненависти, жалости, – способен и осудить, и понять, и простить его. Образ отца в книге Д.Самойлова помогает воссоздать детство писателя. «Вспоминая, автор-повествователь испытывал и жалость, и горечь, и тоску, и ощущение безвозвратности» [1, с. 307]. У Ю. Нагибина также муссируется тема вины сына перед отцом. С точки зрения житейской, может, и не столь черствыми людьми проявили себя сыновья, но «последний вечный водораздел» обострил чувства, заставил пересмотреть свое поведение в прошлом. Мемуарность оказывается свойством не только художественнодокументальной прозы, но и литературы собственно художественной, когда повествование организуется как воспоминание автора или его персонажа о былом. Такой прием используется Т. Толстой, С. Довлатовым. Повествование мемуарного типа предполагает введение субъекта — первого лица – «я». В рассказах Толстой «я» – это рассказчикповествователь, близкий самому автору. Как отмечает Л. Нюбина, «местоимение «я» в литературе воспоминаний становится идеальной метафорой взаимодействия разных ликов личности, центром узнавания и превращений» [2, с. 98]. В рассказе «На золотом крыльце сидели» «я» рассказчика часто подразумевается, уходит в глубь текста, иногда варьируется с «мы». Возникает эффект непрямого воспоминания. Мемуарность проступает в глаголах прошедшего времени, начиная с заглавия и вступительных фраз, в знании рассказчика о грядущих событиях («Вероника-то скоро умрет»), в беглых упоминаниях о повествователе, отнесенных к его прошлому. Само содержание рассказа об изменении человеческих судеб, психологии ребенка в связи с движением времени провоцирует его мемуарность. Очевидно, что в рассказчике Толстой много автобиографического. По словам М. Фуко, «автор содержит в себе определенную множественность и объединяет в себе функции документального, художественного и поэтического «я» [3, с. 29]. Если иметь в виду рассматриваемый текст, то «“я”» рассказчика, переходящее 121 в «мы», организует воспоминание автора, подкрепляется аналогичным опытом прошлого сестры – спутницы детских лет. Рассказы Толстой, содержащие воспоминания о минувшем: детстве, людях, вписавшихся в его контекст, – не ставят задачу самоценного воспроизведения реалий ушедшей жизни. Это образноэмоциональное воплощение мыслей автора, вынесенных из прожитого, отражение опыта бытия, уроков, которые преподносит жизнь. Широта художественного обобщения выводит рассказы за пределы собственно мемуаристики. Мемуарный аспект в них не цель, а художественный прием. В связи с вышеизложенным есть основания выделить несколько уровней мемуарности в современной литературе последних десятилетий: собственно мемуарная проза (художественный и художественнодокументальный ее варианты); произведения с мемуарным компонентом, включающие в свой состав фрагменты воспоминаний; литературная автобиография; художественные тексты, в основу которых положен прием ретроспективного повествования, имитирующего воспоминания героя-рассказчика о былом; стилизация мемуаров, когда нарочитый писательский вымысел приобретает форму мемуарного текста («Палисандрия» Саши Соколова). Подобная дифференциация мемуарного аспекта имеет место не только в современной литературе (за исключением контаминации мемуаристики с иными средствами воплощения темы), но именно в последние десятилетия она активизировалась. Мемуарность сказалась востребованной как на уровне жанра, так и в качестве повествовательного приема. _________________________ 1. Гордович К. Д. История отечественной литературы ХХ в. / К. Д. Гордович. – СПб., 2005. 2. Нюбина Л. М. Мнемонический текст: аспекты анализа / Л. М. Нюбина. // Современные методы анализа художественного произведения. – Смоленск, 2002. 3. Фуко М. Воля к истине / М. Фуко. – М.: Касталь, 1996. 122 А. П. Бязлепкіна (Мінск) ТРАНСГРЭСІЯ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ТРАДЫЦЫЯ Само паняцце трансгрэсіі, незалежна ад часавай прыналежнасці, тлумачыцца аднолькава: трансгрэсія наогул і трансгрэсія ў літаратурным творы – гэта пераход за межы магчымага (напрыклад, у рэальным жыцці гэта медытацыя, рэлігійнае імкненне да Абсалюту), выхад за межы табу. Першыя выпадкі трансгрэсіі ў мастацтве даследчыкі вылучаюць ўжо ў старажытных тэкстах, напрыклад, у міфе пра Эдыпа і трагедыі Сафокла “Эдып–цар” [1, с. 300]. Пераадоленне сітуацыі забароны ў старажытнасці разумелася як парушэнне аўтарам ці героем мяжы між боскім і чалавечым [1, с. 300], але гэты шлях (калі рэдукаваць этычны складнік) вядзе да трансцэндэнтальнага; трансгрэсія – гэта шлях мастацкага пазнання, які актуалізуецца ў выніку пакуты [1, с. 300]. Адным з яскравейшых прыкладаў супадзення трансгрэсіі ў жыцці і ў мастацтве можна лічыць укрыжаванне Ісуса Хрыста. Трансгрэсія паказвае на адсутнасць сапраўднага ў рэчаіснасці і штурхае да пошукаў ісціны, вядома ж, не даючы яе [2]. Менавіта таму дзеянне трансгрэсіўнай практыкі заключаецца найперш у тым, каб выклікаць рэакцыю рэцыпіента [3], даць штуршок да эпістэмалагічных, пазнаваўчых пошукаў. Цяпер цяжка меркаваць, якое ўражанне рабіла трагедыя пра Эдыпа на старажытных людзей, але важна адзначыць, што трансгрэсія ў міфе і трагедыі пра Эдыпа мае дачыненне непасрэдна да літаратурнага персанажа. Праз ажыццяўленне трансгрэсіўных практык (бацьказабойства, інцэст, самаасляпленне) цар Эдып атрымлівае доступ да неабходных яму каштоўнасцей (напрыклад, улады), узрастае да новых ведаў. Сваім маральным і фізічным калецтвам ён аплочвае разумовую відушчасць, мудрасць (С._Аверынцаў адзначыў сімвалічную тоеснасць Сфінкса і маці– жонкі Эдыпа Іакасты); асляпленне зрабілася неабходнай умовай самаспасціжэння, а адмаўленне агульначалавечых табу – своеасаблівай ініцыяцыяй на шляху пазнання. Такім чынам, у гэтым прыкладзе трансгрэсія разумеецца як працэс. Сучасныя літаратары звяртаюцца да трансгрэсіі са сваімі мэтамі. У Іллі Сіна трансгрэсія выступае яе самамэта і вынік. Такі трансгрэсіўны пераход, актуалізуючыся для самога аўтара і чытачоў, з’яўляецца бессэнсоўнай пакутай для літаратурнага персанажа: Выціснуты з вачніцаў другі ворган зроку старога, нібы тэнісны шарык, круціў паміж пальцамі 123 нейкі бамбіза ў шлёпках на босую нагу, у той час як ягоны сябра ўгаворваў дзядулю дабраахвотна яго з’есці. <...> Абсалютова голы стары зь вялікімі чырвонымі пасмамі замест вачэй разгублена ды сьмешнавата матляў галавой, бясплённа торхаючыся на месцы і, відаць, ня ведаючы, куды яму належыць ісьці. Цяпер ягоная сьлепата была зусім не абразьлівай для іншых, і да таго ж непрытворнай [4, с. 40—41]. Гэта значыць, што суб’ект пакуты і суб’ект трансгрэсіі не супадаюць: асляпленне старога для забавы падчас бясконцага карнавалу, адбываючыся ўнутры мастацкага тэксту, інтэрыярызуецца, прыўлашчваецца чытачом, які знаходзіцца звонку гэтага тэксту і перажывае яго як уласны досвед. Адзін з тэарэтыкаў трансгрэсіі літаратуразнаўца Ж. Батай адзначаў, што яна адыгрывае важную ролю ў кампенсацыі трывог, хваляванняў [5], маючы на ўвазе найперш жыццёвыя практыкі (да якіх адносяцца і малітва, і ахвярапрынашэнне, і злачынства, і сексуальныя паталогіі). Такім чынам трансгрэсіўным з’яўляецца і сам працэс напісання ці чытання тэксту, у якім адмаўляюцца агульначалавечыя табу. Забароненыя дзеянні (а наяўнасць забароны – умова наяўнасці трансгрэсіі), здзейсненыя ў рэальным жыцці, могуць скалечыць чалавечую псіхіку, апісанне гэтых жа дзеянняў у творы не валодае сілай такога татальнага разбурэння. Даследуючы праблему суаднесенасці з’яў жыцця і з’яў мастацтва, расійскі філосаф Н. Лоскі адзначаў, што, па–першае, мастацкія творы выклікаюць у рэцыпіента не такую жывую рэакцыю, як тое, што адбываецца на яве. Па–другое, выдуманая пісьменнікам рэальнасць шырэйшая і больш разнастайная за сапраўдную рэчаіснасць. Па–трэцяе, мастацтва прасцейшае за жыццё і таму дасяжнае для рэцыпіента [6, с. 296—298]. Гэта значыць, што страшнае ў літаратурным творы можа функцыянаваць як гульня, як спаборніцтва, як правакацыя, як пераадоленне аўтарскіх і чытацкіх страхаў (магчыма, беспадстаўных, як напрыклад, у “Апошніх жаданнях” А. Глобуса, дзе ўсе персанажы баяцца, што іх пахаваюць жывымі і яны прачнуцца пад зямлёй, хаця вядома, што пад цяжарам зямлі труна расціскаецца) і г. д. Пераадоленнем страху смерці здаваліся і перфомансы З. Вішнёва з выкарыстаннем труны, але аказалася, што падчас сваёй працы ў Саюзе пісьменнікаў ён арганізоўваў пахаванні, замаўляў вянкі, стужкі, труны, для яго гэта было нават будзённа. Хаця рабіла належнае ўражанне на гледачоў. Ілля Сін у празаічных тэкстах займаецца эпатажам і блюзнерствам, намацвае межы дазволенага, выпрабоўваючы межы эстэтычных пачуццяў патэнцыяльных чытачоў (а таксама свае) на здольнасць успрымаць агіднасць і чалавечыя страхі: страх смерці (у кнізе “Нуль” ёсць раздзел “Ільля Сін памёр” (Аднекуль згары падалі белыя пушынкі, больш па124 добныя на прысак. А пасьля Ілля Сін памёр [7, с. 107]), перформанс “Абсалютна стэрыльны аборт”, апісаны ў кнізе “Нуль” (Аборт – гэта наўмыснае забойства. Усе размовы пра “свабоду выбару” і г. д. у дадзеным выпадку недарэчныя [8, с. 44]), страх калецтва (Калі сьвердзел электрычнага дрылю, выцягнутага з кішэні аднаго з прысутных, дакрануўся да вачнога яблыка старога, ад ягонай фанабэрлівай флегматычнасьці не засталося й сьледу [9, с. 39]), страх прыроджанай выродлівасці ці мутацыі (Таўсташчокая галава месьцілася на вяршыні аграмаднага камяка бясформенай масы, зь якога ва ўсе бакі тырчэлі гострыя іголкі рознай даўжыні [10, с. 52]). У многіх выпадках фрагменты тэксту Іллі Сіна, пазначаныя пераадоленнем розных табу, умоўна матываваныя: смажанне людзей, паляванне на ажыўленых мумій, аплата праезду чалавечым мясам у “Карнавале на вуліцы Гідраўлічнай” стасуецца з традыцыйнай адменай некаторых забарон на перыяд свята (напрыклад, можна параўнаць са зменай структуры харчавання пасля сканчэння посту), да таго ж усе вычварныя дзеянні адбываюцца ў снах аднаго з персанажаў – Кібіка. Назвы частак тэкста “О” (“Нуль”) “Жыхары тунэляў — 1”, “Жыхары тунэляў — 2” рыхтуюць чытача да таго, што істоты, якія маюць незвычайнае месца жыхарства, будуць адрознівацца ад людзей і фізіялагічна, і ладам жыцця. А падкрэслена будзённае апісанне здзекаў ці фізічных заган змяншае напал чытацкіх эмоцый. На шляху да разбурэння маральных табу І. Сін выкарыстоўвае такія прыёмы, як акцэнтаванне ўвагі на фізічных ці псіхічных анамаліях персанажаў, прэпарыраванне жорсткасці, а эстэтычная мяжа для яго палягае на ўзроўні сексуальнай паталогіі, якая ў тэксце прысутнічае толькі тэрміналагічна: На вуліцах раздавалі цукраныя пернікі з выяваю прабабулі імператара, а ў кожным задворку можна было бачыць ужо звыклыя для жыхароў места сцэны педафіліі [9, с. 28]. Відавочна, што трансгрэсіўны накірунак творчасці вымушае І. Сіна пераадольваць найперш уласную каталіцкасць. Хаця ў “Маніфэсце Х” Ілля Сін пазначыў галоўныя шляхі рэалізацыі трансгрэсіі праз эпатаж і правакацыю [12]). Варта адзначыць несканцэнтраванасць і пэўную аднастайнасць уласна трансгрэсіўных фрагментаў у творах І._Сіна (параўн. з “Нябожчыкам” Ж. Батая [11, с. 57—66]). Гэта значыць, што свядомае жаданне аўтара закрануць небяспечную ў этычным аспекце тэму дысануе з пругкасцю наяўнай культурнай прасторы: выхаваннем аўтара і датычных да выдання кнігі людзей, прынятымі літаратурнымі нормамі, рэакцыямі на папярэднія адхіленні ад нормы. 125 Гэтак адбываецца найперш таму, што для чытання трансгрэсіўнай прозы патрабуецца тэарэтычная падрыхтоўка. На калектыўных выступленнях І. Сін адмаўляецца чытаць свае творы, не маючы магчымасці тэрмінова падрыхтаваць кансерватыўную аўдыторыю. Трансгрэсіўныя творы І. Сіна знаходзяцца на мяжы, у своеасаблівай “беспаветранай прасторы”: на перыферыі ўспрымання і прыхільніка традыцыйнай ці нават авангарднай літаратуры, і аматара трансгрэсіўнай прозы. Па сутнасці трансгрэсіўнай (хоць і без належнага тэарэтызавання) з’яўляецца ў значнай ступені проза В. Быкава, Ю. Станкевіча, некаторыя тэксты А. Асташонка, А. Глобуса, А. Бахарэвіча і іншых. __________________________ Тимошевский А.В. Трансгрессивное сознание и античный миф / А. В. Тимошевский // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сер. «Мыслители». Вып. 8. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2001. 2. Корнев С. Трансгрессоры против симулякров. Глава из книги «Постмодерн-фундаментализм» / С. Корнев // http://kitezh.onego.ru/transgr.html 3. Худобин Е. Шизоанализ как трансгрессивнай практика / Е. Худобин // http:// kitezh.onego.ru/shizotrans.html 4. Сін І. Карнавал на вуліцы Гідраўлічнай / І. Сін // Нуль. – СПб.: Рунь, 2002. 5. Батай Ж. Запрет и трансгрессия / Ж. Батай // http://www.russianparis.com/litterature/txt/bataille.txt 6. Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики / Н. О. Лосский. — М.: Прогресс—Традиция, 1998. 7. Сін І. Ілля Сін памёр / І. Сін // Нуль. – СПб.: Рунь, 2002. 8. Сін І. Абсалютна стэрыльны аборт / І. Сін // Нуль. – СПб.: Рунь, 2002. 9. Сін І. Карнавал на вуліцы Гідраўлічнай / І. Сін // Нуль. – СПб.: Рунь, 2002. 10. Сін І. О / І. Сін // Нуль. – СПб.: Рунь, 2002. 11. Батай Ж. Нябожчык / Ж. Батай // ARCHE. – 1999. – № 4(5). 12. Сін І. Маніфэст Х / І. Сін // Культура. – 1995. – 6 – 12 верас. 1. 126 А. А. Улюра (Киев) СБОРНИКИ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: СОЗДАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТА Начиная с 1989 года, в России один за другим выходят литературные сборники, маркированные номинацией «женская проза». Речь идет о книгах «Женская логика» (Москва, 1989), «Не помнящая зла. Новая женская проза» (Москва, 1990), «Мария» (Петрозаводск, 1990), «Чистенькая жизнь. Молодая женская проза» (Москва, 1990), «Новые амазонки» (Москва, 1991), «Абсинентки. Коллективный сборник женской прозы» (Москва, 1991), «Жена, которая умела летать. Проза русских и финских писательниц» (Петрозаводск, 1993), «“Glas” глазами женщины» (Москва, 1993), «Чего хочет женщина… Сборник женских рассказов» (Москва, 1993) и — чуть поодаль (с оглядкой на место издания — в первом случае, и год — во втором) — «Русская душа. Поэзия и проза современных писательниц русской провинции» (Wilhemshorst, 1995) и «Брызги шампанского. Новая женская проза» (Москва, 2002). Большинство из названных изданий сопровождали манифесты и программные выступления, долженствующие определить эстетическую, а во многом и идеологическую позицию авторских коллективов (тем более, если речь шла об оформленной литературной группе феминистского толка Новые амазонки, под эгидой которых были выпущены «Не помнящая зла» и «Новые амазонки») и — что особо значимо — обозначить новые культурнометодологические принципы подхода к анализу текста. Количество подобного рода изданий и специфика подбора включенных в них текстов, которые в большинстве своем должны были демонстрировать не столько присутствие женщины в литературе, сколько законное место женских практик как объекта художественного исследования, свидетельствует о выраженной необходимости в литературе периода «культурного взрыва» демонстрации взглядов феноменологического Иного — с одной стороны, и озвученных потребностях книжного рынка — с другой. «Переходя к прозе современных писательниц, отметим, что в настоящее время ситуация определяется не только идеологическими, политическими или морально-психологическими обстоятельствами, но и нарастающей диверсификацией литературного и книжного рынка» [1, с. 147], — пишет, анализируя издательские стратегии русской женской литературы конца 90-х, известный российский феминолог Елена Трофимова. В постсоветский литературный период художественные произведения, обозначенные женским авторством, чаще всего входят под рубри127 кой «женская проза» плюс «другая проза» / «новая проза» / «новейшая проза», подчеркивая тем самым свой маргинальный по отношению к официальной литературе характер и всячески педалируя, по словам известных российских феминологов, «право на свой “третий путь”» [2, с. 96], то есть свою альтернативность в заданном культурном контексте. Так, в случае постсоветских сборников женской прозы принципиальным оказывается не только и не столько «содержательное наполнение» книг, сколько специфика подбора текстового материала, его классификация и оформление, степень и оправданность редакторского присутствия и, наконец, особенности рецепции подобных культурных проектов — разумно прагматичный подход в репрезентации новых авторских имен принимает однозначный характер манифестации (в том числе и прежде всего касающийся механизмов производства канонов в литературе переходного периода). Отметим между тем, что речь идет об изданиях преимущественно некоммерческих (зачастую «грантовых»: таковы, например, выпущенная на деньги регионального фонда «Европейский Север» «Жена, которая умела летать» и средствами «коалиции» журнала «Октябрь» и Колумбийского университета «Чего хочет женщина…») и средне-, а то и малотиражных (самый крупный тираж, стотысячный, принадлежит еще советскому сборнику «Чистенькая жизнь»). Теперь, по прошествии полутора десятка лет, большинство из этих книг превратилось в библиографическую редкость, но и тогда, в начале — середине 90х, они были рассчитаны преимущественно на профессионального или, скажем, заинтересованного читателя. «Но будем честны, — вспоминает в начале 2000-х российский культуролог В. Г. Иваницкий. — То была капля в море. Публика ничего не почувствовала, критиков заставляло задуматься такое положение, когда женщина кричит во весь голос, а не слышна в досадно фальшивящем хоре политики и словесности» [3, с. 154]. И тем не менее появление перечисленных книг спровоцировало волну аналитических разборов, книжных обзоров и размышлений по поводу, сумма и значимость которых позволяет говорить о начальном этапе институализации понятия «женская проза» в современном русскоязычном литературоведении. Речь идет о перенесении категории «женское» из разряда оценочных обозначающих в область методологического осмысления социокультурного феномена женского текста (наиболее показательны здесь литературно-критические выступления Н. Габриэлян, М. Абашевой, Е. Трофимовой, Е. Щегловой, О. Славниковой, дискуссии о женской прозе в «Литературной газете», «Литературном обозрении», «Октябре» начала 90-х). Не менее весомым и, скажем так, внешним к собственно литературному процессу показателем успешности серии 128 «женских» сборников стала широко обсуждаемая реализация практик позитивной дискриминации в отношении подавляемых/замалчиваемых авторов. «Легче пробиваться группой», — так обозначен ведущий мотив всех без исключений издательских проектов. Отсюда и структура сборников, включающих тексты получивших признание писательниц (таких, как Л. Петрушевская, Т. Толстая, В. Нарбикова), равно как и сочинения почти неизвестных на то время (к примеру, И. Полянской и М. Палей) или порядком подзабытых позднесоветских писательниц (скажем, Л. Ванеевой или С. Василенко). Отсюда и значимость не только собственно содержания включенных текстов, но порядок и мотивация (а речь здесь идет о легитимизации женских практик) их отбора. В предисловии к сборнику «Чистенькая жизнь» составитель Анатолий Шавкута рассуждает о гендерной «линии стратификации»: «На каком-то ниже среднего уровне, конечно, происходит разделение «женской» и «мужской» прозы. Если же планка художественности поднимается выше, то ясно видно: существует только одна литература настоящая» [4, с. 3]. К противопоставлению женской и «настоящей» литературы — своеобразному общему месту в репрезентации дискриминационных по сути своей моделей коллективного женского творчества — вернемся позже, а пока обратимся к другой демонстрационной формуле, в той или иной своей модификации общей для всех сборников. А именно: книга включает тексты «и уже достаточно известных авторов и только начинающих свой путь» [4, с. 3]. Разделение литературы на «мужскую» и «женскую» декларируется, таким образом, в качестве сознательно прагматического акта актуализации забытых и «выведения» новых имен в активный литературный процесс. И здесь весьма показательным выглядит расхождение в био-библиографических примечаниях к персоналиям «Чистенькой жизни» и, скажем, «Не помнящей зла» (сборников во многом идеологически антонимичных). Набатникова, Полянская, Толстая, Горланова, Василенко в соответствии с информацией «Чистенькой жизни» предстают успешными, популярными, щедро публикуемыми авторами, тогда как мотив умолчания и игнорирования текстов, как и самого представляемого феномена женской прозы более или менее настойчиво проговаривается в «представлениях» всех без исключения писательниц «Не помнящей зла», дублируя и подтверждая этим декларированную в предисловиях сборника позитивно-дискриминационную задачу. К примеру, Светлана Василенко «Чистенькой жизни» — участница Восьмого всесоюзного совещания молодых писателей, выпускница Литературного института им. А. М. Горького, дебютировавшая в 1973 году и приобретшая с тех пор богатый жизненный опыт («Работала мотальщицей на за129 воде, почтальоном, журналистом, инструктором ДЭЗа» [4, с. 395]), в обозначении которого срабатывает скорее совлитовская установка на недопустимость отрыва от реальности, чем стоящая за этим списком невостребованность профессионального литератора. Светлана Василенко «Не помнящей зла» — автор нашумевшего рассказа «За сайгаками», публикация которого «стала почти сенсацией», но «чудес на свете мало — следующие рассказы Светланы появились в журналах лишь спустя семь лет» [5, с. 82]. В подобном контексте едва ли не определяющей для профиля сборника «Не помнящая зла» (а вместе с ним и большинства «манифестационных» сборников) становиться самодемонстрация Нины Садур: «Почему не публиковалась моя проза? Потому, что нельзя. Дело это вредное. Я знаю слово “пробиться”. Слово “прослойка”. Слово “соцреализм”» [5, с. 216]. Московская исследовательница Т. Ровенская не случайно пишет о том, что подобные механизмы презентации автора имели определяющий характер, «так как женская проза изначально была обращена не на “объективное” (в патриархатном значении), но на предполагаемое гендерно-мотивированное воспроизведение окружающего мира» [6]. С одной стороны — речь идет об исключительно поощрительном акте (то есть собственно практиках позитивной дискриминации на пути вхождения в канон), с другой – о последовательной стратегии утверждения определенного социокультурного феномена. И, собственно говоря, противоречия задач здесь нет. Так, во вводной части «Не помнящей зла» репрезентацию своего коллективного труда — а здесь должно говорить о системе, а не наборе текстов — авторы начинают с привычных сомнений в целесообразности различения «женской» и «мужской» литературы («не лучше ли следовать привычной шкале оценок плохая — хорошая?» [5, с. 3]), привлекая меж тем не актуализированную ранее категорию гендерно чувствительного чтения («На какого читателя рассчитана?» [5, с. 3]). Ответ на вопрос о целесообразности «Не помнящие зла» основывают, во-первых, на содержательно-стилевой специфике собственно женского текста как агента специфического женского опыта («Женская проза есть — поскольку есть мир женщины, отличный от мира мужчины» [5, с. 3]), и, во-вторых, за счет выстраивания определенной репрезентации непрерывной традиции женской литературы (в том числе и национального ее компонента) и вписывания своих сочинений в этот контекст. Во втором случае показательным оказывается приведенный описательный ряд: Ж. Санд, М. Юрсенар, В. Вулф, Н. Саррот, А. Кристи, Е. Ростопчина, С. Толстая, А. Панаева, З. Гиппиус, О. Форш, В. Панова, И. Грекова и Л. Петрушевская. Таким образом снимаются противоречия между декларированной инаковостью и новизной / альтернативностью 130 постсоветской женской прозы и ее законным местом в обобщенном массиве классических текстов. По крупному счету, именно этими двумя «запатентованными» путями пойдут и составители других сборников женской прозы, усиливая то компонент определения специфики женского творчества, то элемент «вписывания» в канон «декларированной альтернативы». К примеру, уникальное по научному потенциалу теоретическое осмысление женской прозы представляет петразаводский сборник «Жена, которая умела летать» — наряду с художественными текстами в книгу были помещены литературоведческие и культурологические выступления И. Савкиной, Е. Марковой и Л. Хухтала. Составители этого сборника определяли свою задачу как формулирование и иллюстрирование особенностей женского текста, в том числе и в национальной его специфике (отсюда сопоставление финских и русских текстов). Между тем, сама идея объединить сочинения разноязычных/разнонациональных авторов выглядит не только успешным издательским актом, но и весьма продуктивным ходом по оформлению так называемого феминистского антиканона. При такой трактовке категория «женское» осмыслена как определение отрицаемой фаллогоцентрической моделью Иного, но и как возможный источник расширения культурного воображаемого, то есть подобным образом репрезентированное «женское» выступает одновременно «отклонением» от нормы и «носителем» потенциально различающейся структуры субъективности. Таким образом, характеристика «другая» в отношении самопозиционирования женских прозаиков начала 90-х призвана подчеркнуть не момент отчужденности в рамках общекультурной парадигмы, но осознанное построение «феминной традиции» в рамках Большого художественного канона. _________________________ 1. Трофимова Е. Женская литература и книгоиздание в современной России / Е. Трофимова. // Обществ. науки и современность. 1998. № 5. 2. Ровенская Т., Михайлова М. Феминизм и женская литература в России. История последнего десятилетия / Т. Ровенская // Лит. учеба. 2004. № 1. 3. Иваницкий В. Г. «От женской литературы – к «женскому роману»?» (Парабола самоопределения современной женской литературы) / В. Г. Иваницкий // Обществ. науки и современность. – 2000. – № 4. 4. Чистенькая жизнь. – М., 1990. 5. Не помнящая зла. Новая женская проза. – М., 1990. 6. Ровенская Т. Феномен женщины говорящей. Проблема идентификации женской прозы 80-90х годов / Т. Ровенская // Русские женщины в XX веке. Опыт эпохи. – Проект Женской Информационной Сети. – CD, 2000. 131 Данута Герчиньска (Слупск — Польша) МОТИВ ДОМА В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» Творчество Л. Улицкой относится к женской прозе, активно заявившей о себе в конце 1980-х гг. В более широком плане благодаря выраженному в жестких формах социальному началу произведения Л. Улицкой включают в «другую» прозу (менее распространенные синонимы — «утрированная», «альтернативная»). Так был обозначен феномен, вызвавший растерянность как рядовых читателей, так и профессиональных критиков, ибо он представлял собой литературу, принципиально новую по проблематике, нравственным акцентам, языку. В. Чалмаев отмечал: «Облик “новой женской прозы”» определялся «чернушным» фоном протекания семейной жизни, грязной грубостью любовных отношений, прямым разрушением идеалов стыдливости, скромности, тем более жертвенного отношения к детям, любимому» [1, с. 31]. Но роман не столь однозначен как определил его критик. В творчестве Л. Улицкой можно выделить две важные категории — это Семья и Дом. Центральным в романе «Медея и ее дети» является мотив Дома. Писательница не дает подробного описания дома Медеи. Дом «стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, с террасами, с колодцем в самом низу» [2, с. 27]. В нем была «умная печурка», которая брала мало «топлива, но давала много тепла». Была летняя кухня, сложенная «из дикого камня, на манер сакли, одна стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков» [2, с. 42 — 43]. Лишь постепенно вырисовываются бытовые реалии дома, но они очень важны для понимания духа Дома, его атмосферы. Дом Медеи был не очень богатый и не очень удобный: пол в кухне был земляной, водопровод и электричество отсутствовали. Но именно в этом своем доме в Крыму Медея собирала многочисленных племянников и внучатых племянников. Первые племянники приезжали обыкновенно в конце апреля, а в конце мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста. «Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой — больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал» [2, с. 17]. Медея сама недоумевала, «почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество — из Литвы, из Грузии, из Сибири и Средней Азии» [2, с. 91]. 132 Дом одухотворялся, жил внутренней энергией его хозяйки, притягивал силой внутреннего света героини. Медея сохранила верность обычаю, берущему свое начало в периоде язычества: он связан с древнейшим культом жилища: «Как кров, свидетельствующий о быте предков, как местопребывание родного пената, изба должна была пользоваться благоговейным уважением от всех родичей» — писал А. Афанасьев [3, с. 61]. Невольно напрашивается сопоставление с отношением к Дому героини В. Распутина Дарьи из «Прощания с Матерой». Это женщины, чья стойкость, достоинство, сила самостояния питаются из одного источника — любви к родному очагу, к корням. Медея сохранила связь с древними обычаями, верованиями. Она кровно связана с землей, своим домом: «Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы она этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель» [2, с. 12]. Куда бы она ни уезжала, она тянулась к дому, чувствовала тоску вдали от него. В ее доме был давно заведен странный распорядок: «ужинали обыкновенно между семью и восьмью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь не полезной для пищеварения и приятной для души» [2, с. 43]. Медея — это родной дом, его суть, его душа, это какая-то чистая эманация доброты и одухотворяющей все вокруг любви. «Это удивительно приятное чувство – принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо и они теряются в перспективе бывшего, не бывшего и будущего» [2, с. 574]. У Медеи особый дар общения с предками. Л. Улицкая настойчиво акцентирует культ предков, вплетая эту тему в свою философию родовой преемственности, В соответствии с архаическими языческими представлениями мертвые и живые соучаствуют в общей жизни. В двадцать шестом году в октябрьские дни, задремав на лавочке, Медея увидела всех троих — мать, отца и умершую сестру. «Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала... в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый... они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали ее от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя» [2, с. 62 — 63]. Когда один из племянников Георгий отправился на кладбище, ему «не удалось найти неполадки – Медея, как всегда его опередила: ограда 133 была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на восточных холмах» [2, с. 37]. Медея являет в художественной концепции Л. Улицкой образец христиански праведной жизни: «ее иконописное лицо, маленькая голова, уже тогда повязанная шалью, плоская, на вкус феодосийских мужчин, худоба не привлекали к ней поклонников» [2, с. 173]. Самуил Яковлевич говорил Медее: «Я почувствовал, что рядом с вами нет страха» [2, с. 123]. Ее нравственные принципы на протяжении всей жизни были ясными и стойкими. «Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить вдовой» [2, с. 99]. «Овдовела она давно, но больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах» [2, с. 8]. Медея — человек глубоко верующий: «ей было нетрудно встать в воскресенье до света, отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться домой к вечеру» [2, с. 9]. Она обращается к Богу не с просьбами, а с благодарностью: «Господи, благодарю тебя за все благодеяния твои, за все посылаемое тобою, и дай мне все вместить, ничего не отвергая...» [2, с. 383]; «Господи, благодарю, что ты не оставляешь меня во всех моих путях, посылаешь мне своих дорожных ангелов» [2, с. 381]. После смерти мужа Медея весь год читала Псалтирь. «Псалтирь у нее была старая, церковнославянская, сохранившаяся от гимназических времен... Еще была в доме русско-еврейская... Медея иногда пыталась читать Псалтирь по-русски, и хотя некоторые места были яснее по смыслу, но терялась таинственная красота затуманенного славянского...» [2, с. 341 — 342]. Медея спокойно относится к смерти, чему научил ее долгий жизненный опыт: «За свою долгую жизнь они (Медея и ее сестра Александра. – Д. Г.) к смерти притерпелись, сроднились с ней: научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотанье псалмов, под световой лепет свечей...» [2, с. 565]. Муж Александры обеих сестер считает праведницами, но Сандрочка поправляет мужа: « — Праведница у нас была одна...» [2, с. 574]. В романе достаточно ясно выражена идея «переоценки» нравственных принципов в мире «праведных» людей. Образы Медеи, Маши и Ники — это как бы живые примеры исторического процесса перехода от того, что ясно, мудро и справедливо, к тому, что неизвестно, сомнительно и угрожающе, что ведет к катастрофе. Маша, совершая самоубийство, умирает с ощущением полета: она «сосредоточилась и как будто включила кнопку — тело стало очень медленно отрываться от горы, и гора немного помогала ей в этом движении. 134 И Маша полетела тяжело, медленно, но уже было совершенно ясно, что именно делать, чтобы управлять скоростью и направлением полета, куда угодно и бесконечно... Человеческую свободу и неземное счастье Маша испытала от этого нового опыта, от областей и пространств, которые открывал ее ангел, но при всей новизне, невообразимости происходящего она догадывалась, что запредельное счастье, переживаемое ею в близости с Бутоновым, происходит из того же корня, той же природы» [2, с. 542 — 543]. И удивительно созвучными концепции свободы как любви и смерти оказываются последние стихи: Когда меня переведет Мой переводчик шестикрылый И облекутся полной силой Мои случайные слова, Скажу я: «Отпускаешь ныне Меня, в цвету моей гордыни, В одежде радужной грехов, В небесный дом, под отчий кров» [2, с. 549]. Когда православный священник отказался отпевать Машу, Медея обратилась к иеромонаху – греку, который велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание. Таким образом, как отмечает М. Черняк, «главная героиня осуществила некую функцию соединения двух миров: земного и небесного домов» [4, с. 176]. В образной системе романа Медея, Маша и Ника выражают идею связи и преемственности поколений в утверждении или отрицании традиционных национальных духовных ценностей. Каждая из трех героинь выражает свою точку зрения на происходящие события и является представителем определенной позиции по отношению к интересующим писательницу нравственно-философским проблемам. В эпилоге племянник Медеи Георгий строит на горе «выше Медеиного» новый дом, в котором все как бы пронизано духом Медеи, все повторяет ее жилище: «Летняя кухня очень похожа на Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав» [2, с. 572]. Жизнь Медеи была ненапрасной, если и после ее смерти Дом продолжает жить, если не прерывается связь времен и все многочисленные племянники, их дети и внуки соединены одним понятием — дети Медеи. _________________________ 1. Чалмаев В. Русская проза 1980 — 2000 гг. на перекрестке мнений и споров / В. Чалмаев // Литература в школе. 2002. № 4. 135 2. Улицкая Л. / Л. Улицкая // Медея и ее дети. — М., 2006. 3. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 2 т. / А. Афанасьев. — М., 1868, Т. 2. 4. Черняк М. Женский почерк в современной прозе / М. Черняк // Современная русская литература / М. Черняк. — СПб.-М., 2004. 136 У. М. Навумовіч (Мінск) ЭВАЛЮЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ ХХ СТ.: ІДЭЙНАМАСТАЦКІ ЗМЕСТ, ПРАБЛЕМАТЫКА, ТЫПАЛОГІЯ ГЕРОЯ Беларуская аповесць займае значнае месца ў гісторыі беларускай літаратуры. Яна адыграла асаблівую ролю ў станаўленні прыгожага пісьменства на Беларусі. Падобнае сцверджанне яскрава пацвярджаецца ўсім ходам станаўлення беларускай мастацкай прозы на самых розных этапах яе развіцця. Можна сказаць, што асноўныя здабыткі (не прыніжаючы значэння іншых мастацкіх форм) у беларускай літаратуры ляжаць менавіта ў гэтым жанры. Беларуская літаратура — літаратура, найперш, аповесці. Кожны новы этап ва ўмацаванні і росквіце беларускага мастацтва слова сведчыць аб змястоўнасці дадзенай жанравай катэгорыі і аб яе выключным, рашаючым значэнні ў мастацкай практыцы беларускіх пісьменнікаў, у насычанасці жывога літаратурнага працэсу. Усё гэта дае падставы з вялікай доляй перакананасці меркаваць, што развіццё і эвалюцыя беларускай аповесці — з’ява фенаменальная, рэдкая і ўнікальная ў беларускай літаратуры. Абгрунтаванне ўсяго сказанага вышэй — жывая повязь часу, пераемнасць пакаленняў у літаратуры, хутказменлівы, але і інтэнсіўны літаратурны працэс, відавочнае ўзаемадзеянне традыцый і наватарства ў мастацтве слова. Вядома, што старажытнае мастацтва слова не ведала такога жанру. Як вядома, адсутнічае жанр аповесці ў шэрагу еўрапейскіх і сусветных літаратур. Напрыклад, у французскай літаратуры ўсё, што з’яўляецца большым за памер навелы (апавядання), называецца раманам. Што ўключае ў сябе жанр аповесці? Даволі трывала замацавалася думка ў нашым літаратуразнаўстве, што аповесць — мастацкі твор з нешырокім колам дзеючых асоб, абмежаванасцю дзеяння. Яна мае не такі разгалінаваны сюжэт, як, скажам, у рамане, без асаблівых хітраспляценняў лёсаў, перыпетый праяўленняў характараў, “зігзагаў душы”, глыбінь псіхалогіі, без “раскручвання” і “закручвання” падзейных “вузлоў”, без “наваротаў”, як сказалі б сёння, сімпатыі і антыпатыі персанажаў у якой упаўне выразныя, празрыстыя. Калі гаварыць вобразна, дык аповесць — гэта яшчэ не ўсё дзеянне, падзея, з’ява, а іх фрагмент, адзін ці два, а, мажліва, і больш, цэлы калейдаскоп падзей і з’яў, але абавязкова не ўся панарама дзеяння, а 137 галоўная яе частка — выйгрышная ці нявыйгрышная, у залежнасці ад аўтарскай задумы, іншымі словамі, — момант ісціны, час прыняцця рашэння. Як гаварыцца, у полі зроку аповесці — несумненна, кароткай празаічнай формы — знаходзіцца не ўсё жыццё чалавека, а яго кульмінацыйныя моманты, калі персанажы вымушаны рабіць той ці іншы выбар, ставяцца перад фактам, перажываюць парогавыя, стрэсавыя, альтэрнатыўныя сітуацыі, калі даследаванне ўнутранага стану і матываў паводзін, самога ўчынку асобы вядзецца ў момант найвышэйшага напружання фізічных і духоўных сіл чалавека, на своеасаблівых “піках” кардыяграмы чалавечых адчуванняў, пры “рэнтгенаскапіі” душы, духоўным “узі” сэрца. Такі твор мастацкага слова — аповесць у беларускай літаратуры — вельмі нагадвае народную вышыўку, вязь, арнамент, яркі ўзор на тканіне. Ды, як гаворыцца, падобны не на ўвесь малюнак ці карціну — габелен, вышыўку, ткацтва, алейнае палатно, — а на паасобны фрагмент яго. Няцяжка ўявіць сабе, што калісьці жанчыны-майстрыхі на вёсцы, беручыся за рукадзелле, вышыўку, абавязкова перад усім “нацягвалі” белы абрусік ці даматканае палатно на драўляную рамачку (гэта маглі быць кольца ці квадрат, трапецыя — для зручнасці), а тады ўжо на тым натужным полі невялічкага лапіка палотнішча накідвалі першы ўзор. І так крок за крокам. Спачатку на ражку настольніка ці рушніка, а затым ужо ў сярэдзіне, а сам арнамент вышываўся па баках. Аповесць — гэта і ёсць падобны фрагмент велізарнейшага палотнішча жыцця, габелена часу. Вышыўка палатна “па рамачцы”. Што будзе вышыта, залежыць ад творчых здольнасцей мастака, ад яго жыццёвага вопыту. Якія межы “рамачнага” дзеяння ў аповесці таксама залежаць ад задумы творцы, глыбіні спасціжэння рэчаіснасці, ад размаху падзейнасці ў самой гісторыі чалавецтва. Нялёгка бывае, часам, вызначыць і першае, і другое, і трэцяе, астатняе. Многае залежыць ад канкрэтнага жыццёвага матэрыялу, які бярэцца за аснову мастацкага асэнсавання, ад яркасці і глыбіні з’явы, характару персанажаў, разнастайнасці праяўленняў іх душы, эмоцый і найбольшай сілай, яны адчувальны для забеспячэння поспеху ў асабліва значнай меры. На мастацкім палатне аповесці М. Гарэцкага “Меланхолія” “віціеватай” вяззю вышыты “Сумныя лісты” Лявона Задумы з вёскі Радзівілішкі з датамі ад 30 чэрвеня 1913 г., 1/VІІ. 1913, 2/VІІ. 1913, 8/VІІ. 1913, 11 ліпеня 1913 г. І без дат да сябра дзяцінства і юнацтва: (“Мой любы таварыш! Ну, вось, у нас ужо позняя, трохі засмучоная вясна і пачатак гарачага лета. Скончыліся нарэшце практычныя заняткі, і ты можаш павіншаваць мяне: я скончыў школу...”) [1]. Падобныя запісы ў 138 “Згадцы пра Поўнач” — “Дзень у шэсцьдзесят сутак” М. Стральцова: (“Вось жыву я цяпер у адным добрым месцы на адзіноце з лесам, восеньскай цішынёй, з не зразумелым пакуль мне самому набыткам свае душы.” [2] Або: “Можа, будзе тое, можа, не, але адно сапраўды было: у чэрвені, летам, мы ляцелі на Поўнач.” [2, с. 230]). Аповесць М. Стральцова “Адзін лапаць, адзін чунь” увогуле пачынаецца свабодным вершам: Замест уступу Сон. Сон. Сон. Ноччу бязлюднай і цёмнай, Іду па зямлі, Вышэзны і лёгкі, Пакалыхваюся да тугі. Галава прыгнута пад небам Я плачу. Зоркі – слёзы мае [2, с. 182]. Лірычны герой, а разам і аўтар, раптоўна адчуў нечаканую баязлівасць, што ён “высока, пахілы і лёгкі”, адарваўшыся ад нечага роднага, ў сваім жыцці, ад роднага дому, ужо не здолее нават на момант “прысесці на парог”. У велізарным свеце — пад “зорамі-слёзамі” ў Сусвеце заклапочаны аўтар “шукае шэрую вёску, вёску сваю.” Мы бачым, як многа можна ўмясціць у аповесць, як ёмка і нешматслоўна, выкарыстоўваючы жанравую прастору аповесці, пісьменнік здолеў сказаць пра многае, абагульняючае, пра сябе ў свеце і свет у самім сабе, пра Асобу, Чалавека, Боль, Памяць, Трывогу і Радасць, Сусвет. Жанр аповесці дазваляе перадаць самыя патаемныя і самыя глыбокія думкі чалавека, які “ідзе над гарадамі і вёскамі”, каб адшукаць сябе ранейшага, бо “ўсе мы з хат”. Жыццёвая формула Я. Сіпакова. А далей у М. Стральцова: “...раптам казытліва стала спіне: над стрэшкай пограба імгліста ўсхапіўся снежны ўзвей, калюча зацерусіў у вочы; потым разам аціхла — чуваць было, як шаргаценнем спаўзаў па сцяне і ападаў долу вецер. Снежны пыл на вейках і шчаках раставаў, і рабілася цёпла” [2, с. 182]. Кульмінацыйныя моманты грамадзянскай вайны ў аповесцях героікапрыгодніцкага зместу “Маладняка” — аўтараў літаратурнага аб’яднання: А. Вольнага “Два”, “Затока ў бурах” Я. Відука (Скрыгана), “Мяцеліца” М. Нікановіча, “Рыгор Галота” Р. Мурашкі, “Свінапас” М. Чарота, “Ваўчаняты” А. Александровіча, А. Дудара, А. Вольнага, названа ўжо 139 больш для важкасці “раманам беларускіх лясоў”. Пераход вёскі на новыя рэйкі гаспадарання — добрыя ці дрэнныя, яшчэ невядома, але, несумненна, нязвыклыя і непрымальныя для традыцыйнага сялянскага існавання і стасункаў з зямлёю: “Межы”, “Новыя дарогі” С. Баранавых. Перажытае, ды незабытае, выпакутаванае ў “Сваёй аповесці” Б. Мікуліча. Засілле сацыяльнага зла ў аповесці “Вінаваты” П. Галавача. Развагі селяніна ў “Адшчапенцы” Я. Коласа. “На прасторах жыцця” Я. Коласа — першы даволі загадкавы твор для юнацтва празаічнай кароткай формы ў гісторыі беларускай літаратуры. Погляд на юнацтва як бы “збоку”, назіранні старэйшага майстра слова, як тыя шукаюць на роднай зямлі “прасторы жыцця”, знаходзяць і не знаходзяць іх, часам, заблукаўшы ў трох соснах. “Жураўліныя крыкі” вайны аповесцей В. Быкава з надзеяй “дастукацца” з паднябесся да душ і сэрцаў тых, хто жыве сёння на зямлі, хто застаўся, выжыў у той страшнай бойні, жаданне “дапісаць” лёсы і “даткаць” палатно жыццяў чалавечых, разгадаць матывы іх паводзін ужо ў мірным, не менш экстрэмальным часе на мяжы “вайны і міру”, а значыць, на пярэдніх рубяжах дабра і зла. Ужо не аднымі ўзорамі, не адной ці некалькімі ніткамі, а фантасмагорыяй, нагрувашчваннем фарбаў, адценняў, філасофскаканцэптуальнай заглыбленасцю не толькі ў тое, што было, што ёсць, што будзе, але і ў тое, што можа быць з чалавекам, магло б быць, тчэ свае мастацкія палотны невялікіх празаічных формаў “парушальнік спакою” Я. Сіпакоў — “Усе мы з хат”, “Жыві, як хочацца”, “Пыл пад нагамі” і інш. У гэтых аповесцях звяртае на сябе ўвагу абагульненасць зместу, уменне “вывесці” простыя жыццёвыя формулы, дайсці да ісціны. Жанр аповесці садзейнічае гэтаму як найлепш. “Плынь свядомасці” ў празаічных рэчах сярэдняга фармату — творах В. Іпатавай. “Мелодыка” і складаная праблематыка аповесцей В. Гігевіча — “Мелодыя забытых песень”, “Калі ласка, скажы”, “Жыціва”, “Дом, да якога вяртаемся”. Пранікнёнасць, даходлівасць, эмацыянальнасць, настраёвасць, займальнасць і глыбіня псіхалагічных станаў душы асобы ў І. Шамякіна — “Трывожнае шчасце”, цыкл з пяці аповесцей (“Непаўторная вясна”, “Начныя зарніцы”, “Агонь і снег”, “Пошукі сустрэчы”, “Мост”), “Шлюбная ноч”, “Гандлярка і паэт”, “Ах, Міхаліна, Міхаліна” і інш. Фрагментарныя лёсы юнацтва — у аповесцях І. Навуменкі: “Таполі юнацтва”, “Семнаццатай вясной”, “Бульба”. Фантасмагарычныя экзерсісы маладых у прозе, сацыяльныя утопіі, пражэкты маральных “усплёскаў душы”, вытанчанасць узораў і загадкавасць малюнкавых сюжэтаў у А. Федарэнкі, У. Сцяпана, Б. Пятровіча (“Шчасце быць...”). Вастрыня пастаноўкі праблематыкі, 140 суровае перапляценне чорна-белых, у першую чаргу, але і рознакаляровых ніцей у аповесцях Ю. Станкевіча са зборніка “Любіць ноч — права пацукоў”. Настроенасць на раскрыццё святла і ценю ў творах пачаткоўцаў відавочная. Як мы маглі пераканацца, мастацкая палітра беларускай аповесці ХХ стагоддзя надзвычай багатая, шматкаляровая, з вострымі і нярэдка супярэчлівымі, моцна зацягнутымі вузламі, заглыбленая ў само жыццё. Фрагментарна, але найбольш поўна і вычарпальна беларуская аповесць ХХ стагоддзя даследуе жывую плынь часу, рух жыцця, чалавека ў сваім часе. Выткана мазаічнае, але цэласнае палатно — “габелен жыцця” — з яркімі фарбамі лёсаў чалавека — лёсаў краіны, з тонамі і паўтонамі быту і быцця, з нюансамі людскіх адчуванняў на кожным павароце, “у віры жыцця” (М. Зарэцкі), “пад сонцам” (М. Зарэцкі), з усімі “Дробязямі жыцця” (П. Галавач), з яго “Журбой у стылі рэтра” (Я. Сіпакоў) і “Спадзяваннямі на радасць” (Я. Сіпакоў). Жанр — гэта канвенцыя. Сказана даўно. Вызначэнне жанра гаворыць аб тым, што паміж пісьменнікам і чытачом існуе своеасаблівая дамоўленасць, “негалоснае” пагадненне аб тым, як трэба ўспрымаць той ці іншы твор, што закладзена ў ім, што можна чакаць ад яго, а чаго ні ў якім разе не варта патрабаваць пры любым падыходзе ці пры ўсякім разглядзе. Жанр — своеасаблівая заява мастака, зварот пісьменніка да чытача аб форме падачы матэрыялу, аб змесце і спосабе ўспрыняцця самога твора. У той жа час жанр мае ў сабе і пэўныя характэрныя рысы, тое агульнае, устойлівае, але і адметнае, што адрознівае яго і што можа паўтарацца з твора ў твор, а таму і абумоўлівае пэўны спецыфічны рад, які найбольш поўна і дасканала ў межах абранай формы, у адпаведнай “рамцы”, “фармаце”, раскрывае зменлівую гістарычную ці жывую штодзённую рэчаіснасць. Кожнай такой праўдзе жыцця адпавядае свая жанравая спецыфіка твора. Раскрыць “чалавечае ў чалавеку” можна самымі рознымі сродкамі, але вось паказ самага набалелага, “тэмпературы кіпення страсцей”, хвалюючага і нечаканага вымушае пэўнага адбору эмоцый, напалу пачуццяў, дынамікі разгортвання падзей адпаведнай формы і ступені падыходу. Такой формай, якая раскрывае ўзлёт ці падзенне чалавечага духу, трагедыйнасць ці дынаміку прыняцця рашэння ў пэўны момант чалавечага існавання з’яўляецца аповесць. Жанр, які стаў любімым для многіх пісьменнікаў, не менш распаўсюджаны і значымы, чым апавяданне, раман ці іх разнавіднасці – навела, раман-эсэ, рамансповедзь, раман-біяграфія, ці нават раман-хроніка, раман-эпапея. “Люблю пісаць апавяданні”, — прызнаваўся Я. Брыль, якога па праву 141 называюць рыцарам малых жанраў у прозе. Апавяданні і аповесці — найбольш улюбёная і распаўсюджаная жанравая форма класіка беларускай прозы. Аўтар стварыў раман — “кнігу адной маладосці” — “Птушкі і гнёзды”, які застаецца адзіным у творчай практыцы пісьменніка і ўзнік на аснове ранніх юнацкіх аповесцей “Сонца праз хмары” і “Жывое і гніль”. Празаіку Я. Брылю належаць выдатныя аповесці “Ніжнія Байдуны”, “Золак, убачаны здалёк”, “Апошняя сустрэча, або Расчараванне”. Пры гэтым, вядомы майстар прозы ўдакладняў, што “на любую тэму магу глядзець толькі праз прызму малое формы” [3]. Шлях ад апавядання да аповесці ў беларускай прозе вельмі кароткі і абсалютна незаўважны. Часта іх нават не адрозніваюць, адны і тыя ж празаічныя рэчы называюць і аповесцю і апавяданнем, як, напрыклад, “Прыгранічны манастыр” Р. Мурашкі — адзін з першых папулярных да вайны твораў авантурна-прыгодніцкага жанру, першы, бадай, беларускі дэтэктыў. Такіх прыкладаў шмат. Вядома, што ўсе кароткія рэчы ў рускай літаратуры ХVІІІ — ХІХ стст. называліся аповесцямі (“Аповесці Белкіна” А. С. Пушкіна) у той жа час, як разгорнутыя ў вуснай ці летапіснай форме чалавечыя лёсы называліся “апавяданне старога салдата”, “аповед бацькі”, “аповед юнкера”, “аповед правінцыяла”, мелі разгорнуты сюжэт, як у аповесці, але такімі не лічыліся: “Жыццё Аляксея, сына Божага”, “Як хадзіла Багародзіца па пакутах”. Часцей такія рэчы насілі дакументальны характар, падкрэслівалася, што гэта не “белетрыстыка” (сачыненне), а “жывыя кавалкі з жыцця жывых людзей” (20-я гг. ХХ ст.), нешта такое, што запісана са слоў відавочцаў, жывых удзельнікаў гістарычных падзей ці тых, хто склаў славу айчыннай культуры. Запісвалася тое, што асабліва засела ў народнай памяці. Аўтар у аповесці менш заўважны, чым у апавяданні. Аповесць мае большую ступень аддаленасці, у ёй большая дыстанцыя паміж з’явай, падзеяй, характарам персанажа і самім апавядальнікам, “погляд як бы збоку” вельмі адчувальны, падкрэслены сюжэтна і ў абмалёўцы. У аповесці, як правіла, прыцягваюць увагу неардынарныя характары, натуры яркія, глыбокія, малююцца вострыя і напружаныя сітуацыі. Аповесць не адкладваюць на наступны раз, каб дачытаць. Яна ці захоплівае, ці не, выклікае суперажыванні, або пакідае раўнадушным. Па сваім ідэйна-мастацкім змесце беларуская аповесць прайшла магутны, часам пакручасты, але адметны і захапляючы шлях. Заглыбіўшыся ў душу звычайнага чалавека ў творчасці М. Гарэцкага, В. Ластоўскага, В. Дуніна-Марцінкевіча (вершаваная аповесць “Гапон”), Ядвігіна Ш., пазней знайшоўшы філасофскае асэнсаванне чалавека і 142 свету ў аповесцях Я. Коласа, К. Чорнага, М. Лынькова, Я. Маўра, атрымаўшы рамантычна-завостранае праламленне часу і чалавечага характару ў прозе М. Зарэцкага, набыўшы сацыяльную прыроду ў творах В. Каваля, С. Баранавых, Б. Мікуліча, Я. Нёманскага, беларуская аповесць інтэнсіўна развівалася ў напрамку заглыблення ў свет чалавека і чалавека ў свеце. Аповесці І. Шамякіна, Я. Брыля, А. Карпюка, М. Лупсякова, Л. Арабей значна пашырылі гарызонты аналітычнай прозы, засведчылі аб росквіце жанру і сцвердзілі адметнасць і непаўторнасць яго эстэтыкі. Цеснае спалучэнне разведвальных функцый, мабільнасці і вастрыні новага погляду на з’явы рэчаіснасці зрабілі аповесць у беларускай літаратуры адным з самых дэмакратычных жанраў, з відавочнай дэмакратызацыяй, “размуроўваннем” формы, зместу, стылю. Беларуская аповесць ішла ў авангардзе “перабудовы чалавека па новаму штампу” (Ф. М. Дастаеўскі), разведваючы новыя шляхі да гармоніі ўзаемаадносін паміж людзьмі, раскрываючы жаданне жыць не па хлусні, без двайных стандартаў, захоўваючы чысціню і рамантыку духу. Такія аповесці В. Быкава, М. Стральцова, У. Караткевіча, Я. Сіпакова, І. Чыгрынава, І. Пташнікава, В. Адамчыка. Невыпадкова ў жанры аповесці сталі мажлівымі “формулы часу”: “Усе мы з хат” (Я. Сіпакова), “Сена на асфальце” (“вёска ў горадзе”) М. Стральцова, “У тумане”, “Знак бяды” В. Быкава, “Непаўторная вясна” І. Шамякіна і інш. Навізну філасофска-канцэптуальнага падыходу да жыцця дэманструюць празаічныя творы апошніх гадоў Я. Сіпакова, В. Іпатавай, В. Гігевіча, якія выступаюць за каштоўнасць чалавечага жыцця на роднай зямлі, за паўнату духу, адметнасць людскіх адчуванняў. Аповесць у беларускай літаратуры — самы распаўсюджаны, найбольш мабільны, разведвальны, дынамічны жанр. Літаратурны даследчык Г. Д. Гачаў у кнізе “Змястоўнасць мастацкіх форм (эпас, лірыка, тэатр)” пісаў: “Форма ёсць не толькі канструкцыя, але і светаўспрыманне” [4, с. 39]. Не пагадзіцца з гэтым нельга. Гісторыя беларускай аповесці, яе эвалюцыя якраз пацвярджае дадзены тэзіс. Г. Д. Гачаў працягваў: “Форма — гэта існаванне быцця і чалавека: апрануўшы чалавека ў мундзір, армія гаворыць: ён — мой, ён — ваенны. Праз форму кавалак быцця і кожны чалавек, які нараджаецца на свет, пра якога толькі можна сказаць, што ён ёсць, але яшчэ нельга сказаць, што ён ёсць, — становіцца чымсьці, г. зн. праяўляе пэўную сваю сутнасць” [4, с. 39]. 143 У жанры аповесці чалавечая сутнасць праяўляецца, на нашу думку, найбольш канцэнтравана, ярка і пераканаўча. Аб гэтым сведчыць эвалюцыя жанру аповесці ў беларускай літаратуры. __________________________ 1. Гарэцкі М. Выбраныя творы: У 2 т. — Т. 2. / М. Гарэцкі. — Мн., 1973. 2. Стральцоў М. На ўспамін аб радасці: Выбр. / М. Стральцоў. — Мн., 1974. 3. Пяцьдзесят чатыры дарогі: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. — Мн., 1963. 4. Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. / Г. Д. Гачев. — М.: 1968. 144 А. В. Шарапа (Мінск) МАРАЛЬНА-ЭТЫЧНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА “БАЛОТА” У адным са сваіх даследаванняў па сучаснай літаратуры П. Дзюбайла адзначыў, што “раней крытыка справядліва сцвярджала, што найбольшыя поспехі беларускай літаратуры — творы пра гераізм і трагедыю народа ў гады вайны. Аднак сёння літаратура пра вайну... становіцца іншай” [1, с. 94]. Цяпер больш важна звярнуцца не да апісання ваенных баталій, а да асэнсавання ўрокаў вайны. Творчасць В. Быкава ў гэтым сэнсе з’яўляецца даволі яскравым прыкладам сучаснага перагляду падзей ваеннага часу. Думаецца, пісьменнік быў упэўнены, што на вайне кожны чалавек праходзіць выпрабаванне на сумленнасць і маральную трываласць, змяняюцца толькі час і месца. Як адзначыў М. Тычына, “уся яго творчасць сведчыць пра няўхільнае імкненне ісці ў глыб з’яў, якія даследуюцца, дабірацца да вытокаў чалавечых учынкаў, шукаць сапраўдную сутнасць чалавека. Кожная яго аповесць — свайго роду адкрыццё невядомага дагэтуль свету” [2, с. 45]. І свет гэты, як правіла, трагічны. А трагізм павялічваецца паколькі выпрабаванняў, маральных і фізічных, у творах пісьменніка не пазбягаюць і дзеці. У В. Быкава няма ніводнай партызанскай аповесці, дзе б не прысутнічалі дзіцячыя вобразы, часта сустракаем маленькіх герояў і ў іншых творах празаіка. Звернемся да аднаго з апошніх па часе напісання твораў пісьменніка — аповесці “Балота” (2001). У ёй назіраецца тэндэнцыя, якая стала ўжо характэрнай для творчасці Быкава: аўтар выяўляе імкненне да гранічнага звужэння прасторавых і часавых межаў дзеяння, звядзенне эпічнага мноства чалавечых характараў да адзінак, разгляд шматлікіх маральных праблем — да аналізу адной напружанай сітуацыі. Але гэтая, здавалася, спрошчанасць толькі знешняя. У аповесці трое вайскоўцаў (камандзір Гусакоў, старшына Агрызкаў, фельчар Тумаш) атрымалі заданне даставіць баявыя ўзнагароды ў партызанскі атрад. Але з самага пачатку ў іх нешта не заладзілася. На лузе, дзе мужчыны прызямліліся на парашутах, іх не сустрэў партызанскі дазор. А пасля яны і зусім заблыталіся, не ведаючы, як прабрацца да месца назначэння. І вайскоўцы звяртаюцца па дапамогу да маленькага пастушка Косці. Пра хлопчыка аўтар толькі сціпла зазначыў, што той любіў чытаць і дапамагаў маці па гаспадарцы, бо бацьку мабілізавалі і, дзе ён знаходзіцца, невядома. Косця шчыра імкнецца дапамагчы 145 вайскоўцам: кідае статак і ў чым быў, босы, праводзіць сталых і, здавалася, вопытных мужчын да Багавізны. Часам пастушок блытаўся, у якім кірунку ісці, і яму рабілася крыўдна на самога сябе. Косця вельмі не хацеў падвесці дарослых і нават калі, пракалоўшы ступню да крыві, пачаў відавочна кульгаць, то не сказаў пра гэта камандзіру. Вайскоўцы, як паказвае В. Быкаў у аповесці, ставяцца да хлопца халодна, часам нават жорстка: Гусакоў не дазваляе Тумашу нават сухаром пачаставаць Косцю і ўвесь час трымае на дыстанцыі пісталетнага стрэлу, “каб у выпадку чаго…”. Паводзіны, здавалася б, недарэчныя для сумленных абаронцаў Айчыны. Адкуль такія падазронасць і недавер да хлопчыка-падлетка? Для мастака-псіхолага В. Быкава важна высветліць прычыны такіх паводзін. Аўтар праводзіць мэтазгодны экскурс у мінулае трох вайскоўцаў, у выніку чаго чытач разумее, што да шчырай сумленнасці гэтым людзям далёка. Фельчар Тумаш — “так сабе, збоку-прыпёку”, як адзначае аўтар, наогул не ведае, як патрапіў на гэтае заданне. Загадалі збірацца — і на аэрадром, пасля з самалёта “выкінулі”, хаця Тумаш з парашутам ніколі не скакаў. У мірны час працаваў з доктарам Дашкевічам, якога ўзялі за “крамольныя” размовы. І Тумаш доўга яшчэ жыў у стане страху, чакаючы, што наступным забяруць яго. Таму вайна стала для яго пэўнай палёгкай: тут чаканне пагібелі ён “перажываў не адзін, а нароўні з усімі”. Камандзір Гусакоў, як адзначае В. Быкаў, “перад Богам быў грэшны яшчэ з даваенных часоў”, калі, выконваючы “абавязак маладога бязбожніка-бальшавіка”, разбураў царкоўныя купалы, выдзіраў з іх крыжы. За гэта атрымаў знак “Выдатнік РСЧА”. “Адказным” ён быў і на вайне. Не пагрэбаваў забіць настаўніка, які добра пачаставаў яго групу, але пасмеў сказаць, што нямецкая нацыя культурная, верыць у Бога, яна дала свету Гётэ, Шылера… Навучыўся Гусакоў у свой час, пакуль служыў ва ўзнагародным аддзеле, “забяспечваць урадавымі ўзнагародамі” герояў, ведаючы дзе і што ў афіцыйных паперах трэба дапісаць. Старшына Агрызкаў – “адмысловы повар трэцяга разраду” – хацеў патрапіць у авіяцыю, але плоская ступня перакрэсліла яго мары. Замест гэтага стаў ён гаспадарыць на невялічкай кухні генерала. Не змог Агрызкаў процістаяць жаночым чарам маладой генеральшы, дзякуючы якой, магчыма, і атрымаў чын старшыны, мінаючы ўсе сяржанцкія ступені. Генерал здраду жонкі выкрыў, і повар быў накіраваны “на выпраўленне ў партызанскі штаб”. 146 Людзі, як бачым, не бязгрэшныя, самы час праявіць чалавечнасць і быць удзячным дзіцяці за тое, што дапамагае знайсці дарогу да партызан. Але, высвятляецца, яны кіруюцца іншай логікай, на іх думку, “смешна будзе прызнацца каму ў штабе, што вясковы пастушок два дні ратаваў іх, трох узброеных кадравых вайскоўцаў, вёў у партызанскі штаб, якога яны не маглі адшукаць нават з картай. Заблудзіліся, бы недарэкі. Бы апошнія малапісьменныя абармоты не маглі даць сабе рады…” [3, с. 66]. Такім чынам, героі аповесці “Балота” аказаліся ў сітуацыі выбару, абсурднасць якой відавочная. Камандзір Гусакоў задаецца пытаннем: што рабіць з хлопцам, які прывёў іх да вызначанага месца. Косцю, як разважае вайсковец, ні пусціць, ні ўзяць з сабой нельга. Відавочна, што на вагі перш за ўсё пастаўлена жыццё хлопчыка і толькі потым, магчыма, бяспека партызанскага злучэння. Вырашаў Гусакоў нядоўга: “Увогуле, якая праблема? На акупаванай тэрыторыі. Аднаго чалавека. Хоць бы і хлопчыка. Немцы іх вунь колькі нішчаць кожнага дня: і хлопчыкаў, і дзяўчынак” [3, с. 86]. Але то ж немцы… А тут свае паднімаюць руку на дзіця, якое прайшло разам з дарослымі ўвесь няпросты шлях і заслужыла, думаецца, пэўнага даверу, спачування і, безумоўна, літасці. Але камандзір упэўнены: “будзеш усіх шкадаваць, не дачакаешся перамогі. Сам ляжаш у зямлю” [3, с. 86]. З траіх вайскоўцаў толькі фельчар Тумаш адчуў усю агіднасць такога фіналу. І не толькі таму, што ягонымі рукамі спрабуюць здзейсніць нялюдскае, але і таму, што забіць трэба хлопчыка. Тумаш, у якім яшчэ да вайны пасяліўся страх, зведаў на вайне шмат жахлівага і агіднага. Бачыў ён, як танкісты душылі на дарозе звязаных эсэсаўцаў, паволі наязджаючы на іх гусеніцамі, як прывязвалі да ствала гарматы і расстрэльвалі ўласаўца. Але калі ў гэтым была хоць нейкая ваенная логіка помсты, няхай сабе і з паталагічнай жорсткасцю, то ў забойстве хлопца фельчар адмаўляецца бачыць логіку ўвогуле. Косця — “не вораг і не партызан, можа, сын партызана. Узялі, пакарысталіся і – прэч. Бы якую анучу”, — моўчкі разважае фельчар [3, с. 89]. Таму, ведучы хлопчыка ў сасоннік, фельчар усё ж спадзяецца, што той зразумее страшную задумку вайскоўцаў і ўцячэ. Але Косця нават не падазраваў дарослых у агідных помыслах і спакойна ішоў да сваёй пагібелі. Фельчар Тумаш, у душы якога страх не вытруціў да канца ўсё чалавечае, проста сказаў хлопцу: “Бяжы!” і выстраліў у паветра… Завяршаецца аповесць даволі сімвалічна: прыняўшы вайскоўцаў за ворагаў, партызаны забіваюць Гусакова, паранілі Агрызкава. Свае — сваіх, як, у прынцыпе, і самі вайскоўцы спрабавалі зрабіць тое ж у адносінах да Косці. 147 Відавочна, аповесць уражвае не складанасцю сюжэтнай лініі, складанае для чытача – паверыць у рэальнасць абсурду апісанай сітуацыі. Балота ў творы не толькі лясная багна, праз якую хлопчык вядзе вайскоўцаў, гэта балота чалавечай душы, чэрствай да болю, пакут ахвяр вайны. Сцвярджэнне, што мэта апраўдвае сродкі, аўтаматычна ачышчае сумленне дарослых, што ахвяруюць нявінным жыццём у імя высокіх ідэй. У гэтай сувязі ў адзін рад з Гусаковым можна паставіць і Брытвіна з аповесці Быкава “Круглянскі мост”, які, дзеля выканання баявога задання і ўласнай карысці, пасылае хлопчыка Міцю на непазбежную смерць. Але ці патрэбны такія ахвяры грамадству?! Прыгадаем словы Івана Карамазава (Ф. Дастаеўскі “Браты Карамазавы”), які ўпэўнены, што сусветная гармонія “не стоит… слезинки хотя бы одного замученного ребёнка” [4, с. 279]. Гэтая ж думка гучыць у роздуме доктара Рые з рамана А. Камю “Чума”: “И даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей” [5, с. 283]. Для Гусакова з аповесці В. Быкава дзіцячае жыццё як раз такі і ёсць кошт спакою, “гармоніі” з уласнымі прынцыпамі. Ды і сама сітуацыя з Косцем, на думку камандзіра, — усяго толькі “невялічкая балючая праблема. Даволі паскудны сюрпрыз!..” [3, с. 86]. Апісваючы намаганні Косці, Быкаў супастаўляе адносіны да сітуацыі дзіцяці і дарослых. Для вайскоўцаў важна як мага хутчэй выканаць заданне, што стала для іх такім праблематычным. На працягу ўсёй аповесці яны нечым незадаволены: патруль не сустрэў, з дарогі збіліся, шлях да мэты зацягнуўся, пераход праз багну зусім іх абяссіліў. Косця ж выпрабаванні вытрымлівае стаічна: ён ледзь ступае на прабітую нагу, захлынаецца ў багне, цягне цяжкую сумку, якую ўзвалілі на яго дарослыя — але ідзе наперад. Таму што, у адрозненне ад старэйшых, думае не пра сябе, а пра сваю адказнасць за паспяховае выкананне задання. Дзіцячы патрыятызм у гэтай сітуацыі нашмат большы, чым у вайскоўцаў, ён (патрыятызм) “чысты”, без нагрувашчвання абсурднага схематызму. Таму невядома, каму перш-наперш павінны былі б аддзячыць партызаны за дастаўку ўзнагарод, калі б усё скончылася не так трагічна. За малым і канкрэтным у Быкава заўсёды бачыцца вялікае і агульнае. У аповесці аўтар у чарговы раз падкрэслівае, што не мае межаў не толькі міласэрнасць, але і чалавечая подласць: да якой недазваляльнай мяжы можа апусціцца чалавек, калі і праз дзіця пераступае. “Дзіцячая“ тэма ў комплексе вострых праблем, што вырашае В. Быкаў, не проста аб’ект адлюстравання ці сродак эмацыянальнага ўздзеяння на чытача. Такім чынам аўтар своеасабліва вырашае праблему гуманізму. Творчае пераасэнсаванне сітуацыі выбару ў непасрэднай 148 сувязі з катэгорыямі трагічнага і гераічнага, завастрэнне абсурднасці абставін, экзістэнцыяльная безвыходнасць робяць творы В. Быкава каштоўным матэрыялам для аналізу сучаснымі даследчыкамі літаратуры. _________________________ 1. Арочка М. М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х. Літаратурны агляд / М. М. Арочка, П. К. Дзюбайла, С.С. Лашук. – Мн.: Навука і тэхніка, — 1993. 2. Тычына М. Час прозы: Літ.-крытыч. арт. / М. Тычына.– Мн.: Маст. літ., 1988. 3. Быкаў В. Балота. Знак бяды: Аповесці / В. Быкаў. — Мн.: ГА БТ “Кніга”, 2001. 4. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. — Ч. II. / Ф. М. Достоевский. — Мн.: БелСЭ, 1981. 5. Камю А. Падение / А. Камю. — СПб.: Азбука классика, 2004. 149 Н. В. Еўчык (Мінск) УЗНАЎЛЕННЕ НАРОДНАГА ПОБЫТУ Ў ПРОЗЕ ІВАНА ПТАШНІКАВА Творчасць Івана Пташнікава па праву лічыцца адметнай з’явай. Беларускую літаратуру звычайна характарызуюць як літаратуру, у якой надзвычай ярка, востра і заглыблена даследуецца непасрэдная сувязь чалавека са знешнім рэчыўным, прыродным і матэрыяльным светам. З аднаго боку, проза І. Пташнікава цалкам адпавядае ў нацыянальнай традыцыі адлюстравання народнага, пераважна вясковага жыцця і побыту як рэальнага спосабу жыцця, як формы сацыяльных зносін, як сукупнасці канкрэтна-гістарычных звычаяў і нораваў. Выхадзец з сялянскага асяроддзя, Пташнікаў, безумоўна, добра ведае вёску і выяўляе асаблівую схільнасць да даследавання персанажаў, што блізкія яму па духоўным і чалавечым досвеце, біяграфічным вопыце. Аднак проза Пташнікава выдзяляецца з агульнага шэрагу твораў, пабудаваным на традыцыйным “вясковым” матэрыяле. Не толькі дакладнасць апісанняў псіхічнага стану герояў, скрупулёзнасць і праўдзівасць узнаўлення сялянскага, народнага побыту прываблівае і прыцягвае ўвагу чытача да творчасці І. Пташнікава. Напэўна, як ніхто іншы ў сучаснай беларускай літаратуры, ён авалодаў майстэрствам аб’ёмнага апісання: пахі, гукі, колеры, фізічныя адчуванні, рухі змяшчаюцца ў фразе Пташнікава, як і ў рэальным жыцці, натуральна і арганічна. Трэба пагадзіцца са слушнай заўвагай Я. А. Гарадніцкага: “Судакрананне з рэаліямі вонкавага свету адбываецца часцей за ўсё на першасным сэнсавым узроўні. Герой успрымае падрабязнасці і дэталі навакольнай рэчаіснасці з дапамогай усіх сваіх пачуццяў, і найперш тых, якія перадаюць самыя асноўныя, жыццёва неабходныя адчуванні. Слых, зрок, дотык складаюць самыя базавыя, элементарныя і разам з тым экзістэнцыйна і эстэтычна вельмі важныя адчуванні, якія аказваюць даволі часта вызначальнае ўздзеянне на фарміраванне вобразнага ладу літаратурнага твора” [1, с. 41]. У якасці прыкладу можна прывесці апісанне гранаты, што знайшлі дзеці, пазбаўленыя апекі дарослых, у кароўніку, дзе працяглы час стаялі партызаны (апавяданне “Эфка”): «У разгоенай саломе ў першым кароўніку Пашка Жарскі і знайшоў “эфку”. Новенькую, чорненькую, як жук, з бліскучым рычажком і колцам на бліскучым, аж пырскаў на сонцы, шпяньку; з чырвоненькім пахнючым, калі адкруціш, запалам усярэдзіне. “Эфка” была рубцаватая і цяжкая: апусціў за пазуху — выцягнула з-пад дзяжкі кароценькую старую чорную картовую рубашку 150 і грукнула аб зямлю, як камень» [2, с. 254]. Адмысловая пластычнасць, стэрэаскапічнасць зроку, надзвычай вострая, учэпістая памяць на падрабязнасці знешняга свету — напэўна, гэта самыя моцныя грані мастацкага таленту І. Пташнікава. Празаік імкнецца дайсці да самой сутнасці з'явы, прадмета, якія ён апісвае, даць ім дакладнае вызначэнне. Пісьменнік карыстаецца найперш уласным вопытам, узнаўляе тыя здарэнні і адчуванні, што засталіся ў яго памяці. Можна сказаць, успаміны — адзін з вядучых творчых прыёмаў, што дапамагае аўтару адкрыць вытокі сённяшніх калізій і канфліктаў, а яго персанажам ацэньваць тое, што было зроблена, і тое, што яны прамінулі. Адчуваецца аўтабіяграфічная аснова апавядання “Францужанкі”: напэўна, нельга з чужых слоў так канкрэтна, дакладна і па-мастацку пераканаўча апісаць мукі голаду дзяцей і падлеткаў: “За сталом былі яшчэ тры мужчыны, гаманілі, але на іх я нават не зірнуў: вочы мае ўпіліся ў буханку чорнага магазіннага хлеба, пачатую зверху — стаяла старчма, — і ў парэзаную шырокімі, з пядзю, цвёрдымі кавалкамі рыбу траску, ад якой шыбала ў нос густым вострым пахам і гнала сліну... У мяне паплыло-паплыло ўсё перад вачыма — і стол, і мужчыны за ім, і шафа, але я ўстояў на нагах, утаропіўшыся ў бутэльку, як схапіўся за яе рукамі. У празрыстай, бліскучай ад рускай горкай пачатай бутэльцы я згледзеў буханку чорнага хлеба — зменшаная і скрыўленая, яна адбівалася ў шкле. Пасля я ўбачыў, як буханкі хлеба, адскокваючы адна ад адной, закрылі ўсе шкляныя дзверцы ў шафе... Я адвярнуўся ад стала і стаў глядзець у акно на канюшню. Але канюшні я не ўбачыў: у шыбіне вялікія белыя мужчынскія рукі кроілі адну буханку хлеба, другую...” [2, с. 409 — 410]. Многія пісьменнікі і да Пташнікава, і пасля яго звярталіся да паказу побыту беларускай вёскі, галодных гадоў ваеннага і пасляваеннага дзяцінства, але нямногія зрабілі гэта так, як ён. Прадмет рэальнага свету, убачаны пільным і чуйным позіркам мастака, здольны выпраменьваць непрадметную інфармацыю. Але, перадаўшы гэтую інфармацыю, звесткі, прадмет як пачуццёвая дадзенасць адыходзіць ўбок, у цень, і інфармацыя, адштурхнуўшыся ад яго, развіваецца далей без яго і па-за ім. Дэталі перастаюць быць “прыкметай” побыту, напаўняюцца драматычным сэнсам. Трэба дадаць толькі, што ў гэтым эпізодзе апісана сцэна допыту героя-падлетка энкавэдыстам з раёна капітанам Дувалавым. Адчуванне голаду да такой ступені моцнае, што прымушае хлопца на некаторы час забыць аб тым вялікім страху, што выклікае ў ім допыт і пагрозы хуткай расправы. Пастаяннае суаднясенне ўнутранага свету асобы з усім знешнім светам з’яўляецца рэальнай асновай для адлюстравання сапраўднага 151 маштабу душы таго ці іншага персанажа. Злавесны воблік капітана Дувалава выклікае ў свядомасці падлетка вобраз драпежнай птушкі: Дувалаў “паправіў пад шырокім рэменем фалды і закурыў. Пацягнуўся, падняўшыся на бліскучыя насочкі ў ботах, і, выставіўшы ўперад рукі, узмахнуў імі раз, другі, трэці... Неяк хутка і ўпарта. Перад вачыма ў мяне раптам паявіліся ўчарашнія францужанкі, адна і другая — ідуць упобачкі, падымаючыся ад маста на грэблю, а над імі, апусціўшыся зверху, узмахнуў вялікімі растапыранымі крыллямі каршун...” [2, с. 403] У раслінах, з’явах прыроды, прадметах духоўнае выяўлена так неакрэслена, так няпэўна, што мастак і – праз яго – персанаж мастацкага твора можа “дастаць” ці не любы вобраз і сэнс, магчыма, самы нечаканы. Так, Александрыне (апавяданне “Тры пуды жыта”) у хваравітым стане нервовага напружання галоўкі бабка, які яна косіць, падаюцца то змяінымі галоўкамі, то пагранічнікамі (“галоўкі пачалі падымацца ад зямлі — расці высока, у рост чалавека, і зрабіліся адразу людзьмі: шэрае з чырвоным...” [2, с. 440]), а то і уласаўцамі (“вылазяць уласаўцы, у нашай ваенай форме. Свае ж, нашы... Зганяюць у вайну ў вёсцы ўсіх да Ганулькі — збіраюцца паліць людзей...” [2, с. 441]). Але і ў такога роду асацыяцыях захоўваецца логіка развіцця пачуццяў. Узнаўляючы ўнутраныя счапленні жыцця, пісьменнік часцей за ўсё абапіраецца на ўспаміны саміх героеў. Перад вачыма Александрыны — воблікі тых людзей, якія калісьці парушылі яе жыццё, прынеслі ёй няшчасце і смерць яе мужу. “Столькі гадаўя на зямлі... Як ты іх усіх перарэжаш...” [2, с. 441], — робіць горкую выснову жанчына. Не баючыся нанесці страты жыццёвай аб’ектыўнасці, аўтар прыёмам ўмоўна-паэтычнага адушаўлення неадушаўлёнага ўзмацняе лірычную энергію прадмета, дэталяў побыту. Свет чалавека размыкаецца, уступае ў своеасаблівы дыялог са светам рэчыўным, прыродным. Справядліва адзначае С. А. Андраюк, што ў прозе І. Пташнікава апошняга перыяду “нельга ўбачыць адчувальных перападаў” у параўнанні з ранейшымі творамі, а змены носяць эвалюцыйны характар. “Пташнікаў пачаў пісаць яшчэ больш густа, паглыбіў філасофскі змест, давёў ранейшае драматычнае гучанне да па-сапраўднаму трагічнага, пашырыў жанравыя межы апавядання за кошт узбагачэння яго жыццёвым матэрыялам, а таксама за кошт паглыблення вобразнай сістэмы” [3, с. 23]. Хацелася б звярнуць увагу на адну тэндэнцыю, што выяўляецца ўсё больш наглядна і адыгрывае ўсё больш канструктыўную ролю ў творчасці І. Пташнікава. Для сучаснага мастака памяць аб вайне, 152 калектывізацыі ўжо не бясспрэчная: ёсць патрэба адкрыць тую праўду аб нашай цяжкай і крывавай гісторыі, што не была даступнай па розных гістарычных і сацыяльных абставінах. А гэта значыць, ёсць патрэба асэнсаваць сваё жыццё, сваю пазіцыю сёння. Трагічны плач аб асобным, слабым, жывым чалавеку, які знаходзіцца ў пэўных цяжкіх абставінах, што ад яго не залежаць, чуецца ў апавяданні “Тры пуды жыта”. Перад намі ўспыхваюць на кароткі час невялікія эпізоды з жыцця Александрыны. Часта такія эпізоды ўтрымліваюць толькі адзін-два сказы, але гэтага дастаткова, каб стварыць не толькі жывую і горкую гісторыю яе незайздроснага лёсу, але і адчуць, як пад прэсам войн і рэпрэсій скажалася і нявечылася душа ўсяго народа. І. Пташнікаў абвострана адчувае ўсеагульную плынь жыцця і часу, што аб’ядноўвае “вялікія” вехі жыцця з “малым” побытам, вялікую гісторыю са звычайнымі лёсамі людзей. Напэўна, таму кожны разрыў гэтай жывой сувязі, кожнае адступленне ад здаровай нормы паводзін, ад народнай этыкі і маралі ўспрымаецца ім як катастрофа амаль сусветнага ўзроўню. Так, у прыродзе самой смерці ёсць натуральнасць: гінуць слабыя і старыя істоты. Людзі ператварылі провады нябожчыка ў рытуал. Пахаванне і памінкі збіраюць у хату памерлага людзей, спачуванне і падтрымка якіх дапамагаюць сям’і і блізкім перажыць страту. Аднак Сяльвестра, муж Александрыны, здаровы, малады чалавек, быў рэпрэсаваны і знік, быццам яго і не было ніколі. Ад яго не засталося нават магілы, толькі пісьмо аб рэабілітацыі і “кампенсацыя”-здзек — тры пуды жыта і сена. Адзначым, што зярно, жыта ў нашым уяўленні цесна звязана з жыццём і працягам жыцця пасля смерці — зерне кладзецца ў зямлю (нібы памірае), але ізноў адраджаецца вясной коласам. Толькі праз дваццаць гадоў Александрына атрымала магчымасць хаця б сімвалічна пахаваць свайго мужа: “Яна неяк суцішана сказала сабе: пакуль буду палучаць жыта — буду разам з Сяльвестрам... І пакуль буду касіць Зурэчча — буду разам з ім... Разам... А там — калі вытрымае сэрца...” [2, с. 435] Дзякуючы агромістасці гістарычных падзей, асоба, што трапіла пад іх уздзеянне, становіцца асабліва прыкметнай, як бы павялічваецца, атрымлівае агульначалавечы сэнс, што выходзіць далёка за межы канкрэтнай сітуацыі. Паставіўшы ў цэнтр мастацкага спасціжэння, адлюстравання і аналізу цяжкую народную памяць аб перажытым, Пташнікаў апасродкавана ўступае ў палеміку з такой, здавалася б, аксіяматычнай ісцінай аб тым, што перанесеныя пакуты ўзвышаюць дух чалавека, загартоўваюць характар. З аднаго боку, гэтая думка, бясспрэчна, мае права на існаванне 153 і можа быць пацверджана як прыкладамі з жыцця, так і некаторымі літаратурнымі творамі. Часы гістарычных нягод бескампрамісна правяраюць усе ідэйныя, духоўныя, маральныя рэсурсы чалавека. І ад таго, якімі будуць гэтыя рэсурсы, залежыць характар яго ўдзелу ў тым, што адбываецца. Недасканаласць бытавых варункаў, цяжкасці і страты не абумоўліваюць да канца стан, свядомасць чалавека. У такіх апавяданнях як “Эфка”, “Бежанка” паказана, што адбываецца з дзіцячай псіхікай у ваенных абставінах. Але, хаця ўмовы “выхавання” былі аднолькава жорсткімі для ўсіх, дзіцячыя душы па-рознаму на іх рэагуюць: грубым і нахабным робіцца Пеця Жардэцкі (“Бежанка”), становіцца забойцай Вайда Толя (“Эфка”). Але Пашка Жарскі (“Эфка”), такое ж “дзіця вайны”, не здолеў стрэліць у чалавека, хоць і быў упэўнены, што гэта не прынясе другому шкоды... Пташнікаў не выносіць катэгарычны і канчатковы прысуд тым, хто не вытрымаў выпрабаванняў вайной ці рэпрэсіямі. Такой сваёй аўтарскай пазіцыяй ён падкрэслівае прыярытэт народнага вопыту над асабістай чалавечай мудрасцю: праўда, мудрасць не можа нарадзіцца ў адной галаве, увасобіцца ў адным чалавечым існаванні, якім бы працяглым і багатым на вопыт яно не было. У той перыяд, калі закладваліся асновы беларускай літаратуры, менавіта зварот да бытавога матэрыялу быў важнай умовай паспяховага назапашвання мастацкага вопыту. Аднак беларуская проза і да нашых дзён даволі кансерватыўная ў адлюстраванні сялянскіх побытавых праяў жыцця. Гэтым самым наша літаратура абараняе, сцвярджае нацыянальную празаічную традыцыю, імкнецца ўтрымаць у сваіх абсягах нешта істотна важнае перад шматлікімі прагрозамі яе паспешлівага абнаўлення і рэфармавання. Першапрычына гэтай з’явы, канешне, не ў інертнасці творчага мыслення сучасных беларускіх пісьменнікаў. Важна падкрэсліць, што гісторыя ўсёй беларускай літаратуры — гэта барацьба за захаванне аўтэнтычнасці, нацыянальнай ідэнтычнасці. І “вясковая” проза (разам з прозай “ваеннай”), якая апелявала да народных уяўленняў пра дабро і зло, пра сэнс жыцця і шчасце, скрупулёзна і беражліва працягвае ўзнаўляць і абараняць народны светапогляд, мараль і мову “простага”, “звычайнага” беларуса (часцей за ўсё селяніна і гараджаніна ў першым пакаленні) і акаляючы яго свет. Сярод магутнай магістральнай плыні проза І. Пташнікава застаецца адметнай і унікальнай тэрыторыяй, якая ў многіх сваіх прадметнатэматычных і эстэтычных адметнасцях яшчэ чакае ўдумлівага даследчыка. 154 ____________________________ 1. Гарадніцкі Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Я. А. Гарадніцкі. — Мн.: Беларус. навука, 2005. 2. Пташнікаў І. Тартак: Аповесці і апавяданні / І. Пташнікаў — Мн.: Маст. літ., 2000. 3. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. — Т. 4, кн. 2: 1986 — 2000. — Мн.: Беларус. навука, 2003. 155 А. Ю. Горбачев (Минск) ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ В. РАСПУТИНА « ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА» Рассмотрение вопроса о поэтике пространства и времени в повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» предполагает определение исходных понятий. Термины «пространство» и «время» имеют статус философских категорий, традиционно относимых к числу наиболее сложных для понимания. Обращение к этим категориям зачастую приводит к гносеологической неопределенности, констатация которой превратилась в своеобразный научный ритуал, сформировавшийся еще на исходе античности, когда Блаженный Августин заявил: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» [1, с. 327]. На сегодняшний день в интерпретации категорий пространства и времени наметились две влиятельных тенденции. Во-первых, преобладание описательного подхода над пониманием. Пространство и время характеризуются с точки зрения их континуальности, дискретности, связи с материей, движением и т. д. Установление многих из этих параметров является правомерным, однако оно в лучшем случае удовлетворяет необходимому и ни в коем разе не соответствует достаточному условию определения понятий «пространство» и «время». Во-вторых, категории пространства и времени рассматриваются как формы существования материи, что верно в отношении пространства, но не времени. Понимание сущности категорий пространства и времени невозможно без учета их универсальности. Пространство и время являются типологическими формами существования универсума, однако проблема заключается в том, формой существования какого именно структурного элемента универсума выступает каждая из этих категорий. Универсум состоит из материальной и идеальной сфер, неотделимых друг от друга, переходящих одна в другую и вместе с тем — противоположных, качественно различных. Материальная сфера, или материя, представляет собой вещественный субстрат (вещество), который может быть обнаружен сенсорно. Идеальная сфера представляет собой отражение (движение, изменение, развитие, взаимодействие), форма которого может быть постигнута при помощи психики, а содержание — понято при помощи сознания. 156 Пространство есть форма существования и метод измерения (т. е. определения количественных и качественных параметров) материи, время — форма существования и метод измерения отражения. Наличие времени обнаруживается через отражение, свойственное материальным (пространственным) объектам, т. е. через их движение, изменение, развитие, которое происходит как процесс их взаимодействия. С другой стороны, пространство существует и может существовать только во времени, т. е. в движении, изменении, развитии, происходящих как процесс взаимодействия материальных (пространственных) объектов. Также следует учитывать, что пространство и время сами могут быть измерены. Сущностными параметрами пространства являются вертикаль и горизонталь, времени – прошедшее, настоящее и будущее. Измерение пространства и времени осуществляется исходя из диалектики необходимого и случайного. Необходимым выступает принципиальная подверженность пространства и времени измерению, случайным — любая конкретная форма их измерения. Например, пространство можно измерять в метрах, милях, су, аршинах, шагах и т. п. Измерение времени во всех случаях связано с изменениями, которые происходят в материальных (пространственных) объектах. Поэтому наиболее удобным для людей является измерение времени на основе перемещения самых заметных астрономических тел – Солнца и Луны, а также на основе климатических циклов, хотя параллельно используются и многие альтернативные формы измерения времени. Такова философская основа анализа поэтики пространства и времени в повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Вместе с тем необходимо иметь в виду и контекст почвеннической литературы, к которой относится творчество Валентина Распутина. Представление о пространстве и времени у современных писателейпочвенников (А. Солженицына, В. Белова, В. Крупина, В. Артемова и мн. др.) детерминировано их идеологией, в которой ведущие роли принадлежат национальным, религиозным и этнически-групповым концептам: «Россия», «православие», «славянство», «русская идея», «русская душа», «русская судьба» и т. п. Очевидно, что эти концепты представляют собой реализацию социоцентрических установок и носят общий характер, в отличие от персоноцентрической, а значит, универсалистской направленности шедевров мировой литературы. Будучи локальной (по сравнению с универсализмом философии), идеология почвенничества побуждает художников, которые руководствуются ею, пользоваться не универсальными, а приспособленными к этой идеологии представлениями о пространстве и времени. 157 Пространство в произведениях писателей-почвенников главным образом репрезентировано оппозициями «Россия — не Россия», «деревня — город», «территории с доминированием православной веры — территории, где православная вера подорвана либо отсутствует» и т. п., причем оппозиции указанного типа маркированы в первую очередь идеологически и лишь затем — географически. Исходя из этих принципов, Россия изображается не просто местом обитания русского и других народов, а прежде всего территорией, на которой уцелел и укрепился русский дух, мифологически препарированный по почвеннической модели. Представление о категории времени в творчестве писателейпочвенников также определяется идеологическими причинами. Концепты «историческая память», «вековые народные традиции» и т. п., консервативные по своему содержанию, основаны на приоритете ретроспективной темпоральности. Сказанное не означает, что в произведениях писателей-почвенников задействовано только прошедшее и проигнорированы настоящее и будущее. Наоборот, самые заветные помыслы этих художников слова связаны именно с настоящим и будущим России, русского народа, православия, славянства. Однако в идеале и настоящее, и будущее видится им главным образом как реставрированное прошедшее. Поэтика пространства и времени в повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» отмечена конкретизацией и индивидуализацией общепочвеннических представлений. Основное действие повести происходит в не названном сибирском городе, в топографических особенностях которого узнается родной автору Иркутск. Но дело, конечно, не в полной пространственной определенности места действия, а в почвеннической последовательности Распутина, не склонного разделять малую родину и великую Россию, точнее, избравшего повествование о топосе великой России через топос малой родины. Для прозы Распутина, тяготеющей к апокалиптичности, характерно негативное восприятие пространства. Не является исключением и повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Первый же пространственный объект, который встречается здесь, — улица, где «было темно и глухо» [2, с. 3]. В аналогичной манере изображены и другие топосы: квартира, в которой живет семья главной героини; школа, где «одновременно была и каторга, и карнавал с переодеванием» [2, с. 85]; автобаза, откуда ушел в безработные муж Тамары Ивановны Анатолий; кинотеатр «Пионер», ставший притоном для наркоманов; прокуратура и суд; малосемейное общежитие; вокзал и др. 158 Более светлыми красками рисуется деревня, переселенная перед затоплением (очередной двойник Матеры в распутинской прозе), малая родина Тамары Ивановны. Зато исчадием ада – «не Россией» на сибирской земле — представлен рынок. Он заполнен «улыбчивыми китайцами и мрачными кавказцами, раскидывающими паутину, в которую уж както слишком легко и глупо попадались местные простаки» [2, с. 77]. На рынке, по мнению автора, творится то, что неприемлемо для русского духа. Интерпретация сути происходящего здесь раскрывается с публицистической прямотой, свойственной стилю Распутина: «Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть» [2, с. 77]. Ответные меры со стороны русских не заставляют себя ждать. Тамара Ивановна, потерявшая веру в справедливость суда, убивает из обреза кавказца, надругавшегося над ее дочерью. Сын главной героини Иван участвует в погроме кавказцев, учиненном казаками. Ивану повествователь доверяет свои сокровенные мечты о великом славянском пространстве. Очарованный ими подросток доходит «до сладкого упоения смертью среди тысяч и тысяч себе подобных — как на поле Куликовом и на Бородино» [2, с. 78], готовится ехать в воюющую Сербию либо в мирную Беларусь, которые он считает оплотом славянства и православной веры. Воплощение в жизнь этих мечтаний не состоялось. Воротников-младший сначала проходит службу в ракетных войсках в Забайкалье, потом подается в плотники и строит церковь в отдаленном селе, вблизи от родины своих предков по материнской линии. Такая расстановка приоритетов показательна для позднего Распутина. Он и в прежнем своем творчестве отрицательно воспринимал охоту к перемене мест и руководствовался народной мудростью: где родился, там и сгодился. Но в повестях и рассказах 1970 – 90-х гг. пространственные перемещения его персонажей, как правило, были либо подневольными («Прощание с Матерой»), либо бездумными («В ту же землю»). А в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» юный герой хотел покинуть родные места ради защиты Отечества, веры и славянских интересов, однако по воле повествователя ему пришлось осуществлять свою миссию не только на земле предков, но и мирными средствами. Пространственная оппозиция «деревня — город» в очередной раз и с предсказуемой неизменностью авторского выбора возникает в творчестве Валентина Распутина. В повести «Дочь Ивана, мать Ивана», антиурбанистический пафос которой очевиден, нет, как было показано выше, ни одного городского топоса, удостоенной положительной оценки повествователя. Даже городское небо оказывается хуже деревенского. С 159 точки зрения Распутина, вертикальное измерение пространства, если оно сопряжено с городом, олицетворяет собой бездуховность. Поэтому звезды на городском небосводе заменяет «радужно-гнилое свечение от электрического разлива…» [2, с. 5]. Пожалуй, в этом случае, как, впрочем, и в ряде других, антиурбанизм писателя перерастает в антицивилизаторство. Однако нельзя забывать, что к электричеству и электростанциям у Распутина давно сформировалось особое отношение, отягощенное апокалиптическими ассоциациями. Время действия повести «Дочь Ивана, мать Ивана» относится к концу ХХ — началу ХХI вв. Камертоном авторского восприятия отображенной в произведении эпохи звучит фраза из начального абзаца: «Самый глухой час ночи…» [2, с. 3]. Не будет чрезмерной натяжкой сказать, что Распутин считает современность «самым глухим» периодом русской истории. Повесть состоит из трех частей, и лишь в первой из них использован композиционный прием чередования временных пластов: настоящее — прошедшее. Сложным для героев произведения было и минувшее, и нынешнее, утверждает повествователь. На экзистенциальном уровне он избегает идеализации прошлого, зато когда переходит на этический уровень, не удерживается от нее, несмотря на художническую корректность и многочисленные оговорки, смягчающие однозначность отдельных высказываний. И все-таки авторская позиция выражена в анализируемой повести с большой прямотой и внятностью и связана с категорией времени. Раньше, до прибытия в Россию рыночных инородцев, жизнь русских была хотя и трудной, но в ней находилось место справедливости, теперь же царит этический беспредел, считает Распутин. Этический идеал писателя, руссоистский в своей основе, побуждает его строить ретроспективную концепцию времени. Не лишенное противоречий, однако достойное прошедшее, трагически-безотрадное настоящее и, наконец, тревожное, связанное с деятельными надеждами, будущее, — такова версия повествователя. Согласию с ней препятствует специфика распутинского видения действительности. Если писатель против рыночных отношений, то почему среди положительных героев повести «Дочь Ивана, мать Ивана» русские «рыночники» Демин, Егорьевна, муж Тамары Ивановны Анатолий? Если он против чужеземцев, то почему предлагает для разрешения межнациональных конфликтов использовать обрезы и погромы? Наконец, если экстремизм скинхедов, казаков и отдельных граждан спровоцирован ан- 160 тирусской позицией властей, то почему Распутин не видит иных способов воздействия на власть, кроме эскалации насилия в обществе? В таких мировоззренческих координатах существует распутинская концепция времени и пространства. Настоящее под пером писателя выглядит извращенным прошедшим, будущее — экстраполированным прошедшим. Идиллическая ретроспективность оборачивается обыкновенным ретроградством. Происходит это потому, что система взглядов Валентина Распутина исключает не варианты приспособления к современности (под разной этической маркировкой они представлены в повести «Дочь Ивана, мать Ивана»), т. е. не перспективу принятия сегодняшнего мира, а возможность его понимания. И как пространственный идеал писателя ориентирован на деревню и сельский православный храм, так временной — на мифологически воспринятое прошедшее. Совместить все это с реалиями XXI столетия нельзя, не оказавшись утопистом, экзотичность убеждений которого способна вызвать не столько удивление, сколько недоумение. ___________________________ 1. Августин Блаженный. Исповедь / Августин Блаженный. — М. 1992. 2. Распутин В. Мать Ивана, дочь Ивана / В. Распутин // Наш современник. 2003. № 11. 161 Э. Тышковска-Каспшак (Вролав) ПОЛЕТ В ИНУЮ ЖИЗНЬ. ПОЭТИКА АБСУРДА В «ИНОЙ ЖИЗНИ» С. ДОВЛАТОВА И я думаю, Что мир – Только усмешка, Что теплится На устах повешенного. (В. Хлебников) Творчество Сергея Довлатова проникнуто идеей абсурда, которая проявляется прежде всего в экзистенциальном неверии в смысл жизни. Эта идея нашла наиболее полное свое выражение в произведении «Иная жизнь» (1984), жанр которого сам автор определил как «сентиментальная повесть». Поэтика этого текста на фоне остальной довлатовской прозы отличается употреблением стратегий, характерных для классиков русского абсурда, и прежде всего Даниила Хармса. Картина мира, представленного в повести, напоминает коллаж реалистических сцен, элементов сна, мечтаний и образов подсознания героя, который пытается отыскать ответ на мучающий его вопрос. Преобладает поэтика алогизма — игра с фантомами, аллюзиями, нарушенными причинно-следственными связями, двойниками. Она воссоздает присущее абсурдистскому мышлению ощущение жизни как хаоса. Сюжет повести строится на мотиве полета. Он нашел свое место в реалистической мотивировке действия: главный герой Красноперов летит в Париж для работы с архивами Бунина. Но уже в первом образе этого вполне достоверного начала мы встречаем маловероятную сцену: в ожидании полета летчики «пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала “Муму”. Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали» [1, с. 95]. Этот гротескный образ не только соединяет элементы разных миров: этой (родной, русской) и иной (чужой, западной) жизни, но и предвещает нереалистическое действие. Полет не только перемещает героя в другое пространство, но и переносит его мысль в другую сферу. Полет появляется в тексте как преодоление телесности не только в смысле победы над силой земного притяжения, но и как разрыв с онтологическим, бытовым и постижение трансцендентного. Так же в творчестве Хармса «путь к смыслу лежит через отрицание разума и преодоление ограничений, накладываемых телесно162 стью» [2, с. 102], а реющее тело обозначает новое, свободное, оторванное от почвы мышление (см. 3: [2, с. 286]). Как замечает Ольга Буренина: «В художественной культуре XX в. наряду с аэропланом репрезентацией текучести формы и смысла, репрезентацией бесконечных эквивалентностей и метаморфоз становятся разного рода реющие предметы или явления» [4, с. 289]. Реющее начало «открывает возможности перехода от кодифицированного пространства к некодифицированному, от земного к небесному, от мира неорганического к миру органическому, от неживого к живому» [4, с. 290]. Довлатовский герой, измученный жизнью, полный горечи, не понимающий окружающего его мира, ищет обоснования смысла жизни как в плане индивидуальном, так и в перспективе существования сверхличного. Самым сильным импульсом к размышлениям о сути жизни является близость смерти, которая заостряет сознание бренности. Герой Довлатова является свидетелем серии смертей: девушка с цветами бросается с моста в реку, прилично одетый мужчина, докурив сигарету, «умело» вешается на ветке клена, а юноша спортивного телосложения падает с балкона, так и не успев дочитать книгу. Все эти истории происходят в рамках одной единственной главы: «Что бы это значило?» Серийность смертей напоминает второй из «Случаев» Хармса: «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду» (3: [2, 309]). Смерть как явление регулярное появляется также в третьем микрорассказе цикла — «Вываливающиеся старухи», а также в произведении «Я поднял пыль...», в котором «Старики и старухи падали с крыш» (3: [2, 112]). В текстах этих повторность и регулярность события падения и смерти не прекращается. Конец этого случая — это конец наблюдения за ним [5, c. 187]. Случаи, которые особенно интересуют Хармса, — это падение и смерть. Они не уникальные, но непредсказуемые. Разница между ними заключается в том, что падение необязятельно, а смерть неизбежна, она является «целью» жизни, но поскольку причины ее разные, она является случайной реализацией неизбежного [5, с. 98]. В произведении Довлатова, как и у Хармса, случаи (как события неординарные), кончающиеся смертью, становятся закономерными, как закономерна сама смерть. В микрорассказах Хармса смерть вызывает даже если не сочувствие, ужас, то хотя бы некую заинтересованность свидетелей: сбегается толпа, милиционер списывает протокол происшествий, и лишь после короткого 163 времени все возвращается в свои русла. В тексте Довлатова случайные смерти изумляют только главного героя: «Красноперов хотел закричать, вызвать полицию» [1, с. 98]. Кроме него, никто не обращает внимания на факт ухода из жизни — настолько он натуральный, обыденный: «Машины тесным потоком катились вперед, огибая несчастного» [1, с. 98]; «Мимо ехал полицейский на велосипеде. Он резко затормозил. Потом зашнуровал ботинок и умчался» [1, с. 97]. Красноперова волнует проблема сущности жизни и мира. Он отчаянно ищет ответ на вопрос, которая жизнь настоящая, который мир вечный — реальный или существующий лишь в его воображении: «Как странно, — думал он, — чужая жизнь, а я здесь только гость! Уеду — все исчезнет. [...] А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет? Останется мостовая, припадет к иным незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты «Памир»... Иная жизнь, чужие люди, тайна...» [1, с. 96] Субъективное восприятие мира человеком, субъективное видение вещей интересовало также обэриутов, особенно Хармса. Он обращался к этой проблеме как к вопросу о ненадежности восприятия мира. В его «Оптическом обмане» герой видит мужика только через очки, а персонаж «Утра» видит с закрытыми глазами. Видение — невидение, сон и бодрствование чередуются [5, с. 161 — 175]. В произведении же Довлатова именно полет — свободный полет мысли — позволяет осознать относительность всех ощущений и недоступность единой истины. Хотя и поиски эти ведутся как будто наощупь, не целеустремленно, ибо на самом деле никто не знает правильного пути, а, может быть, его вообще нет: «В этот момент пилот обернулся и спросил: — Налево? Направо?» [1, с. 102] «— Куда ехать, мсье? — спросил шофер. — В Париж, — ответил Дебоширин. — А где это? — спросил шофер. — Налево? Направо?» [1, с. 103] На этом пути все ориентиры обманчивы, поскольку они воспринимаются субъективно: «— Вон Эйфелева башня, — закричал Красноперов, — я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир! — Какая еще Эйфелева башня, — возразил шофер, — да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты» [1, с. 103]. 164 Одним из способов (если не единственным) познания сущности жизни является познание себя самого. В ситуации полета заключено подлинное существование человека, полет освобождает скованное подсознание. Вырываются на волю подсознательные чувства Красноперова, который как «человек умеренный и тихий» — завидовал решительности, фантазии, отваге в отношениях с женщинами, которых сам боялся. Поэтому из его подсознания всплывают странные персонажи с не менее странными, но характерными для состояния его психики, фамилиями: Малафеев, Дебоширин. Скрытые мысли Красноперова выявляют его комплекс неполноценности, ничтожества: «Кто я такой? — вскричал филолог. — Захламленный пустырь? Обломок граммофонного диска? Ржавый велосипедный насос с помойки? Бутылочка из-под микстуры? Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву? Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида? Инвентарный жетон на спинке кресла в партере Мариинского театра? Бывший в употреблении пластырь?..» [1, с. 118] Эти вопросы свидетельствуют как о непознанной природе человека, так и о тяготящей его материальности. Именно материальность, телесность не позволяет ему постичь трансцендентное. Для этого он должен понять нематериальное, лишенное трехмерности: «Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? [...] А все остальное — миф и химера?..» [1, с. 115] Для абсурдистского сознания характерно понимание лишенной материального измерения музыки. «Природа музыки, собственно, сама по себе наполнена абсурдом, поскольку строится на отражении мира в звуковых образах» [4, с. 112]. Хармс толковал музыку как «атемпоральное идеальное бытие, в котором преодолевается любое разделение и происходит максимальное расширение индивидуальности, которая при этом не утрачивает своей конкретности, определенности». Для него музыка «свидетельствует о бытии сверхчеловеческом, божественном, алогическом» [2, с. 175]. Однако как Довлатов, так и Хармс не отрицают вещественного в процессе познания. В хармсовском стихотворении «Звонитьлететь» материальные предметы взлетают и одновременно звенят. Звук «определяет природу звенящих объектов, объектов материальных, конкретных в своей физической реальности» [2, с. 142]. С мотивом полета связан также сон героя, который представляет собой парафраз «Песни о Соколе» М. Горького. Уж в сновидении Красноперова не хочет летать — у него своя правда; свое сибаритство он оправдывает громкими словами и не обращая внимания, на упреки и презре165 ние прохожих, ползет, весело напевая. В то же время полицейские ведут скованного наручиками Сокола в красную машину с решетками на окнах. «— Какая разница — где твое место? В небе или среди холодных камней!» [1, с. 106], — утверждает Уж в сновидении. Так же герой Довлатова возвращается на свои «камни» — в материальный, вещественный мир, который является его натуральной средой: «И сразу же ощущение покоя возникло у Красноперова. Все показалось ему мучительно дорогим и близким. Забулдыга в дорогом, испачканном сметаной пальто. Трещины на асфальте. Эмалированная табличка над подъездом. [...] Заваленная книгами берлога. Все то, что было. И все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь...» [1, с. 128]. Мысль героя возвращается к исходной точке его экзистенциальной рефлексии. Возможность открытия смысла жизни оказалась иллюзорной: «Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить...» [1, с. 130]. _____________________ 1. Довлатов С. Иная жизнь / С. Довлатов // Собр. соч.: В 4 т. Т.1 — СПб., 2002. 2. Токарев Д. В. Курс на худшее. Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета / Д. В. Токарев. — М., 2002. 3. Хармс Д. Собр. соч. В 3 т. Т. 2. / Д. Хармс. — СПб., 2000. 4. Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века / О. Д. Буренина. — СПб., 2005. 5. Ямпольский М. Беспамятство как исток / М. Ямпольский. — М., 1998. 166 Л. В. Алейнік (Мінск) КАНЦЭПЦЫЯ ТВОРЧАСЦІ А. КАЗЛОВА Празаік Анатоль Казлоў увайшоў у літаратуру ў другой палове 80-х гадоў ХХ стагоддзя і фактычна першай кнігай — “Міражы ценяў” [1] — заявіў пра сябе, як пра неардынарнага пісьменніка з адметнай стылёвай манерай і арыгінальным вобразным мысленнем. А ўжо наступныя кнігі аўтара — “І тады я памёр...” [2] і “Незламаная свечка” [3] — далі падставы сцвярджаць, што пісьменнік абраў дзеля свайго мастацкага асэнсавання абсалютна дакладную праблему і мэтанакіравана вывучае, разглядае яе ў розных ракурсах: небяспечныя, заганныя з’явы сучаснасці. Так, напрыклад, у містычнай аповесці “Дзеці ночы” аўтар бездакорна сканструяваў адмысловую мадэль сучаснай групоўкі моладзі, прадэманстраваў уласцівую ёй структуру зносінаў і кантактаў. У рамкі гэтай мадэлі — з папраўкамі на кірунак дзейнасці і, адпаведна, рытуальную атрыбутыку — увойдуць амаль усе вядомыя сёння нефармальныя аб’яднанні — “сатаністы”, “скінхэды”, “готы” і інш. Але галоўнае, што ў мастацкім творы дэталёва і, падаецца, вельмі рэалістычна выяўлены ўмовы і абставіны, з якіх пачынаецца найперш дэфармацыя, а далей — духоўная дэградацыя асобы. Пісьменнік аналізуе чыннікі, што разбуральна ўплываюць на свядомасць, выклікаюць у чалавека патрэбу ў супольніцтве з сабе падобнымі, прасочвае шлях, які вядзе да згубы. У аповесці выдатна тыпізаваны дзве асноўныя катэгорыі маладых людзей, якія робяцца лёгкімі ахвярамі рознага кшталту зламыснікаў. Першы тып персаніфікуецца ў асобе Вілена Падкіднога – беспрытульнага хлопца, які прайшоў дзетдом, не мае ні блізкіх, ні родных. Яго сям’я – “кодлішча” яму падобных, няшчасных і адзінокіх прывакзальных “бамжоў”. Рэплікі, думкі, меркаванні персанажа выяўляюць яго агіду да ўласнага жыцця, невычэрпную крыўду і злосць на тую жанчыну, што гэтае жыццё калісьці падаравала... “Нейкая распусніца, якую звычайна завуць маткаю, гульнула з кабялюгам у першым, што трапіўся на вочы, забруджаным пад’ездзе ці на пыльным і смярдзючым гарышчы “хрушчоўкі” здаволіла свой сверб між ног, а праз дзевяць месяцаў выціснула са сваёй вантробы яго, Віленава, ружовае цельца ў малацілку жыцця. І ўсё! Яна дала яму жыццё. Дала жыццё і забыла. А ён жа гэта жыццё не прасіў у яе, у той клятай лахудры, якая, можа, нават не зірнула на яго, калі апрасталася ад ношы...” [3, с. 5 — 6]. Вілен апынаецца літаральна на сметніку жыцця. Кожны дзень яго 167 існавання — гэта бруд, прыніжэнне, грэблівае стаўленне навакольных людзей, напаўгалоднае існаванне, пошукі кутка, больш-менш прыдатнага дзеля начлегу. Гэткіх шматлікіх віленаў, што беспрытульна блукаюць па вуліцах, можа даволі лёгка выкарыстаць у сваіх вар’яцкіх мэтах, прымусіць сабе служыць любы злачынца. Другая катэгорыя прадстаўнікоў “падлеткавых груповак” увасоблена ў вобразе Максіма Гурона. Гэты персанаж — поўная супрацьлегласць Вілену. Максім, прадстаўнік “залатой” моладзі, сын знакамітага і забяспечанага вучонага, які ніколі не ведаў матэрыяльных праблем, усе яго клопаты з лёгкасцю вырашаліся бацькамі. Менавіта празмерна “сытае” жыццё, адчуванні сваёй “вышэйшасці” ў сацыяльным асяродку, абранасці, прышчэпленыя з малых год у сям’і, паступова атручваюць свядомасць героя. Максім надзелены інтэлектам і амбіцыямі, але жыццё падаецца яму пустым, нецікавым, у ім не адбываецца нічога значнага, а ўнутраная энергія патрабуе неадкладанага выйсця. І ўрэшце, да яго з’яўляецца звышнатуральны, містычны “Гаспадар” — увасабленне зла — які падказвае далейшы шлях... Максім выступае арганізатарам крымінальнай супольнасці, дзе мае магчымасць і задавольваць свае лідэрскія амбіцыі, і беспакарана рэалізоўваць самыя вар’яцкія планы і ідэі. Безумоўна, містычныя матывы ў аповесці “Дзеці ночы” — не вядучыя, гэта, хутчэй, фонавая афарбоўка дзеі. Магістральная ідэя сюжэта – думка пра небяспеку абыякавасці дарослых да свету сталеючай асобы, напамінак, што ўнутраная пустата заўсёды пагражае адгукнуцца скажоным рэзанансам у свядомасці, голасам пачварнага Гаспадара... Па мастацкай задуме, праблематыцы і сюжэтабудове да гэтага твора прыпадабняецца аповесць “Распяцце, або Ці ж баліць галава ў вароны...” Але тут хваробы сучаснага соцыума разглядаюцца А. Казловым і ў новым ракурсе, і ў іншым грамадскім асяродку. Адметна, што пісьменнік не мае на мэце адно прадэманстраваць негатыўную з’яву, выявіць сваю агіду да яе ці выклікаць гэткае ж пачуццё ў чытача. Да сваіх персанажаў, нават, здавалася б, вельмі нізкіх, страціўшых чалавечы воблік, ён ставіцца з вялікай доляй спачування, з чалавечай спагадай. Аўтар спрабуе зразумець і вытлумачыць, якім чынам той ці іншы герой апынуўся на дне жыцця, і, самае важнае, клапоціцца сам і вымушае непакоіцца чытача, як “выцягнуць” няшчаснага з бруднай яміны, як выратаваць іншых, ужо рэальных людзей вакол нас, што часта вельмі нагадваюць мастацкіх персанажаў А. Казлова. Прыгадваецца меркаванне літаратуразнаўцы Л. Корань, якая сцвярджала, што “каб выратаваць хоць бы аднаго чалавека (не кажучы ўжо пра цэлую нацыю), трэба найперш 168 палюбіць яго, зразумець, адчуць боль за яго” [4, с. 280]. Нельга не заўважыць, што менавіта гэтым болем працяты сюжэт аповесці “Распяцце...” Ключавая ідэя “агучваецца” амаль у самым пачатку аповесці адною з гераінь: “...Вунь яны ходзяць, коса пазіраюць, смяюцца з алкаголікаў, — гэта Казіміраўна пра прахожых, — а не ведаюць аднаго: гора кідае чалавека ў гэтую багну. Адныя, хто мацнейшы духам, — выбіраюцца, а другія па макаўку застраюць. Ніхто са шчаслівых піць не будзе” [3, с. 127]. Аднак хацелася б заўважыць, што містычная канва ў непасрэдную дзею гэтай аповесці ўваходзіць даволі нечакана. Да рэалістычных, у пэўнай ступені нават трывіяльных персанажаў раптоўна падключаецца магічнае... Апавядальнай плыні гэтая імклівая змена вымярэнняў надае некаторую алагічнасць, нібыта парушае своеасаблівыя прапорцыі агульнай карціны. Тым не менш, мастацкая функцыя містычнага “адгалінавання” навідавоку. Пісьменнік “сабраў” у сюжэце герояў з вельмі рознымі і адначасова ў чымсьці падобнымі лёсамі. Усе яны аб’яднаны адным — затлуміць свядомасць алкаголем, бо ў кожнага — сваё пекла. Безумоўна, персанажы выклікаюць найперш грэблівасць і агіду, але паступова гэтыя пачуцці саступаюць месца іншым... Цяжка асуджаць Казіміраўну, якая пахавала двух сыноў, — яны загінулі ў Афганістане. Для жанчыны жыццё страціла сэнс, яна шукае супакаення на дне чаркі. Другая гераіня, Манька, з жахам згадвае былое “сямейнае” жыццё: “Дзякуй Богу, што майго суджанага ў свой час прыбраў. А то цяперака клопатаў мела б па самую макаўку. Сінякоў і гузакоў столькі перанасіла я ад яго, што і ўспамінаць моташна” [3, с. 139]. Нацярпеўшыся пакутаў, не зведаўшы жаночага шчасця, яна “выхоўвае” сваю дачку-школьніцу, сыходзячы з уласнага досведу... Яе Люська — хадавы тавар, які ахвотна “набываюць” у часовае карыстанне выпадковыя сабутэльнікі маці. Свае амаральныя дзеянні Манька спрабуе апраўдаць прымітыўнай філасофіяй, спецыфічным “клопатам” пра дачку: “...Люська мая ўжо ладная, няхай і яна капейчыну ў хату нясе. Што ні робіць — усё на маіх вачах, а не так, як той-сёй у падвалах ды завуголлях” [3, с. 128]. Да Манькі прыпадабняецца і Міцька, трэці персанаж кампаніі, які таксама не мае паразумення са сваёй сям’ёй. Такім чынам, у кожнага з герояў, нібыта, важкая прычына дзеля свайго апраўдання: у кагосьці — невыносны боль, трагедыя, у іншага — бытавуха, асабістая нерэалізаванасць. І тым не менш, аўтар зусім не апраўдвае герояў. Думка пра духоўнасць, пра неабходнасць супрацьстаяння абставінам лейтматывам праходзіць праз сюжэт твора. Яна арыгінальна універсалізуецца ў вобразе Андрэя, галоўнага героя. 169 Вось тут на службу ідэявыяўленню і пастаўлена містыка, фактура звышнатуральнага са шматлікімі іманентнымі сэнсамі. Андрэй, аслеплены каханнем, апынаецца на краі бездані, ад пекла яго аддзяляе адзін крок. Пісьменнік, несумненна, сцвярджае: выбар ёсць заўсёды, ён даецца, праўда, вельмі нялёгка. Выратаваць у хвіліну адчаю можа і ўласная ўнутраная сіла, і падказка ці падтрымка бліжняга, і вера... Так, як ратуе героя голас бабулі: “Бяры ж, унучак, распяцце. Няма ў мяне сілы пераступіць мяжу, якая падзяляе дабро і зло, святое і нячыстае. А ты на раздарожжы — адна нага тут, а другая там. То ж бяры, працягні руку. Не бойся і не думай пра лёгкае. Жыццё не бывае пушынкай. Прыходзіць час, і за ўсё плаціць патрэбна. Не сквапся, Андрэйка, на лёгкае, не хаці яго, дзетка. Бяры распяцце” [3, с. 167]. Неадназначна вырашаны аўтарам фінал аповесці: герой, уратаваўшыся ад адной бяды, апынаецца перад іншай. Ён ізноў перад выбарам, ізноў вымушаны супрацьстаяць абставінам. Ці не так, як кожны сучаснік, азіраючыся вакол сябе, бачыць мноства спакуслівых прынадаў, часам, вельмі лёгкіх, дасягальных, адно руку працягні... Але ж за імі часта — бяздонная прорва, згуба... Праблемы дабра і зла, светлага і цёмнага ў прыродзе чалавека — ключавыя сярод творчых зацікаўленасцяў А. Казлова. Аўтар па-мастацку дэманструе, аналізуе і вырашае іх не толькі ў розных ракурсах і розных вымярэннях, але і ў розных сацыяльных прасторах. Безумоўна, на урбаністычнай глебе, на фоне яе імкліва-хуткаплыннага кругабегу жыцця, высокіх тэхналогій і праблем суцэльнай глабалізацыі, містычныя кантэксты драбнеюць, часткова губляюць сваю значнасць, злавесную верагоднасць. А вось у вясковым асяродку, дзе праклёны, замовы і іншыя фальклорныя “практыкаванні” з’яўляюцца натуральнай і неад’емнай часткай “культурнага жыцця”, своеасаблівы містычнаміфалагічны кантэкст мастацкай дзеі ўспрымаецца цалкам адэкватна, нават рэалістычна. Так, аповесць “Незламаная свечка” — гэта сапраўдная творчая ўдача А. Казлова. Сюжэт тут вельмі цэльны, лагічны, вытрыманы ў адной танальнасці. Кампазіцыя твора нагадвае развязванне складанага вузла, у якім сплялося мноства нітачак — лёсаў, жыццяў, падзей. Асноватворчая сітуацыя — трагічная выпадковасць: падчас нарыхтоўкі лесу на будаўніцтва хаты гіне чалавек. Здавалася б, нічога невытлумачальнага або загадкавага ў гэтым няма. Але ў той жа час аўтар робіць некалькі своеасаблівых намёкаў-падказак, што гэтае здарэнне якраз не выпадковае. Паступова ў сюжэце вымалёўваецца складаная схема чалавечых сувязяў і адносінаў, а ў цэнтры гэтай схемы — “Слова”. Як ад кінутага ў возера каменя па вадзе разыходзяцца кругі, так ад неасцярожнага, несвоечасовага, неабдуманага Слова ідуць свае 170 рэзанансы. Высвятляецца, што гібель персанажа — гэта вынік даўняга варагавання двух родаў, вынік нянавісці і праклёнаў. Магутную энергетыку, сілу, матэрыяльнасць Слова пісьменнік персаніфікуе ў вобразе сімвалічнага “Нешта”, якое стоена дрэмле, схаваўшыся ад людзей, падпільноўвае выпадку, зручнай сітуацыі, каб выканаць сваю злую місію. Своеасаблівы шарм сюжэту дадае міфалагічная прыпавесційнасць, якая ўваходзіць у тканіну аповесці вельмі арганічна. Так, напрыклад, гісторыя пра “незламаную свечку” па-свойму ўзбуйняе ідэйны сэнс усяго твора. “...Калі злобы, бяды адзін аднаму не рабіў, калі напраслінай цябе аблілі, то збярыся з тым чалавекам разам, памаліся, стоячы перад абразамі на каленях, і пераламайце ўдвух асвечаную ў царкве грамнічную свечку...” [3, с. 119]. Свечка, якая засталася незламанай, не толькі выконвае непасрэдную сюжэтную функцыю — дэманструе маральны воблік адной з гераінь, але, несумненна, сімвалізуе агульны свет чалавечых адносінаў. Гэтая выразная мастацкая дэталь надзвычай дасканала дапаўняе сэнс, закладзены ў вобразе “Нечага”: “Яно, Нешта, не ўсё яшчэ зрабіла і здзейсніла. <...> Але Нешта ведае: хутка зноў будзе работа, будзе новае жытло, сапраўднае, цёплае, жывое” [3, с. 123]. Неабходна падкрэсліць, — трансфармацыя матэрыялу, які закладзены ў аснову твора, даволі няпростая. Тут няма адкрыта пастаўленай задачы, няма эксплуатацыі “высокай” ідэі. Ланцужок фактаў, нібыта зафіксаваны староннім назіральнікам, медытатыўная засяроджанасць на ўнутраным жыцці персанажаў, пільная ўвага да іх рэфлексіўных рэакцый на падзеі прыцягваюць да праблемы нязмушана, але неадваротна. Разглядаючы лакальны канфлікт, пісьменнік не толькі дэманструе магутную сілу Слова, тэхналогію яго дзеяння, але і мадэлюе надзвычай распаўсюджаную сітуацыю, калі дробнае зярнятка Слова (варыянты: рэплікі, фразы, плёткі, чуткі) дае шчодрыя ўсходы непрыязі (варыянты: злосці, агіды, варожасці, нянавісці). Несумненна, менавіта прытчавыя і метафарычныя інтэрпрэтацыі мастацкіх ідэй у творах А. Казлова нараджаюць арыгінальныя вобразныя рашэнні і неардынарныя сюжэтныя хады. Але як бы ні вар’іраваўся сюжэтны малюнак, ён так ці інакш складваецца ў скразны матыў, прынцыповы і няўхільны, — супрацьстаяння бездухоўнасці, мэтанакіраванага сцвярджэння спрадвечных маральных каштоўнасцяў. Думаецца, звароты да народных легенд, паданняў, прыкмет і вераванняў не столькі выконваюць функцыю стрыжнявога апірышча ў творах А. Казлова, колькі гарманічна дапаўняюць, па-свойму акцэнтуюць іх ідэйныя сэнсы. Бо менавіта 171 народная мараль ставіла заўсёды самыя строгія патрабаванні да чалавечай прыстойнасці, да сумленнасці. Як вядома, мастацкая рэальнасць пранізана мастацкай канцэпцыяй свету і асобы пісьменніка. У творах А. Казлова негатыўныя праявы чалавечых памкненняў і ўчынкаў часта па-мастацку вытлумачваюцца звышнатуральнымі ўплывамі. Але відавочна, у пераважнай большасці твораў выразна прасочваецца думка, што першапрычынай зла з’яўляецца рэальнасць, сам чалавек, які за дробным, другасным і эгаістычным не здольны заўважыць важнага і значнага. Менавіта чалавек, які бязвольна падпарадкуецца сваім слабасцям, паступова, але няўхільна пачынае культываваць у сабе заганнае. Якраз вынікі гэтага працэсу і робяцца ўрэшце звышнатуральнымі, грандыёзнымі ў сваіх злачынных памерах. Улічваючы, што фактычна кожны мастацкі вобраз — гэта форма мыслення пісьменніка, відавочна, што аўтар мае на мэце падкрэсліць: ад заганаў, духоўнай карозіі, па сутнасці, не застрахаваны ніхто, — незалежна ад сацыяльнага статусу ці ўзросту. І ў любым выпадку выйсце адно: супрацьстаянне. Інакш, перакананы пісьменнік, фінал прадказальны: ніводзін персанаж, як дэманструюць мастацікя тэксты А. Казлова, пераступіўшы праз законы маралі і сумлення, не стаў шчаслівым. Насельнікі твораў А. Казлова надзвычай розныя. Часта яны дыяметральна супрацьлеглыя па характарах, роду дзейнасці, жыццёвых зацікаўленасцях і праблемах, вакол якіх цэнтруецца іх жыццё. І ўсё ж заўважаецца, што ў цэлым аўтар падвяргае іх пэўнай уніфікацыі. Фактычна ўсе яны робяцца заложнікамі сваіх слабасцяў. На прыкладах іх лёсаў мадэлююцца шматстайныя сітуацыі, праз якія мажліва патрапіць у палон разбуральных эмоцый і незаўважна саступіць на шлях самазнішчэння. Канцэпцыя, якой паяднана творчасць А. Казлова, навідавоку. Літаральна ад першых апавяданняў пісьменнік узяў курс на своеасаблівае супрацьстаянне: жыццёваму негатыву, бруду, марнатраўству, чалавечым слабасцям. У прозе А. Казлова адчуваецца своеасаблівая нервовая напружанасць, якой заканамерна вымагае сам працэс мастацкага асэнсавання і пераадолення ганебнага ў чалавечай прыродзе. Агаляючы рэчаіснасць, дэманструючы яе ва ўсёй непрывабнасці, непрыхарошанасці, пісьменнік вымушае аб’ектыўна ўспрымаць рэальны стан рэчаў. Вядома, што “мастацкі твор заўжды сплаў знешняга жыцця з унутраным жыццём мастака, дыялектычная еднасць адлюстравання і самавыражэння” [5, с. 256]. Думаецца, іерархія каштоўнасных арыенціраў, якія сцвярджаюцца ў творах А. Казлова, 172 яскрава дэманструе светапогляд пісьменніка, жыццёвыя прыярытэты і, несумненна, высакародную мэту яго мастацкай творчасці. __________________________ 1. Казлоў А. Міражы ценяў: Аповесць, апавяданні / А. Казлоў. — Мн.: Маст. літ., 1990. 2. Казлоў А. І тады я памёр...: Аповесць, апавяданні / А. Казлоў. — Мн.: Маст. літ., 1993. 3. Незламаная свечка: Аповесці. — Мн.: Маст. літ., 2000. 4. Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. / Л. Корань. — Мн.: Маст. літ., 1996. 5. Калеснік У. Зорны спеў. Літ. партрэты, нарысы, артыкулы / У. Калеснік. — Мн.: Маст. літ., 1975. 173 Д. Д. Лемехова (Минск) «КУЛЬТУРА ПИТИЯ» В РОМАНЕ И. БОБКОВА «АДАМ КЛАКОЦКІ І ЯГОНЫЯ ЦЕНІ»: ДИАЛЕКТИКА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ … кава ня ёсьць проста кавай, рэч ня ёсьць проста рэччу. Ігар Бабкоў … Яд, мудрецом тебе предложенный, прими, Из рук же дурака не принимай бальзама. Омар Хайям Игорь Бобков — современный белорусский поэт, прозаик, философ, критик. Член Союза писателей Беларуси, международного ПЕНклуба. С 1995 по 2000 год — главный редактор культурологического журнала «Фрагмэнты». Доктор философии (PhD), преподает в БГУ. Издал две книги поэзии — «Solus Rex» (1992), «Герой вайны за празрыстасьць» (1998). Автор монографии «Філасофія Яна Снядэцкага» (2002), а также эссеистической книги эссе «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэньні руінаў» (2005). Роман Бобкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» (2001) может быть обозначен как переходный, пограничный. Этот текст (или свод текстов) находится, выражаясь словами самого Бобкова, «у “пустой” прасторы паміж, — паміж універсальным канонам (Захадам) і нічым не легітымізаванай унікальнасцю», «лакальным мысленнем» [1]. Мотив перехода границы (выхода за грань) — один из важнейших в романе. При этом текст «дрейфует» между модернизмом и постмодернизмом, новеллистикой и эссеистикой, философствованием и тем, что принято называть «прозой поэта». Подобно тому как категориальная «сетка» придает целостность философской прозе, структуру, «русло» прозы поэта образует система лейтмотивов. В своеобразном эпилоге романа Бобков говорит об этом прямо: «Некалькі вобразаў і ідэяў, якія паўтараюцца праз усю кнігу, мэтафары, якія перацякаюць са старонкі на старонку, прымушаюць думаць пра сымуляцыю прозы на карысьць паэзіі...» [2, с. 106]. Одним из ведущих мотивов романа является мотив питья (или «пития»). Примечательно, что славянизированный (полногласный) вариант слова обладает конкретизирующей, снижающей коннотацией. Понятно, что, говоря о «культуре пития», мы имеем в виду то, что культуролог назвал бы «дискурсивной практикой», а не простое утоление жажды. По Хайяму, культура пития заключается в известных «оговорках»: «Запрет вина — закон, читающийся с тем, / Кем пьется, и когда, и много ли, и с 174 кем. / Когда соблюдены все эти оговорки, / Пить — признак мудрости, а не порок совсем» [3, с. 10]. Осип Мандельштам идет дальше, определяя через питие культуру как таковую: «Да, культура опьяняет… То, что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учета ее накопленных богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая глиняная амфора с вином, зарытая в землю» [4, с. 178]. Сравним. с тезисами В. Акудовича: «Культура — гэта падзеi часу, трывала зафiксаваныя ў прасторы… у сытуацыi адсутнасьцi прасторы знакi i атрыбуты ўсiх iншых культураў апынаюцца ля чалавека гэтаксама блiзка, як знакi i атрыбуты культуры уўласнай» [5]. Второй тезис особенно актуален для нас. Действительно, по мере того, как уничтожаются культурные границы и укореняется экзотика, национальные напитки превращаются в международные бренды (вроде кока-колы), появляется возможность сказать (во всяком случае, для Бобкова): «Плятон любіў каву… Я хацеў бы напісаць пра гэта манаграфію. Падрабязна рэканструяваць цырыманіял, паводле старагрэцкіх крыніцаў» [2, с. 60]; «…тысячарукі Шыва п’е кока-колу ў Мак-Дональдсе…» [2, с. 69]; «…твая першая пляшачка («армянскага кан’яку». — Д. Л.) была сапраўдным саторы, калі ты яе выцягнуў сярод вуліцы беларускай вёскі, зьнянацку, на першай бульбе…» [2, с. 65]; «…ён усё бег, утаймоўваючы сэрца, у нікуды, у чымсьці падобны да Дыяніса, а можа й сам Дыяніс, памерлы і ўваскрослы бог, на тлустай і чорнай ральлі Ўсходняй Эўропы» [2, с. 81]. Трагикомический эффект этого приема доведен до абсурда в миниатюре, в основу которой положена «ідэя шыкоўнага падарунка для спадара Х.: дваццаць пяць кактусаў у камплекце з кранікамі для тэкілы». «Реципиенту» предлагается получать мексиканскую водку непосредственно из «носителя», как березовый сок. Мораль: «Зрэшты, як казаў другі спадар Х., галоўнае — верыць. У Бога. Радзіму. Кактусы. У кранікі. У пустату. У тэкілу» [2, с. 17]. Очевидно, что «другі спадар Х.» — Христос, и от этого сокращения комизм приобретает черты корпоративного юмора, что может быть неправильно понято как кощунство. Оппозиции «полнота — пустота», «присутствие — отсутствие», «поверхность — глубина», «подлинник — суррогат», значимые для Бобковафилософа, актуальны в текстах «питьевого» дискурса. Но тут весьма важна «тематизация» в зависимости от социокультурной ориентации — то есть выбор знакового напитка (содержания-содержимого) и обстановки его потребления (формы-формата). Белорусский канон в романе не прописан: «зубровке» или недавно возрожденной «крамбамбуле» автор предпочитает итальянский аперитив в литовском местечке («Кампары зь ільдом… адзінае, што ёсьць у бары, акрамя мясцовай гарэлкі і падазро175 ных настоек “са смакам ківі”…» [2, с. 91]), французский ликер в Вене («…я запрашаю ўсіх у “Зялёны штраль” на келішак “бенэдыктына”…» [2, с. 58], «кашэрную вугорскую сьлівовіцу» в Варшаве [2, с. 14] или кальвадос в Париже. Хотя некоторые герои Бобкова наследуют короткевическому типу романтического гуляки-жизнелюбца: «У моманты рэдкіх успамінаў ён заходзіць і ў маю сьвядомасьць, — гэтак жа ўпэўнена, як калісьці ў піўнуху, — пацясьняючы ўсіх “несьмяротных”, гётэў з кафкамі і джойсаў з вальтэрамі…» [2, с. 96]. Русский канон в романе является отчетливо табуированным в целом, что весьма характерно для творчества Бобкова. При том, что автор начинал с русскоязычных стихов, по словам того же Акудовича, «гэта, бадай, першы выпадак, калi беларускi паэт цалкам абапiраецца не на расейскую, з фрагментамi беларускай, а на заходнееўрапейскую паэтычную традыцыю», которая «арганiчна i плённа спалучаецца з паэтычнай традыцыяй Усходу» [6]. Прозу Бобкова критик относит к разделу «вызвольнай лiтаратуры», в которой также соединяется несоединимое: это «лiтаратура суiцыдальнага аптымiзму, якая нейкiм дзiўным чынам спалучае ў сабе панылы сплiн дэкадансу з халерычнай энергетыкай футурызму» [6]. Герой Бобкова — «постсавецкі інтэлектуал» (одновременно космополит и патриот, «последний романтик» и «первый буддист»), и в его текстах так или иначе выявляется концепция культуры как сложной (часто парадоксальной) смеси; но модель культурного «котла» («котлована»), актуальная для огромных постколониальных территорий, заменяется принципом «коктейля» (или «купажа»), который применим и к стилю: «…я са зьдзіўленьнем знаходжу сябе сярод югендстылю, у прасторным, прэстыжным “Cafе New York”, дзе цьмяныя турэцкія ўплывы амаль распусьціліся сярод пампезнае Венскае сэцэсыі, крыху разбаўленыя румынскім фальклёрам» [2, с. 57]. Подобным образом описывается и стратегия письма (идиостиль): «Я ведаю: заўтра я напішу пра гэта апавяданьне. Там будзе шмат культурных гульняў, стылізаваных пад успаміны, крыху ўспамінаў, стылізаваных пад культурныя гульні, жменька сэнтымэнтальнасьці, разбаўленай юнацкім рамантызмам…» [2, с. 74]. То же касается и стиля жизни, где главный авторский рецепт: «свабода, суладзьдзе й творчасьць» [2, с. 26], причем «вонкавага суладзьдзя можа і ня быць, звонку ўсё можа выглядаць абсурдам, хаосам» [2, с. 40], как в случае с героем главы «Апалёгія Сакрата»: «…ён расьцягнуў свой кубак цыкуты на дзесяцігодзьдзі, разбаўляючы яго танным чырвоным віном, ромам, гарэлкай, півам ды іншымі напоямі…» [2, с. 96]. И все же по упоминаемости в романе на первом месте стоит безалкогольный кофе (кава). Лишь затем идут коньяк (каньяк / кан’як), чай (гар176 бата / гарбатка) и вино. Коньяк ассоциируется с одиночеством, борьбой и писательством, вино — с романтикой, праздностью и философией. Все эти практики (особенно, если их смешивать) сопряжены одновременно с комфортом и риском, счастьем и несчастьем («Кіndberg», «Апалёгія Сакрата»). Упоминается в романе и молоко (в главе «Выспа»), но относится не к «стимуляторам», а к «транквилизаторам», стоя в одном ряду с бромом и инсулином и символизируя «вечнае вяртаньне» [2, с. 103]. Молоко — питье тех, кого признают недееспособными, не берут в расчет, — детей и больных («псыхаў»). Чай — напиток дружеского (интернационального, коллегиального) общения. В главе «Стары сябра з Захаду» (имеется в виду Западный Китай) доминирует восточный канон (опять же не путать классически далекий Восток с пугающе близким). Как и «Апалёгія Сакрата», глава сфокусирована на личности друга, ретроспективна; при этом заимствует заглавие и разрабатывает проблематику (пишется поверх) прецедентного текста: «На дошцы засталася рэшта нясьцёртых гіерогліфаў, назва верша, — “стары сябра з Захаду”. Я прапанаваў яму гарбаты — у нас яшчэ заставаліся рэшткі язьмінавай гарбаты. Тонкія рысы твару раптам раскрыліся й загучалі, быццам сухая лістота, якую ён жменькай засыпаў у звычайную шклянку і заліў кіпнем» [2, с. 70]. То, что чай заваривает китаец в присутствии изучающих китайский, делает ситуацию в корне отличной от описываемой в «Апалёгіі Сакрата» [2, с. 99 — 100], где подспудно осмеян как западный канон «безумного» чаепития, так и русский канон задушевного «чаёвничания» («побаловаться чайком»). Подлинный канон чаепития автору открывается в выражении лица китайца и в иероглифах стихотворения: «Усялякая цырымонія нараджаецца з прастаты, усялякая да яе прыходзіць. “Ускіпяціце ваду, пейце гарбату”, — апісваў напрыканцы жыцьця гарбатавы цырыманіял Рэкю, дзэнскі майстра. Але здараліся часы, калі нават за высакародную прастату мусіў плаціць пэўнай колькасьцю жыцьцёвых згодаў і кампрамісаў. У такія часы я не цураўся складанага» [2, с. 62]. Мы видим, что канон принимается не полностью, но расценивается как безусловно «трогательный» и «благородный». Кофе у Бобкова «освящает» и деревенскую хату, и студенческий интернат, и гастроном «Радзіма», и бистро «Хвілінка». Это знак духовной активности и знак любви — к матери, к китайскому гостю, к друзьям, к девушке за стойкой бара, к музыканту, играющему cool jazz в психушке, к призраку джойсовского персонажа, посетившему кафе. Позднесоветским каноном потребления кофе является дефицит [2, с. 25]. Другая крайность — западный канон сверхизобилия, когда «знайшоўшы сябе ў 177 маленькім затаптаным перадпакоі Вялікага Заходняга Сьвету, спрабуеш разам з усімі выбраць з 75 гатункаў кавы свой уласны гатунак, і разумееш, што гэта онталягічна немагчыма, што цывілізацыя, якая прапануе 75 гатункаў кавы, насамрэч цікавіцца ня праўдай, але разнастайнасьцю» [2, с. 103]. Однако подлинно структурообразующим элементом в романе является не кофе, а кафе. Глава «Café “У Топія”» занимает срединное место в композиции. В кафе «проигрывается» роман героя «Менскай оперы». В кафе беседуют архивариус и хозяин фотографии в новелле «Магдачка». В кафе автор начинает писать свою «Апалёгію Сакрата». Как кофе — это больше, чем просто кофе, кафе — это больше, чем просто место, где пьют кофе. Полонизм «кавярня» у Бобкова входит в ряд «майстэрня / вар’ятня / мытня / прыбіральня / трупярня / кнігарня», где каждый образ — альтернативная модель мира. Интересно, что на уровне звучания слово «кавярня» перекликается с латинским сaverna — пещера, грот, полость, пустота, а с другой стороны, с английским соver — покров, чехол, убежище, прикрытие, ширма, отговорка, маска… Бобков создает «многослойный» образ кафе, исходя из его «двоящегося» названия: «У Топія» — «Утопія» (гр. «без места» или «идеальное место»). С одной стороны, это собирательное, фантазматическое кафе: «Як і ўсе іншыя кавярні, якія я сьніў, гэтая пачыналася з даўгога калідору, абарванага ў нішто…» [2, с. 57]. Интерьер с затонувшей субмариной претерпевает различные метаморфозы, кафе меняет место и название, пока не превращается «ў невялічкую кавярню ў адным паўднёвабеларускім горадзе, што месціцца ў гроце на беразе Сожа, на ўскраіне старога парку» [2, с. 58] (имеется в виду Гомель, родина Бобкова). Фигурируют в романе и «невялічкая кавярня на ўскраіне Мадрыду» [2, с. 78], и «невялічкі тэатар у Cafe de la Gare на rue de Temple» [2,с. 94], и знаменитые «праскія кавярні» (в связке с «расейскімі танкамі»*) [2, с. 81]. Присутствие героев в них чисто метафизическое – через память и воображение. Иное дело — реальность: «І вось гэтая кавярня. Маё прыватнае мейсца на Шырокім Менскім Прашпэкце ў Нікуды. Нэўтральная тэрыторыя, дзе можна паліць цыгарэту й думаць пра сваё... Хаця што мы маглі лічыць сваім у гэтым сьвеце?.. Выдавала на тое, што адзіна магчымае выйсьце было ў маўклівай салідарнасьці: кавярня, кубачак кавы… Штоночы тут адбываецца кававая цырымонія… Тут спраўджваюцца няспраўджаныя памкненьні, тут ткуцца вялёны шчасьця» [2, с. 59]. Таким образом «уютное» локальное мышление противостоит глобальному «сквозняку времени». Вновь находим параллель у Валентина * На самом деле — советскими танками. 178 Акудовича: «Чалавеку толькi здаецца, што ён шукае iсьцiну, насамрэч ён прагне адно ўтульнасьцi… Бадай вось гэтай прагай утульнасьцi найперш i абумоўлены наш супрацiў сытуацыi татальнага Нiдзе i Нiхто, якую стварыў выбух камунiкацый» [5]. Самое важное — преемственность форм сопротивления; в частности, преображение классического формата «пира» в формат «церемонии». И если в первом случае непременна пропорциональность содержимого (вина и воды, вопросов и ответов), то во втором — его принципиальная переменность. _________________________ 1. Бабкоў І. Адам Клакоцкі і ягоныя цені. Раман у дзесяці гісторыях / І. Бабкоў. — Менск, 2001. 2. Бабкоў I. Постсавецкія інтэлектуалы, “універсальнасць” і “Заходні канон”/ І. Бабкоў. http://www.лiтaрa_net/архiў_клакоцкага.htm. 3. Хайям Омар. Рубаи / Омар Хайям. — М., 1990. 4. Мандельштам О. Слово и культура / О. Мандельштам. — М., 1987. 5. Акудовіч В. Нігдзе і ніхто / В. Акудовіч. http://www.lib.by/frahmenty/6akudovich.htm. 6. Акудовіч В. Уводзіны ў новую літаратурную сітуацыю. Ч. ІІ. http://www.lib.by/frahmenty/8akudovich2.htm. 179 Л. А. Ламека (Мінск) СПЕЦЫФІКА ПСІХАЛАГІЧНАГА АНАЛІЗУ Ў АПОВЕСЦІ ІВАНА ШАМЯКІНА “САТАНІНСКІ ТУР” Аповесць Івана Шамякіна “Сатанінскі тур” — асэнсаванне пераломных падзей пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя, калі адбывалася карэнная ломка амаль усіх асноў тагачаснага жыцця. Такое прывабнае набыццё дзяржаўнай незалежнасці былымі рэспублікамі Саюза пасля яго распаду мела і адваротны бок. Перабудова дала не толькі магутны імпульс для развіцця дэмакратыі і свабоды, але і прынесла (з прычыны рэзкіх перамен у эканоміцы) шматлікія выпрабаванні матэрыяльнага характару, якія вельмі часта вымагалі вялікіх духоўных ахвяр. У цэнтры аповеду — вандроўка ў Польшчу групы беларусаў, з’яднаных агульнай няпростай сітуацыяй: амаль кожны з іх вымушаны карэнным чынам мяняць свой лад жыцця дзеля рызыкоўных, сумніўных заробкаў. Тэматыка аповесці мае шмат агульнага з літаратурай экзістэнцыялізму: Шамякін паказвае чалавека ў абсурдных абставінах, памежкавых умовах, перад непазбежнасцю выбару паміж Дабром і Злом. Як таленавіты псіхолаг, пісьменнік аналізуе хісткасць і няўстойлівасць чалавечай маралі ў атмасферы бездухоўнасці і ўседазволенасці. Сюжэт аповесці па-шамякінску дынамічны, аўтар наўмысна завастрае сітуацыю, карыстаецца гратэскам, некаторыя павароты падзей здаюцца амаль нерэальнымі. Але мастакоўская задача патрабавала менавіта такога падыходу: сумную фантасмагорыю жыцця складана перадаць традыцыйнымі фарбамі. Таму не дзіўна, што падчас паездкі памірае малады вучоны, працягваецца шлях за мяжу ў адным аўтобусе з мёртвым, тамсама цынічна ладзяцца ўцехі разбэшчанай кабеты і гандляра кантрабанднай зброяй, пасля вяртання вырашае сысці ў манастыр раней даволі абыякавая да рэлігіі дзяўчына... Шамякін, які ўвесь час вызначаўся нераўнадушным стаўленнем да надзённых праблем жыцця, праўдзіва адлюстроўвае падзеі таго часу, карціна ствараецца дакладная і ў сваёй рэлістычнасці змрочная. Але пісьменніка цікавяць не толькі знешнія перамены: як сапраўднага творцу яго хвалюе перш за ўсё жахлівае перараджэнне чалавечай душы. Таму аповесць вылучаецца найперш псіхалагічнай змястоўнасцю. Можна гаварыць пра здольнасць мастака даследаваць псіхіку сваіх герояў шляхам аналізу як знешняга, так і ўнутранага дзеяння, пра майстэрства дыялога, маналога, мастацкай дэталі, партрэта. Аўтар удала прэзентуе 180 пэўныя псіхалагічныя тыпы, дае гранічна дакладную, вычарпальную характарыстыку сваім персанажам. Безумоўна, самая трагічная сюжэтная лінія звязана з гісторыяй маладога вучонага Уладзіслава Булаўскага. Шамякін стварае тып герояінтэлігента, чалавека надзвычай тонкай псіхічнай і духоўнай арганізацыі, падрыхтаванага для самых смелых вандровак думкі, але не для несумленнага шоп-тура. Вядомы сваімі філалагічнымі дасягненнямі ў галіне паланістыкі, ён едзе ў Польшчу зусім не па прафесійнай патрэбе. Калі ён і здолеў бы нарэшце пачуць жывую польскую гаворку, то гэта была б не універсітэцкая дыскусія, а самае лепшае – сакатанне бойкай пакупніцы на міжнароднай барахолцы альбо бессэнсоўныя бытавыя спрэчкі ў якой-небудзь варшаўскай забягалаўцы. Польшча сама знаходзілася ў той час далёка не ў лепшым эканамічным становішчы, таму радая была шматлікім плыням турыстаў з былога Саюза, якіх вабілі зусім не музеі і сярэднявечныя муры касцёлаў, а найперш магчымасць прадаць здабыты рознымі несумленнымі шляхамі тавар. Аднак Булаўскаму не пашэнціла нават на такі жыццёвы вопыт: у дарозе слабы сэрцам вучоны раптоўна памірае, хутчэй за ўсё не вытрымаўшы надзвычай моцнага для яго псіхалагічнага прэсінгу, калі з паважанага інтэлігента ён павінен быў на нейкі час ператварыцца ў гандляра кантрабанднай самаробнай гарэлкай. Шамякін раскрывае псіхалогію Уладзіслава ў першую чаргу праз пакутлівыя перажыванні, настроі, адчуванні, думкі героя. Унутранае дзеянне часам акумулюецца ў падтэксце, своеасаблівай “падводнай плыні”. Як і характэрна для чалавека яго складу і асяроддзя, натуральны стан Булаўскага — бесперапынная рэфлексія над сваім жыццём, падзеямі ў сям’і, грамадстве, краіне. У падарожжы ён хутка збліжаецца з іншымі людзьмі, але не без сарамлівасці: увесь час адчувае гнятлівасць сваёй вымушанай метамарфозы, чырванее ад сяброўскай вольнасці Тасіных жартаў і ўжо зусім ганебна пачувае сябе ад пошлых каментараў Дзіяны Жаўтковай і Ірэны Шостак. Малады чалавек ніякавее ад празмернай да сябе ўвагі, пачынае пакрысе адчуваць небяспеку ад хворага сэрца, але працягвае падарожжа, якое прыносіць яму смерць. Герой — асоба інтравертнага тыпу, засяроджаны на сваіх думках, але ў жыцці яму пашэнціла мець духоўна родную асобу і сапраўднага сябра. Гэта яго жонка Марына; іх блізкасць падкрэсліваецца аўтарам праз адлюстраванне абвостранай трывогі жанчыны за свайго мужа. Яшчэ больш узмацняе яе нечаканая рэпліка дачкі Янкі раніцай: “Не трэба табе ехаць, татачка”, — якая сугестыўна падрыхтоўвае чытача да трагічнага павароту падзей. Падзеі пасля ад’езду турыстаў падаюцца паралельна, і 181 чытач здагадваецца, што Марына губляе яшчэ ненароджанага сына якраз тады, калі памірае Уладзіслаў. “Божа мой! Што ж гэта такое? Гэта ж ён, сыночак наш, пратэстуе. Не трэба, не трэба, родненькі”, — апошняя сцэна, дзе мы бачым Марыну ў жахлівым адчаі і роспачы і яшчэ не ведаем пра гібель яе мужа. Далей сустрэча з пасівелай ад гора гераіняй адбудзецца толькі ў фінале, падчас пахавання Булаўскага. Шамякін падкрэслівае значнасць сям’і і яе прыярытэт у жыцці чалавека. Калі б не агульная галеча, напаўгалодная Янка, Уладзіслаў не адважыўся б на паездку. Толькі цяжкія абставіны прымушаюць яго паступіцца звыклымі прынцыпамі і адважыцца ехаць, рызыкуючы апошнімі грашыма і рэпутацыяй. Але нават у такой сітуацыі Булаўскі выяўляе сваю каштоўнасную сістэму: грошы з’яўляюцца мэтай паездкі, але не ператвараюцца ў фетыш. Ведаючы цану кожнаму рублю, ён, аднак, гаворыць Марыне: “Янка месяц жыве маёй паездкай. На ляльку ёй не пашкадую. Найпрыгажэйшую…” Ён — клапатлівы бацька і муж, які дзеля сям’і гатовы перажыць самыя цяжкія выпрабаванні лёсу. Яго антыпод у творы — Леанід Узёнтак, у былым — камсамольскі работнік, а сёння — прабіўны камерсант, бізнесмен. У адрозненне ад іншых спадарожнікаў, для яго вандроўка ў Польшчу — не прыкрая неабходнасць, а авантура, якая нават прыносіць задавальненне. Ён радасна вітае новы час, пра што сведчаць яго аптымістычныя наконт сітуацыі і пагардлівыя да тых, хто яе ўспрымае зусім інакш, думкі: “Сябе ён лічыў бізнесменам заходняга ўзору і дэманстраваў высакароднасць і шчодрасць. Трэба ж паказаць быдлу, што новыя гаспадары жыцця не крывасмокі, якімі малявала буржуяў камуністычная прапаганда. Чэрні трэба паказаць даброты свабоднага рынку”. Шамякін тонка заўважае, як Узёнтак налаўчыўся чытаць характары па тварах і паставах людзей. Ён — даволі таленавіты псіхолаг, адчувае, дзе можа знайсці сваю выгаду, з каго пажывіцца. Калі ж сустракае асобу, з якой нічога не возьмеш, напаўняецца агідай: “вельмі ж не падабалася яму Ядзя. Не, не сама дзяўчына, — яе багаж — адзін невялікі чамаданчык. Чыстая турыстачка. А ён проста ненавідзеў іх, чысценькіх”. Аўтар ілюструе душэўны стан новаспечанага камерсанта, у якім адчайнае імкненне да нажывы яшчэ не канчаткова перамагло пачуццё уласнай непаўнавартасці: яму здаецца, што інтэлігенты глядзяць на такіх, як ён, не інакш, як з пагардай. Таму Леанід у душы злараднічае, даведаўшыся, што разам з імі едзе вучоны — маўляў, і прадстаўнік ненавіснай інтэлігенцыі вымушаны нарэшце прадавацца д’яблу дзеля капейкі. 182 Узёнтак — драпежнік, у якога за душой няма нічога святога. Жыццёвая філасофія такой асобы — як найбольш зарабіць грошай, якія даюць акрамя дабрабыту і неабмежаваную ўладу. Нездарма менавіта ён бярэ на сябе функцыі лідэра, “старэйшага” ў падарожжы: жыццё ўвесь час дэманструе непарыўную сувязь паміж матэрыяльным дабрабытам чалавека і яго воляй да ўлады. На жаль, у большасці выпадкаў яны прапарцыянальна звязаныя адно з адным. Іранізуючы з яго ненажэрнасці, аўтар надзяляе героя нават “фірмовым” прозвішчам, відавочна паланізаванай формай ад “узяць”. Дарэчы, Шамякін шырока карыстаецца гэтым прыёмам і ў іншых выпадках: Узёнтак трапляе пад знішчальны “бот” Капытка; нейкі таямнічы ні то Папоў, ні то Паноў аказвае свой уплыў на Узёнтака, разгубленага з-за смерці Булаўскага, падбадзёрвае яго працягваць падарожжа; шафёр Валевіч выяўляе напрыканцы сваю волю і кіруецца не ў Віцебск, далей ад граху, а ў аддзяленне міліцыі — дзеля таго, каб рэзка скончыць жорсткі і злачынны “сатанінскі тур”... Такім чынам, знаходзяцца мацнейшыя нават за Узёнтака: тое, што ў выніку яго ўводзіць у зман даўні кампаньён, збівае на “горкі яблык” Валодзя Адамейка, адкрыта рабуюць нераспазнаныя ў час рэкеціры Капыток і Язькоў і нарэшце здае міліцыі абураны Валевіч, — сведчанне яго бездапаможнасці перад воляй лёсу і быццам такой прывабнай для інтрыгана сітуацыяй. Фактычна, ён — марыянетка, падначаленая жаданням надзеленага надзвычайнай сілай невядомага Лялечніка. На своеасаблівым “кірмашы славалюбства” не бывае пераможцаў, таму на пэўным этапе нават гэты чалавек церпіць паражэнне. Як знаўца чалавечай псіхалогіі, Шамякін не засяроджваецца на паказе выключна палярных персанажаў. Ён па-майстэрску распрацоўвае галерэю вобразаў, характэрных для пераломнай эпохі. Асэнсоўвае тэндэнцыі новага часу, яго настроі, прыярытэты, сітуацыі, факты, у многім апраўдваючы паводзіны сваіх герояў, якім спачувае, а то і сімпатызуе. Так, напрыклад, ён раскрывае сутнасць учынкаў вясёлых дзяўчат і шчырых працаўніц Тасі і Марусі, якія вымушаны выносіць з фабрыкі жаночую бялізну: гэта не нахабны крадзёж, а хутчэй неабходная несумленнасць, здольная хоць пэўны час падтрымліваць хісткі карабель дабрабыту на плыву. Аптэкарка Сіўцова вымушана рабіць бізнес на леках, “накручваць” на іх цану ў некалькі разоў. Але ў падтэксце відавочна апраўданне яе паводзін: жанчына прадае іншым магчымасць уратаваць жыццё, ратуючы такім чынам і сваё, а галоўнае, жыццё траіх дзяцей. Былы ўдзельнік вайны ў Афганістане Валодзя Адамейка пэўны час трывае відавочнае блюзнерства падарожжа дзеля заробкаў на будучае вяселле. Але як чалавек сумленны, ён урэшце не вытрымлівае і 183 са скандалам пакідае аўтобус, ратуючы таксама і Ядзю. Паказальна, што семнаццацігадовую дзяўчыну, якая выпраўляецца за мяжу з мэтай духоўнага ўзбагачэння, Узёнтак прадбачліва пазбаўляе права голасу. Відаць, адчувае, што яна можа абурыцца супраць прадаўжэння паездкі. Большасць персанажаў аповесці, створаных пісьменнікам, — жывыя людзі, якім уласціва шмат добрага, нездарма ж яны да часу так хороша ладзяць паміж сабой. Але пасуюць перад няўмольнымі абставінамі жорсткага і прагматычнага часу. Гэта звычайныя недасканалыя асобы, з даволі зразумелым жыццёвым страхам за заўтрашні дзень. Ціхія і разважлівыя – грэшнікі. Толькі неаднаразова памножаны, грэх здольны прывесці да самых ганебных вынікаў. Таму так сімвалічна гучыць назва аповесці — “Сатанінскі тур”. Сатана — былы анёл, які ўчыніў бунт супраць Бога, а зараз менавіта ён – валадар над грэшнікамі. Як бы ні імкнуўся чалавек да Дабра, злы пачатак у ім ніколі не знікае: яго можна ўтаймаваць, прыглушыць, але не вынішчыць. Празаік паказвае, як у цяжкія гістарычныя часы ён вырываецца на паверхню і ўплывае на ўчынкі, дзеянні, думкі, паводзіны людзей. Аповесць “Сатанінскі тур” дае мажлівасць сцвярджаць, што псіхалагічны аналіз у прозе Івана Шамякіна набыў новыя рысы. Экстрэмальныя ўмовы, у якіх апынуўся народ і сам пісьменнік у 90-я гады, пашырылі ў яго творчасці разуменне гісторыі, духоўнаэмацыянальнай сутнасці часу і чалавека. Вядомы ў першую чаргу як прадстаўнік “падзейнага псіхалагізму”, аўтар у большай ступені характарызуе герояў праз іх непасрэдныя дзеянні і паводзіны ў канкрэтнай сітуацыі. Удала знойдзены партрэтныя дэталі, выпісаны маналогі і дыялогі, якія таксама выяўляюць стан герояў альбо іх псіхалогію. Часам празаік звяртаецца да сноў герояў, якія шмат вытлумачваюць у іх характарах і паводзінах, да прыёму рэмінісцэнцыі: так чытач даведваецца пра некаторыя дэталі з ранейшага жыцця сям’і Булаўскіх. Дарэчы, мастак не пазбягае і алюзій, калі параўноўвае гэтую пару са “старымі філосафамі”, Марыну — з блокаўскай Дамай, гандляроў новага тыпу з варагамі... Невыпадкова ўзгадваюцца філосаф Шапенгаўэр, пісьменнік Талстой, мастак Матэйка, педагог Ушынскі: яны значна пашыраюць культурны кантэкст твора. Агульны пафас аповесці — даволі трагічны. Гратэскава песімістычны настрой пісьменніка выкліканы скрухай і болем з прычыны таго, што вандроўка чалавека па прасторах жыцця ўсё больш аддаляе яго ад Бога і няўмольна набліжае да бездані. 184 К. Л. Киселев (Витебск) ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В РОМАНЕ Л. ЛЕОНОВА «ПИРАМИДА» В 1923-м году в так называемом «альбоме признаний» Надежды Петровны Остроуховой, жены известного художника рубежа XIХ — XX веков, появились несколько записей начинающего писателя Леонида Леонова. Отвечая на предложенную анкету, молодой литератор был вдумчив и рассудителен, тщательно взвешивая каждое слово. Тем не менее ответ на один из пунктов анкеты (а именно: «ваш любимый герой в романе?») прозвучал достаточно категорично: «к черту героев, мне автор нужен» [1, с. 191]. Безаппеляционность леоновского тезиса в то время могла показаться юношеской бравадой, желанием «соригинальничать», даже эпатировать радушную хозяйку дома. Спустя без малого столетие, включившее в себя богатую на удачи и разочарования, взлеты и падения творческую карьеру Л. Леонова, мы можем сделать вывод о незыблемости данного постулата в художественной деятельности писателя. Естественно, что начало фразы («к черту героев») не следует воспринимать буквально как призыв Леонова «размыть» характерологическую определенность, свергнуть «гнет» почему-то воспринимаемой ныне иронически формулы Ф. Энгельса о «типических характерах в типических обстоятельствах». Реалистическая доминанта творчества Л. Леонова предполагает установку на воссоздание характеров в их социальнопсихологической и исторической обусловленности как «основных идейно-эстетических нервов произведения» [2, с. 189]. Поэтому куда важнее вторая часть леоновской записи: «мне автор нужен». Именно в ней воплощено эстетическое кредо Л. Леонова, видевшего задачу читателя в определении мировоззренческих позиций писателя, его философских и нравственно-этических «координат». Важным моментом является тот, что «лицо» автора «скрывается» не только за идейно-тематическим слоем литературного произведения (планом содержания). Художественную идею необходимо «подать», авторскую позицию — выразить. Способ выражения авторской точки зрения составляет основу стиля, творческой индивидуальности писателя, влияя на структуру произведения. Выявление особенностей выражения авторской позиции в романе Л. Леонова «Пирамида» и составляет содержание нашей работы. «Пирамида», вышедшая в 1994-м году, за три месяца до смерти автора, стала итогом творческой деятельности классика. Заметим, не фина185 лом, а именно итогом последовательного движения писательской мысли, стилевых поисков Л. Леонова, одновременно являясь их высшей отметкой. В романе представлено все самое характерное для Леонова: широта и масштабность художественного замысла («тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису» [4, с. 11]), глубокая боль за судьбу Родины и человечества, бескомпромиссность нравственных решений и оценок. Тем не менее, привычная для Леонова субъективность способа изложения не приводит в «Пирамиде» к прямолинейным выводам, открыто публицистическим тирадам писателя. Л Леонов создает специфическую структуру повествования, использует приемы опосредованного выражения авторской позиции, а следовательно, стимулирует мысль читателя, призывая его к сотворчеству, самостоятельности собственных оценок, тщательной работе над текстом. Голос автора в «Пирамиде» практически никогда не бывает слышен открыто, будучи «запрятан» в повествовательных хитросплетениях. Основной тип повествования в итоговом романе Л. Леонова: от «третьего лица». «Объективный», «отвлеченный» повествователь у Л. Леонова, не говоря уже о нехарактерном для творчества писателя повествователеавторе как очевидце и участнике событий (первые главы «Пирамиды», выдержанные в духе автобиографического повествования от «первого лица»), — не аморфно-объективистское начало, а активный носитель авторской точки зрения. Он выполняет не только специфически информативную, но аналитическую и оценочную функции. Однако авторская позиция в «Пирамиде» оказывается нетождественной позиции повествователя. Соприкасаясь с ней, точка зрения писателя корректируется речами героев, многоверсионностью событий и вообще всей совокупностью символических ситуаций и подтекстовых смыслов. Повествовательная палитра «Пирамиды» чрезвычайно широка. Оценочно-истолковывающее начало в романе предстает то в определенных формах публицистического письма или лирических интонаций, то завуалировано иронией, символикой, иносказанием, мифотворчеством. Приемы опосредованного, непрямого выражения авторской позиции усложняют ее понимание, вследствие чего «истинный смысл…открывается далеко не сразу и нередко оказывается противоречащим заявленному» [8, с. 105]. Активно используется в романах Леонова разноречие, которое вводится в повествование посредством несобственно-прямой речи. Несобственно-прямая, или «чужая» речь, — особый момент, усложняющий определение авторской позиции. Рассеянные в авторском повествовании слова «чужой речи», экспрессивные восклицания, семантические и син186 таксические «несообразности» образуют «зоны» героев, несущие личностный тон, характерную для персонажа настроенность, его (а не авторскую) оценку житейских перипетий. Убедительным примером необходимости учета «зонного» принципа в определении авторской точки зрения на персонажа может служить героиня «Пирамиды» Юлия Бамбалски. Те моменты, когда в объективном вроде бы авторском повествовании звучат восхищенные, едва ли не подобострастные интонации, касающиеся этой «инфернальной» женщины, голос автора всегда отходит на второй план, заменяясь голосами героев: режиссера Сорокина, ангелоида Дымкова, безличной толпы. Характерная примета леоновского повествования, наиболее рельефно выраженная в «Пирамиде», состоит в устойчивой многоверсионности событий. Многоверсионность имеет существенное значение для характерологии произведений писателя, расширяя возможности ее интерпретации и в то же время являясь средством выражения авторской точки зрения. Создавая углубленную характеристику героя, а затем отклоняя ее ради более простого и достоверного варианта его действий, «писатель полагает, что из совокупности версий читатель создаст более полное представление о герое, его возможностях и путях развития. В подобных ситуациях повествование развивается по типу градации, и, когда оно достигает сюжетного и эмоционального напряжения, писатель отклоняет его как неистинное. Тем самым Л. Леонов снимает исчерпанность прежнего движения и выводит его из замкнутости; он создает ощущение неразгаданности, пробуждает интерес к новым возможностям, таящимся в отношениях героев» [10, с. 37]. Одним из способов создания событийной многоверсионности является привлечение к ее авторству наряду с повествователем персонажей, мало участвующих в развертывании фабулы произведения (писатель Фирсов в «Воре», Никанор Шамин, автор Леонид Максимович в «Пирамиде»). Их введение в романы обусловлено стремлением Леонова представить ту или иную ситуацию с нескольких сторон, под разным углом зрения. «Служебные» персонажи помогают строить повествование, апробировать основную версию и в то же время дискутируют с повествователем, корректируют позиции других героев, «оберегая слагающиеся воззрения от превращения их в универсальные нормативные положения» [9, с. 38]. Основная их функция — «строительная», как в повествовательном, так и в сюжетном планах; они едва ли могут считаться цельными характерами, хотя и играют важную роль в системе эпического действия. 187 В «Пирамиде» мы встречаемся с исключительным разнообразием средств выражения авторской позиции. Некоторые из них более или менее прямо отображают точку зрения писателя на то или иное событие, авторское отношение к героям, определенным ситуациям. К ним относятся экспрессивно-оценочная лексика произведений (эпитеты, метафоры, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов и т. д.), аналитические характеристики повествователя. Приемы опосредованного выражения авторской позиции (подтекст, символика, аллюзии, реминисценции и др.) доминируют в «Пирамиде», что является качеством стилевой системы писателя, его мышления. Среди них выделяется ирония, которая предстает как «средство художественного обобщения действительности, как форма интеллектуального овладения материалом» [9, с. 73]. Ирония может определять приемы повествования (двойничество, многоверсионность событий, «размытость» источников информации), а также быть принципом изображения характеров. Диапазон иронического в «Пирамиде» широк: от сатирического осмысления советской действительности сталинских времен до жалящего сарказма в обрисовке откровенно бездуховных образов Гаврилова или Шатаницкого. Проанализированные нами особенности выражения авторской позиции в романе Л. Леонова «Пирамида» могут быть весьма примечательны в контексте теории полифонического романа М. Бахтина, выдвинутой исследователем в конце 20-х годов и значительно переработанной им 60х, в которой М. Бахтин разграничивает монологические произведения с «четко выраженными ценностными приоритетами…автора» [3, с. 18] и полифонические романы, в которых авторская позиция якобы сосуществует наряду с позициями героев, не играя организующей роли в полифоническом единстве «самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [1, с. 7]. В свете концепции Бахтина «Пирамида» занимает некое промежуточное положение между полифоническим и монологическом типами организации художественного произведения. Так, в «Пирамиде» Леонов a priory находится в диалогических отношениях с читателем и позициями героев, чему способствует специфическая подача материала через многоверсионность событий, неточность источников информации, введение «служебных» персонажей, корректирующих версии повествователя, мнения других героев. В романе уживаются совершенно полярные точки зрения, самые различные верования, которые взаимодействуют в одном герое, а также вступают в открытую или неявную борьбу в рамках столкновения персонажей (носителей полярных убеждений) или заочного спора писателя с созданными им образами-характерами, тем самым создавая эффект противостояния героев и 188 автора, их равноправия, при полной свободе и самостоятельности героев. Подобное отношение автора к герою, по мнению М. Бахтина, свойственно художественной манере Ф. Достоевского, писателя, творческий метод которого наиболее близок Л. Леонову. С другой стороны, творчество Л. Леонова имеет ярко выраженную этическую окраску, и одной из главных его задач является внушить читателю определенные идеи и сомнения, заставить задуматься о животрепещущих вопросах мироустройства вплоть до глобальных проблем цивилизации. При этом писатель не морализирует, остерегаясь прямолинейных выводов, открытой обнаженности оценок. Так, персонаж «Вора» Фирсов, доверенное лицо автора по вопросам писательского мастерства, формулирует эстетическое кредо Л. Леонова как «введение полезных идей в сознание читателя через неподдельное душевное влияние, доставляемое искусством» [5, с. 216]. Авторская позиция «просвечивается» сквозь всю систему эпического действия, которая реализует общий идейно-художественный замысел писателя, а также указывает на оценку конкретного персонажа. В этом смысле «Пирамиду» можно рассматривать как роман монологический, в котором «все скрепы и завершающие моменты лежат в зоне авторского избытка, в зоне, принципиально недоступной сознаниям героев» [1, с. 57], что говорит о схожести выражения авторской позиции у Л. Леонова и самого значительного монологиста в русской литературе — Л. Толстого. Таким образом, творчество Л. Леонова оказывается между двумя «секторами национальной души» [6, с. 528] — Ф. Достоевским и Л. Толстым. В этом состоит одно из главных достижений создателя «Пирамиды», сумевшего синтезировать две манеры эпического творчества, поставив вопрос о «новом монологизме» в литературе, при котором диалогические отношения автора и героев (плюс читателя) не отвергают тенденциозности творца, своим произведением выносящего «приговор» действительности. ___________________________ 1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. / М. М. Бахтин. — М.: Худож. лит., 1972. 2. Жураўлеў В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана / В. П. Жураўлеў. — Мн.: Навука і тэхніка, 1991. 3. Здольников В. В. Книга М. Бахтина о Ф. Достоевском в контексте литературной борьбы 20-х годов / В. В. Здольников. // Диалог. Карнавал. Хронотоп. — 2003. № 1-2. 4. Леонов Л. Пирамида. Роман-наваждение в трех частях. Т. 1. / Л. Леонов. — М.: Голос, 1994. 5. Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10 т. / Л. М. Леонов. — М.: Худож. лит., 1982. Т. 3. 189 6. Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10 т. / Л. М. Леонов. — М.: Худож. лит. 1984. 7. Овчаренко О. Роман Леонида Леонова «Пирамида» и мировая литература / О. Овчаренко // Наш современник. № 7. 8. Химич В. В. Поэтика романов Л. Леонова. / В. В. Химич. — Свердловск.: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 9. Хрулев В. И. Поэтика послевоенной прозы Л. Леонова / В. И. Хрулев. — Уфа: Изд-во БГУ, 1987. 10. Хрулев В. И. «Стиль мышления» Л. Леонова в романе «Пирамида» / В. И. Хрулев // Леонид Леонов и русская литература ХХ века: Материалы юбил. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Л. М. Леонова. — СПб.: Наука, 2000. 190 О. Р. Хомякова (Минск) РЕЦЕПЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНФЛИКТА В ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ТЕКСТАХ (ПО РАССКАЗАМ В. ПЕЛЕВИНА) Классическая модель конфликта как минимум включает в себя такие составляющие, как система ценностей, структурирование мира вокруг ценностных полюсов и образ врага, концентрирующий в себе зло и препятствие [1]. Особый статус постмодернизма во многом определяется тем, что в нем, в отличие от предшествовавших «измов», идет не преломление классической модели конфликта в соответствии творческими принципами, но размывание ее с установкой на полное видоизменение «жестких» элементов. Эстетическая дистанция между классической и постмодернистской литературой создается за счет многих факторов, но ярче всего обнаруживается в отказе от классической модели конфликта. 1. Система ценностей как содержательная основа конфликта. В классической литературе в художественном конфликте актуализируется система ценностей, за которые герой готов бороться. В постмодернистском мире истины и нормы относительны, Абсолюту места нет. Иерархическое устройство мира противоречит идеям свободы и равенства, понимаемым Пелевиным как отказ от выбора: «Любой выбор накладывает ограничения. Просто потому что отвергает все остальное, хотя бы на время» [2, с. 451, 452]. В стремлении к всеохватности, игнорирующей различия верха и низа или, например, физиологии и морали, герои Пелевина мечтают «о половом акте, который доставляет высочайшее моральное удовлетворение» [2, с. 452]. Вместо «неопределенных» добра и зла предлагаются приятные ощущения. Традиционные высшие ценности осмысливаются как отвлеченные истины, не подтверждающиеся «опытом телесности» [«Фокус-группа», с. 452]. 2. Способ структурирования мира как формальная основа конфликта. Объединение Бога и дьявола («Бог … и все остальные черти», — «Ухряб», с. 172) в одной плоскости знаменует собой не просто отказ от ценностно-иерархического подхода к миру, но попытку отмены дуалистической программы, соответственно которой на протяжении культурной истории человечества происходило упорядочение мира. Принцип бинарного структурирования мира объявляется 191 несовременным. Культуре прошлого («древесной») противопоставляется культура «корневища» или «ризомы», а группировке материала вокруг вертикальной оси — бесструктурность, множественность и запутанность связей [3, с. 68]. В традиционном искусстве структурирующие, организующие начала мира видятся в противостоянии разнонаправленных сил, в конфликте. Конфликт выступает как аккумулятор смысла, актуализируя компоненты, вовлекаемые в конфликтное поле. В постмодернизме и центр и двухцентрие конфликтного противостояния исключается из текста под лозунгами децентрации и деконструкции. Отказ от абсолюта, конфликтного по определению, установка на принципиальное гносеологическое и аксиологическое равенство всех точек зрения, нивелирование оппозиции в равенстве ее членов фактически уничтожает основания для конфликта. Ни событийная коллизия, ни смысловая оппозиция, ни концептуально значимое противопоставление образов или концептов, ни семантическая антитеза — ничто из арсенала классической поэтики не играет принципиальной роли. Динамика обеспечивается не конфликтом, а изображением «текучести» мира, пространственно-временного перемещения героев. 3. Образ врага. Образ врага в классическом искусстве опирается на некий устойчивый архетип типичного для данной художественной системы антагониста, воплощающего неправду мира, персонифицирующего зло, негатив, препятствие. Типы врага в сознании постмодернистского персонажа осмысливаются, как правило, в категориях отсутствия. Теоретическое ожидание врага сталкивается с практической невозможностью его с кемнибудь идентифицировать. Даже в текстах, далеких от детективного жанра, враг выступает не столько как действующее лицо, сколько как скрытый субъект, которого надо найти. Юнкеры Юрий и Николай, получили приказ не пропускать к Смольному врага: «Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых выполнить приказ юнкеров существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, а его не было…» [«Хрустальный мир» — с. 229]. Враг в сновидениях Николая появляется в виде чудовища, «в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров: бесформенный клуб пустоты…» [2 с. 249]. В другом рассказе враг видится как тень или собственное отражение, притворяющееся самостоятельным существом («Тарзанка»). 192 Персонификация врага осуществляется в крайне урезанном варианте: фактически создается не образ врага, а своего рода модель врага, носителя функции врага, характеризующегося невыраженным личностным началом, отсутствием развернутых мотивировок поведения и невнятностью негативной альтернативы, которую он должен представлять. Поиск врага для пелевинских персонажей затрудняется еще и тем, что они зачастую находятся в пограничном состоянии вследствие алкогольного или наркотического опьянения, болезни, умопомрачения. Враг потому нередко оказывается жертвой случайности или недоразумения, а выбор героем «своего врага» представляется искусственным или алогичным. С поиском врага связывается представление о ложности пути: «Сокровенный путь теряешь как раз тогда, когда начинаешь полагать одни мнимости более важными, чем другие» [«Запись о поиске ветра», с. 473]. В плоскости того мира, в котором находится герой, ему некого противопоставить в качестве оппонента. Альтернативность мира, стертая или не проявленная внутри текста, выносится во внетекстовое пространство. Подлинное второе лицо конфликта оказывается за пределами текста. Deus ex Machina, или ухряб («А что значит — ухряб?… Ничего не значит», — [2, с. 173], таинственное «ничего», которое может все, — второй член конфликтного противостояния, объединяющий в себе противника, судью, палача, умноженных на ноль («ничего не значит»), своего рода симулякр в кубе. Не персонифицированный враг, а неопределенная «враждебность судьбы» («Ухряб» — [2, с. 174]) являет собой опасность тем более не преодолимую, чем более она бесплотна и нематериальна, неконкретна и неуловима в своей бестелесной универсальности. Выход из конфликтной ситуации в пелевинском тексте формулируется так: «Я не был разбит в бою. Я не сумел даже приблизиться к противнику. И сейчас я полагаю, что с таким же успехом можно было выходить на битву с ратью облаков или воинством тумана» [2, с. 479]. Наверное это и есть авторская формула конфликта. Таким образом, в рассказах Пелевина традиционная категория конфликта проблематизируется. Конфликтная ситуация изображается иронически как взаимодействие двух атомов, клетки единого организма, пожирающего самого себя [2, с. 260]. Вспомним, в трактовке Ж. Делеза симулякр является результатом интериоризации как минимум двух расходящихся, несогласуемых рядов [4]. Продуктом такого 193 невозможного скрещения — единство, пожирающее само себя, — представлен в рассказах Пелевина конфликт. _________________________ 1. Хомякова О. Р. Конфликт в художественном мире Пушкина / О. Р. Хомякова. — Мн., 2004. 2. Пелевин В. О. Все рассказы / В. О. Пелевин. — М., 2005. Далее ссылки на это издание даются в тексте. 3. Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма) / Н. Б. Маньковская. — М., 1995. 4. Делез Ж. Платон и симулякр / Ж. Делез // НЛО. 1993. № 5. 194 Н. В. Дзенісюк (Мінск) ТЫПАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАГА ПОСТМАДЭРНІСЦКАГА МАСТАЦТВА Кожная нацыя мае свой адметны шлях культурна-гістарычнага развіцця, які, аднак, не з’яўляецца ізаляваным, адасобленым ад агульнай скіраванасці эвалюцыянавання сусветнай культуры. Пэўную мастацкаэстэтычную з’яву варта разглядаць не толькі ў межах уласна нацыянальнай культурнай сітуацыі, але і ў кантэксце іншых культур, што засведчылі сваю гістарычную ці ідэйна-мастацкую блізкасць. Праз супастаўленне і параўнанне розных нацыянальна-культурных дыскурсаў можна акрэсліць агульныя тэндэнцыі літаратурнага працэсу і вылучыць рэгіянальныя асаблівасці той або іншай мастацка-эстэтычнай сістэмы светабачання. Аналіз здабыткаў беларускай літаратуры апошняга дзесяцігоддзя засведчыў з’яўленне новага тыпу мастацкага мыслення, на фармаванне якога не ў малой ступені паўплываў постмадэрнізм як адметная сістэма мастацка-эстэтычных і навуковых поглядаў на свет, што выявіла сябе ў заходнееўрапейскай культуры і філасофіі ў другой палове ХХ стагоддзя. Сучасныя пісьменнікі ўсё часцей адмаўляюцца ад традыцыйных спосабаў адлюстравання рэчаіснасці і свядома альбо інтуітыўна звяртаюцца ў сваёй творчасці да літаратурных прыёмаў, вобразнавыяўленчых сродкаў, стылістычных і сінтаксічных фігур, уласцівых паэтыцы постмадэрнізму. Сярод вызначальных тыпалагічных прыкмет постмадэрнісцкага мастацтва найчасцей называюць: інтэртэкстуальнасць, цытатнасць, іронію, пародыю, наяўнасць кампанента гульні, жанрава-стылёвы сінкрэтызм, апеляцыю да розных мастацкагістарычных эпох, напрамкаў, тэатральнасць альбо візуальнасць уласна аўтарскай ці калектыўнай творчасці, узаемадзеянне са сродкамі масавай інфармацыі і г. д. У беларускай літаратуры постмадэрнізм пачаў складвацца на мяжы 1980 — 1990-х гадоў і быў абумоўлены грамадска-палітычнымі падзеямі, выйсцем краіны з культурнай ізаляцыі, а таксама крызісам эстэтыкі сацыялістычнага рэалізму. Мастацтва, якое на працягу васьмідзесяці год задавальняла ідэйна-эстэтычныя патрэбы насельнікаў СССР, выявілася неадпаведным новай сацыяльна-культурнай сітуацыі, што склалася ў постсавецкіх краінах пасля знікнення адзінай цэнтралізаванай дзяржавы. Вакуум альтэрнатыўнага мастацтва запоўніў добра ўжо вядомы ў Еўропе постмадэрнізм, які найлепш перадаваў адчуванне крызіснасці 195 папярэдняй эпохі і няпэўнасці новага часу, нестабільнасці і неўпарадкаванасці свету. У адрозненне ад рускага постмадэрнізму, станаўленне якога адбывалася ва ўмовах “глыбокага” андэграунду, г. зн. падпольнай апазіцыі да афіцыйнага сацрэалістычнага мастацтва, беларускі постмадэрнізм не спазнаў вымушанай “партызаншчыны” на этапе свайго станаўлення і з’явіўся на змену сацрэалізму як альтэрнатыўны, а не супрацьпастаўлены спосаб мастацкага бачання свету. Калі ў Расіі постмадэрнізм складваўся даволі працяглы час і прайшоў у сваім развіцці тры стадыі: “а) канец 1960 — 1970-х (перыяд станаўлення), б) канец 1970 — 1980-х (перыяд сцвярджэння ў якасці літаратурнага напрамку), в) сярэдзіна 1980 — 1990-я гады ХХ ст. (перыяд легалізацыі)” [1, с. 71], — дык на Беларусі постмадэрнізм абвясціў пра сябе на пачатку 1990-х і выявіўся раптоўным, нечаканым для кансерватыўнай, непадрыхтаванай чытацкай аўдыторыі, выхаванай пераважна на ўзорах рускай класікі і творах сацыялістычнага рэалізму. Заходнееўрапейскі постмадэрнізм пераасэнсоўваў ідэі мадэрнізму, часта аспрэчваючы яго эстэтыку, у той час як рускае постмадэрнісцкае мастацтва прагна ўспрымала дысідэнцкія здабыткі ўласнага мадэрнізму, наследуючы і развіваючы лепшыя яго традыцыі. У беларускай літаратуры (гэтаксама як і ва ўкраінскай) назіраецца “значная часавая “перапыненасць”, перарыўнасць з мастацтвам мадэрнізму” [2, с. 13], які своечасова не склаўся ў паўнавартасны напрамак. Таму сёння па прычыне паскоранага развіцця беларускай літаратуры адбываецца адначасовае станаўленне мадэрнісцкай і постмадэрнісцкай культурных парадыгмаў, іх узаемапранікненне і ўзаемадзеянне. Невыпадкова ў прасторы аднаго твора арганічна спалучаюцца прыкметы постмадэрнізму і экзістэнцыялізму, соц-арту і тэатру абсурду, шызарэалізму і сюррэалізму і г. д. Тое, што постмадэрнізм ва ўсходнееўрапейскіх краінах прыйшоў на змену сацрэалізму, вызначыла яго адметнасць і дало магчымасць даследчыкам супрацьпаставіць постмадэрнізм заходняга і ўсходняга тыпаў. Адным з асноўных аб’ектаў дэканструкцыі ва ўсходнееўрапейскіх постмадэрністаў становіцца моўны матэрыял сацыялістычнага рэалізму і стэрэатыпы калектыўнага мыслення савецкіх людзей, а таксама класічная літаратура ХVІІІ — ХІХ стагоддзяў. Узрошчаны на еўрапейскай традыцыі і паводле замежных тэхналогіяў, беларускі постмадэрнізм сутыкнуўся з шэрагам цяжкасцяў, звязаных са спецыфікай нацыянальнай літаратуры і парадаксальнай культурнай сітуацыяй на Беларусі. Беларуская літаратура не мае віда196 вочна шырокага тэкставага поля, прыдатнага для постмадэрнісцкай дэканструкцыі, пераймання. Беларускія літаратары часта звяртаюцца да здабыткаў замежнага мастацтва слова ці ўзораў рускай класікі, адаптуючы іх да ўспрыняцця суайчыннікамі. Нават штампы савецкага мыслення ўзнаўляюцца пераважна ў рускай мове, а пасля абыгрываюцца пабеларуску. З другога боку, цяжкасцю для рэалізацыі тутэйшым постмадэрнізмам сваіх магчымасцяў з’яўляецца недастатковая абазнанасць беларускага чытача ў нацыянальнай літаратуры. Таму невыпадкова матэрыялам для дэканструкцыі становяцца хрэстаматыйныя творы беларускіх класікаў (да прыкладу, верш І. Сідарука “А хто там ня йдзе?”, падпісаны псеўданімам Не-Купала). Вельмі часта нараджэнне постмадэрнісцкага твора абумоўлена не гульнёй тэкстаў, а сённяшняй змрочнай рэчаіснасцю. Беларускі постмадэрнізм мае пераканаўчыя літаратурна-мастацкія здабыткі, канкрэтныя філасофска-тэарэтычныя распрацоўкі. Відавочна постмадэрнісцкай з’яўляецца творчасць літаратараў моладзевага руху “Бум-Бам-Літ”, якія колькі год таму выйшлі з ББЛ і заснавалі новую літаратурную суполку пад назвай “Schmerzwerk” (“Завод болю”), але не адмовіліся ад прынцыпаў постмадэрнізму. Постмадэрнісцкімі рысамі вызначаецца паэзія Алеся Разанава, Алеся Аркуша, Андрэя Хадановіча, Юрыя Гуменюка, Ігара Сідарука, Ларысы Раманавай, Славаміра Адамовіча, Лявона Вольскага, Анжаліны Дабравольскай, Людкі Сільновай, Ганны Ціханавай, Міхася Баярына, Андрэя Бурсава, Міхася Башуры і інш. Беларускія постмадэрністы ствараюць свае паэтычныя творы праз гульню са словам (цытатай, вытрымкай з напісанага сусветнымі класікамі), разбураючы першапачатковае значэнне намінальнай адзінкі і надаючы ёй у пэўным кантэксце новае, часам нечаканае сэнсавае напаўненне, што найлепей адпавядае вобразнаму выяўленню мастацкага свету паэта. Постмадэрнісцкія прыёмы свядома ці інтуітыўна выкарыстаныя ў прозе В. Казько, А. Казлова, А. Глобуса, В. Мудрова, Б. Пятровіча, Л. Рублеўскай, С. Дубаўца, В. Куртаніч, А. Лукашука, І. Бабкова. У драматургіі прынцыпы постмадэрнізму рэалізуюцца С. Кавалёвым (п’есы “Звар’яцелы Альберт, альбо Прароцтва шляхціца Завальні”, “Стомлены д’ябал”, “Распуснікі ў пастцы”), а таксама М. Адамчыкам і М. Клімковічам у сумесных TV-п’есе “Прывід у Гайцюнішках”, “Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія”, “Чорны квадрат”. Асэнсаванню постмадэрнісцкай праблемы быў прысвечаны асобны нумар культуралагічнага часопіса “ARCHE” (№ 1 за 1999 год). В. Акудовіч, Ю. Барысевіч, С. Мінскевіч ствараюць уласныя постмадэрнісцкія канцэпцыі, пераймаючы, развіваючы ці пераасэнсоўваючы ідэі 197 еўрапейскага постмадэрнізму і іншых філасофскіх напрамкаў і напаўняючы іх “тутэйшым” (нацыянальным, уласна беларускім) зместам, вынаходзячы нешта сваё. Беларуская літаратура заўсёды выяўляла цесную повязь з традыцыямі народна-смехавой культуры, спрабуючы праз смех глядзець на невясёлы, недасканалы свет, няпростае жыццё чалавека, пазбаўленае часта нават маленькіх радасцяў. Невыпадкова вызначальнымі для беларускага постмадэрнізму становяцца элементы буфанады і сатыры, паэтыкі абсурду і сюррэалізму, амбівалентнасць вобразнай сістэмы, карнавалізацыя, парадыйнасць, адвольнае абыходжанне з цытатамі, відавочная іронія і гратэск, звядзенне сюжэтнага дзеяння да анектадычнай і абсурднай сітуацыі. Яўная і прыхаваная цытацыя, парадыйна-іранічнае сутыкненне ў постмадэрновай прасторы розначасовых падзей і персанажаў з несуадносных тэкстуальных плашчыняў, апеляцыя да літаратурнай спадчыны, спалучэнне розных мастацкіх стыляў і жанравых форм (апавяданне В. Мудрова “Нячысьцік у фраку”, раман І. Бабкова “Адам Клакоцкі і ягоныя цені”, дакументальная проза А. Лукашука “У фіялетавай ночы вугал крыла”, “Справа 7991” С. Дубаўца, п’есы М. Адамчыка і М. Клімковіча “Чорны квадрат”, Л. Вольскага “Клятва Гіпакратам” і г. д.) нараджаюць адчуванне гульні. Сапраўды, гульня – любімы занятак постмадэрністаў. Прычым гуляюць яны (В. Жыбуль, Г. Ціханава, А. Бахарэвіч, С. Мінскевіч, А. Бурсаў, С. Патаранскі, Ю. Гумянюк, І. Сідарук, А. Хадановіч, Л. Вашко, І. Бабкоў, В. Мудроў, А. Лукашук, М. Адамчык, М. Клімковіч, В. Гапеева і інш.) з усім, што можа служыць аб’ектам гульні – знакамі, гукамі (літарамі), словамі, сэнсамі, граматычнымі формамі, сінтаксічнымі канструкцыямі, тэкстамі, прычым як сваімі, так і пазычанымі ў іншых аўтараў, жанрамі, літаратурнымі стылямі і г. д., — і ўсімі, хто толькі можа быць уцягнуты ў іх гульню — чытачом, пісьменнікамі “розных часоў і народаў”, літаратурнымі персанажамі, самімі сабой. Гульнёвы прынцып вызначае займальнасць постмадэрнісцкіх тэкстаў, але гэта не выключае іх элітарнасці, філасофскага напаўнення. Наогул спалучальнасць, на першы погляд, неспалучальнага, супярэчлівага, разнароднага — характэрная ўласцівасць постмадэрнісцкага мастацтва. Рэалізуецца яна і ў тэхніцы калажа, заснаванай на выкарыстанні пісьменнікам гатовага матэрыялу (тэкстаў афіш, паштовак, вулічных лозунгаў, аб’яваў, інфармацыйных паведамленняў, надпісаў на сценах), а таксама сцёртых выразаў, клішэ, слоўных штампаў, банальнасцяў штодзённай мовы, нецэнзурнай лексікі і г. д. Такім чынам 198 постмадэрнізм апелюе да масавай (постсавецкай) свядомасці, бесперашкодна пранікае ў яе і — знутры разбурае стэрэатыпы калектыўнага мыслення. Постмадэрністы іранізуюць з культурнай абмежаванасці сучаснага чалавека, палемізуюць з масавым (афіцыйным) мастацтвам, выяўляюць непрыязнае стаўленне да мас-медыя як сродку маніпуляцыі чалавечай свядомасцю, адмаўляюць дарэчнасць чалавечага існавання ў таталітарным грамадстве. Прыкладамі такога выкарыстання тэкставага калажа ў беларускай літаратуры з’яўляюцца эсэ-раман Алеся Туровіча “Інфармацыя”, дзе з’яднаныя ў адно цэлае разрозненыя ўрыўкі з разнастайных інфармацыйных паведамленняў; раман-цытата А. Лукашука “1982” і ягоная кніга дакументальнай прозы “У фіялетавай ночы вугал крыла”. Зыходным матэрыялам для постмадэрністаў можа служыць усё што заўгодна: ад прадметаў побыту да здабыткаў сусветнага мастацтва, адмысловым чынам з’яднаных паводле задумы аўтара ў адзіную кампазіцыю. У гэтым сэнсе паказальныя работы мастака Артура Клінава (“Artur Klinow — Totengreber”). Метамарфозы, што адбываюцца са звыклымі і мілымі сэрцу мастацкімі вобразамі, уражваюць. Аблічча Моны Лізы змяшчаецца ў вядро, і карціна атрымоўвае найменне “Vedro da Vinchi”. Праект “Смачныя кавалкі сусветнай мастацкай спадчыны” складаецца з серыі работ, дзе ў прасторы патэльні выяўленыя аголеныя жаночыя вобразы з карцінаў сусветна вядомых мастакоў. Як ставіцца да такога мантажу –— справа густу і фантазіі кожнага. Прынамсі, аўтар спадзяецца, што глядач здолее прыняць прапанаваныя правілы гульні, заснаваныя на інтэлектуальнай іроніі і самаіроніі. Каб вобразы калажа, перфомансу ці інсталяцыі былі пазнавальныя, неабходна, безумоўна, валодаць належным узроўнем мастацкай культуры. Таму, нягледзячы на спробы постмадэрністаў сцерці мяжу паміж элітарнасцю і кітчам, постмадэрнісцкае мастацтва застаецца арыетаваным пераважна на дасведчаную аўдыторыю. Такім чынам, беларускія літаратары выкарыстоўваюць у сваёй творчасці разнастайныя прыёмы і сродкі постмадэрнісцкай паэтыкі, якія паводле іх функцыянальна-комплекснага ўжывання ў творы можна ўмоўна аб’яднаць у тры групы: першая звязаная з актуалізацыяй інтэртэкстуальных магчымасцяў: цытатнае пісьмо, парадыйна-іранічнае сутыкненне ў постмадэрновай прасторы розначасовых падзей і персанажаў з несуадносных тэкстуальных плашчыняў, апеляцыя да літаратурнай спадчыны, спалучэнне розных мастацкіх стыляў і жанравых форм, прынцыпаў інтэлектуальнасці і займальнасці (А. Хадановіч, А. Казлоў, Л. Рублеўская, Ю. Гумянюк, І. Сідарук, У. Гарачка, 199 В. Мудроў, І. Бабкоў, А. Лукашук, В. Гапеева, С. Кавалёў, М. Адамчык, М. Клімковіч і інш.); другая вызначаецца на падставе рэалізацыі ў творы прынцыпу гульні, якая часта суправаджаецца карнавалізацыяй, нечаканымі пераўвасабленнямі, зменамі масак і роляў, адвольным перамяшчэннем у геаграфічнай і часавай прасторы, вар’іраваннем колеравай гамы, зычліва-з’едлівымі насмешкамі лірычнага героя з самога сябе і рэчаіснасці (творы З. Вішнёва, С. Мінскевіча, В. Жыбуля, А. Туровіча, А. Бурсава, А. Бахарэвіча); трэцюю групу постмадэрнісцкіх прыёмаў складаюць гратэск, абсурдызацыя рэчаіснасці, мастацкая правакацыя, наўмыснае выкарыстанне элементаў антыэстэтыкі, эпатажу (З. Вішнёў, В. Жыбуль, І. Сідарук, Ю. Гумянюк, І. Сін, А. Бахарэвіч, Л. Вольскі, В. Мудроў і г. д.). Для беларускіх постмадэрністаў тэкст не з’яўляецца адзінай рэальнасцю, паколькі мастацкая праблема ўладкавання бязладнай рэчаіснасці ва ўмовах сённяшняй культурна-грамадскай сітуацыі на Беларусі не можа быць вырашана выключна пры дапамозе сродкаў мовы. Традыцыйныя спосабы светабачання часта выяўляюцца ў дадзеным выпадку больш дзейснымі. _________________________ 1. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. — / И. С. Скоропанова. — М.: Флинта: Наука, 1999. 2. Караткевіч В. І. Тэарэтычныя і гістарычныя аспекты постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 1980 — 1990-х гадоў ХХ ст.: Матэрыялы да спецкурса / В. І. Караткевіч. — Магілёў: МДУ, 2003. 200 И. Б. Ничипоров (Москва) «МОИ ПОСМЕРТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» Ю. ВОЗНЕСЕНСКОЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ-ПРИТЧА Повесть Ю. Вознесенской «Мои посмертные приключения» (1996 — 1999) — произведение, обращенное к притчевому осмыслению загробного пути человеческой души, это опирающийся на индивидуальную творческую интуицию и отечественную религиозно-философскую традицию опыт художественного постижения незримых нитей, связующих эмпирическую и духовную реальность личностного бытия. Произведение имеет рамочную композицию: основная часть повествования, спроецированная на изображение таинственных странствий души за гранью телесной сферы, обрамляется прорисовкой внутреннего мира, религиозного, социального опыта героини-рассказчицы Анны — эмигрантки, в прошлом участницы диссидентского движения, носительницы современного секуляризованного сознания. Глубина ее напряженного самоосмысления намечается в парадоксальном взаимодействии драматизма, выразившегося в дисгармонии семейных отношений, в общей неустроенности судьбы, — и нот острой иронии, порой скептичной самоиронии, искрометного юмора. Подобная неоднородная эмоциональная модальность окажется ключевой и для последующего исповедального повествования, избавляя его от излишней экзальтированности и выдвигая на первый план острие мысли, нравственной и интеллектуальной рефлексии, заключающей попытку приблизиться к пониманию смысла Божественного творения и аксиологическому разграничению различных уровней духовного бытия. Прозрение героиней надмирного существования собственной души, отделяющейся от умирающего тела, открывается изображением начальной встречи с метафизическими силами. Психологически емко детализируется процесс ее постепенного вчувствования в новое состояние; «охватившее… кромешное одиночество» [1] соединяется с попыткой внутреннего трезвения в общении с бесовскими силами, противостояния их агрессивному натиску, который передается через контрастное соотнесение с земными угрозами: «В прошлом кагэбэшники могли разрушить в первую очередь благополучие, затем жизнь и тело, а уж в последнюю очередь разум и душу. Здесь разговор шел сразу о душе…» [1]. В дальнейшей динамике повествования по мере все более глубокого погружения в область посмертного бытия подобные выходы героини к понима201 нию истинной меры пройденного земного пути существенно расширят композиционную перспективу произведения. Немалой художественной силой уже на начальных этапах развития сюжета обладает изображение бесовских сил, приоткрывающих перед Анной «виртуальное» пространство ада в его приукрашенной ипостаси, и особенно Царя тьмы, с его театрально-обманчивой привлекательностью, величественными речами о «сильных, независимых, гордых» «братьях и сестрах». В восприятии рассказчицы, в ее внутренних вопрошаниях на идущую от земного, внерелигиозного опыта слепоту в отношении «мира духов» накладывается пронзительное чувствование в высшей степени не условного, но буквального существования дьявольской власти, что опровергает традиционную для массового материалистического сознания, для профанного языка, именующего бесов «инопланетянами», картину мира: «Ад, Сатана? Кто теперь верит в эти сказки? Понятно, что в мире существует Зло, но не до такой же степени оно персонифицировано!». Художественное выстраивание аксиологической перспективы посмертного пути сопрягается с осмыслением противовесов бесовскому влиянию. Мистическое измерение, связанное с заступнической миссией Ангела-Хранителя, с охранительной энергией носимого на теле крестика, предстает здесь в композиционном взаимодействии с эпическим расширением изображения исторической реальности в призме судеб нескольких поколений. Это и история мученического подвига деда-священника, распятого матросами в 1919 г., и духовная драма матери героини — с одной стороны, подавленной бременем атеистической эпохи, «стыдившейся отца» и жившей «без Бога, без церкви», но с другой — передавшей дочери крестик как духовное завещание деда. Психологическая достоверность и местами напряженный лиризм, речевая пластика эпизодов общения героини с матерью и дедом обогащается здесь масштабностью намечаемых пока духовных аспектов. В обращенных к рассказчице словах Ангела обозначается тема бытийной свободы человеческой воли, не подчиненной даже Высшему воздействию («пытался говорить с тобой, но ты меня не слышала»), а также возникает сущностное разграничение подлинно Божественной и «опереточной», превозносимой «земными канонами» лукавой красоты. Кульминацией начальной фазы странствий героини становится ее путь через мытарства, открывающий в притчевом повествовании новую перспективу художественного осмысления неизбывной антиномичности душевной жизни, онтологических ориентиров человеческого существования. Этот путь обретает здесь и символический смысл, стано202 вясь воплощением процесса нелегкого религиозного самопознания личности. Колоритный образный ряд в изображении мытарств строится на персонификации греховных проявлений души, предельно зримом воплощении нравственных категорий, на попытке героини экстраполировать земной опыт на посмертный путь, что проявилось, например, в изображении «бесов-чиновников», в выразительном образе мытарства блуда, «где лица любовников были искажены страданием и болью». Здесь происходит «овеществление» допущенного Анной немилосердия в отношении к близким («на экране вода в ванне от моих слов зарозовела») и вместе с тем ее душевной боли. Существенное усложнение наблюдается в повествовательной структуре, в основу которой положена антитеза грехов рассказчицы — и тех просветляющих импульсов ее души, которые, помноженные на жертвенное заступничество деда, становятся хотя и малыми, но все же противовесами совершенным падениям. Композиционный рисунок вбирает в себя многочисленные ретроспекции, когда в ходе предварительного суда над человеческой душой на обозрение выступают прежние поступки и изречения рассказчицы, которая видит себя то в юношеской запальчивости рассуждающей о «неограниченности разума», то впоследствии увлеченной своим диссидентсвом, мнящей себя «совестью России», то, с другой стороны, с болью раскаяния за совершенный аборт «украдкой наблюдающей» за чужими детьми. Вознесенской удается оригинально совместить изображение этого посмертного суда с передачей противоречивого духа исторической эпохи, которая сформировала мироощущение героини, с ее как удаленностью от Божьей правды, так и искренним, доходящим подчас до подвижнической жертвенности протестом против царящих вокруг фальши и лицемерия, что отчетливо проступает и в ретроспекциях лагерной жизни, и в трагикомическом эпизоде с драповым пальто «партийной тетушки». Помимо ретроспекций, важную роль при изображении мытарств сыграло нередко контрастное совмещение точек зрения: поверхностные земные представления рассказчицы о грехе сталкиваются с исходящим и от бесов, и от защищающих героиню Деда и Ангела духовным распознанием греховного начала в, казалось бы, привычных составляющих повседневного потока жизни: «Странное дело, неужели они все трое усматривают гордыню в этих взглядах вполне обычного современного интеллигента? Да что такого особенного они услышали?». Художественная и содержательная сила подобных «разоблачений» заключена в критическом осмыслении самоуспокаивающих иллюзий современного сознания, представляющего грех и последующий суд за него в качестве символи203 ческой условности. В зеркале мытарств сам человеческий поступок представляется у Вознесенской как акт, имеющий мощную метафизическую составляющую, которая выводит личность на уровень диалога с Высшим Промыслом. В этой связи примечательна избранная автором композиционная форма постижения духовной подоплеки совершенного героиней аборта: грозным обвинением для нее становится «просмотр несостоявшейся жизни», возможных судеб ее детей, не родившихся вследствие волевого искривления личностью уготованного ей пути. Чудесное восстановление этого пути в финале повести явит в образной логике произведения диалектику глубинной обусловленности земной стези Высшими предначертаниями — и неотменяемой свободы личностного самоопределения в индивидуальном и социально-историческом бытии. Оригинальные художественные средства найдены в повести и при изображении пространства рая, куда душа героини попадает в ожидании Высшего решения о своей дальнейшей судьбе. Весьма примечательно здесь постижение особого качества бытия природно-предметного, тварного мироздания, воплощающего в себе ту полноту Божественного замысла о мире, которая в земном пространстве оказалась рассеянной под давлением «грехов человека»: «Скромные земные березки вспомнились мне как плохонькие копии этой идеальной березы». В непривычной для материального мира обнаженности предстает душа и самой рассказчицы, и людей, ее окружающих, так как и темнота, и различная степень просветленности этих душ оказываются уже не скрываемыми под обманчивыми земными покровами. Здесь устанавливается принципиально новое соотношение духовной и материальной сфер: «Свечи у нас появляются сами собой во время молитвы как ее материальные символы». Психологически глубоко выведены в повести реакции внутреннего существа героини на открытие этого нового надмирного измерения. Восхищение перед незамутненной красотой Божьего творения, общение с ангельскими силами, приоткрывающее через жертвенный подвиг Деда Небесный Промысел о судьбе России, осложняются неготовностью продолжающей существовать в дискурсе земных словосплетений души к покаянному самоочищению, пребыванием в плену рационалистических, человекобожеских иллюзий, проступающих в желании «заявить о своей нелюбви к хоровому пению», «вернуть билет» и даже организовать «религиозно-философский семинар, чтобы обсудить… новую реальность». Образный ряд этой части повести особенно ярко соединяет в себе предельную явленность и символическую многомерность. Образы Голгофы с сияющим Крестом на вершине и огромных людских множеств, устремленных на эту гору, воплощают процесс трудного восхождения челове204 ческой души от земного к горнему, аксиологическую перспективу всечеловеческого бытия. Важным сюжетным поворотом в изображении райского пространства, в раскрытии антиномии онтологического родства души героини с горним миром — и мучительного ощущения собственной временности и чуждости в нем становится ее встреча с близкими людьми — Дедом, умершим в младенчестве братом и даже с «прабушкой» Хельгой, первой христианкой из рода Анны. При изображении общения страждущей души рассказчицы с оказавшимися в раю членами ее семьи автору повести удается избежать книжного дидактизма. Такие проникнутые добрым юмором эпизоды, как игра с Алешей в диковинные костюмы или игра с Ангелом в снежки, позволяют представить рай не как иссушение собственно человеческих устремлений, но, напротив, как преображение и гармонизацию лучших из них. Вместе с тем здесь разворачивается напряженное по своему драматизму исповедальное самораскрытие героини — например, в ее беседах с Ангелом проступают болезненные для современного сознания попечение о «своей личной независимости», вопросы о соотношении Божественной и человеческой воли, о границах свободы индивидуального «я». В чудесном обретении Казанской иконы Богоматери «из бывшей … московской квартиры» и особенно встреча с Хельгой знаменуют глубинную причастность Анны родовому древу — с его как вершинными проявлениями (история Хельги, мученичество Деда), так и греховным бременем. Тема грехов рода, тяготеющих и над судьбами рассказчицы, ее матери, сопряжена в повести с попыткой интуитивно нащупать мистические предпосылки поворотов жизненных путей персонажей, с расширением пространственно-временной перспективы, с открытием не только социально-исторических, но и бытийных факторов духовного оскудения личности, что нашло преломление в рассказанной Хельгой истории о ее муже-варяге, который две тысячи лет назад отвернулся от сошедшего в ад Спасителя. Наибольшей силы художественной изобразительности Вознесенская достигает при запечатлении странствий героини по адским кругам, картины которых в значительной мере проецируются на модель современной цивилизации. Метафорой крайней формы богооставленности человека становится образ Озера Отчаяния — с «вмерзшими в лед неподвижными телами людей», с «разочарованным» шуршанием голосов, вожделеющих «желанного покоя». Чрезвычайно колоритно прописаны здесь фигуры «одиноких путников», «девушки-старухи», молодой женщины с «грубо нарумяненной щекой», устремляющих остатки своей деструктивной воли на 205 окончательное растворение в Озере. Глубинное душевное сопротивление вызывает у рассказчицы созерцание «похожих на заключенных доходяг», занятых мрачным строительством «кольцевой» дороги к Озеру. Если Озеро Отчаяния стало воплощением внутреннего самопорабощения растративших себя душ, то образы барачного и приморского городов являют средоточие агрессивной отчужденности, властно навязываемой законами социума. В реальности барачного города процесс разрушения личности предстает во всей ужасающей очевидности. Автору удается посредством ряда фоновых персонажей — «доходяг», злобной напарницы героини, «охранников-душеедов» — запечатлеть как сам дух тоталитарного гетто, так и внутреннее, в той или иной степени активное противодействие личности натиску барачного мироощущения. Символическими проявлениями этих порывов становятся и история жизни и общения Анны с Лопоухим — потерянной, страждущей душой с мерцающими проблесками чувств, и появление белых птиц, приносящих хлеб и косвенно свидетельствующих о Божественном присутствии даже в этой помраченной сфере человеческого бытия. В последующей сюжетной динамике повести образы этих спасительных хлебов получат глубокое духовное осмысление, ибо предстанут в качестве материализованного воплощения церковных молитв, возносившихся живыми за умерших близких людей. Художественное прозрение подобной сопряженности земного и загробного измерений придает картине мира в повести объемную перспективу, позволяя распознать в душах обитателей Озера, барачного и приморского городов отголоски пережитых в земных судьбах драм, духовных надломов, что выводит изображение человека на новый метафизический уровень. Развитием «городского текста» повести становится изображение приморского города, являющего обобщающий срез современного цивилизованного существования, в котором дьявольское порабощение личности приобретает более изощренные, в сопоставлении с барачным лагерем, формы. Существование людей на этом «всемирном лежбище» подчиняется законам дурной повторяемости жизни, в царящих здесь роскоши и благополучии приоткрывается преобладание кажимости над сущностью, ибо «каждый мог принять любую внешность и менять ее так же легко, как меняет туалеты кинозвезда». В созерцании самозабвенного существования «сластолюбивых и бессильных старичков и старушек» в Анне мучительно вызревают молитвенное, покаянное чувство, обостренная рефлексия о жизни, «изуродованной грехами». Глубокий духовнонравственный смысл заключен в символических эпизодах сожжения ге206 роиней дома в этом городе, а также в ее жертвенном выборе в пользу спасения Лопоухого. Многомерность представления города как трагедийной модели общечеловеческого «цивилизованного» существования достигается через двойной ракурс изображения: на восприятие города изнутри как вместилища «красивой жизни» контрастно накладывается вид на него сверху — как на «город беспамятных счастливчиков», «огромную свалку с горами мусора». Итоговым уровнем странствий героини становится изображение обиталища «нерешенных душ», «пещерной церкви», где встреча Анны с погибшим мужем Георгием, узнавание в нем прежнего Лопоухого в новом свете открывают истоки пережитой драмы, просветляют запутанные в потоке земного существования узлы личностных и семейных отношений. Явленные в эпилоге чудесное возвращение Анны в телесное бытие, восстановление нарушенных прежде ритмов промыслительного пути становятся обретением опыта духовного прозрения, ценностной шкалы индивидуальной и семейной жизни. Произведение Ю. Вознесенской явилось, как представляется, интереснейшим и фактически уникальным в современной русской литературе образцом творческого вчувствования в таинственные сферы посмертного бытия души, выступило в качестве художественного единства, обладающего мощным потенциалом притчевых обобщений. При том, что местами автору не удалось избежать упрощений — в некоторых аспектах изображения райской жизни, отчасти в идиллической схематизации судьбы героини в эпилоге, в целом же плотность и сила изобразительной стихии (особенно в картинах мытарств, адских кругов), динамичность авантюрного сюжетного рисунка, психологическая глубина в разработке центрального характера, стилевая гибкость притчевого повествования в содержательном плане неотделимы от опоры на святоотеческие, религиозно-философские истоки и выводят авторское и читательское сознание к сущностным прозрениям аксиологических ориентиров самоопределения личности в современном мире. ___________________________ 1. Вознесенская Ю. Мои посмертные приключения / Ю. Вознесенская. — М.: Лепта-Пресс; Эксмо; Яуза, 2004. 207 М. В. Смирнова (Санкт-Петербург) «РОМАН-ПУНКТИР» VS РОМАН-РОЛЬ (РОМАН А. БИТОВА “УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ”) В одном из интервью А. Битов говорил: «…основная ориентация у меня была на русскую классику, которая до 17-го года писала так, как она писала, и потом уже искажалась новыми обстоятельствами. И там, смотрите, сколько написано русских романов. Существует такое явление как русский роман, и в то же время его нет. Что такое: “Евгений Онегин” — это роман в стихах, “Герой нашего времени” — это роман в новеллах, “Мертвые души” — это вообще поэма». Вслед за классиками А. Битов тоже дал авторское определение жанра своего романа «Улетающий монахов» — «роман-пунктир». Роман действительно представляет собой не единый текст, а своеобразный набор рассказов («Дверь», «Сад», «Образ», «Лес», «Вкус», «Лестница»), публиковавшихся порознь как самостоятельные произведения. В. Шмид понимал «пунктирность» в «Улетающем Монахове» следующим образом: «не только не заполнены фабульные пробелы между сплошными частями романной линии, а нет даже единого, идентичного героя» [1, с. 374]. Роман А. Битова и правда фрагментарен: каждая глава охватывает от одного до трех дней из жизни героя, однако, на наш взгляд, жанровое определение «роман-пунктир» вносит дополнительные коннотации этой «фрагментарности». «Заманчивая и обманчивая форма: фрагмент непринужден, он ни к чему вроде бы не обязывает; он слово, которое проронено почти непроизвольно, мимоходом. Но легкость фрагмента иллюзорна. Настоящий, верный себе фрагмент — частица какойто большой духовности, идеологической ноши <…>» [2, с. 260]. Следовательно, определяя роман как роман-пунктир, А. Битов подчеркивал не столько «пунктирность» романа, сколько романную значимость каждого фрагмента. Интервью с Л. Ройтманом. Радио Свобода. Первый рассказ «Дверь» был опубликован в 1962 году в альманахе «Молодой Ленинград», затем появились «Сад» (в сборнике «Дачная местность», М., 1967), «Образ» (впервые в 1969 году на словацком языке, затем в 1971 на эстонском, в 1972 на армянском, в 1973 на русском в журнале «Звезда» № 12), «Вкус» (в «Литературной Грузии № 1 за 1983 год), «Лестница» (в «Литературной газете» от 1.08.1990). Первое полное русское отдельное издание романа «Улетающий Монахов» появилось в издательстве «Молодая гвардия» в 1990 году. 208 Главным аргументом «фрагментарности» для В. Шмидта оказывалось отсутствие в романе единого героя. Действительно, в рассказе «Дверь» герой — «мальчик», в «Саде» — Алексей, в «Образе», «Лесе», «Вкусе» героя зовут Монахов, а в «Лестнице» повествование ведется от первого лица. Следует, однако, вспомнить, что первоначально в цикл были объединены рассказы «Дверь», «Сад», «Образ» (герои — мальчик, Алексей, Монахов), которые впервые появились под общим заглавием «Роль. Роман-пунктир» в 1976 году в сборнике «Дни человека» (М.: Молодая гвардия, 1976). В «Улетающем Монахове» А. Битов прослеживает весь жизненный путь героя: с отрочества до смерти, и можно предположить, что номинация соответствует жизненной «роли» героя. Например, в рассказе «Дверь» герой играет роль «влюбленного мальчика». Это словосочетание сразу задает такие коннотации, как неопытность, незрелость, увлеченность, временность. В рассказе «Сад», где герой добивается расположения героини, вместе с ролью ухаживающего поклонника у него вместо обезличенного «мальчик» появляется имя Алексей. Далее в рассказах «Образ», «Лес», «Вкус» герой наделяется социальными характеристиками: «он из Москвы, спец, кандидат» [3, с. 273], «инженерная душа» [3, с. 281] — и, следовательно, как человек общественный, герой обзаводится фамилией — Монахов. В последней главе романа «Лестница», обретая свободу в смерти, герой освобождается от именования, и повествование ведется от первого лица. «Ролевое» начало поддержано в романе мотивом театральной игры: «Они, наверное, сходят понемногу с ума и под занавес уже принимают спектакль за подлинную жизнь, любят и не хотят расстаться с театром так, будто он настоящий мир и настоящая жизнь» [«Образ», 3,с. 233]. Мотив театра в свою очередь связан с мотивом подлинной / мнимой жизни. Роману «Улетающий Монахов» предпослан эпиграф, взятый из Псалтыри: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо…»*. Эпиграф можно перефразировать в виде вопроса: хочет ли человек жить долго, чтобы обрести мудрость? Учитывая тот факт, что сам В некоторых изданиях (Например, А. Битов. Империя в четырех измерениях. М., 1996. Т. 1) в эпиграфе есть опечатка: вместо слова «долгоденствие», как написано в Псалтыри, стоит слово «долголетие». Эта ошибка тем более досадна, что впервые рассказы были собраны под заглавием «Дни человека», а потому слово «долгоденствие» оказывалось значимым. * 209 А. Битов считает «опыт» крайне отрицательной <…> категорией, ответить на вопрос можно apriori. В интервью автор поясняет свою позицию: «Я считаю, что он убивает душу, поэтому ничего хорошего я в опыте не нахожу». В этом смысле герой первого рассказа «Дверь» обладает высокой степенью духовности: «Про “мальчика”, стоявшего перед “дверью” своей ненадежной подруги, можно бы сказать, что он безопытен (как и безымянен) и потому чист» [4, с. 82]. Детство, по Битову, — та ступень развития, когда человек еще не играет никакой роли («Нет, тогда была не роль!..» [«Образ», 3: 249]. Для мальчика, обманутого возлюбленной, доказательства ее измены неправдоподобны, бессмысленны. Позже, вспоминая, а, следовательно, вновь переживая это состояние мальчишеской влюбленности, Монахов поймет, что тогда все было по-настоящему, что «в детстве» чувства были «реальны» [«Образ», 3, с. 259], «нереальны были люди» [3, с. 259]. В рассказе «Сад» герой — Алексей. Герой взрослеет, но остается все таким же («и какой он еще мальчик, Алеша» [3, с. 187]) искренним, чистым, наивным, а главное, живым, как и мальчик из рассказа «Дверь». С образом Алексея связаны понятия чистоты, искренности. Героя повсюду сопровождает белый цвет: «белый — почти универсальный символ посвящения, новообращенного или неофита. Слово “кандидат” происходит от латинского “candidus”, означающего “ослепительно белый”. Это безупречный христианский цвет крещения, символизирует переход в иное состояние» [5, с. 23]. Действие в рассказе разворачивается в течение пяти дней, с 29 декабря по 2 января. То есть в переломный момент, в Новый год. Новый год Алексей и Ася встречают в саду. Образ сада в рассказе неоднозначен. С одной стороны, сад ассоциируется с Эдемом. Это единственное место, где герои могут наслаждаться своей любовью: «Был прекрасный сад, и они там были вдвоем» [3, с. 222]. Любопытно и место расположения сада: «сад перед собором» [3, с. 210]. Значимо то, что подчеркивается «чистота» снега: «даже странно — без следов» [3, с. 221]. Снег свежий, нетоптаный, что ассоциируется с девственностью, непорочностью, первоначально присущей библейским персонажам. «Святость», позитивность места подчеркивается противопоставлением: сад — пропасть («Вспомнив сад, забыв пропасть» [3, с. 222]). Но возможна и вторая интерпретация сада, также связанная с библейским сюжетом. Сад «Это-то и есть опыт? Это-то, только возросшее до безобразия, и будет зрелость и мудрость?» («Бездельник». [3, с. 65]). Из моего неопубликованного интервью с А. Битовым (М. С.) 210 ассоциируется с местом, где происходит грехопадение. Грехопадением в рассказе становится кража Алексеем облигаций у своих соседей. Образ Аси также неопределен. Она одновременно оказывается и первой женщиной Алексея (Евой), и змеей-искусительницей. Ася искушает Алексея, постоянно жалуясь на нехватку денег: «Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. С т о б о й… Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду» [3, с. 193]. При этом в данный момент деньги нужны в первую очередь на то, чтобы выкупить из ломбарда к Новому году Асино «зеленое» платье. С одной стороны, зеленый цвет является позитивным символом, согласующимся со значением «белого», а именно — этот цвет ассоциирован с жизнью растений (садом), молодостью, обновлением, надеждой. Однако с другой стороны, — это мистический цвет, в том числе, цвет сатаны, вполне подходящий «змее», искушающей библейского персонажа. «Бытийность» сюжета в рассказе «Сад» подтверждается на лексическом уровне. Герою постоянно кажется, что все это уже было и было очень давно: «Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч… все было другим» [3,с. 222]. Накануне Нового года, 31 декабря, то есть накануне «перехода» Алексеем овладевает «предчувствие чего-то непоправимого» [3, с. 212]. Символичным оказывается появление вороны, после того как Алексей первого января покидает сад / рай: «прямо над ним, летела огромная черная ворона, замещая собой белое небо» [3, с. 224]. Ворон — «в западноевропейской традиции, подобно своей близкой родственнице — вороне, — птица, связанная со смертью, утратой и войной» [5, с. 49]. Выход из сада становится для героя потерей рая: «…он бросал мысль на полдороге — дальше яма, пропасть, шагать туда не хотелось…» [3, с. 196]; «Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвращаться домой…» [3, с. 222]. Герой был изгнан из рая, удален от Бога и теперь у него возникают сомнения, которых не было у мальчика из рассказа «Дверь», о происхождении и возможности любви: «Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял, про Бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? — очень поразило его» [3, с. 238]. Агнесса — чистая, непорочная. 211 А. Битов так комментировал свои рассказы: «Дверь» и «Сад» — это первый опыт, то есть тот рай, действительно это можно назвать раем, это то, что нам врождено. «Образ» — это перелом». В следующем за рассказом «Сад» рассказе «Образ» герои (Ася с Монаховым) встречаются после десяти лет разлуки. И казалось бы, внешне за десять лет в их отношениях как бы ничего не изменилось (герой так же ждет звонка от Аси, но ему по-прежнему никак не удается остаться наедине с телефоном; Монахов так же, как раньше, проталкивался за Асей по магазинам), но теперь сходство ситуаций только подчеркивает разницу в ощущениях героя: «Тут уже было не воспоминание-узнавание, а нечто обратное и противоположное: садизм разочарования — изнанка, негатив прежних чувств» [3, с. 244]. Монахов начинает замечать то, чего раньше не видел в Асе: (например, «морщинку с кремом»). И после поцелуя Монахов отстраняется от нее «с облегчением» чувствует «смущение» «и даже неприятность происходящего» [3, с. 241]. В рассказе «Образ» ситуация «Сада» как бы повторяется. Ася с Монаховым ищут места, где бы они могли остаться одни. И идут в детский сад, где работает Ася. Если раньше был «Сад», то теперь – детский сад: «желтоватый дом… в парке» [3, с. 250]. Следует отметить, что желтый цвет в романе символизирует разлуку. Значимо и то, что детский сад находится в парке (саду): «Парк был пуст» [3, с. 250]. « “Откуда ушли, туда и пришли”, — сказал Монахов с непонятной самому себе интонацией» [3, с. 256]. Вернулись в сад, на сюжетном уровне — в детский сад, где уже были утром. На самом деле, хотели вернуться в «свой» сад, но это невозможно. В «Образе» так же, как и в «Саде», появляются деревья, но это старые и голые деревья: «По обе стороны улицы, свободные, без решеток, стояли старые деревья, почти нагие, где-то за ними маячил обветшалый особнячок…» [3, с. 246]. В детском саду Монахов оказывается «в комнате игр» [3, с. 258]. В этой комнате Ася дает ему яблоко: « “На”, — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. “Ева, — сказал он. — Адам…” Он укусил яблоко — ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом» [3, с. 259]. Если в «Двери» герой-мальчик был способен чувствовать, то в «Образе» «человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных Из моего неопубликованного интервью с А. Битовым (М. С.) 212 чувств» [3, с. 260]. В детском саду Монахов вспоминает строки Б. Пастернака: «И мы в тиши полураспада // На стульях маленьких сидим…» [3, с. 260]. Рассказ «Сад» закончился тем, что в книге «описание прекрасного сада» [3, с. 238] «обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница» [3, с. 238]. Мотив этого обрыва присутствует в «Образе» (например, об Асе: «Она рассмеялась коротким, оборванным смехом», [3, с. 254]). Следует акцентировать тот факт, что в рассказе «Образ» меняется номинация героя: он становится Монаховым. Автор намеренно обращает внимание читателя на фамилию героя: «Он развернул ее, ласково оглядел штамп и подпись и с удовлетворением прочел в ней свою фамилию, напечатанную крупными буквами, а имя-отчество — помельче… Он даже удивился, что у него такая фамилия и словно не его даже» [3, с. 241]. Фамилия героя оказывается знаковой, так как целью монаха является спасение души (так, Иван Грозный, Борис Годунов стали перед смертью монахами). С этого момента герой начинает искать дорогу к Богу («Лес» / антисад; «Вкус» / после образа), которую он находит в рассказе «Лестница». Можно видеть, что в романе «Улетающий Монахов» прослеживается содержательная соотнесенность сюжета с единым мифологическим инвариантом «жизнь — смерть — воскресение». И в этом смысле роман представляет собой законченное целое. Кроме того, в процессе написания романа замысел А. Битова претерпевал изменения: интерес автора от «жизненного маскарада», смены социальных ролей перешел к «сплошной диалектике» «душевных движений» [6, с. 187] единого героя. ________________________ 1. В. Шмид. «Андрей Битов — мастер “островидения”» / В. Шмид. // А. Битов. Империя в четырех измерениях. Империя I. Петроградская сторона. — Харьков; М.: Фолио, ТКО АСТ. 1996. Т. 1. 2. Турбин В. Листопад по весне / В. Турбин. // Нов. мир. № 4. 1972. 3. Битов А. Империя в четырех измерениях / А. Битов. — Харьков, Москва: «Фолио», «ТКО АСТ», 1996. Т. 1. 4. Роднянская И. Б. Образ и роль / И. Б. Роднянская. // Роднянская И. Б. Художник в поисках истины — М.: Современник, 1989. 5. Тресиддер Дж. Словарь символов / Дж. Трессиддер. — М.: «Гранд», 1999. 6. Лавров В. Три романа Андрея Битова, или воспоминания о современнике / В. Лавров. // Нева. № 7. 1997. 213 Н. Л. Блищ (Минск) КВАЗИРОМАН С. СОКОЛОВА «ПАЛИСАНДРИЯ» Поэтика романа Саши Соколова «Палисандрия» во многом соответствует важнейшим интенциям модернистского дискурса [2]. Жанровая природа романа полигенетична, она представляет собой некий конгломерат, составленный из комбинаций разных повествовательных структур, совокупность которых и формирует единый гипотетический квазироман. Это один из типичных жанров поэтики абсурда, подразумевающий полное слияние разнородных элементов. Все стратегии автора направлены на пародийную интерпретацию трех весьма востребованных в эпоху Серебряного века жанровых форм: мемуарной, историко-биографической, металитературной. В начале романа Соколов создает иллюзию мемуарной референции. Мемуары, как известно, являлись излюбленной формой словесного творчества многих политических лидеров, именуемых автором «шайкой мемуаристов в составе предателей родин и палачей народов» [1, с. 35]. Однако авторские стратегии направлены не на пародирование того, что традиционно являлось предметом комического. Образ мемуариста Палисандра Дальберга оказывается собирательным пародийным отражением многих представителей культуры Серебряного века и эмиграции (А. Белый, М. Волошин, А. Блок, А. Ремизов, В. Набоков и др.). Биограф, которому передоверены записи Дальберга, вслед за мемуаристом занимается «мифотворчеством, подтасовкой фактов, …» [1, с. 13], что, по сути, является основным художественным приемом в автобиографических текстах, а также в политической практике. Пародией на историко-биографический роман выглядит история жизни героя, вовлеченного в исторический процесс, подменяемый свернутой процессуальностью, не имеющей ни начала, ни конца. История — это «часы процедурных раздумий о судьбах Родины» [1, с. 25]. В романе нет категории времени, однако текст изобилует временной символикой (часы Спасской башни, стрелки часов, часовщики, временщики). Синтезу двух названных жанровых образований способствует имитирование металитературной формы, — привычной для русского модернизма тенденции, — ориентированной на описание самого творческого процесса. Семантический хаос лишь внешне устраняется видимой архитектурностью композиции текста и подчеркнуто грамотной диспозицией материала. Литературоведческая осведомленность автора настолько демонстративна, что абсурдное содержание романа оказывается органично 214 вписанным в некоторый — часто общеизвестный, традиционный — канон. Показательны в этом отношении многочисленные самокомментарии, симулирующие литературоведческий анализ и, одновременно пародирующие металитературные пассажи модернистов, главным образом В. Набокова. Например, о специфике категории времени в романе Соколов пишет: «безвременье вредно, губительно. Оно разъедает структуру повествования до мутной неузнаваемости» [1, с. 236], вследствие чего «текст постепенно утрачивает присущую ему изначальную четкость и обретает расплывчатость» [1, с. 235]. Демонстративно узнаваем автокомментарий системы образов: «Переиначивая господина Флобера, я мог бы в сокрушенности сердца признаться, что Мажорет — это я » [1, с. 230]. Неоднократно назван основной художественный прием: «со мной случается ужебыло», или «я отчетливо вспомнил, как именно все уже было — было» [1,с. 233]. Соколов неоднократно ссылается на основной в его романе композиционный «принцип матрешки», что вызывает ассоциацию с модернистскими романами В. Брюсова и А. Белого, В. Набокова, где исторический, мистический и субъективно-авторский ракурсы совмещены в одном тексте наподобие матрешки. Постоянно присутствуют узнаваемые пародийные стилизации. Например, комментируя мемуарные записи Палисандра, биограф будто бы вскользь замечает, что тот «использует здесь прием амплификации. Он берет картину моего моментального озарения и накладывает ее на перспективу пространства и времен» [1, с. 231]. В «Палисандрии» Соколов создает квазибиографическое, квазиисторическое и квазитворческое пространства, в каждом из которых доведены до абсурда востребованные в эпоху модернизма жанровые формы и переосмыслены многие традиции. Художественный абсурд романа порождается путем разрушения референциальных связей между сложившимися смыслами, восходящими к литературе Серебряного века, что обусловлено стремлением довести до абсурда идею возведения литературы в сверхдискурс, а автора в демиурги через негативную демонстрацию литературоцентризма. С одной стороны, Соколов манипулирует символистским приемом бесконечной обратимости смыслов: за каждым словом читатель интенсивно ищет цепную реакцию существующих подтекстов, а с другой — превращает его в антиприем. Палисандр Дальберг — автор мемуарных записей, творит миф о самом себе, в основе которого реализованы приемы символистской практики жизнетворчества. Обращаясь к семантике образа мемуариста, трудно не заметить ряд прямых и косвенных отсылок к Пушкину: 215 созвучие имен Палисандр — Александр; положение придворного поэта; неукротимое жизнелюбие. Микросюжеты о подвигах Палисандра подсвечены семантикой мистифицированных «Тайных записок» поэта. Стилизованны под записи из дневников поэта авторские пассажи: «Залеживался в ванной библиотеке своей до самого рассвета, работал верлибр и гекзаметр, амфибрахий и ямб», так как «создавал, освежал, разрабатывал виды и роды поэзии, прозы, драматургии» [1, с. 46]. И, наконец, искаженная цитация поэта: «Почти все жанры меня занимали, влекли» [1, с. 48]; и двукратное обращение к стихотворению «Что в имени тебе моем?». Совершенно очевидно, что Пушкин мыслится автором как культурный знак и как синекдоха русского литературного пантеона. Все проекции выстраиваются в двух не исключающих друг друга стратегиях: сакрализации имени поэта и всего, что с ним связано, и, одновременно, «приближения» его к себе, профанировании. Вся послепушкинская эпоха, а особенно на рубеже ХIХ — ХХ веков, допускала «второе пришествие» Пушкина и формировала многочисленные культы писателей-пророков. Как известно, любой культ имеет в своей основе модель мифотворчества. Соколов воспроизводит процесс легитимного возведения в «пророки» в сюжетно-композиционном строении романа. В «Книге Изгнания» авторская стратегия направлена на подчеркивание «избранности», необычного происхождения и гениальных способностей Палисандра. При этом герой культа, как и положено, непризнан, выглядит «страстотерпцем» и «мучеником». В «Книге Дерзания» автор в пародийном ключе зашифровал этап взросления-инициации героя, проявлявшийся в гипертрофированном жизнелюбии и в революционной романтике, и как следствие — тюремное заключение. Тюремная камера в истории русской литературы воспринимается как место рождения писателя. Готовясь в «пророки», Палисандр заявляет: «во имя настоящего реноме путь мой в послание ляжет через террор и острог» [1, с. 61], что отсылает к легендам о писателях-революционерах, в том числе и о Достоевском. Микросюжеты о «массовом растлении престарелых» представляют собой перевернутый и многократно тиражированный мотив убийства старушки-процентщицы. «Книга Отмщения» воспроизводит мифологему «мытарств» мученика в буквальном смысле оказавшегося в нижних стратах. Сублимация садизма подчеркнута: «вешал ли я кошек? Нет», «правда, я ловил и душил цыплят». «Книга Послания» завершает этап восхождения «пророка-писателя» на своеобразный Фавор-Олимп, заменяемый вершиной Власти. «Полагал ли я, будто вся предшествующая мне словесность есть лишь робкая проба пера?» [1, с. 257] — заключает уже канонизированный герой и стано216 виться диктатором «Местоблюстителем». В самом начале мытарств героя представитель власти разъясняет Палисандру свою функцию в стратегии восхождения: «те люди, которым мы способствовали, создавали рекламу, оказывали достойное преследование, — они в послании благоденствуют. Иные даже в пророки выбились …» [1, с. 66]. Это совершенно прямая отсылка к историям «изгнания» и последующего санкционированного возведения в «пророки» русских писателей со времен Пушкина до современных автору «благоденствующих в послании» эмигрантов. Предметом многократного кодирования стал образ Солженицына. Все сказанное выше дешифруется в следующем ключе: власть является непосредственной участницей мифологизирования судьбы писателя и определяет пути превращения его в культовую фигуру. Таким образом, на прагмасемантическом уровне квазиромана Соколов воспроизводит именно ту мифотворческую модель, на которой базируется культовый потенциал писателя и тем самым соединяет три эпохи: пушкинскую (нач. ХIХ в.) — модернистскую (рубеж ХIХ — ХХ в. в.) — современную (рубеж ХХ — ХХI) и возведенных в «писатели-пророки» Пушкина, Блока, Солженицына. Заметим, что все три кумира носят имя Александр. Определяя семантику имени: Палисандр — «дерево», Саша Соколов, возможно, провоцировал продолжения ассоциативного ряда: деревянный истукан, кем-то вытесанный, божок, идол, кумир. Процесс сотворения мифа о писателе-пророке автор посредством специфичных приемов переносит из плоскости художественной в политическую, сотворение мифа о диктаторе-пророке, однако этот аспект не может является предметом пристального внимания. Игровой абсурд всегда разоблачает претензии языка на истинность и достоверность, вскрывает иллюзорность любого текста, организованного в соответствии с правилами культурного кода. Главенствующий принцип организации текста музыкальный, поскольку смысломодулирующую роль играют цепочки «древесных» (палисандровая древесина используется для изготовления музыкальных инструментов) и «музыкальных» метафор. В звучании названия слышится квазилатинская интерпретация: «поли-сандрия». При том, что «Сандро» есть итальянизированная (т. е. позднелатинская) форма «Саши», заглавие может быть понято как «много-сашевость»: Пушкин-Блок-Солженицын. От «древесной» метафоры ассоциации идут не только к «идолу», деревянной кукле, но и к ветвистой непредсказуемости текста, к дереву жизни, к биографическому родословному «древу», к пародии на схему творческой эволюции. В качестве основного приема создания абсурдного в художественном тексте Соколов использует квазиэкфразис, который в тексте основан на 217 корреляции вербального и иконического уровней. Благодаря данному приему текст наполняется словесными шаржами. Например: «Шагнул и канул психопатический Маяковский» похожий на «енотовидного чиновника», «в маскарадном костюме с жабо» [1, с. 34 — 55]; «грузно проследуют в беличьих душегрейках философы Шестов и Бердяев» [1, с. 255]; «снобируя толпу почитателей профланирует дворянский писатель Бунин, нобелевский лауреат» [1, с. 254]. Художественный текст превращается в замкнутый мир демонстративной литературной традиции, в основе которого лишь кажущееся подобие. Пытаясь вписаться в литературный пантеон, Дальберг сообщает, что он появился на свет в семье «потомственных руконаложников», однако далее выясняется, что речь идет не о русских поэтах, покончивших самоубийством, а о политиках и их борьбе за власть. Саша Соколов стремится к созданию эффекта семиотического изобилия, обладающего в конечном итоге нулевой информативностью. Прагмасемантика текста ярче всего проявилась в абсурдных пародиях, созданных путем вышивания бисером цитат из стихов представителей русского модернизма по шелку виртуозной прозы: «Из дверей занавешенных густо, Взошел человек без ушей и щек [1, с. 61]; «тот челн, что был мал и утл» [1, с. 68]; «О, прости (ты) меня, Шагане» [1, с. 141]; «Когда ты на клиросе пела» [1, с. 223]; «Гложет старость постоянно тело бренное мое» [1, с. 209]. Автором пародируются и элементы символистского жизнетворчества: «торговое судно семейного процветания». Объектом пародирования стала и бессмысленность логики эмигрантского бытия, именно по этой причине герой становится коллекционером «останков соотечественников, умерших вне родины» [1, с. 252]. Несмотря на явное влияние постмодернизма и общую политическую тенденциозность, несмотря на пародирование стереотипов массового сознания, прагмасемантические аспекты, лежащие на поверхности и легко поддающиеся выявлению, свидетельствуют о том, что Саша Соколов — пленник модернистских идей. Отсюда несоответствие поставленных целей способам выражения, что, безусловно, осознавалось им самим и обозначено в финале произведения: «заранее благодарен доброжелательным критикам, посылаю все части речи, со всеми интертекстами» [1, с. 268]. ____________________________ 1.Соколов С. Палисандрия. СПб: «Симпозиум», 2000. 2. «Палисандрия» рассматривается в рамках системы постмодернизма в следующих работах: Липовецкий М. Н. Постмодернизм: агрессия и саморегуляция Хаоса // Русская литература ХХ века: закономерности исторического развития. — Екатеринбург, 2005.; Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая фило- 218 софия, новый язык. — СПб., 2001; Курицын В. Русский литературный постмодернизм. — М.: ОГИ, 2000. Однако не все исследователи современного литературного процесса придерживаются данного взгляда. См.: Эпштейн М. Постмодернизм в России: Литература и теория. М.2000; Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60 — 90-е годы ХХ века — начало ХХI века). — СПб., 2004. 219 И. И. Шпаковский (Минск) ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «РОМАНА-ЖИТИЯ» С. ВАСИЛЕНКО «ДУРОЧКА» Современный литературный процесс отличает необычайная пестрота течений, методик и техник письма, эклектизм творческих подходов. В условиях аксиологического кризиса поиск писателями новых адекватных средств и способов художественного выражения идет не только в направлении «модерности», «каноноборчества», но и в особого рода реставрации, перекодировке традиционных «отобразительных» форм, которые изначально были вместилищами этических первооснов бытия человека, не поддающихся коррозии духовно-нравственных ценностей. Так, конструктивно-содержательным каркасом «романа-жития» С. Василенко «Дурочка» становится проигранная на новый лад агиографическая история духовного подвижничества, бессмертия и величия нравственного подвига. Отмечено произведение многочисленными открытыми «заимствованиями» и «подражаниями» — это и квазицитаты из Священного Писания (образ Харыты, отсылающий к образу скорбящей Богоматери, «артель Христова» [1, с. 48] рыбаков, идентифицирующие антропонимы, светоцветовая символика, сквозные образы-символы ветхо — и новозаветного древа, небес, рыбы, змеи, терновника, воды как атрибута инициации), и «параболистический выгиб» событийного ряда, и определенная этическая заданность сюжетных ситуаций с воспроизведением житийных мотивов («обращение грешника», бесоборчество, «в пустыню отхождение», испытание духовной силы героев, описание чудес, причем без перевода их в посюсторонность), и агиографические приемы «речений». Отсылает к тому, что составляет смысл и содержание агиографии, поэтизация самоотверженного служения Добру и Истине, особого рода максимализм в требовании от человека высокой моральной ответственности за свои поступки, и, соответственно, стремление проверить его на высших регистрах. Но при всем этом «роман-житие» С. Василенко — это не житие. Полная репродукция агиографических жанровых параметров в одной из эпических форм литературы нового времени невозможна — слишком велика эстетическая дистанция. Речь идет о «перевыражении» конструктивно-семантического «ядра» житий иным творческим методом, иной жанровой системой, иными художественными задачами, отражением новой действительности. С. Василенко модифицирует агиографический канон, связанную с ним систему архетипов, мифологем, емких символов, в 220 зависимости от своих авторских интенций, возводит смысловые конструкции, которые выглядят сюжетными цитатами из житий, реализуя через них собственные художественные и этические максимы, наделяя новыми функциями. Одна из важнейших — включить конкретнонациональный, социально-исторический, культурно-психологический контекст послереволюционной действительности в России в «большое время» (М. М. Бахтин), всечеловеческий континуум с целью онтологической и ценностной «проверки». Ориентация при этом на вневременные коллизии агиографических сюжетов и образов далеко не случайна — они изначально предрасположены к высокому уровню семантической концентрации. «Житийный» план повествования (и легко узнаваемые периферийные жанровые признаки, призванные очертить круг определенных ассоциаций, и система глубинных сущностных элементов, без которой художественный организм романа распался бы) выступает не только как особая литературная форма ценностного отношения автора к действительности, но и как своеобразный идейно-эстетический катализатор, придающий универсальное онтологическое звучание сюжетнообразному материалу, позволяющий заглянуть за край идеологического, экономического, культурного пространства и времени, проникнуть в заповедные тайники человеческой души и мирового бытия. При отсутствии трактовок христианских истин в их отвлеченнотеологической сущности в романе С.Василенко явственно просматривается библейско-апокрифический контекст, тот православный пасхальный архетип, который связан с народной верой в действительное появление самого Христа на Руси в образе гонимого, ничтожного, страждущего [3, с. 18]. Героиня романа — это как раз тот самый «странник убогий», который не имеет своего дома, но имеет Бога, за случайной и недолжной формой которого («тупое, глухое и немое тело» [1, с. 66]) — сущность, «иная» миру, в котором все нравственно здоровое превращается в посмешище, а уроды и злодеи имеют власть над жизнями людей. Приносимая новая жертва обладает той же катарсической (освобождающей, искупительной) силой, которую придают ей евангельские тексты и христианская традиция. Поэтому, несмотря на гнев, боль и скорбь, генерируемых историями безмерных страданий тех, кто сохранил верность своему внутреннему Храму, поэтическая атмосфера повествования не сводима целиком к пафосу эсхатологического катастрофизма. Зловеще звучащие ноты апокалиптических прозрений не отменяют главное — поиск опоры в «архаических» традициях евангельской этики, которые предстают в романе животворными корнями национального и общечеловеческого бытия, единственным залогом преодоления греховных болезней этого 221 мира, того, что все же «наступит на земле жалость и счастье» [1, с. 66], «царство не Кривды, но Правды» [1, с. 58]. Героиня романа, как и агиографические «юродствующие во Христе», не умственно отсталый, но умственно невинный человек: она несет в себе великую тайну свободы от того зла, которое входит в жизнь людей дорогами разума, голого практицизма, холодной рассудочности. Она вознесена над всеми такой способностью отзываться на чужое страдание («все удары на себя принимает» [1, с. 14]), которое прямо проецируется на христианскую антропологию. Противостоя этически обессмысленному мироустройству, которое вырисовывается как антиканон христианства, отрицающий духовную концепцию человека («Душа – это предрассудок! Души нет!» [1, с. 13], — утверждают новые лжемессии), героиня выходит из общего «биографического» течения жизни, вступает в особый, близкий к житийному, круг бытия и сознания. Она из евангельских «малых сих», воплощает то «детское» в человеке, которое, согласно и святоотеческой мифологеме человечества как Детского Собора чад Божиих, и метафизике детства русского религиозного ренессанса, должно просветлить темную, греховную природу дольней твари. Оставаясь равнодушной к тому, перед чем другие раболепствуют, «очужая» будничность, «искажая» привычные очертания мира, в котором пребывающее зло становится обыденным, «дурочка» восстанавливает его истинные пропорции, обнажает главное: катастрофизм разрыва между должным (торжество универсальных нравственных идей) и сущим (забвение нетленных сокровищ духа, культ узаконенного и не узаконенного насилия, порабощение общества демонами раздоров, ненависти, стяжания) обусловлен виной богоборчества, смещением Христа Спасителя в давнопрошедшее время. Однако воинствующий атеизм господствующей идеологии, загоняющий в «подполье» сознательное христианство, бессилен перед христианством непроизвольным, имманентным. Душевнобольная пробуждает у больных духом совесть и веру, которая у них «кончилась» [1, с. 20], возвращает им способность различения «верха» и «низа», добра и зла, помогает отрешиться от запаса фальшивых ценностей, пережить момент чувствования и переживания трансцендентного. «Дурочка» — это аскет, не осознающий свой аскетизм, т. е. воплощающий подлинную евангельскую духовную «нищету». Она находится на пути к нетварному свету Божественной любви, и ее индивидуальноличностный «диалог» со сверхличностными ценностями открывает ей перспективу выхода за пределы своей прежней телесности («Ганна шла, разводя перед собой звезды руками: отгребала их, чтобы не поранить» [1, с. 42]), окружает ореолом светлой мистики. Чудеса, которые она тво222 рит, — Божья Благодать, ниспосланная ей в утешение, — в агиографических традициях представлены как победа над косностью тленного и падшего человеческого естества. Но образ «дурочки» обращен не только к агиографической традиции: лишенная голоса в буквальном смысле, героиня «говорит» с читателем реминисценциями своих характерных черт. Само молчание ее многозначительно, если вспомнить молчаливость «юродивых» Достоевского — косноязычной Марьи Ставрогиной, Макара Долгорукова, Лизаветы Смердящей, деток злосчастного чиновника Горшкова. Смысл молчания этих героев сводится к молчанию главного образа в «поэмке» Ивана Карамазова: в ответ на угрозы Инквизитора Христос молча его целует — это поцелуй любви и прощения, начало безмолвное, невыразимое на уровне бытового разговора. Обладает особой масштабностью и перспективностью духовного содержания, не боится самых высоких сопоставлений и образ Харыты. Она «овеществляет» основные постулаты евангельского учения в практической жизни: «Нищего увидит — хлеба дает. Вдов утешает. Больным раны перевязывает. Сейчас по тюрьмам пошла, безвинных вызволять» [1, с. 56]. Если Харыта является художественной объективизацией идеального этического сознания и во всех поступках ее ощущается теплота религиозного чувства, то другие герои (чета Канареек, кузнец, рыбаки), которые также противостоят тем катастрофическим социальнонравственным тенденциям времени, которые «оскорбляют» высшие жизненные ценности, являются носителями иной, так сказать, «гуманной» духовности, «практической этики». Они не стремятся к «социальному опрощению», христианской аскетике — средству борьбы со страстями, с тяжестью плоти и мирскими соблазнами, но и их отличает способность к метафизическому преодолению границ эмпирического, способность к любви-агапе, к тем глубоким чувствам, которые родственны чувствам, исходящим из мистических запросов сердца святых подвижников. Некий внутренний категорический императив не позволяет им сбиться с «тесного пути» нравственного самостояния, не капитулировать перед злом, не дрогнув, восходить на плаху. В регламентируемом агиографической «жанровой идеей» поступке этического неповиновения «падшей» современности заключается их внеисторическая правота, но одновременно и историческая обреченность: воплощая те нравственные нормы и духовные начала, которые опасны для несправедливого миропорядка, они приводят в движение враждебные силы, губящие их. Судьба их является «обвинительным заключением» социальнополитическому устройству, вынуждающему строить жизнь в обход нравственным законам, миру, в котором произошла девальвация духовности. 223 Концентрированным, гиперболическим выражением этого мира становятся в романе фигуры «грешников». Их формируют, определяя особую прочность безнравственного те господствующие идеологомировоззренческие установки, которые разрушают то, без чего «вымрет народ русский» [1, с. 35]. Их «внеличностность» подчеркивается гипертрофией нутряного, утробного начала, «звериными» чертами, «скотским» поведением; они претендуют на духовное предводительство, но руководят ими жалкие страсти, мелкие вожделения, все мыслечувствования их ограничены, пресны, элементарны. В их образах, как и в образах агиографических злодеев, воплощена всепоглощающая, безликая сила зла, просматривается бесовское: Тракторина Петровна заявляет: «Не человек я! Я коммунист!» [1, с. 29], в ней «бес дом свой нашел, поселился, тешится» [1: 24], сторожит созданный ею «рогатый храм» [1, с. 66] убийца, который «детей ел только кулацких, чтобы польза была обществу» [1, с. 16], «комсомольцы в куртках из чертовой черной кожи» — это «пустые тела» [1, с. 53]. Перед ними «Вера, Надежда, Любовь беззащитны» [1, с. 31], эти «творцы нового» занимаются сотворением Хаоса, заменяя им старый космос, и вершиной их антитворения становится убиение. Во многом поэтому в создаваемой на уровне сюжетнокомпозиционной структуры системе оппозиций, призванных заставить читателя прочитать произведение параллельно к агиографическим моральным схемам («праведник — грешник», «вечное — преходящее», «эрос — филия — агапе» и т. д.), на первое место выходит оппозиция «жизнь — смерть». «Жизнь» и «смерть» представлены и социальнобиологической реальностью, и в семантике агиографической (все духовное не знает смерти и «по ту сторону» бытия, а бездуховное мертво и при жизни). Глубинные смыслы, генерируемые оппозицией этих понятий, во всей их феноменологической сложности, разносторонности и разноплановости выводят художественное время романа за рамки времени социально-исторического или биографического, да и вообще за плоскость, создаваемую точками привычного триединства — прошлое, настоящее, будущее. В свете вечности испытывается на прочность смысл вещей, помыслов и поступков героев. «Солнечное сплетение» двух ракурсов – от «жизни» и от «смерти», «диалог» конкретно-исторического и надвременного, ограниченных, преходящих «идей», явлений и идей, явлений основополагающих, из разряда вечных опор жизни, становится идейностилевым центром жанровой структуры романа. Финальная ситуация «испытания смертью» — крайняя форма испытания на человечность — в полной мере раскрывает суть интеллектуаль224 но переживаемой эсхатологической мифологемы. Многомерная сложность, противоречивость реального бытия разлагается на изначальные, наиболее устойчивые понятия, образы симплифицируются. Воплощение земного Вавилона — мира без веры, без совести, без сердца, «сама смерть, сама Тьма» [1, с. 71] Тракторина Петровна бессильна перед «дурочкой», которая, как жительница «Эфеса небесного» [1, с. 56] — истинного горнего дома, вечного царства, останавливает победную поступь зла, перемогает смерть и тьму: она «…спасла нас. Смерти не будет. Новое солнце лежало в небе и глядело на новый мир» [1, с. 73]. Таким образом, роман С. Василенко написан в русле «духовного реализма», ориентированного на православное миросозерцание, христологический дискурс [2, с. 4]. Использование концептуальных идейнообразных доминант агиографической жанровой традиции позволило автору придать сюжету высокий уровень аксиологического драматизма, отыскать и освоить духовно-нравственные основы бытия личности в эпоху «шарнира времени», отобразить «всю» действительность — не только в конкретно-личностном и социально-историческом, но и в универсально-бытийном преломлении. ________________________________ 1. Василенко С. Дурочка: Роман-житие / С. Василенко. // Нов. мир. 1998. № 9. 2. Дунаев М. М. Православие и русская литература / М. М. Дунаев. — М., 1996. Т. 1. 3. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе / И. А. Есаулов. Петрозаводск, 1995. 225 В. Ф. Падстаўленка (Віцебск) НЕАРАМАНТЫЧНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў АПАВЯДАННІ “ЛІСТЫ НЕ СПАЗНЯЮЦЦА НІКОЛІ”У. КАРАТКЕВІЧА Зварот да класікі — гэта своеасаблівы амбівалентны працэс, у якім суіснуюць адчуванне эстэтычнай асалоды (з пункту гледжання рэцыпіента) і стан надзвычайнай усхваляванасці (з пазіцыі даследчыка). Апошняе тлумачыцца найперш жаданнем прадставіць аб’ектыўную інтэрпрэтацыю аўтарскага твора. Тым больш, калі гэта класічны прыклад, дзе “вечная” праблематыка раскрываецца праз сістэму пафіласофску глыбокіх сюжэтных калізій з жыцця тыпізаваных персанажаў, а пісьменніцкія светапоглядныя арыенціры завуаляваны ў падтэксце твора. Для “літаратурных смакуноў” (паводле трапнага азначэння М. Гарэцкага) і прыхільнікаў мастацкай герменеўтыкі творчая спадчына У. Караткевіча заўсёды будзе жаданым і перманентным аб’ектам. Пазачасавасць кніг вялікага беларускага аўтара ў многім дэтэрмінавана і па-майстэрску змадэляваным універсальным мастацкім светам, у якім узбуйнена і вычарпальна даследуюцца канцэптуальныя пытанні чалавечага быцця. Да таго ж героі беларускага творцы нагадваюць носьбітаў лепшых ідэй і высакародных учынкаў у свядомасці кожнага рэцыпіента, што таксама надае ім звышпапулярнасць. У сваіх кнігах У. Караткевіч аддаваў прыярытэт як пошукам уласначалавечага пачатку ў персанажы, так і доследу маральна-этычнага боку грамадскай філасофіі пэўнай эпохі. Пры гэтым беларускім майстрам шматаспектна раскрываўся вечны антаганізм паміж дадатным і адмоўным складнікамі ў характары героя, або дэманстравалася барацьба паміж апалагетамі гуманістычных і чалавеканенавісніцкіх дактрын. Зазначаны праблематычны базіс, рамантычны па сваёй прыродзе, істотна скарэктаваў аўтарскі дыскурс. Мастацкі стыль У. Караткевіча, па словах А. Русецкага, уяўляе сабой адмысловы сінтэз рэалістычнага рамантызму [1, с. 45]. Такія дыскурсныя адметнасці, думаецца, маглі ўзнікнуць на падставе ўплыву на мастацкі свет аўтара неараматычных тэндэнцый. Зробім спробу абгрунтаваць слушнасць дадзенай гіпотэзы на прыкладзе малавядомага апавядання “Лісты не спазняюцца ніколі”. Асобнай гаворкі вымагаюць асаблівасці праяўлення хранатопу і яго атрыбутыўнасць у названым апавяданні. Як вядома, персанажы неарамантычных твораў дзейнічаюць у рэалістычных абставінах, кажучы па-іншаму, хранатоп у іх пазбаўлены фантастычнасці, звышумоўнасці, 226 абстрактнасці. Так, спачатку ў караткевічаўскім апавяданні падзеі адбываюцца ў першыя дні Вялікай Айчыннай. Беларускі творца ў лепшых традыцыях сусветнай літаратуры асэнсоўвае вайну як жахлівую катастрафічную з’яву, як час, калі істотна трансфармуецца чалавечая свядомасць. У дадзенай памежнай сітуацыі кожны прагне вырашыць двухадзіную задачу: па-першае, выжыць, нават апелюючы пры гэтым да сферы падсвядомых жывёльных інстынктаў, а па-другое, захаваць уласначалавечую сутнасць. Для У. Караткевіча вайна — гэта і час выбару паміж жыццём і смерцю, і час падсумоўвання на парозе Вечнасці ранейшага існавання, і час Боскага адкрыцця, і, як вынік усяго, час памнажэння дабра, шчырасці і спагады. Цэнтральнымі героямі першай часткі апавядання “Лісты не спазняюцца ніколі” з’яўляюцца два розныя (па светапоглядзе, досведзе і г. д.) чалавекі. Нагадаем, што ўжыванне ў творах персанажаў-антыподаў таксама выступае адзнакай рамантычнага дыскурсу. За такім выбарам герояў бачыцца аўтарскае жаданне сцвердзіць думку, што вайна — гэта і нечаканасць, выпадак, бо невядома, хто стане тваім сябрам у апошнюю хвіліну. Варта зазначыць, што і ў наступных дзвюх частках апавядання дзейнічаюць героі — носьбіты антаганістычных пазіцый: улюбёны ў жыццё, уважлівы да свету прыроды, альтруіст з паэтычнай душою Пятро і жорсткі цынік, бяздумны выканаўца бязглуздых загадаў Прахор; наіўны рамантык, летуценнік студэнт-паштальён і душэўна траўмаваныя, са знішчанай верай у бацькоўскую дабрыню, дзеці Мікалая. На спецыфіку хранатопу ў апавяданні канструктыўна паўплывалі і кампазіцыйныя адметнасці. Архітэктоніка твора трымаецца на прынцыпе мантажнай кампазіцыі. Так, драматычныя перыпетыі першай часткі, звязаныя са спробамі двух шарагоўцаў прабіцца праз фашысцкую аблогу, градацыйна ўзрастаюць, дасягаюць кульмінацыйнай моцы і раптоўна абрываюцца, захоўваючы мастацкую інтрыговасць. У наступных частках адзначаная кампазіцыйная схема дублюецца, але самі падзеі пераносяцца ў мірны час канца 50-х. На падставе гэтага ствараецца мастацкі эфект руху часу, які надае аповеду дадатковую эпічнасць, храналагічны маштаб, захапляючую дынамічнасць. Варта таксама дадаць, што для рамантызаванага мастацкага свету апавядання “Лісты не спазняюцца ніколі” характэрна метафарычнасць. Агульнавядома, што метафарычнасць пісьменніцкага дыскурсу прыводзіць да культывавання ў творы экспрэсіўнасці, інварыянтнасці аўтарскага ідэйна-эмацыйнага стаўлення да падзей. Рамантычная метафарызацыя, экспрэсіўнасць хранатопу ў “Лістах...” асабліва 227 праяўляецца пры апеляцыі У. Караткевіча да пейзажных апісанняў. У кантэксце апавядання яны выконваюць звышролю, таму мэтазгодна больш падрабязна спыніцца на дадзеным мастацкім сегменце. Уласна пейзажных замалёвак у творы няшмат, але на падставе іх іманентнай поліфункцыянальнасці важкасць гэтых эпізодаў сюжэтна прагрэсіруе. Пейзаж у апавяданні ў асноўным монаканцэнтрычны, з відавочнай дамінантай — апісаннямі дуба. Раскрываючы выключную сюжэтную значнасць названага вобраза, У. Караткевіч фактычна абапіраецца на міфалагічна-біблейскую інтэрпрэтацыю дуба як “фіксатара сакральных мясцін і важнейшых падзей” [2, с. 94]. Пры гэтым інтрыга апавядання завязваецца ў адпаведнасці з пашыранай міфалагічнай фабульнай схемай: пад святым дрэвам героі знаходзяць скарб (матэрыяльны ці духоўны), альбо тут на іх сыходзіць Боскае адкрыццё. У выніку вобраз дуба ў апавяданні “Лісты не спазняюцца ніколі” ўяўляе сабой аўтарскую мадыфікацыю архетыповай вобразнай парадыгмы: Дрэва жыцця, Дрэва жадання, Дрэва міласэрнасці, Дрэва пазнання, Дрэва Сусвету... Менавіта тут, пад дубам, брыдкаслоў і зневажальнік стары шараговец Мікалай вырашыў канчаткова паспавядацца ў лісце да родных. І менавіта адчуванне святасці і загадкавасці дрэва зрабіла “прасветленым” (якая выключная полісемантычнасць аўтарскага эпітэта!) позірк Пятра і ўзмацніла яго гуманістычную пазіцыю. Заканамерна, што ўжыванне ў творы пейзажных замалёвак грунтуецца на адмысловым варыянце стылёвага прыёму рэтардацыі: аўтар часткова запавольвае асноўныя сюжэтныя хады, але надае ім іманентную дынаміку. Гэта можна ўбачыць на прыкладзе наступнага ўрыўка: “Дуб злёгку шавяліў лісцямі, быццам пацягваўся, стрэсваючы з іх расу. <…> І дуб увесь салодка страпянуўся: на самую верхнюю, малюсенькую яго галінку ўпаў аранжавы адбітак сонца. Яно ўзыходзіла, яшчэ не калматае, як удзень, а проста белае. Праменні яго беглі па галлі ўніз, але збоку здавалася, што гэта сам дуб у нецярплівым чаканні пяшчоты цягнецца ўгору, імкліва вырастае, падстаўляючы пад праменні ўсё новыя і новыя галіны. І ён увесь зазіхацеў аранжавымі, зялёнымі, светла-малінавымі іскрамі-агеньчыкамі. <...> А іскры беглі па галінах, ахапляючы ўсё магутнае дрэва суцэльным карагодам ззяння. І гэта ззянне пералівалася ўсё ніжэй і ніжэй, не згасаючы. Быццам самое жыццё іскрамі свайго полымя абмывала дрэва, абяцаючы яму жыццё бясконцае” [3, с. 138 — 139]. 228 Такім чынам, па сэнсава-эмацыйным напаўненні святочны, святы, жыццядайны пейзаж у аналізуемым творы кантрастуе з цэнтральнай падзейнай канвой. Больш таго, караткевічаўскі пейзаж стварае індывідуальнае семантычнае поле сімвалічна-знакавага характару, асацыятыўна падкрэсліваючы ідэі повязі часоў і пакаленняў, вечнасці жыцця. Пейзажныя апісанні ў “Лістах...” таксама з’яўляюцца элементам апасродкаванай ацэнкі персанажаў. Бо праз характар стаўлення герояў да прыроды выражаецца ступень іх маральнасці, дабрачыннасці, дадатнасці, і, што цікава, прагі да жыцця. У гэтым аўтарская канцэпцыя вобразабудовы тыпалагічна збліжаецца з аналагічнымі прыкладамі са спадчыны іншых неарамантыкаў, напрыклад, з творамі Дж. Лондана. Дзякуючы па-майстэрску распрацаваным пейзажным замалёўкам У. Караткевіч робіць празрыстай філасофскую аснову праблематыкі апавядання, у склад якой увайшлі такія аспекты, як дэтэрмінізм рэальнага існавання асобы і памяці аб ёй, суладдзе чалавечага свету і свету прыроды, апалагетыка жыцця. Прадстаўленая ў “Лістах...” жанравая форма сацыяльна-псіхалагічнай навелы сярод іншых вартасцей вызначаецца і трапнасцю ўжывання пуанта — структурнага элемента, заснаванага на фінальнай трансфармацыі пачатковага ўражання ад сутнасці пэўных персанажаў і сітуацый, што можа быць дэтэрмінавана новай нечаканай падзеяй у творы. У ідэйна-сэнсавых адносінах пуант непасрэдна звязаны з назвай апавядання “Лісты не спазняюцца ніколі” і з дамінантным матывам твора — матывам памяці, што гарманізуе (ці руйнуе) стасункі паміж людзьмі, рознымі генерацыямі і гістарычнымі эпохамі. Прааналізаваныя складнікі мастацкага свету апавядання У. Караткевіча дазваляюць адчуць уплывовасць неарамантычных тэндэнцый на аўтарскі дыскурс і даюць права далучыць дадзены твор да лепшых мастацка-крэатыўных узораў беларускага Майстра. ____________________________ 1. Русецкі А. Уладзімір Караткевіч: праз гісторыю ў сучаснасць: Нататкі літ. Творчасці / А. Русецкі. – Мн.: Маст. літ., 2000. 2. Морозов И. Основы культурологии. Архетипы культуры / И. Морозов. — Мн.: “ТетраСистемс”, 2001. 3. Караткевіч У. Лісты не спазняюцца ніколі / У. Караткевіч. // Полымя. — 1991. — № 3. 229 Н. А. Давыдоўская (Мінск) РОЛЯ ВАНДРОЎНЫХ СЮЖЭТАЎ У АПОВЕСЦІ І. КЛІМЯНКОВА “КОРАК З-ПАД ШАМПАНСКАГА” Праблема інтэртэкстуальнага вывучэння літаратур набывае асаблівую актуальнасць у кантэксце глабальных зрухаў у сучасным свеце. Вандроўныя сюжэты — адна з тэарэтычных праблем, пры дапамозе якой асэнсоўваецца як адзінства сусветнай літаратуры, так і спецыфіка літаратуры нацыянальнай. У склад вандроўных сюжэтаў уваходзіць вялікая колькасць сюжэтных матываў і скразных вобразаў, кожны з якіх увасабляе той ці іншы бок чалавечага жыцця, спецыфіку існавання чалавека ў свеце. Цікавым прыкладам для вывучэння ролі традыцыйных структур у сучасным творы з’яўляецца аповесць І. Клімянкова “Корак зпад шампанскага” [2]. Сюжэтна-кампазіцыйная структура аповесці заснавана на кантамінацыі двух вандроўных сюжэтаў: 1) арфічнага (акрэсленага праз тэму адзіноты мастака ў грамадстве); 2) фаўстаўскага. Акрамя таго, лейтматывам твора выступае новазапаветная формула “гора ганарліўцам”, якая набывае функцыі і структуру сюжэтнага матыву. Асаблівасцю аповесці з’яўляецца тое, што аўтар свядома стварае два магчымыя планы прачытання твора — містычны, які асвятляе этычныя агульначалавечыя праблемы, і рэалістычны, скіраваны на грамадска-сацыяльную культурную праблематыку. Умяшчэнне двух гэтых планаў у адной апавядальнай структуры стварае эфект абсурднай рэчаіснасці, а таксама скіроўвае на шматсэнсоўнае прачытанне твора. Такі аўтарскі падыход да арганізацыі аповеду блізкі да постмадэрнісцкага разумення ісціны, дзе яна прызнаецца “адзінай, але шматаблічнай, бясконца разгалінаванай” [4, с. 67]. Для аналізу сюжэтных асаблівасцей аповесці гэта вельмі істотна, бо змена пазіцыі, пункту гледжання на твор абумоўлівае змену функцый, семантыкі элементаў вандроўных сюжэтаў, іх месца ў аповесці. Коратка выкладзем фабульную схему твора. Драматург Барэцкі знаходзіцца на вяршыні славы. Пасля чарговай паспяховай прэм’еры ён прыходзіць у рэстаран, дзе далучаецца да кампаніі дзвюх жанчын. Як высветлілася, яны добра знаёмыя з творчасцю Барэцкага, пры гэтым адна з іх падзяляе ўсеагульнае захапленне аўтарам, а другая жорстка крытыкуе яго. Адбываецца спрэчка, у якой Барэцкі выказвае свае погляды на абраных творцаў як на праваднікоў касмічнай энергіі; усё, што напісана такімі абраннікамі, збываецца, таму герой і імкнецца 230 пазбягаць у сваіх творах гвалту і зла. Каб даказаць сваю абранасць, Барэцкі тут жа прыдумляе ланцуг падзей, і ўсе яны пачынаюць здзяйсняцца на вачах у публікі. У гэты час паўз рэстаран праязджае картэж Галоўнага, і гэта дае падставу абвінаваціць Барэцкага ў падрыхтоўцы замаху на яго. Далей адбываецца арышт героя, допыты і зняволенне. У турме драматурга наведвае Суддзя (па іншай версіі чорт) і прапаноўвае яму вызваленне ў абмен на службу злу. Барэцкі адмаўляецца, і яго забіваюць, выконваючы рашэнне суда. Аўтар прапаноўвае дзве магчымыя інтэрпрэтацыі падзей: або ўсё было інсцэніравана службай бяспекі дзеля дыскрэдытацыі творцы (рэалістычны план), або Барэцкі сапраўды валодае звышнатуральнай сілай творцы і можа ўплываць на ход падзей; ён паддаўся спакусе і быў пакараны за сваю ганарлівасць (містычны план). Для аналіза вандроўных сюжэтаў у творы вылучым іх базавыя, нязменныя элементы [1, с. 12]. У арфічным і фаўстаўскім сюжэтах такімі базавымі элементамі выступаюць найперш вобразы галоўных герояў, якія з’яўляюцца носьбітамі шэрагу рэлевантных для сюжэта адзнак. Разгледзім вобраз галоўнага героя аповесці ў аспекце яго сувязей з вечнымі вобразамі сусветнай літаратуры. Як ужо адзначалася, Барэцкі — драматург, які знаходзіцца на вяршыні славы. Творца ў аповесці набывае рысы тытанічнасці, нават дэміургічнасці, бо “сваімі творамі мадэлюе свет”. Адвечная апазіцыйнасць мастака да грамадства на пачатку аповесці здымаецца, атрымлівае супрацьлеглае значэнне, аднак яна актуалізуецца ў фінале (творца супрацьстаіць і ўладзе, і грамадству). Прычынаю варожага стаўлення да Барэцкага робіцца чарадзейная сіла яго мастацтва, традыцыйная якасць музыкі ў беларускім фальклоры і літаратуры (згадаем казку “Страшная музыкава песня”, апавяданні М. Багдановіча “Музыка” і “Апокрыф” і інш.). Аднак вобраз чарадзейнай сілы мастацтва сэнсава трансфармуецца: замест таго, каб весяліць абяздолены люд, казаць страшную праўду панам, узвышаць чалавека і да т. п., мастацтва Барэцкага дэманструе камічную дэструктыўнасць: “Выстралены корак, стукнуўшыся аб столь, зрыкашэціў пад прамым вуглом у кубак з кавай, які начапураная матрона <...> падносіла да ярка нафарбаванага роту. <...> Матрона спружынай узвілася ўгору і галавой, быццам таранам, выбіла <...> з рук афіцыянта паднос, а сам афіцыянт, ускінуўшы вышэй галавы нагу, ухапіўшыся рукой за пальму, грымнуўся на падлогу. Пальма <...> сцебанула вершалінай <...> скрыпача, выбіла з ягоных рук скрыпку, і той <...> коратка тыцнуў у тоўстую шыю кантрабасіста, а той з жудасна-дзікім ровам ластаўкай шуснуў у расчыненае акно...” [2, с. 29]. 231 Травестацыя матыву чарадзейнай сілы мастацтва абумоўлена, на нашу думку, матывацыяй яе праяўлення: Барэцкім рухае не спачуванне абяздоленым, не самаадданая любоў да мастацтва, а ганарлівасць, жаданне даказаць сваю абранасць. Гэтая рыса падкрэсліваецца нават у апісанні знешнасці героя: “Рослы і статны (...) мужчына гадоў трыццаці з добразычлівай, хаця крыху самаўпэўненай усмешкай на поўных губах” [2, с. 15]. Вобраз чорта, спакушальніка ўводзіцца ў аповесці двойчы. Першы раз — у згаданай сцэне ў рэстаране: “дробненькі чалавечак з невыразным вузкім тварам” [2, с. 27] вымушае героя працягваць ланцуг выпадковых здарэнняў аж да таго часу, пакуль Барэцкі не прамаўляе: “Уся соль у тым, што якраз у гэты момант паўз рэстаран будзе ехаць картэж Галоўнага” [2, с. 28]. Пасля таго, як усё здзейснілася, “вузкатвары проста ззяў ад шчасця, паціраў далоні, з нейкай злараднай задаволенасцю паўтараў і паўтараў: “тое, што трэба, тое, што трэба” і ўхвальна ківаў Барэцкаму, быццам той толькі што здзейсніў яго даўняе запаветнае жаданне” [2, с. 29]. Як бачна, функцыя “вузкатварага” ў сюжэце — спакушэнне героя, аднак не толькі гэта сведчыць пра яго прыналежнасць да сіл цемры. Суддзя (чорт — ?), які прыходзіць у камеру да Барэцкага, каб заключыць пагадненне, гаворыць: “А гэта ён і быў, — узняў палец незнаёмы. — Князь цемры. — У такім абліччы? Незнаёмец пыхліва гмыкнуў. — Аблічча — дробязь. Пераўвасобіцца для яго — дзіцячы фокус” [2, с. 56]. Відавочна прасочваюцца інтэртэкстуальныя сувязі працытаванага ўрыўка з літаратурнымі творамі фаўстаўскай тэматыкі. Непрыемная, нікчэмная знешнасць чорта апісаная ў “Братах Карамазавых” Ф. Дастаеўскага, а таксама ў рамане “Доктар Фаўстус” Т. Мана. Вобраз самога суддзі, або яшчэ аднаго чорта, цалкам супрацьлеглы вобразу вузкатварага. Увод другога чорта абумоўлены логікай развіцця сюжэта, запазычанай, зноў жа, у Т. Мана. Нагадаем, што чорт прыходзіць да Леверкюна з прапановай змовы толькі пасля маральнага падзення апошняга: спачатку Леверкюн мае сувязь з прастытуткай і страчвае сваю беззаганную чысціню, а потым ужо робіцца магчымым супрацоўніцтва з д’яблам. Зачэпкай для чорта ў аповесці І. Клімянкова паслужыла яго ганарлівасць. Зняволенне драматурга тлумачыцца як пакаранне за яе: “Усякая ганарлівасць рана ці позна караецца”. Аднак, калі звярнуцца да сацыяльна-грамадскага аспекта твора, то сапраўднай 232 прычынай арышту выступае “спроба замаху на Галоўнага” пры дапамозе сваіх незвычайных здольнасцей. Спецыфічнымі абставінамі абумоўлены і асаблівасці інтэрпрэтацыі матыву змовы чалавека з д’яблам — аднаго з ключавых элементаў фаўстаўскага сюжэта. Пра літаратурнае паходжанне матыву сведчыць маркіраванасць у тэксце твораў М. Булгакава “Майстар і Маргарыта”, Ё. В. Гётэ “Фаўст” (чорт характарызуе сябе словамі “я той, хто хоча вяршыць зло, аднак робіць дабро” [2, с. 56], якія адсылаюць да гётэўскага “Я частка сілы той ліхой, Дабро ўтвараецца з якой”), Ф. Дастаеўскага “Браты Карамазавы”. Агульным месцам у творах фаўстаўскай тэматыкі сталі наступныя словы: “Мы даўно ўзялі вас пад прыгляд. Мы даўно прыкмецілі, што гульня вартая свечак, што здольнасці вашы надзвычайныя, і таму вынікі будуць бліскучыя (...) Мы ўчынім такое, што свет знямее ад жаху і захаплення” [2, с. 56 — 57]. Параўнаем з наступным урыўкам з “Доктара Фаўстуса”: “А вось мы гэта адразу змецілі, таму і ўзялі цябе пад прыгляд <...> калі падпусціць крышку нашага аганьку, крышку падагрэць, акрыліць, падсцёбнуць, аж бач – і выкукліцца гэтакая бліскучая штучка” [3, с. 241]. У аповесці мадыфікавана ўмова здзелкі і плата за яе. Калі класічны варыянт прадугледжвае атрыманне мастаком геніяльнасці ў абмен на душу, то Барэцкаму прапаноўваецца ўсяго толькі вызваленне. Падпіска крывёю трактуецца як забойства, парушэнне запавету Хрыста. Герой адмаўляецца ад такой платы і гіне. Такім чынам, у аповесці захоўваецца структура вандроўнага матыву, аднак змест яго зменены. Мадыфікавана і кампазіцыйная функцыя сюжэтнага матыву. Традыцыйна ў фаўстаўскім сюжэце ён размяшчаецца ў пачатку твора і служыць завязкай або кульмінацыяй дзеяння, а акцэнт змяшчаецца з самога факта змовы на дзейнасць і ўнутраны стан героя пасля змовы. У аповесці І. Клімянкова адбываецца інверсія традыцыйнага сюжэта, ён выконвае функцыю развязкі. Гэта можна растлумачыць тым, што вынікі прапановы чорта адмоўныя. Сэнс і прызначэнне такіх трансфармацый становіцца зразумелым, калі дапусціць, што ў аповесці мае месца транспазіцыя элементаў фаўстаўскага сюжэта (некаторыя рысы героя — тытанічнасць, ганарлівасць; сітуацыя выбару паміж дабром і злом; вобраз чорта; матыў змовы чалавека з д’яблам) у сюжэт пра ўзаемаадносіны творцы і ўлады. У трактоўцы гэтага сюжэта І. Клімянкоў не звяртаецца да канкрэтных літаратурных твораў, а карыстаецца, хутчэй, інварыянтам, традыцыйнымі вобразамі і становішчамі. 233 Найперш разгледзім, як у творы выражаецца адвечная апазіцыя творца — уладар. Яна акрэсліваецца ўжо ў самым пачатку аповесці ў разважаннях Барэцкага пра ролю мастацтва і пра сацрэалізм: “Падтасаванне логікі пад жаданне ўлады. Ня станеце адмаўляць — пісьменнікі, як ніхто іншы, дасягнулі ну проста віртуознага майстэрства паказваць — чорнае белым, а белае чорным. <...> І ўсялякая ісціна — згуб для нас” [2, с. 20]. Мэта творчасці Барэцкага, паводле яго слоў, — “не здрадзіць ісціне” [2, с. 20]. І. Клімянкоў працягвае нацыянальную традыцыю трактоўкі скразной тэмы, пачатую яшчэ Янкам Купалам (згадаем хоць бы творы “Я не для вас...”, “Курган” і інш.). У аповесці гаворка вядзецца канкрэтна пра мастацтва сацрэалізму як пра мастацтва хлусні. У мастацкім часе аповесці яно знаходзіцца ўжо ў мінулым, аднак ўлада імкнецца аднавіць яго: “І з’явіцца новая літаратура, у якой не будзе ні гвалту, ні руйнавання, у якой будзе гучаць любоў і гармонія <...>. — Гэта ўжо спрабавалі. Было, — са змрочнай самотай і без веры ў пачутае напомніў Барэцкі. — Толькі пачынала быць. Памерла не нарадзіўшыся. І адродзіцца зноў” [2, с. 60]. Такой пастаноўкай праблемы твор набліжаецца да рамана Р. Мурашкі “Таварышы”, дзе творца, які вымушаны падпарадкоўвацца патрабаванням дзяржавы, увасоблены ў вобразе мастака з адрэзанымі пальцамі. На пачатку артыкула мы казалі пра некалькі магчымых варыянтаў прачытання твора. Для разумення тэмы мастака і мастацтва ў аповесці неабходна звярнуцца да яе рэалістычнага плана, прапанаванага ў фінале адным з персанажаў: “ І наогул уся гэтая гісторыя з коркам тоіць у сабе шмат падазронага. Вельмі нагадвае добра спланаваную, таленавіта здзейсненую правакацыю” [2, с. 62]. З гэтага пункту гледжання развіццё падзей наступнае: улады спецыяльна правакуюць Барэцкага, каб дыскрэдытаваць творцаў перад грамадствам. Князь цемры = суддзя імкнецца пераканаць Барэцкага ў злачыннасці мастацтва. З аповесці вынікае, што ўлада варожа ставіцца да творцы, бо ён пагражае яе існаванню. Згадаем цытаваныя ўжо словы Барэцкага “ўсялякая ісціна —– згуб для нас”. Логіка элементарная: ісціна пагражае існаванню сістэмы; пісьменнік Барэцкі — прынцыповы прыхільнік ісціны; адсюль вынікае, што Барэцкі (=творца) пагражае існаванню сістэмы. Смерць мастака — неад’емны элемент вандроўнага сюжэта — сведчыць тут пра часовую перавагу ўлады, безабароннасць творцы перад сістэмай. Аўтар аповесці, працягваючы тэму чарадзейнай сілы мастацтва, паказвае яе супрацьстаянне ўладзе, аднак не паказвае станоўчы, стваральны 234 патэнцыял гэтага мастацтва. У рэшце рэшт вынікае, што мастацтва, праўдзівая літаратура капітулююць перад сіламі дзяржавы, згаджаюцца на самаліквідацыю. У святле тэмы мастака і мастацтва матыў змовы чалавека з д’яблам набывае новую семантыку. Ролю чорта бярэ на сябе ўлада, якая імкнецца падпарадкаваць мастацтва сваім мэтам. Як ужо адзначалася, лейтматывам аповесці выступае ідэя “ўсякая ганарлівасць рана ці позна караецца”. Гэты матыў набывае сюжэтаўтваральную функцыю. Пачатак твора, завязка дзеяння — пераход героя на бок зла. Развязка — пакаранне за ганарлівасць. Калі прыняць да ўвагі сацыяльную скіраванасць твора, то вынікае, што ўлада карае за ганарлівасць, нежаданне служыць ёй. Аднак іншае прачытанне адсылае нас да традыцыі фаўстаўскага сюжэта, у якім ганарлівасць героя служыць зачэпкай для чорта. Згадаем тут толькі некаторыя прыклады. А. Леверкюн пагаджаецца на супрацоўніцтва, бо імкнецца стаць непераўзыйдзеным у музыцы. Наступныя словы з верша І. Бродскага “Два часа в резервуаре” выражаюць пэўную тэндэнцыю трактавання фаўстаўскай тэматыкі ў пасляваннай літаратуры: “Но в сердце льстец отыщет уголок, // И жизнь уже видна не дальше черта”. Прыклады можна множыць [гл. 5, 6]. Разам з гэтым, Барэцкі, зрабіўшы першы крок да супрацоўніцтва, адмаўляецца рабіць другі. Такім чынам, відавочна, што ў стварэнні сюжэта аповесці І. Клімянкова “Корак з-пад шампанскага” задзейнічаны два вандроўныя сюжэты: арфічны і фаўстаўскі, — а таксама вандроўны матыў пра пакаранне ганарлівасці. Арганізацыйнай дамінантай выступае арфічны сюжэт, які прыцягвае ў сваё сэнсавае поле элементы іншых вандроўных сюжэтаў. Прыклад аповесці даказвае, што ў стварэнні сучасных літаратурных твораў значную ролю выконвае традыцыя, у дадзеным выпадку — вандроўныя сюжэты, якія істотна ўплываюць на сюжэт і ідэйны змест твора. Інтэртэкстуальны дыялог з вандроўнымі сюжэтамі адбываецца на розных узроўнях: задзейнічаны як іх інварыянты, архетыповыя структуры, так і канкрэтныя літаратурныя інтэрпрэтацыі, актуалізуюцца нацыянальныя і сусветныя літаратурныя традыцыі. Вандроўныя сюжэты набываюць новае жыцё не ў цэласным выглядзе, а праз некаторыя свае элементы, што ў спалучэнні з іншымі сюжэтамі стварае непаўтарную мастацкую тканіну твора. ________________________________ 1. Виноградов В. В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование / В. В. Виноградов. — М., 1963. 2. Клімянкоў І. Корак з-пад шампанскага: Аповесць / І. Клімянкоў. // Дзеяслоў. № 2. — 2005. 235 3. Ман Т. Доктар Фаустус: Раман / Т. Ман. — Мн., 1989. 4. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И. С. Скоропанова. — СПб., 2001. 5. Якушева Г. В. Образ и мотивы Гете в отечественной словесности ХХ века // Гете в русской культуре ХХ века / Г. В. Якушева. — М., 2001. 6. Якушева Г. В. Фауст и Мефистофель в литературе ХХ века / Г. В. Якушева. // Гетевские чтения 1991. — М., 1991. 236 А. М. Аўчарэнка (Мінск) БЕЛАРУСКАЯ ПРАСТОРА КЛАСІЧНАГА ДЭТЭКТЫВА Традыцыйна дэтэктыў атаясамляецца з нізам літараратурнай іерархіі. Таму гэты жанр, нягледзячы на сваю папулярнасць і досыць завершаную лагічную структуру, застаецца амаль нявывучаным. Асабліва гэта датычыць беларускага гісторыка-літаратурнага кантэксту. А дэтэктыў у ім, тым не менш, мае адзнакі як сфармаванага, запазычанага, так і адметнага, характэрнага выключна для нашай літаратуры. Першаснай генетычнай мадыфікацыяй дэтэктыва ёсць тып, які пазней атрымаў назву “класічнага дэтэктыва” / аналітычнага / ангельскага. Праўда, у беларускай літаратуры яму храналагічна папярэднічаў гістарычны дэтэктыў, пачатак якому ў нас паклаў Уладзімір Караткевіч. Спроба ж стварыць узор беларускай дэтэктыўнай класікі была нашмат пазнейшай — самы пачатак 90-х гадоў XX стагоддзя. І адзначаны факт выглядае больш чым супярэчліва: гісторыя класічнага дэтэктыва, пачаўшыся ў 40-я гады ХІХ стагоддзя (апавяданні Эдгара По “Забойства на вуліцы Морг”, “Залаты жук” і “Таямніца Мары Ражэ”), мела сваім росквітам канец ХІХ (творчасць Артура Конан Дойла, аўтарству якога належаць і да сёння папулярныя “Прыгоды Шэрлака Холмса” і “Нататкі пра Шэрлака Холмса”) — першую траціну ХХ стагоддзя (раманы Агаты Крысці). У Беларусі класічны дэтэктыў з’явіўся толькі напрыканцы 1980х — у 1990-я гады — тады, калі ў сусветнай літаратуры гэтая разнавіднасць ужо не існавала. На змену старому добраму дэтэктыву прыйшлі нашмат больш жорсткія баявік і трылер. Сістэма ж класічнага дэтэктыва стала хіба формай для віртуознай постмадэрновай стылізацыі, найлепшы прыклад якой твор Умберта Эка “Імя ружы”, у якім закладзеныя самыя розныя магчымасці прачытання (дэтэктыў, гістарычны раман, постмадэрновы цытатны раман). У беларускай літаратуры мадэль класічнага дэтэктыва ўдала рэалізаваная ў адной з ранніх аповесцяў Міраслава Адамчыка “Забойства на Каляды”. Адзначым, што дадзены твор ёсць не проста аўтаматычным засваеннем ужо сфармаванай тэхнікі напісання падобных тэкстаў (пагатоў “рэкамендацый” па складанні дэтэктываў было напісана вялікае мноства; так, яшчэ ў 1928 годзе з’явіліся “Дваццаць правілаў напісання дэтэктыўных гісторыяў” С. С. Вэн Дайна). У ім тэхналогія арганізацыі класічнага дэтэктыўнага тэксту суіснуе з мастацкай рэалізацыяй культурна-знакавых праяў, якія дазваляюць нам казаць пра беларускую прастору дэтэктыва, напісанага на манер яго заснавальнікаў Эдгара По, 237 Артура Конан Дойла і Агаты Крысці. Жорсткая ўнутраная структура жанру, запачаткаваная названымі аўтарамі, выразна прадстаўленая ў аповесці М. Адамчыка. Тут змадэляваная ідэальная канцэпцыя светабудовы з выразным супрацьпастаўленнем “добрага-ліхога”. Загадзя вядомыя і яе рэаліі (парушэнне гармоніі, раўнавагі станоўчага і адмоўнага, гэтаму ў тэксце адпавядае сюжэтны момант здзяйснення злачынства), і яе вынікі (усталяванне зрынутага па прычыне забойства космасу). Больш падрабязна спынімся на класічных жанравых канонах, адлюстраваных у аповесці М. Адамчыка. 1. Злачынства — галоўны сюжэтны стрыжань твора – мае прыватны характар. Гэта значыць, што матывам забойства Вінцэнта Кастравіцкага і Казіміра Кушаля з’яўляецца момант, звязаны з асабістымі адносінамі паміж героямі тэксту. Класічны ангельскі дэтэктыў не дапускае злачынства ў выніку міжнародных інтрыгаў, палітычных і шпіёнскіх акцыяў, дзеяння тайных спецслужбаў і г. д. 2. Месца ўчынення злачынства — гэта годная, выкшталцоная прастора старога шляхетнага дома. Яшчэ раманы Агаты Крысці засведчылі, што забойства, калі і здзяйсняецца, то ў асяроддзі арыстакратычным (бібліятэка, вітальня, экспрэс...). Таму старасвецкі палац шляхціча Адама Кастравіцкага — цалкам тыповая прастора для сюжэтнага развіцця згодна з канонамі жанру. 3. Забойства ажыццяўляецца без сведак і скандальных абставінаў. І ў гэтым не проста імкненне злачынцы схаваць сляды. Тут зноў спрацоўвае названы намі прынцып: злачынства — з’ява прыватная і не след выносіць яго прычыны на агляд. 4. Разгадка злачынства адбываецца ў выніку аналітычных развагаў вялікага следчага Бруна Чыка. У класічным дэтэктыве немагчымая разгадка таямніцы ў выніку пагоняў, допытаў альбо душэўнага прызнання. Традыцыйны вышукоўца не гоніцца за злодзеем і не дзейнічае кулакамі. 5. Ангельскі дэтэктыў — гэта заўсёды пэўны тып галоўнага герояследчага. Ён вылучаецца назіральнасцю і аналітычным розумам. Адначасова з гэтым ён — фігура статычная. Звесткі, дадзеныя аб ім у пачатку твора, надалей папаўняюцца мала. А сам “вялікі следчы” не раскрывае сябе як вобраз (гэта значыць, не мяняе сваёй істы, не выяўляе дынамікі характару). Але гэта адпавядае і самой структуры жанра, у якой галоўны герой не ёсць цэнтрам, а толькі ўвасабленнем актыўнай разумовай сілы, што вядзе да раскрыцця таямніцы. Таму натуральна, што “староннія” эмоцыі, біяграфічны багаж, жонка і дзеці, забавы — усё гэта 238 звычайна нейкі дадатак да функцыянальных уласцівасцяў героя” [2; с. 249]. Аднак статычнасць вобраз не прадугледжвае беднасці сродкаў яго стварэння. Наадварот, “вялікі следчы” — фігура заўсёды каларытная. Так, Бруна Чык, апроч прыхільнасці да аналітычнага вышуку, мае і шэраг іншых захапленняў. Напрыклад, да хіміі і... дэкаратыўнага мастацтва (больш чым дзіўнае спалучэнне). У часе паміж расследаваннем злачынстваў ён паспявае рабіць экспертызы калекцыяў, выдаваць манаграфіі і пісаць падручнікі па крышталаграфіі. Прычым цяжка сказаць, які з яго заняткаў хобі, а які — прафесія. У любым разе ён вядзе расследаванне не з прычыны банальнай матэрыяльнай неабходнасці, а шукаючы высокага інтэлектуальнага задавальнення. Падобна Шэрлаку Холмсу, ён займаецца ўсім і нічым. А выглядае на дзівака-чалавека, якога, здаецца, зусім не цікавяць паказанні сведкі. У гэты час ён можа захапіцца “працай французскага садавода і разглядаць лінарытныя ўклейкі” [1; с. 19]. Але, маючы шэраг дзівацтваў, выглядае Бруна Чык на чалавека рэспектабельнага, аўтарытэтнага і афіцыйнага. Ён, як герой класічнага дэтэктыва, “падкрэслена выключны… істота непараўнальная не толькі з іншымі людзьмі, але і з іншымі следчымі. <...> Герой дэтэктыва хутчэй за ўсё не чалавек, а ідэал” [3; с. 189]. 6. Галоўны герой — дэтэктыў-аматар — супрацьстаіць афіцыйнаму прафесійнаму следчаму. І ў гэтым супрацьстаянні перавага заўсёды на баку першага. У такой расстаноўцы акцэнтаў выяўляецца адпачатковая арыентацыя ангельскага дэтэктыва XIX – пачатку ХХ стст. да сцвярджэння норм і прыярытэтаў прыватнай уласнасці. Замацаваўшыся ў перыяд станаўлення дэтэктыўнай формы, пазней дадзеная асаблівасць набыла формульны статус. Да прыкладу, Шэрлак Холмс з задавальненнем настаўляў недальнабачных інспектараў паліцыі, а Эркюль Пуаро, хаця і супрацоўнічаў з ёю, але выключна з ганарлівым усведамленнем уласнае перавагі. Бруна Чык не мае грэблівага стаўлення да свайго афіцыйнага калегі. Хутчэй проста моўчкі захоўвае ўнутранае пачуццё перавагі і годнасці. Ён не спяшаецца пагаджацца са, здаецца, відавочнымі, але заўчаснымі высновамі, а ў выніку дэтэктыўнай гульнішарады выходзіць пераможцам. 7. Герметызм і абмежаванае кола падазроных. Адзначым: гэтая мадэль — адна з самых улюбёных у А. Крысці. Згодна з ёй, злачынства здзяйсняецца ў памяшканні, у якое немагчыма патрапіць. Значыць, ахвяра гіне ад рукі аднаго з прысутных у доме. Такім чынам, следчаму застаецца хіба толькі выявіць аднаго з абмежаванага шэрагу падазроных. І ўсё ж такі, нягледзячы на такую дастаткова ўнушальную сукупнасць жанравых ўласцівасцяў, аповесць Міраслава Адамчыка не тоесная 239 класіцы ангельскага дэтэктыва. Яна ўдала ўпісваецца ў абсяг беларускай літаратуры і беларускай рэальнасці. Настолькі, што мы нават можам казаць пра адметную “тутэйшую” прастору класічнага дэтэктыва. Пачнем з таго, што злачынствы здзяйсняюцца падчас самага важнага свята ў каляндарным цыкле беларусаў. Прычым першае з іх — прадметам сімвалічным, знакавым у каляднай абраднасці — алебардай з зоркай. Падзеі разгортваюцца ў старажытным палацы ХVІІІ стагоддзя, які нагадвае нам пра слаўныя часы Вітаўта. Падобна да таго, як А. Конан Дойл стварае вобраз добрай старой Ангельшчыны віктарыянскай эпохі, М. Адамчык аднаўляе рамантычны вобраз шляхетнай, годнай, старасвецкай Беларусі. І ў гэтым нам бачыцца пераемнасць з творамі Уладзіміра Караткевіча (тут яшчэ адна адсылка да беларускай прасторы — гэтым разам ужо літаратурнай). Расследаванне злачынства следчым-аматарам робіцца не па трывіяльных прычынах (імкненне дапамагчы студэнцкаму сябру Адаму Кастравіцкаму, якому пагражае абвінавачванне, арышт, турма). Дзядзькам забітага Вінцэнта кіруе высакародная прага помсты, што не мае ў сабе нічога побытавага. Знайсці, пакараць забойцу — значыць здзейсніць абавязак перад сваімі дзядамі, сцвердзіць сябе вартым роду Кастравіцкіх, які зыходзіць у нябыт разам з яго апошнім нашчадкам. Героі “Забойства на Каляды” маюць быць выразнікамі адраджэнскай ідэі, якая тыповая для нас і светапоглядна, і культурна. Іх мэта — па-багушэвіцку простая: “...даказаць усім, што беларусы ва ўсякім разе не горшыя за палякаў і ўсіх астатніх” [1; с. 20]. Толькі вось у аснову адраджэння нацыі ставіцца не мова, а з’ява куды больш глыбінная — паганская вера прадзедаў. Вяртанне спрадвечнай беларускай рэлігіі — гэта і ўмова вяртання слаўных вялікалітоўскіх часоў, калі “Вітаўт і Гедымін ставілі Еўропу на калені” [1; с. 20]. Прэзентаваная ў аповесці нацыянальная ідэя таксама пазначае тутэйшую прастору твора, а прамоўлена яна вуснамі герояў, якія маюць не менш беларускія і вельмі годныя імёны (Вінцэнт Кастравіцкі, Казімір Кушаль, Фрыдэрык Стральчэня). Усё вышэй адзначанае дае нам падставу бачыць у творы некалькі планаў: 1) класічны дэтэктыў, які шмат чаго ўзяў ад яго пачынальнікаў Э. По, А. Конан Дойла, А. Крысці; 2) літаратурны канцэпт, зарыентаваны да беларускай знакавай і культурнай прасторы. _____________________ 1. Адамчык М. Забойства на Каляды: Аповесці, апавяданні / М. Адамчык. — Мн.: Маст.літ., 19994. 2. Вулис А. Поэтика детектива / А. Вулис. // Нов. мир. — 1978. — № 1. 3. Кестхейи Т. Анатомия детектива / Т. Кестхейи. — Будапешт: Корвина, 1989. 240 Г. М. Друк (Мазыр) ЭЛЕМЕНТЫ ПАЭТЫКІ ПОСТМАДЭРНІЗМУ Ў “СКАЗЕ ПРА АДНАВОКУЮ КАЗУ ЦЫЛЮ” В. КАЗЬКО Постмадэрнізм — складаная, шматаблічная з’ява, а ў нацыянальнай мастацкай традыцыі амаль не даследаваная. Нельга не прызнаць факт пошуку новых шляхоў эстэтычнага развіцця літаратуры, нягледзячы на крытычнасць ацэнак, супярэчлівасць адносінаў і пазіцый да постмадэрнізму як мастацкай сістэмы. У аснове эстэтыкі і паэтыкі постмадэрнізму, паводле даследавання І. Скарапанавай, ляжыць тэзіс “свет (свядомасць) як тэкст” [1, с. 66]. Інакш кажучы, постмадэрнісцкі літаратурны твор — гэта не капіраванне рэальнасці, а яе мадэляванне, якім абумоўлены нетрадыцыйны падыход аўтара да арганізацыі тэксту. Спецыфіка мастацкіх прыёмаў для рэпрэзентацыі семантычна-фармальнага аспекту твора вынікае з адчування свету як хаосу ў сувязі са знішчэннем агульначалавечых каштоўнасцяў. Але адметнасцю чалавечай прыроды з’яўляецца пошук ісціны і гармоніі. Чалавечай свядомасці ад міфалагічна-гістарычнага часу ўласціва асэнсоўваць, вылучаць і абагульняць культурны вопыт, сістэматызаваць і захоўваць яго пры дапамозе пэўных знакавых сістэм. Творчасць Віктара Казько, якая “прарастае” з міфалагічна-фальклорнай глебы, у кантэксце постмадэрнізму — праблема эстэтычна значная. Міфатворчасць В. Казько — унікальная эстэтычная з’ява [2]. Не толькі таму, што пісьменнік дэманструе прынцыпова новую мадэль мастацкага мыслення, заснаванага на высокамаральных прынцыпах і плюралізме, які, дарэчы, у тэорыі постмадэрнізму лічыцца стрыжнявым. Але і таму, што яго структура адлюстравання рэальнасці ўбірае ў сябе элементы самых розных мастацкіх сістэм, у тым ліку і постмадэрнізму (гульня з прасторава-часавымі катэгорыямі, карнавал, фрагментарнасць, мантаж, тэатралізацыя і інш.). Постмадэрнісцкі тып пісьма ў “Сказе пра аднавокую казу Цылю”. У самой назве твора — інтрыга і запрашэнне да гульні, працы ўяўлення. Гульня фантазіі і думак аўтара становіцца не самамэтай, а галоўным прыёмам пабудовы сюжэту, канструявання самой мастацкай формы і спосабам выяўлення арыгінальнасці мыслення празаіка, далучэння чытача да сумеснага пазнання-творчасці. Фабула “Сказа...” складаецца з камічных, недарэчных сцэн. Іранічна-гратэскавае пісьмо, гэтага твора таксама не аўтарскі капрыз, а сродак ацэнкі рэальнасці нашых дзён. Эпічная прастора “Сказа...” арганізуецца пры дапамозе калажу, аднаго з асноўных структур постмадэрнісцкай літаратуры. На сюжэтную 241 канву акуратна, умела “накладваюцца” мастацкія дэталі, у ролі якіх выступаюць не толькі традыцыйныя для літаратуры эстэтычнавобразныя сродкі. Паспяхова “працуе” ў мастацкім тэксце алюзія, да прыкладу, гістарычная: “Да яго завітаў закон у абліччы трох ягоных прадстаўнікоў: міліцыянта, суддзі і адваката. Чаму прадстаўніцтва было менавіта такім — засталося таямніцай. Але людзі гэтыя напалохалі старога” [3, с. 5]. Кемлівы чытач прачытае “знак”, адчуе ў створанай сітуацыі подых часу “хапуноў”, калі чалавечы лёс вырашаўся “тройкай”. Літаратурная алюзія на “Казку пра рыбака і залатую рыбку” А. Пушкіна (“разбітае часам карыта”) паказвае на сумныя вынікі гістарычных пераўтварэнняў у жыцці народа, завабленага савецкім міражом раю, на крах існавання. Аднак не адкрыта пакуль, на думку аўтара, поўная праўда пра пакутлівы лёс беларуса, які вымушана абжываў землі Сібіры, захоплена будаваў непатрэбныя электрастанцыі і каналы, цярпеў палітычныя рэформы. Не асэнсаваны, напрыклад, час перабудовы, пра які скажа сваё гнеўна-выкрывальнае слова літаратура, аб чым сведчыць алюзія на радкі “Быў час, быў век, была эпоха...” са “Сказа пра Лысую гару”: перабудова — “...гэта ўжо асобная гісторыя, іншых эпохаў, іншых людзей” [3, с. 6]. Як і ў славутай лысагорскай паэме, у сказе пра Цылю, які ўзнік з падачы Н. Сымонавіча Гілевіча, пра што паведамляе празаік у каментарыі да часопіснай публікацыі твора, адлюстраваны праўдзівы воблік жыцця грамадства. Аднак В. Казько не імкнецца да сюжэтнадэталёвай характарыстыкі розных яго аспектаў — сацыяльнапалітычнага, маральнага і інш., хаця засяроджваецца на асобных падрабязнасцях, галоўным чынам духоўнага плана. Істотны штрых у карціну духоўнай атмасферы часу дадаюць думкі старога: “Увогуле сярод яго знаёмых замежнікаў ня мелася, як дарэчы, не было і сярод супляменнікаў людзей, што здолелі б ашчаслівіць яго нечым і нешта акрамя галаўнога болю пакінуць яму” [3, с. 5]. Ужыванне аўтарам лексем “супляменнік”, “ашчаслівіць” у іх апазітыўным значэнні і далучальнай канструкцыі фразы робяць выказванне экспрэсіўным. Стыль аўтарскага маўлення ва ўсім творы калючы, з’едлівы, востры, асабліва, калі выкрываюцца двурушніцтва, хлусня, уменне гандляваць сумленнем. Кожная фраза аўтара эмацыянальна выразная, грунтоўная, уключаная ў вядучую іранічную інтанацыю размоўнага стылю сказа. Рэальнасць, аналагічная абсурду, пранізаная ім, стварае сітуацыі недарэчныя, бязглуздыя, што могуць успрымацца як неверагодныя. Таму і мастацкі сюжэт будуецца на супярэчнасцях, іранічнай гульні. Стары марыць пра “мільёны даляраў” — атрымлівае казу-калеку. Плануе ляцець за ёй самалётам, але выйшла дабірацца пешкі і па рацэ. Ён рыхтуецца “нават да здрады радзіме”, а планы не ажыццяўляюцца. Такія 242 несупадзенні і элементы тэатралізацыі неабходныя для раскрыцця мастацкай задумы аўтара. А ў мастацкай задуме — паказ характару ўзаемаадносінаў улады і чалавека, яе “клапатлівага” стаўлення да мастака-інтэлігента. Для рэалізацыі згаданай мэты няма, здаецца, вобраза лепшага за той, які адшукаў сам пісьменнік. І гэта вобраз казы. Для персанажаў “Сказа...” іх “аднавокае спадкаемнае шчасце” ад самага пачатку свайго з’яўлення — таямніца: “...з праху якіх пакаленняў, з глыбіні якіх стагоддзяў яна адрадзілася, з’явілася на свет Божы, паўстала перад ім і ягонай старой: папярэднік, фантом, а мо монстр?.. А мо кара Гасподня? Але чаму менавіта ім? Ці такія яны ўжо грэшныя. Там жа, у маладосці, яны, здаецца, нічога не патапталі, не нарабілі слядоў, пражылі, прайшлі чысценька” [3, с. 10]. Г. зн., пражылі насуперак шматвекавой, глыбіннай народнай філасофіі (пасаджанае дрэва, пабудаваны дом, выгадаванае дзіця). Стары і старая, адвучаныя верыць, мысліць, ствараць, не задумваюцца над прычынамі пакарання, а перакананыя ў сваёй непагрэшнасці, пра што сведчыць спецыфіка пунктуацыі працытаваных радкоў. Іх памяць засмечана павярхоўнымі ведамі, свядомасць замбіравана, душа разбурана. Прыём алюзіі на свой раман “Бунт незапатрабаванага праху”, асобныя эпізоды якога напісаны пад уплывам “Ніжніх Байдуноў” Я. Брыля, дапамагае зразумець, што ў людзей новага пакалення, часоў культу, прагрэсуючая хвароба – духоўная слепата (адлюстравана на прыкладзе лёсу Германна Говара ў рамане “Бунт...”). Менавіта “сляпы” ў перакладзе з лацінскай мовы азначае імя “Цыля”. Адурманеная свядомасць, прыручанасць, рабская псіхалогія – на такую спадчыну асуджаны герой “Сказа...” сваім часам. Пратэст персанажа зразумелы, апраўданы, але камічны тады, калі ён спрабуе пазбавіцца Цылі. Як стары ні хітраваў уцякаючы, гнаў прэч, біў, угаворваў казу, не здолеў вырачыся таго, што, згодна з біблейскім вучэннем, трэба выкараняць дзесяткамі гадоў вольнага жыцця і духоўных пакутлівых блуканняў, як тое адбывалася з ізраільскім народам пасля егіпецкага палону. Асацыяцыі з біблейскімі сюжэтамі ўзнікаюць самі па сабе, хаця і ў мастацкім творы ёсць адкрытыя рэмінісцэнцыі на свяшчэнныя тэксты. Як і належыць міфалагічнаму, заўсёды амбівалентнаму вобразу, Цыля не толькі “люцыпарава зрода”, мастацкі знак сатанінскіх у сваёй сутнасці часоў савецкага жыцця. Дзякуючы Цылі, яе гаспадары вучацца “медытаваць” — пільна ўглядацца ў жыццё, задумвацца, разгадваць яго таямніцы. Праца душы ім не вядома, таму нагадвае вар’яцтва, але “вар’яцтва ўсё ж жаданае” [3, с. 9]. Патрэба ў захаванні духоўнай існасці закладзена ў чалавеку самой прыродай, і старыя “шлюць праклёны”, але і “бласлаўляюць” таго, хто падараваў ім казу. Ідэйна-вобразная мадэль “Сказа...” выбудоўваецца з дапамогай мастацкіх знакаў розных 243 гістарычных эпох і культур, што сведчыць пра постмадэрнісцкую скіраванасць твора. Празаік уводзіць у тэкст імёны і прозвішчы прадстаўнікоў яўрэйскага народа — Бранштэйнаў і Берты Саламонаўны. Гэта апеляцыя аўтара у сюжэтным ключы неабходная для матывацыі падзеі атрымання “спадчыны”. Але важны гэты момант і для пастаноўкі адметна беларускіх праблем, звязаных з гістарычнымі ўмовамі існавання беларусаў, — дзяржаўнай незалежнасці, нацыянальнай самасвядомасці, захавання душы этнасу і інш. Ключавая ў раскрыцці ідэйнага зместу “Сказа...”, карнавальная ў мастацкіх адносінах, сцэна кахання Цылі і аднарогага казла Басурмана, якая сімвалічна адлюстроўвае поўны крах савецкай сістэмы кіравання, тупіковасць шляху, вымашчанага з людскіх ахвяраў. Варварскую сутнасць традыцыі перайначвання жыцця на савецкі стыль раскрывае літаратурная падтэкставая рэмінісцэнцыя: помнік нейкаму “цемрашалупісьменніку” з вёскі Дастоева пакладзены ў аснову калгаснага свінарніка. Не прызнаваны савецкай эпохай рускі пісьменнік беларускіх каранёў Фёдар Дастаеўскі ў свой час папярэджваў грамадства пра магчымасць з’яўлення Вялікага Інквізітара, ці, калі згадаць вобраз-сімвал В. Казько, Жалезнага Генрыха, прарочыў аб магчымым з’яўленні сілы магутнага псіхалагічнага ўздзеяння на свядомасць чалавека. Трактоўка Ф. Дастаеўскім асноў жыцця грамадства ўражвае глыбінёй чалавечнасці (“Браты Карамазавы”), але галоўная навука савецкага часу прызнае закон сілы. Але на заняволенні і прыгнёце, як сцвярджае В. Казько, нельга пабудаваць нармальнага жыцця. Гэтая думка падкрэсліваецца ў творы двойчы: праз знакавага персанажа Троцкага-“сваяка” і знак-імя “жаніха” Цылі — Басурмана (У. Даль тлумачыць слова “басурман” — як ‘усякі іншаземец, іншаверац, у непрыхільным значэнні’ [4, с. 327]). Вобраз казы ў творы — сімвал Вечнасці, якая існуе без пачатку і канца, таму і нікуды не знікае. Поўнай улады над Ёю не дасягнуць ніколі і нікому, асабліва індывідам з непамернымі амбіцыямі і нахабствам. Ад іх — “велічных, яркіх і застрашальных” [5, с. 117] — у народнай памяці амаль нічога не застаецца. В. Казько адзначае фундаментальную асаблівасць свядомасці беларуса. Герой “Сказа...” пасля наведвання музея Льва Троцкага задумваецца, чаму пра гэтага дзеяча, “які да калена, а мо і па самую макаўку ў крыві, у чалавечай крыві...” [3, с. 4], толькі і знаку, што куфель, і той не яго асабісты, а бацькаў, які быў піўным заводчыкам. Чалавечая памяць убірае ў сябе з памкненняў і дзейнасці ўладароў толькі тое, што вызначаецца ў большай ці меншай ступені пазітыўным зместам. Так, згадваючы Малянкова, людзі тлумачаць: “...харошы быў цар, зямлю даў, з налогамі палёгку зрабіў” [5, с. 117]. Гэтую здольнасць беларуса жыць вечным, а не часовым растлумачыць проста. Маральны кодэкс нашых продкаў-язычнікаў уяўляе сабой 244 сістэму духоўна-этычных паняццяў і грунтуецца на думцы пра Дабро як аснову жыцця і найвялікшы яго закон (рытуальныя дзействы сустрэчы ўзыходу сонца, спальвання лялькі Марэны, ваджэння казы скіраваны на падтрымку боствам, якія ўвасабляюць Дабро). Як сказана ў Бібліі, “па справах яго” — чалавека — судзіць і ацэньвае Бог. І само Жыццё. Яно дзейнічае паводле закону бумеранга — “абломвае рогі”, у каго тыя вырастаюць. Іронія мастака слова, якой пранізаны ўвесь твор, неабходная для абстрагаванасці ад свайго героя, што не характэрна для жанру сказа. Але гэта прыкмета постмадэрнісцкага наратыўнага стылю — насміханне аўтара над стэрэатыпамі мыслення персанажа (“адукаваны быў стары, як і ўсе нашыя жабракі-пенсіянеры”) і актуалізацыя праблем нацыянальнай культуры. Такім чынам, наследаванне ў творы прынцыпам эстэтыкі постмадэрнізму відавочнае (калаж, літаратурная гульня фактамі-знакамі, іронія і інш.). Адметнасць “Сказа...” у звароце да набыткаў нацыянальнай культуры, выяўленні спецыфікі менталітэту беларусаў. Алюзія дапамагае прасачыць логіку мыслення аўтара: В. Казько гаворыць пра неабходнасць быць грамадзянінам культурнага краю, духоўна знітаваным з усімі іншымі людзьмі, сцвярджае думку пра свабоду творчасці і мыслення. Цэласнасць і гармонія мастацкай формы і канцэптуальнасць зместу, нягледзячы на падзейную забаўляльнасць, робяць “Сказ пра аднавокую казу Цылю” інтэлектуальным творам. _________________________ 1. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. — 4-е изд., испр. / И. С. Скоропанова. — М., 2002. 2. Друк Г. М. У храме Слова. Міфатворчасць Віктара Казько: манаграфія / Г. М. Друк. — Мн., 2005. 3. Казько В. Сказ пра аднавокую казу Цылю / В. Казько. // Дзеяслоў. — 2003. — № 4. 4. Даль В. Словарь живого великорусского языка / В. Даль. — М., 1997. 5. Казько В. Бунт незапатрабаванага праху / В. Казько. // Полымя. — 2000. — № 5. 245 РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ Н. И. Ищук-Фадеева (Тверь) ТРАГИКОМЕДИЯ КАК «РАЗДВОЕНИЕ СЮЖЕТА И СТИЛЯ» («ПОДЩИПА» И. КРЫЛОВА И «ДОВЕРИЕ» В. СОРОКИНА) Созданная к настоящему моменту теория трагикомедии рассматривает ее как жанр, структурно отличный и от трагедии, и от комедии. В большей степени зависимая от истории, нежели классические жанры, она отражает смуту породившего ее времени — это, как правило, историческая пауза, которая возникает после гибели одних богов и до рождения иных. Отсюда — отсутствие каких бы то ни было идеалов и вселенский скепсис. Относительность добра и зла транспонировалась в структуру, кажущуюся аморфной, но эстетический парадокс как раз в том и состоит, что жанр проявляет достаточную жесткость, отстаивая свое право на неопределенность. Герой, потерявший связь и с природой, и с социумом, оказывается лицом к лицу с враждебным универсумом. Гибель мира, оборачивающаяся полной катастрофой для трагического героя, трагикомическим воспринимается иронически. Само это несоответствие трагического объекта и иронического к нему отношения субъекта и есть, видимо, одна из самых распространенных моделей трагикомедии. Неопределенность структуры связана не только со столь же неопределенной позицией героя, лишенного жанровой индивидуальности, но и с отказом от определенной позиции автора — последнее слово остается за соавтором, т. е. читателем / зрителем. Новые отношения автора и читателя представляются специфичными для трагикомедии: эпоха авторского всезнания закончилась, и на читателя переложено бремя решения поставленных в произведении проблем. Особый случай рождения трагикомического эффекта, как правило, корреспондирует с понятием иронии, которое уже в момент своего возникновения осознавалось единым в своей двойственности. Заложенная в нем амбивалентность со временем усугубилась, совместив в себе и разрушающие, и примиряющие функции [1, с. 128]. Диапазон велик — от мудрого, чисто сократовского принятия жизни до осознания горькой истины, что «ирония — наркотик для привилегированных» (Г. Белль). Время и автор выбирают доминанту одного из двух начал. Ирония вместо идеала — столь существенная подмена способа драматического ге246 роя жить и выжить самым радикальным образом повлияла и на мироощущение, и на стиль. Но не это понимание иронии стало специфическим именно для трагикомедии: ирония как идеал и идеал, воплотившийся в иронии, — это достояние культуры ХХ века, независимо от вида, рода и жанра искусства, и трагикомедия здесь не открыла ничего нового. Но помимо общего, неизбежно ироничного взгляда на мир, трагикомедия, одна из немногих, если не единственная, принцип иронии кладет в основу своей структуры. В этой связи особый интерес представляют рассуждения М. Геррика о понятии «двойной» и «двойственный» в его книге «Трагикомедия. Ее истоки и развитие в Италии, Франции и Англии» [2]. Анализируя дебаты вокруг драмы Еврипида и аристотелевской «Поэтики», исследователь обращает внимание на трактовку выражения “двойная структура” («double structure»), которая чаще всего понималась как двойной исход, которым увенчивалось классическое драматическое действие. Но, как заметили комментаторы Аристотеля еще в XVI веке, латинское duplex может быть приложимо к пьесам, строящимся на двух параллельно текущих уровнях действия, подобно пьесам Теренция. «Двойная (douplex) трагедия поэтому может быть одной из таких трагедий, где есть два действия, а не трагедией, в которой счастливый финал для хороших героев и несчастливая развязка для плохих. Гварини, когда пришел к выработке собственного сюжета пасторальной трагикомедии, применял двойное действие (douplex) и единичный (single) счастливый финал» [2, с. 15]. Вышеприведенные рассуждения представляются чрезвычайно важными в интересующем нас аспекте, т. к., условно говоря, эволюция трагикомедии идет от достаточно просто прочитывающейся «смешанной пьесы» с двойным действием к сложной жанровой новации с двойственной структурой действия, что и создает совершенно особую иронию, присущую именно, а возможно, и только трагикомедии. В данной работе рассматривается одна из моделей трагикомедии — «duplex» как «раздвоение» сюжета и стиля на примере пьес И. Крылова («Подщипа») и В. Сорокина («Доверие»). Русский национальный театр, видимо, театр трагикомический по преимуществу. Замечена специфика русского театра была рано; эстетическая его парадоксальность сформулирована кн. В.Ф. Одоевским в «Письме к приятелю помещику»: «Читал ли ты комедию, или лучше трагедию Островского: Свои люди сочтемся и которой настоящее название Банкрут?… Я считаю на Руси три трагедии: Недоросль, Горе от ума, Ревизор; на Банкруте я поставил нумер 4-й...» ” [3, с. 525]. 247 Замечание глубокое и тонкое, с одной поправкой: трагедией в комедийной оболочке может быть названа и «Подщипа» Крылова. Как известно, впервые пьеса Крылова была напечатана за границей, под названием «Трумф, трагедия в двух действиях». В России же список М. Лобанова много лет спустя был опубликован под известным нам заглавием. В связи с тем, что немецкий вариант не дошел до нас, то сравнение двух списков невозможно. Ныне издаваемый вариант пьесы Крылова, безусловно, более соответствует «русскому» жанровому обозначению, которое может быть прочитано как трагедия, рассказанная шутовским языком, что соответствует поэтике драматического текста. Создаваемая в эпоху классицизма, шуто-трагедия не соответствует жестким нормам классицизма, а пародирует их. Конфликт долга и чувства — истинный классицистский конфликт — последовательно развивается в сюжете, начиная с завязки. Царевна любит князя; чувство ее, как и положено тому быть, пылкое и всепоглощающее. Но ситуация в стране — нашествие вражеского войска — вынуждает ее отказаться от жениха и отдать руку принцу-завоевателю, во имя спасения отечества. Сюжет, можно сказать, задан многочисленным трагедиями, равно как и разрешение жанрово обусловленного конфликта. У Крылова же сюжет ломает стереотип, выстраивая новый конфликт, — между долгом влюбленной Подщипы и чувством псевдовлюбленного Слюняя, жениха Подщипы. Кульминацией становится не «поединок славный // Борцов за честь страны и блеск ее державный» [4, с. 322], а дуэль между Трумфом и Слюняем за право обладать рукой и сердцем прекрасной Подщипы. И даже не дуэль, а «покушение» на нее: как Подщипа не желает приносить жертву отчизне, отказавшись от своей любви, так и князь Слюняй отказывается бороться, прежде всего в прямом смысле, с грозным соперником за свою любовь. Наконец, развязка зависит не от поступков главных героев, изменивших классицистскому долгу, и счастливый финал состоялся не по их «вине», а благодаря хитрости цыганки, усилиями которой вражеская армия взята в плен без боя. Цыганка — травестия трагедийного оракула, и ее гадание, в отличие от «темных» предсказаний, допускающих разное толкование, основано не на мистическом знании, а на трезвом и тонком расчете. Пародия на трагедию проявляется не только в организации сюжета, который оказывается агероическим и нетрагедийным, но и в построении системы персонажей. Избранник прекрасной принцессы, верной литературным образцам высокой страсти, разительно не соответствует устоявшимся представлениям о герое-любовнике: Слюняй и не герой, и не любовник. Да и образ отца Подщипы, царя Вакулы, строится вразрез с 248 представлениями об умном правителе, страдающем за свою дочь, радеющем за родное отечество. Подлинной трагедией для царя Вакулы становится не новая война, не заговор, не «хлеба недород» и не происки Трумфа, а сломанная детская игрушка: Ну, слышь, проклятый паж мой изломал кубарь. Я им с ребячества доныне забавлялся, А, знашь, теперь хоть кинь. Ну, так бы разорвался! [5, с. 264] Впадающему в детство царю соответствует и совет, состоящий из слепого, глухого, немого и престарелого, т. е. людей, в принципе не способных исполнить государственный долг. Наконец, Подщипа, страдая от любви и понимая, что страстно влюбленной девице положено чахнуть от любви, воспринимает эту формулу большой любви сниженнофизиологически. Показателен начальный диалог Чернавки и царевны: Чернавка Ах! Сжальтесь над собой! И так уж вы, как спичка, И с горя в неглиже, одеты, как чумичка: Не умываетесь, я чаю, дней вы шесть, Не чешетесь, ни пить не просите, ни есть. Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать: Извольте вы хотя телячью ножку скушать. Подщипа Чернавка милая! Петиту нет совсем; Ну, что за прибыль есть, коль я без вкусу ем? Сегодня поутру, и то совсем без смаку, Насилу съесть могла с сигом я кулебяку. Ах! В горести моей до пищи ль мне теперь! Ломает грусть меня, как агнца лютый зверь. Этот диалог, задавая тональность всей пьесе, характерен последовательным и целенаправленным акцентированием телесного низа, а это — одно из свойств пародии на трагедию. Кроме того, сразу возникает та языковая вакханалия, которая и создает блистательную комедийную стихию пьесы. Двое претендентов на руку принцессы говорят на особом языке: неповторимость одного, Трумфа, создается немецким акцентом, а второго, Слюняя, дефектом речи. Столкновение двух героев, особенно в момент предполагаемой дуэли, т. е. ситуации заведомо драматической, из-за фонетической невнятицы утрачивает свою остроту и напряженность, становясь пародийно-комическим. Своего пика языковой комизм достигает в финальной сцене, когда свадебный венец смыкается с телесным низом: 249 Вакула. На что же медлить, слышь? Подщипа. Иль тщетно я пылаю? Слюняй. Пьеестная князна! Я медьить не зеяю, И в цейковь я тотцас вас всех пеегоню, Да тойко напеёд кой-сто пееменю. Шуто-трагедия «Подщипа», в отличие например, от шекспировской трагикомедии «Буря», создает свой особый трагикомический мир иными способами: здесь нет расхождения героя и ситуации — налицо несоответствие события и языка, «рассказывающего» это событие. При этом язык оказывается значимее события, что в определенном смысле предвосхищает авангардную драму ХХ века. Шуто-трагедия как игра со словом, где «трагедийный» сюжет воплощался в «шутовском» слове, имела большое будущее. Именно «Подщипе» Крылова на русской почве принадлежит честь открытия особой модификации нового жанра, индивидуальность которого заложена в двойственности или даже дву-смысленности слова и жеста. Единство вербального и невербального нарушается, но целостность произведения при этом не разрушается, а создается иная система в соотношении слова и жеста. Найденное Крыловым реализуется в двух планах: во-первых, создается особый диалог, где речевая сфера каждого героя есть его характеристика; во-вторых, при их пересечении, т. е. собственно в диалогической ситуации, возникает комический эффект, прежде всего языкового порядка, из-за столкновения «неправильностей» разного типа. Слово, неадекватное действию, имело столь мощный эстетический заряд, что отозвалось через вековой промежуток — в пьесе В. Сорокина «Доверие». Как и в пьесе Крылова, сюжет сорокинской пьесы узнаваем: он воплощен в жанре т.н. производственной пьесы, где герой показан преимущественно как часть социума. Жанр проявляется уже в списке действующих лиц, которые есть в то же время «маски» советского театра: секретарь парткома завода, директор завода, главный инженер, главный экономист, секретарь профкома и т. д. Сюжет, в полном соответствии с нормами жанра, строится на производственных проблемах, обсуждаемых на производственных совещаниях, на весьма узнаваемой после Ю. Гельмана ситуации «быть или не быть» премии, т. е. это сюжет, который героя полностью растворяет в социуме, без остатка. 250 Узнаванию весьма способствует паратекст — ремарки воссоздают «место действия», которое, безусловно, знаково: «Кабинет секретаря парткома. Посередине — длинный стол с десятком стульев для заседаний, упирающийся в рабочий стол Павленко. Над рабочим столом — портрет Ленина, в углу коричневый несгораемый шкаф, в другом углу обычный шкаф для бумаг» [6, с. 77]. Сам драматический текст, в отличие от паратекста с его установкой на узнавание, строится на эффекте угадывания, что, безусловно, нарушает автоматизм восприятия жанра, пытавшегося построить свою эстетику на во всех отношениях внеэстетических реалиях. «Угадывание» основано на принципе, сформулированном еще академиком В. А. Щербой: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка», иначе говоря, на принципе моделирования определенной структуры (в данном случае — жанра), устойчивость которой подтверждается искусственно созданными и абстрагированными от какого-либо значения лексем. Так, завязка драматического конфликта, как и в гоголевском «Ревизоре», совпадает с началом пьесы: Игорю Петровичу «доверили» должность секретаря парткома завода, и именно это доверие народа к лидеру, обсуждаемое на разного рода собраниях и заседаниях, и стало основным событием этой пятиактной пьесы. Конфликтность ситуации связана с приписками, но в пьесе суть этой проблемы не проясняется, а затемняется: производственные сложности возникли в том числе и потому, что никто «не поинтересовался состоянием северных», в результате чего получилось «сорок восемь» и теперь «придется закрывать по старому расклину», короче, просто «рев и ползанье» [6, с. 80], но, тем не менее, с приписками необходимо бороться, «как с каменным желе» [6, с. 92]. «Темный стиль» пьесы, вызывающий полное непонимание происходящего, демонстративно неясного происхождения: возможно, частично это профессиональный жаргон, но в основном это «эзотерический» язык для посвященных в тайны именно этого производства. Погружение в производственную шуто-трагедию предполагает принятие этого «новояза», приближающегося по своим функциям к языку символистов, создающему определенное настроение, атмосферу благодаря полному освобождению от конкретики. Сам же язык этого нового «производственного символизма» строится как на словах, не входящих в общелитературный словарь, так и на общеупотребительных, но вступающих в «незаконные» языковые связи. Языковая игра пьесы смоделирована во фразеологических оборотах — благодаря устойчивости, а значит, предельной их узнаваемости. Например, «и волки сыты, и дратва при251 брана» [6, с. 85], «Наши комсомольцы слова на ветер не кладут» [6, с. 88] или «Спасибо от вынутых почек!» [6, с. 94] — в последнем обороте происходит весьма знаменательная замена «души» на «вынутые почки». Более сложен случай, когда фразеологизм конструируется по активной модели: «Не надо косить в платок, товарищи» [6, с. 84] или «Это все равно что пить ничком» [6, с. 86]. В этих случаях возникает контекстуальная оппозиция значения и смысла: значение неясно, а смысл внятен. Именно этот принцип — особое соотношение неясной семантики и умопостигаемого смысла — стал основным при создании пьесы Сорокина, написанной в уникальном жанре — жанре производственного абсурда. Система образов четко драматургична: Бобров и Павленко, т. е. директор завода и секретарь парткома, противостоят некоему внесценическому Трушилину; в пределах же сценического пространства Бобров и Павленко являются, безусловно, антагонистами. Трушилин — «откровенный поршень. Да еще с медовым кольцом!»; он никогда не интересовался заводской молодежью, воспринимая ее как «одноразовое сверление» и делая из комсомольцев «калейдоскоп» [6, с. 88]. Павленко же, явный протагонист, видит в них надежду, ибо на них «весь серый лад держится», они — «деревянные стены. Наша скользящая трава, наше потрясающее отбитие. Нам с ними пихать, с ними и отпихиваться» [6, с. 97]. Таким образом, сюжетно предполагается, что ретроградная сила осталась вне завода. Но и в пределах сценического пространства протагонисту противостоит не столь отсталый, как Трушилин, но все же по-советски боязливый Бобров: он считает, что, прежде чем предпринимать что-то конкретное, нужно посоветоваться в райкоме, «обжать уши» [6, с. 110]. Столкновение осторожного Боброва и Павленко, которому надоело чувствовать себя «удодом или девчонкой» [6, с. 110], происходит на планерке и разрешается в акте пятом, на общем собрании, где и проясняется заглавие этой трагикомедии. Более полно рисуется образ прогрессивного «воителя» Павленко. Он — и это знак главного и положительного героя – единственный, кто показан не только как производственник новой формации, но и как личность, претендующая на значимость внутреннего мира: выразительны картина семейного благополучия (секретарь парткома с женой и сыном, отужинав, пьют чай), ретроспекция, устанавливающая преемственность династии настоящих коммунистов (воспоминания об отце), «хождение в народ» (секретарь парткома в общежитии), образ секретаря парткома в интимные моменты любви. Павленко, как и положено секретарю парткома, последовательно вспоминает этапы своего пути к вершинам партийного Олимпа: вот он 252 приходит на завод «семнадцатилетним пацаном с желанием и канифолью» [6, с. 89]; практика в Минске и встреча с будущей женой, их тайный язык любви: Павленко звал свою возлюбленную «трещиной» и «желудочной верой», а она его — «воронцом» и «текстурой обруча» [6, с. 101], язык, который тоже несет признаки новояза, т. к. это, так сказать, интимно-производственная любовная лексика. Не менее важен эпизод с сыном — как свидетельство того, что язык пьесы не только профессиональный жаргон, но и язык общения, понятный не только профессионалам, но и юным душам, не испорченным производственной страстью. Желание Максима пойти к Сережке, потому что он — «рама» и «ленту для выплеска обещал», так как Максим «в трубке продвинул выплеск», высказано на языке, требующем перевода его (их) языка на мой (наш), ибо функция лексемы ясна, а номинация неизвестна. Так выясняется, что язык героев не производственный жаргон, а коммуникация то ли недавнего прошлого, то ли близкого будущего. Наконец, воспоминания об отце, имеющие особое значение: фразы, составленные из общенационального словарного запаса, встречаются довольно редко — тем весомее они. Рассказ политрука Зотова о гибели отца выдержан в основном в стилистике «старояза»: «… он нам все подробно рассказал, и какой бой был, и как все делали руками такие вот куриные движения, и как отец сам повел свой полк в атаку. И добавил — ему это было вовсе не положено. Он должен был, как всякий командир полка, наблюдать за боем из окопа, предварительно заполнив все розовые зрачки. И я тогда — мальчишка совсем — подумал: как же так? Почему отец пошел сам под пули, напитал кремом машинку? Ради чего? И я тогда спросил у Зотова — ради чего? Зачем? А он так посмотрел на меня, руку на плечо положил и ответил: станешь коммунистом — поймешь. Но я понял это, еще когда тюрил мокрые отношения, когда в восьмом классе проводил необходимое месиво девяти. И теперь знаю, как сову» [6, с. 103]. Во-первых, «нормальный» язык есть знак «чужого слова», слова политрука Зотова, и «рассказ в рассказе» лексически очень четко отделяет «свое» слово от «чужого». Во-вторых, этот пассаж — идеологически ответственное место, показывающее формирование личности коммуниста по примеру коммуниста-отца. Согласно жанру производственной пьесы, естественно в этом месте обращение к патетическому, высокому слову, и у Сорокина — весьма показательно – «нормальное» слово эквивалентно высокому стилю. В этом же частном диалоге, наполненном интимными воспоминаниями, актуализируется и заглавие пьесы. Продолжением разговора об отце и о войне стали рассуждения Павленко о жизни, которая 253 хороша тогда, «когда с ней борешься» [6, с. 103]. И, как когда-то отец — с фашистами, сын вступает в бой «с бюрократами, с очковтирателями, с лентяями, с теми, кто привык сосать соломинкой из рельса, кто кричит от собственного отбеливания» [6, с. 103 — 104]. Именно эта воинственность пугает его «добродетельную супругу» — так разговор выходит на новую должность Павленко, а вместе с ней и на доверие. Жена считает, что мужа назначили на должность, сам секретарь — доверили, и уверенность будущего партийного заводского вождя основывается на его уверенности, что за ним — массы. Психологическая кульминация пьесы, очевидно, вербализована в монологе из этого же третьего акта, судя по его сюжетной функции. На вопрос жены, чувствует ли он это доверие, Павленко отвечает: «Чувствую. Чувствую, как родовые прутья, как соленую жесть. Мне это доверие — как ребристость. Я, может, и свищу в угол только потому, что доверяют. Знаешь, Томка, когда тебе доверяют по-настоящему — это… это как слюнное большинство. Когда за спиной сиреневые насечки – тогда и линии друг на дружке. Вот ради этого я и работаю» [6, с. 105]. Композиция пьесы строго традиционна: имея нечетное число действий, она имеет две кульминационные вершины, выпадающие на нечетные — третий и пятый — акты, соответственно третий — социально значимое как личное, пятый — личное как социально значимое, растворение личного «я» в социальном «мы». К кульминации — открытому партийному собранию — стянуты все нити знакомой схемы действия, все из того, что более или менее понятно читателю. Именно на этом собрании окончательно проясняются характеры, обостряется конфликт — то столкновение воль конкретных людей в конкретных ситуациях, которое может быть решено определенным конкретным образом, что угадывается из многих брошенных намеков, туманных производственных символов. Драматический акт построен как подтверждение заявления Павленко о доверии, что выражается возгласами хора типа «Согласны! Правильно! Даешь ломтевозы!» [6, с. 112] или «Верно! Давно пора! Правильно!» и т. д. [6, с. 113]. Это на уровне текста — паратекст углубляет конфликт, переводя его на более высокий уровень, на уровень автора, с его видением происходящего и его стремлением смоделировать точку зрения реципиента, способного свести воедино текст и паратекст. Начальная ремарка к пятому акту такова: «Главный пусковой цех завода. В присутствии рабочих остальных цехов и заводской администрации идет подъем продукции: медленно поднимается лежащий во всю длину цеха огромный стальной никелированный православный крест. Когда он достигает вертикального положения, гул подъемных механизмов смол254 кает и в цехе вспыхивает овация. На небольшое возвышение поднимается Павленко, поднимает руку. Овация стихает» [6, с. 111 — 112]. Таким образом, на одном сценическом пространстве мы имеем однокорневые, но в данном контексте принципиально разные понятия — вера (крест) и до-верие, вещно обозначенное и персонифицированное понятие. Подлинной кульминацией для зрителя становится открытие, что продукция завода — православные кресты, и все эти «расклины», «тон и серости» относятся к изготовлению крестов. И все планерки и совещания касаются только изготовления вещи, но не понимания смысла, ею выражаемого. Производственники не покушаются на познание истины, но они пытаются понять, что такое правда, при этом исключительно в сфере труда. Павленко, коммунист-правдоискатель, говорит: «Но правда — не куль муки и не голубое желе. Правда – это сталь. Правда — это реальные цифры» [6, с. 86]. В этом определении чрезвычайно выразителен ряд, через который секретарь парткома пытается определить достаточно абстрактную вещь: еда — металл — цифры. Иначе говоря, из сферы правды исключен человек, а опосредованно он представлен через «живот», труд и разум, выражающийся в конкретных цифрах, которые, в свою очередь, могут выразить степень сытости «живота» и / или успешности труда. Многочисленные выступающие лишь варьируют мысли Павленко — вот почему крест сначала медленно поворачивается вокруг своей оси, затем вращается «с медленно нарастающим гулом» [6, с. 114], наконец, «крест вращается уже так быстро, что его контуры трудно различимы» [6, с. 115]. Чем больше рабочие говорят о вещи, а не о человеке страдающем, тем больше вращается крест; чем энергичнее они ищут правду, тем больше удаляются от истины; короче, делая знак, они перестали в означающем видеть означаемое. Так разрушается связь знака и значения, значения и смысла, и сорокинский «новояз» есть лишь попытка вербализовать «порвавшуюся связь» значения и смысла. __________________________________________ 1. Блок А. Ирония. Собр. соч.: В 8 т. / А. Блок. — М.-Л., 1962. Т. 5. 2. Herrick T. Tragicomedy. Its origin and Development / Т. Herrick. — Urbana, 1955. 3. Одоевский В. Письмо к приятелю помещику / В. Одоевский. — Русский архив. 1879. N 4. 4. Корнель. Гораций. / Корнель. Гораций. // Пьер Корнель. Театр. Том 1. — М., 1984. 5. И. Крылов. Подщипа / И. Крылов. // И. А. Крылов. Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1984. 6. Сорокин В. Доверие. Пьеса в пяти актах / В. Сорокин. // — В кн.: Язык и действие. — М., 1991. 255 Ивана Рычлова (Прага) СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ДРАМА НА ЧЕШСКИХ СЦЕНАХ Современная русская драма переживает период, который можно без преувеличения назвать «расцветом». Этому соответствует должное внимание, уделяемое ей русскими театральными критиками и литературоведами. Поэтому настоящая статья задумана не как очередной анализ поэтики современных пьес (подобных работ в России неиссякаемое множество) — я постараюсь в ней кратко проследить, как современная русская драматургия воспринимается в Чехии. Дело в том, что современная русская драматургия в последнее время в чешской театральной среде все чаще становится предметом дискуссии среди специалистов и зрителей. После временного ослабления интереса к ней (это не касается классического репертуара, особенно пьес А. П. Чехова), вызванного общественно-политическими изменениями после бархатной революции (1989 г.), пьесы современных русских авторов начинают наконец-то проникать на чешские сцены. Можно без преувеличения сказать, что наступил своеобразный «бум» русской драмы на чешских сценах. Учитывая то, что объем моей статьи ограничен, я постараюсь отразить это явление в его основных чертах. Статья тематически разделена на две части. В первой части дается ретроспективный обзор постановок пьес современных русских драматургов на сценах Праги и других городов с начала 1990-х годов до настоящего времени. Вторая часть представляет собой краткий обзор пражских постановок пьес самого молодого поколения русских драматургов. 1. Ретроспективный обзор современной русской драматургии на сценах Праги и других городов. Сценой, на которой современная русская драма прижилась раньше всех, является пражский театр «Divadlo na Zábradlí». Одной из причин указанного факта является, несомненно, и то, что этот театр всегда отличался, не исключая период после 1989 года, позитивным отношением к русскому, в первую очередь чеховскому репертуару.1 Театр «Divadlo na Zábradlí» одним из первых в Чехии начал в первой половине 1990-х годов показывать инсценировки пьес современных русских авторов. В 1993 году он представил чешскому зрителю пьесу Олега Юрьева (живущего в Германии) «Маленький погром в станционном буфете. Маленькая еврейская трагедия» в постановке режиссера Арношта Голдфлама (Arnošt Goldflam).2 Пьеса Юрьева, 256 написанная в форме театра в театре, привлекла Арношта Голдфлама — драматурга, артиста и режиссера не только своей поэтикой, близкой поэтике его собственных драм, но и тематикой, которая является воспоминанием о его собственной еврейской судьбе. В 1997 году в театре «Divadlo na Zábradlí» состоялась премьера инсценировки известным чешским театральным режиссером Антонином Питинским (Antonín Pitínský) 3 пьесы молодого русского драматурга Ольги Мухиной (*1970 г.) «Таня-Таня». Возникла специфическая, художественно и хореографически тщательно скомпонованная композиция, полная возвышенной поэзии мира влюблённых, где мы чувствуем, по словам Тани, что «в черной машине ездить по Москве, пить шампанское — это такое наслаждение». После Питинского О. Мухина очаровала и других чешских театральных режиссеров: Филиппа Николлса (Filip Nuckolls) 4 из драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem», где была в 2003 году в чешской премьере показана ее пьеса «Ю». Последний, кто поддался очарованию пьес Оли Мухиной, — молодой режиссер родом из Словакии Марьян Амслер (Marián Amsler), 5 который с артистами новой пражской труппы «Divadlo Letí» 6 осенью 2005 года поставил в чешской премьере одноименную пьесу О. Мухиной «Летит». По количеству премьер постановок пьес современных русских драматургов, показанных на пражских сценах и сценах других городов, можно «рекордным» считать 2004 год. В январе 2004 года пражским зрителям в театре «Divadlo Komedie» была представлена пьеса Александра Сеплярского «Третий Рим» в постановке режиссера Давида Драбка (David Drábek). Сеплярский относится к тем русским авторам, пьесы которых не могли быть во время тоталитарного политического режима в России поставлены. Его пьесы бескомпромиссные, критические, они используют очень современный, грубый язык и не страдают от недостатка сильных тем. Постановкой этой пьесы театр «Divadlo komedie» внес свой вклад в представление чешской общественности той части современной русской драматургии, которая у нас не очень известна. Пьеса с шокирующим сюжетом (инцест) является самобытной полемикой автора с парадоксами развития общества в современной России. Пьеса обращает внимание на кризис традиционных ценностей («если душа не наполнена любовью, она наполняется ненавистью») 7], она заинтересовала прежде всего молодую публику. Сквозь сюжет пьесы просвечивает картина современного мира, в котором что-то не в порядке. Несколько с опозданием на чешские сцены постепенно проникает и драматургия Николая Коляды, хотя переводом его пьес никто из извест257 ных чешских переводчиков систематически не занимается. Впервые чешские зрители смогли познакомиться с творчеством этого драматурга, артиста и режиссера в одном лице 8] в 2004 году в театре г. Брно «Divadlo Husa na provázku», который поставил в апреле 2004 года пьесу «Мурлин Мурло». Несмотря на то, что Коляда по всем внешним атрибутам является «автором с мировым именем», на пражской сцене постановки его пьес появились только в этом году в театре «Švandovo divadlo na Smíchově». Вероятно, не является случайным то, что для представления Николая Коляды на своей сцене театр выбрал из огромного количества (почти ста) его драматических текстов именно пьесу со странным названием — «Курица» (1989). Позволю себе напомнить, что Коляда открыто признаёт влияние на себя только двух классиков: А. П. Чехова и T. Уильямса. В пьесе «Курица», думаю, их несколько. И они не менее известные — Михаил Булгаков и Николай Эрдман. Достаточно вспомнить „Багровый остров“ (1928) Булгакова — сатирический гротеск из театральной среды и гейзеры сатиры из легендарного «Самоубийцы» Эрдмана (1928). Хотя Коляда не направляет свою пьесу против всего общества, своими диалогами он воспроизводит атмосферу текста Эрдмана. Используемое Колядой обращение «товарищ», которое в конце 1980-х годов, к счастью, уже не употребляется, напоминает, что время «товарищей» еще не так далеко и что способ осознанного мышления в пустых фразах, несмотря на радикальные изменения в обществе, сразу из человека не исчезнет. Для постановки пьесы «Курица» театр «Švandovo divadlo na Smíchově» пригласил русского режиссера Сергея Федотова, который уже несколько лет успешно работает в Чешской Республике. Федотов известен прежде всего как любитель классики. На вопрос, почему он взялся именно за пьесу «Курица», режиссер ответил: «Курица — это пьеса о театре, это пьеса о людях. Это интересная история. И сам Коляда чрезвычайно интересная личность, живет один и у него дома много кошек — для меня он загадочный человек. Помимо того, что он драматург, он также артист и директор театра, поэтому хорошо знает закулисную обстановку. Вся эта история из пьесы может произойти и в обычной жизни». Именно атмосфера — это то, чего старается достичь Федотов. Постановку хорошо дополняет работа со звуком и музыкой (необычное создание атмосферы России в прологе), концепцию режиссера удачно дополняет и сценография Адама Питры (Adam Pitra), создающая атмосферу советской действительности второй половины 1980-х годов. 2. Современная молодежная русская драма на пражских сценах в театральном сезоне 2004/2005 года. 258 Интересно, что после смерча так называемой «coolness» драматургии из Великобритании и Ирландии все чаще предоставляется слово драматургам того же поколения из России. Речь идет прежде всего об авторах, которых на родине называют представителями „новой драмы“ (В. Сигарев, И. Вырыпаев, братья Пресняковы…). В театральном сезоне 2004/2005 года пражские сцены буквально потрясли три пьесы современных русских авторов: «Черное молоко» и «Пластилин» Василия Сигарева (*1977 г.), а также «Кислород» Ивана Вырыпаева (*1974 г.). В трех указанных постановках видно отличие подхода молодого и старшего поколения создателей к тематике, народному характеру и местному колориту России. Режиссер Ян Качер (Jan Kačer) (*1936 г.) является представителем того поколения деятелей искусства, которое прожило значительную часть своей жизни при старом режиме. Он, разумеется, относится к русской драматургии иначе, чем современные студенты высших учебных заведений. В постановке Качера «Черное молоко», показанное на «Малой сцене» Национального театра в г. Праге («Národní divadlo»), подчеркивается слово «русское». В двух других постановках, реализованных на сцене театра «DISK» (театр студентов Академии театрального и музыкального искусства, далее в тексте чешское сокращенное название «DAMU») самым важным словом следует считать «современное». Отличие явно заметно уже в самом выборе пьесы. Сюжет «Черного молока» Сигарева исходит из реальной жизни в России, из оторванности провинции от событий в центре и из вытекающей из этого неопытности, наивности и беззащитности местных жителей. Пьеса имеет классическую форму, действие происходит в реальное время, и в ней выступают реальные действующие лица. Студенты «DAMU» выбрали для себя «Пластилин» того же автора и «Кислород» Ивана Вырыпаева, тексты более свободной драматической структуры, которые предлагают более широкие возможности для постановки и интерпретации. Позднее к этим постановкам в театре «DISK» еще добавляется пьеса Ксении Драгунской — «Ощущение бороды». Если в «Черном молоке» современный российский антураж играет относительно принципиальную роль, то в «Пластилине» конкретное место не является слишком важным — действие может происходить в городе, в любой другой стране (не только в России) или в нейтральном месте. Режиссер Ян Качер в своей постановке «Черного молока» создает на сцене реалии современного общества благодаря комментариям Рассказчика (зал ожидания на железнодорожной станции «Моховая»). О том, что мы находимся в России, нам сразу же «сообщают» детали, например, 259 расписание поездов на деревянной доске, написанное по-русски, и объявление для пассажиров на русском языке. В постановке «Пластилина» в театре «DISK» действие пьесы разворачивается в белом кубе с подвижным потолком. Артисты выходят на сцену через помост, который с ним связан. Единственной кулисой является длинный белый деревянный ящик, символизирующий сначала гроб, потом писсуары в школе и, наконец, опять гроб. Еще заметнее отличие в подходе режиссера к тексту современной русской пьесы в постановке «Кислорода» Вырыпаева, где действие происходит на танцевальной вечеринке в клубе. На возвышенном месте, в задней части сцены находится музыкальный пульт, за которым стоит диск-жокей. Артисты (всегда мужчина и женщина) подходят к микрофонам, размещенным на подставках с краю сцены. Различный подход к сценографии отражает, конечно, и различный стиль визуальной презентации действующих лиц во всех трех постановках. Самым лучшим примером является различие в изображении «русского человека» в обеих пьесах Сигарева. В этом, на первый взгляд, состоит главное отличие между постановками «Пластилина» и «Черного молока». В то время как Шура и Левчик (главные действующие лица пьесы «Черное молоко») своей одеждой эпатируют вкус чешской публики, главные действующие лица в обеих постановках театра «DISK» носят одежду, в которой можно их сверстников встретить на улице в любом городе Европы. В обеих студенческих постановках главную роль играет сюжет и его интерпретация, детали русской реальной жизни играют второстепенную роль; «что» их интересует больше, чем «где». Несмотря на то, что актерская составляющая обеих постановок театра «DISK» несколько проблематична (постановку обеих пьес осуществили студенты 4ого курса, эти постановки скорее являются демонстрацией того, что отдельные артисты умеют, вне контекста с общим целым), этот студенческий проект привлек заслуженное внимание зрителей и критиков. В работах студентов «DAMU» чувствуется симпатичное желание что-то сообщить о современном мире, без акцента на то, идет ли речь о западном мире, восточном мире или неконкретном мире. Люди любят друг друга, ненавидят и умирают всегда одинаково. Театральный сезон 2005/2006 года еще не закончился и поэтому пока его нельзя анализировать. На двух сценах — в пражском театре «DISK» и в драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem» — появилась еще одна русская пьеса: «Терроризм» братьев Пресняковых. Что хочется сказать в заключениe? Отрадно наблюдать, что в чешской театральной жизни представление о русской пьесе перестает быть ограниченным только постановками пьес Гоголя и Чехова. Сегодняшние 260 пражские сцены, на которых идет параллельно почти десяток пьес современных русских авторов (если бы мы учитывали менее известные клубы-театры и менее известные пражские сцены, мы бы насчитали их намного больше), а также театры других городов этот факт красноречиво подтверждают. ______________________________ 1. Начиная с сезона 1993/94 г. до своей преждевременной смерти в 1999 г. здесь работал художественным руководителем Петр Лебл (Petr Lébl 1965 — 1999 г), несомненно, самый талантливый чешский театральный режиссер последнего двадцатилетия прошлого столетия. Среди одиннадцати постановок, которые он в театре «Divadlo na Zábradlí» создал, именно чеховские («Чайка», 1994 г. и «Иванов», 1997 г.) получили премию Альфреда Радока (Alfréd Radok) за лучшую постановку года. 2. Арношт Голдфлам (Arnošt Goldflam *1946 г.) — это брненский пишущий режиссер и режиссер-драматург, который в свои пьесы часто включает автобиографические эпизоды, из которых, вероятно, наиболее очевидным является его детство и еврейская судьба, однако ни один из них не имеет в текстах Голдфлама однозначно серьёзного значения. На фоне смерти автор смешивает высокое с низким, юмор с трагедией. В пьесах Голдфлама мы найдем отзвуки абсурдного театра, гротескное преувеличение, отрицание театральной иллюзии и амбивалентность толкования. 3. Ян Антонин Питинский (Jan Antonín Pitínský *1955 г., его родное имя Зденек Петржелка — Zdeněk Petrželka) — театральный режиссер, поэт, прозаик и драматург. Как режиссер он сотрудничает с десятками малых и больших сцен по всей Чешской Республике. Личность Я. А. Питинского является синонимом современного чешского театрального и драматургического творчества. Он является одним из первооткрывателей так называемого альтернативного театра. 4. Филипп Николлс (Filip Nuckolls *1979 г. в г. Усти-над-Орлици) — выпускник театрального факультета Академии театрального и музыкального искусства в г. Праге по специальности «режиссура». Главный режиссер театрального общества «Kašpar» в театре «Divadlo v Celetné». С 2005 г. он является членом драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem». 5. Марьян Амслер (Marián Amsler *1979 г.) — выпускник Института музыкального и театрального искусства в г. Братиславе по специальности «режиссура». Его режиссерским дебютом была постановка пьесы О. Мухиной «Таня-Таня» в 2003 г. в братиславской «Студии 12»; в том же году он поставил в новом братиславском театре «Aréna» другую пьесу О. Мухиной «Ю». 6. «Leti» — это новая пражская театральная труппа, состоящая из студентов – новых выпускников «DAMU». 7. Смотри беседу переводчицы пьесы с А. Сеплярским. «SAD» 1993/5. 8. Несмотря на то, что Коляда по всем внешним атрибутам является „автором с мировым именем“ (его пьесы переведены на многие языки мира, кроме России и всей Европы, идут в Австралии, США и Канаде), в чешской среде его знают лишь люди из немногочисленного круга русистов, театральная общественность и несколько режиссеров, которые в последние годы выбрали некоторые тексты Коляды для постановки. 261 Е. Е. Бондарева (Киев) ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МОНОДРАМЫ: ПОДВИЖНЫЕ РАМКИ ЖАНРОЛОГИЧЕСКОГО КАНОНА Теоретических исследований, посвященных жанровой модели монодрамы, сегодня практически не существует. Только отдельные фундаментальные энциклопедические работы дают скудное терминологическое представление об этом жанровом варианте, обращая внимание лишь на некоторые его аспекты: монодрама рассматривается как одна из разновидностей драмы [12, с. 228] либо как «жанр лирико-драматического межродового образования, в котором посредством монолога-исповеди (движущей силы драматургического действия) происходит самораскрытие героя» [9, с. 411], «одноактное произведение, в котором действует преимущественно один персонаж» [2, с. 344], или вообще как «пьеса для театра одного актера», еще уже – «форма, распространённая на радио» [3, с. 225]. Ни авторитетный в Украине «Літературознавчий словникдовідник» (К., 1997), ни такой нормативный и этапный для европейской теории драмы труд, как «Словарь театра» Патриса Пави (М., 1991), не включают термин «монодрама» в свой тезаурус, что скорее есть правило, нежели исключение. В теоретическом поле современных спорадических локальных разработок жанрового модуса монодрамы кардинальная функция отводится единственной и ключевой структурной единице монодраматического текста — монологу, что заставляет сначала рассмотреть его семиотические и дискурсивные свойства, а также переходные явления на стыке монолога и диалога (прежде всего скрытого) и факторы, обусловливающие момент перехода монологического речевого потока в диалогический или дискурсный. Монодраму как жанровый модус драмы логично интерпретировать и в едином типологическом ряду с монодрамой как разновидностью психодрамы в терапевтической практике (Я. Л. Морено и его школы) и дискурсивной практикой постмодернистской эстетики. Ведь и психодрама Морено (в том числе монодрама), и монологическая фактура новейшей литературы «потока сознания», и современная монодрама как разновидность («жанр») драматического рода художественной литературы имеют общую генетическую и философскую базу, а нередко — общую цель. К традиционным жанровым признакам монодрамы В. Ершов [см.: 9, с. 411] относит только три следующие характеристики: в основе композиции монодрамы лежит многособытийная ассоциативная структура, 262 упорядоченная системой лейтмотивов; в монодраме, как правило, выступает один персонаж, а если есть другие — то они активного участия в действии не принимают; монодрама строится как рассказ героя либо его разговор с бессловесным или отчужденно присутствующим персонажем. Как видим, исследователь сосредоточил внимание главным образом на оболочке анализируемой жанровой разновидности, выделив ее актуальные внешние параметры. Сущностное же наполнение монодрамы значительно глубже, а пьесы с идентичной архитектоникой нередко воспринимаются совершенно по-разному, что свидетельствует о недостаточности указанных характеристик для выявления жанровой специфики монодраматического произведения. Техника психологической монодрамы, оттеснившая на второй план такое продуктивное клише, как Я-драма, доминирует уже в раннем творчестве Я. Л. Морено («Завещание отца», 1920 — 1922). Ученица Морено психодрамотерапевт Грете Лейтц [11, с. 6] настаивает, что в 50-е гг. ХХ века Я. Л. Морено актуализировал на практике два индивидуальнотерапевтических метода монодрамы: собственно монодрама: психотерапевт работает с пациентом во время сеанса индивидуальной терапии, используя возможности специальных техник, — «это один исполнитель главной роли с режиссеромпостановщиком и исполнение всех ролей для себя» (данный метод релевантен таким жанровым разновидностям монодрамы, как диалог с воображаемым собеседником, скрытый диалог, монодрама с несколькими действующими лицами — исполнителями второстепенных или вспомогательных ролей, функционирующими через субъективное восприятие действительности главным персонажем); аутодрама: протагонист сам дирижирует своей психодрамой с использованием нескольких вспомогательных Я — «исполнитель главной роли руководит собой и использует вспомогательные Я для завершения взаимодействия» (что применимо к лицам с тяжелыми личными конфликтами и корреспондирует с жанровыми аналогами монодрамы, основанной на внутренних монологах, потоке сознания, а также монодрамы, построенной на «конфликте монологов» и «конфликте интерпретаций»). Монодрама как жанр опровергает драму как дискурсивную практику агонально-диалогической природы, вместо этого демонстрирует приверженность бинарии «я» / «другой», которой может передаваться не только персонажно позиционированная дихотомия, а прежде всего «образ внутренне расслоенного индивида, как, скажем, при психаналитическом подходе к расколотому субъекту» [14, с. 478]. Л. Ортис разделяет концепты этой бинарной оппозиции и, подчеркнув, что «я» мыслится как субъект 263 собственного отражения или тени, апеллирует к разработанной Ж. Лаканом психоаналитической теории стадии зеркала в человеческом эмоциональном и общественном развитии: «При подобной концепции состояния «я» оно внутренне признает собственного другого внутри себя — именно такое самопознание и самооценка присущи постмодернистскому пониманию личности» [14, с. 478]. Аналогичная рецепция монодрамы как психотехники прочитывается в предисловии к книге «Монодрама: Исцеляющая встреча. От психодрамы к индивидуальной терапии», где монодрама концептируется как метод, имеющий эволюцию в историческом, философском и культурном (прежде всего театральном) контекстах. Психологическая методика монотерапии выводится из известных психодраме техник: внутреннего монолога, дубляжа, обмена ролями, техники «зеркала» и проч., при этом подчеркнуто, что монодрама предоставляет человеку возможность: вывести на сцену разные эго-состояния индивида; включить работу с символическим материалом (воображаемым и материализованным с помощью разных предметов); смоделировать собственный мир вокруг себя и стать его активным участником [7, с. 3 — 4]. Несомненно, монодрама как жанр и как интервенционная психотерапевтическая техника одинаково предполагают возможность спонтанного сценического действия и понимания благодаря удовлетворению «актантного голода» и высвобождению креативного потенциала протагониста: «Индивидуум создает для себя собственную, самостоятельную реальность в субъективном пространстве и благодаря этому получает возможность участвовать в формировании условий своей жизни. Иначе говоря, индивидуум живет в поле напряжения между собственной оформившейся реальностью и реальностью, определенной извне социальными, политическими и общественными факторами» [10, 82 — 83]; следовательно, цель терапии, как и жанровая миссия монодрамы, направлены на это «поле напряжения», чем, собственно, и моделируется возможность нового переживания конфликтного события. Не случайно К. Йорда саму сцену воспринимает как основной структурный элемент в процессе развития и разворачивания личностных систем и в конце концов, экстраполируя постулат «онтогенез есть сокращённая форма филогенеза» на монодраматический сеанс психотерапии, приходит к выводу, что «ролевое развитие в индивидуализации соизмеримо с ролевым развитием в процессе монодраматической работы» [10, с. 97]. Монодрама в большей степени, нежели другие жанровые модусы драматического рода, ориентирована на художественную условность. В принципе любой развернутый монолог, не адресованный собеседнику, неправдоподобен: ведь в жизни-то человек не выступает с развернутыми 264 сентенциями, обращенными к себе самому; П. Пави не случайно акцентирует, что монолог воспринимается как определенная антидраматическая единица именно благодаря его «статичности» и «неправдоподобию»: «изображение персонажа, делящегося своими переживаниями с собственным Я, легко переступает грань комедийного, позорного, к тому же оно всегда ирреально и неправдоподобно» [15, с. 191]; в то же время монологу отводится важная содержательная нагрузка в драматургическом произведении, поскольку он способен концентрировать внимание на том, что человек в данном контексте остраннен (самоизолирован) либо же актер произносит вслух то, что на уровне внутренней речи происходит с его персонажем, то есть монолог апеллирует к условности театральной игры и условности организации театрального действа, а в монодраме это едва ли не единственный способ раскрыть образ персонажа и его контекст. Собственно говоря, на этом А. Юберсфельд выстраивает свою концепцию театрального говорения, опирающуюся исключительно на диалогичность, присутствующую даже в монологе: «Диалогичность эта определяется тем, что театральное говорение всегда порождается коммуникативной ситуацией, всегда обращено к кому-либо» [16, с. 218]. Аналогично мыслит А. Домашнев, замечая, что иногда диалог может протекать будто бы в форме монолога одного из собеседников, «но его присутствие в целом не позволяет этому высказыванию превратиться в монолог» [8, с. 261]. Монолог является структурным полем автокоммуникации (коммуникативная модель «Я» — «Я»), «особой разновидностью замкнутого на себя общения» [3, с. 255]. К оценкам, данным монологу в теоретическом корпусе П. Пави, близки и мысль М. Вороного, склонного рассматривать драматургический монолог как несовершенный по сравнению с диалогической формой «пережиток монодрамы», «ненатуральную и неблагодарную форму для интерпретации внутренних переживаний» [4, с. 167], и точка зрения Э. Бентли, убежденного, что монолог не есть драматический способ «создания индивидуального портрета», а выступает не более чем утонченным приемом, посредством которого автору удается изобразить отсутствующего персонажа так же реально, как если бы он находился на сцене, а в остальном продолжить развитие действия средствами «ортодоксальной драматургии» — то есть драматизируя отношения между людьми [1, с. 60 — 61]. Не лишне заметить, что в монодраме большую часть своих монологических историй персонажи рассказывают в предельно психологическом состоянии (сны, аффект, агония перед казнью либо самоубийством или откровенное сумасшествие) [6, с. 13]. Различные определения дефиниции «монолог» учитывают, что это «длительное, внутренне однородное и связное выска265 зывание, принадлежащее одному субъекту и выражающее его мысли, осознанные или подсознательные переживания, рефлексии, чувства и акты воли» [13, с. 477], «речь одного персонажа, в которой он раскрывает душу в критический момент, размышляет, рассказывает о том, что происходит вне сцены, обосновывает целесообразность своих поступков, выражает сомнения, раскаяние» [17, с. 414], «долгий дискурс, созданный одним персонажем (и не адресованный другим персонажам)» [18, с. 70], «речь персонажа, не обращенная непосредственно к собеседнику с целью получить от него ответ» [15, с. 191]. Основные характеристики монолога можно вывести уже из определений процитированных авторов: монолог сам создаёт для себя контекст, являющийся определенной структурированной целостностью с четкой взаимосвязью компонентов; монолог замедляет развитие сценического действия, нередко вообще предельно редуцирует либо в принципе упраздняет внешнюю событийную линию, переводя действие в исключительно внутренний план, поляризуя при этом оппозиции «вербализованное» / «невысказанное», «невысказываемое»; монолог контаминирует в себе субъекта, адресата и ситуацию, то есть так или иначе потенциирован на диалогизацию (опосредованную, скрытую или непосредственную): «монолог, структура которого не предполагает ответа собеседника, устанавливает прямую связь между говорящим и ординарным представителем того мира, о котором он рассказывает» [15, с. 192]; в непосредственной живой речи монологическое высказывание нередко запрограммировано на диалогичность, ибо речевой акт рассчитан на слушателя — и именно поэтому «расхождения между диалогом и монологом нередко становятся размытыми, поскольку многие реплики содержат элементы как того, так и другого» [8, с. 261]; монолог сценический (особенно монолог монодраматический), даже не окрашенный очевидной диалогической направленностью, все равно предполагает разные диалогические уровни: актер, произносящий монолог социум в целом сцена как собеседник «подслушивающий» зритель. «Такой прямой выход на публику является одновременно и сильной, и слабой, «неправдоподобной» стороной монолога: вдруг возникает эффект присутствия актера и вместе с тем в его обращенном к себе дискурсе проявляется вся совокупность социальных связей в иконизированной и явной форме» [15, с. 192]. П. Пави не случайно ведет речь о так 266 называемой «драматургии дискурса», разрушающей канонизированные стереотипы диалогического и монологического говорения. Еще одно существенное замечание. Монодрама имеет довольно своеобразную актантную модель. Ее герой-протагонист одновременно вынужден перебирать на себя и другие функции, в том числе воплощать не только субъект-объектные отношения (он сам создает драматическую ситуацию и сам ищет пути выхода из нее), а и категориальносинкретические (охватывает своей сущностью все реализованные в пьесе комбинации характеров); он в определённой степени и отправитель, и адресат информации, он своим сценическим действием (вербальным или невербальным) может себе с одинаковым успехом помогать и вредить. Его положение усугубляется и тем, что он играет при этом не разных персонажей, а одну суперсложную монолитную психологическую либо депсихологизированную суперсистему, воплощенную, как правило, в одном человеческом индивиде. Таким образом, в монодраме, как ни в одном другом драматургическом жанровом модусе, выдержан статус кво: синкретический актант = актер = протагонист. Современная монодрама сравнительно с недавним этапом развития жанра (80-ми — началом 90-х годов ХХ века) существенно изменяет свои границы и казавшиеся незыблемыми жанровые характеристики. Если взять за точку отсчета предыдущие яркие образцы этого жанра в украинской драматургии, созданные «традиционалистами» (драма «Стена» Ю. Щербака) и драматургами «новой волны» (трагикомедия «Синий автомобиль» Я.Стельмаха), то можно констатировать, что в 80-е структурирующей доминантой монодрамы был глубочайший психологизм, нашедший отражение в мощном лирическом начале внутренних монологов моногероя, существовавшего на сцене «кордоцентрично»; в обильной орнаментации стилистики внешней речи; в «оживании» на сцене воспоминаний и представлений (тогда драматурги прибегают к отмеченному еще Л. Якубинским «реплицированию» внутреннего монолога [19]); наконец, в неординарности, уникальности, «нетипичности» протагониста, наделенного необычайным внутренним и внешним лиродраматургическим потенциалом. Монодраматические герои в этот период стремятся найти собственную идентичность, сохранить цельность своей личности, демонстрируют сопротивление личности раздвоению внутри себя — разделению на «я» и «другого». У пьесы «Синий автомобиль» Ярослава Стельмаха есть авторское жанровое определение – «трагикомедия», хотя текст создан всецело как монодрама: заявлено единственное действующее лицо — писатель А 267 (прочитывается «семантический палиндром» А-Я, за которым закодировано имя самого Ярослава). На первый взгляд, драматург стремится вывести на сцену обнаженный процесс писательского творческого акта — в печатную машинку заложен чистый лист бумаги, протагонист будто бы изобретает непосредственно перед нами невероятные сюжеты и загадочные перипетии, которые будут переживать его персонажи, и игра с читательским сознанием на паратекстуальном уровне первой ремаркой программирует, что «на наших глазах будет происходить синтез мысли». Но хаотичная коллизия «выстраивания» искусственного сюжета перерастает в беспрерывный, основанный на лучших традициях солилоквиума, речевой поток героя, в словесном обилии которого, среди плевел и квазихудожественной шелухи, мастерски сокрыто золотое зерно художественной правды о самом драматурге («Вся жизнь моя — бессмысленная книга, на каждой странице, где слово «счастье», я вижу: прочерк, прочерк, прочерк...»), о его сложной внутренней жизни, спрятанной от посторонних глаз даже близких ему людей, о его духовном одиночестве, лишённом романтического настроя, но не превратившемся в экзистенциальную пустоту лишь потому, что есть заветная точка отсчёта, короткий момент истины, когда моногерой таки был очень счастливим — далекий миг детства, когда ему подарили синий автомобиль, когда мечты на мгновение совпали с реальностью, а мир будто раздвинул привычные границы и навсегда стал более светлым. Даже формально собственно драматургические маркеры сведены в тексте пьесы на минимум: Я. Стельмах минимализирует ремарки, избегает внутреннего членения монологического текста — вся его пьеса является одним развёрнутым абзацем без дополнительной графической организации, сценические действия персонажа уступают речевым, иногда достигающим настоящих лирических вершин. Драматургический текст, выстроенный по аналогичным критериям, практически синхронно с Я.Стельмахом создает и австрийский драматург Т. Бернгард — имею в виду его «комедию» «Старые Мастера», которую украинский переводчик и комментатор Бернгарда Т. Гаврилив считает «монологом» или «рафинированной пьесой для одного актера» [5, с. 7]. Эта пьеса тоже состоит из единственного довольно пространного абзаца, хотя ее протагонист, в противовес моногерою Я.Стельмаха, говорит практически без пауз — то есть в пьесе совсем отсутствуют ремарки, ее текст состоит исключительно из развернутого монологического фрагмента, охватывающего события более чем тридцати лет, лирический накал монолога то нарастает, то нивелируется, а финал тоже остается открытым: следовательно, Я. Стельмах работал целиком в жанровом фарватере европейской драматургии 80-х, и его 268 экспериментальные тексты не уступают в мастерстве сложнейшим жанрологическим экспериментам признанных западных мастеров. Как видим, монодрама 1980-х — начала 1990-х гг. ХХ века воистину воспринималась как жанровый модус, граничащий с лирикой и драмой, пропорционально аккумулируя их родо-видовые признаки, ставя в центр неординарную личность протагониста, проживающего сложнейшую внутреннюю жизнь. В 1990-х годах ХХ века разрушению и деформации подлежат многие жанровые каноны, существенные подвижки и трансформационные процессы в жанровом моделировании ощутимы и в монодраматических текстах. Новейшие драматурги ставят и этот жанр в эпицентр экспериментов, размывая его структуру, разрушая его границы и прокладывая путь от монологического типа говорения-размышления (лирического откровения, исповеди, протокола внутренней жизни, сценического переживания биографического сюжета) персонажа до дискурсивного типа своеобразного сценического монолитного единства: в традиционные параметры жанрового модуса, пограничного между собственно драмой и лирикой, например, абсолютно не вписываются тексты А. Шипенко, Ю. Паскара, Е. Гришковца, как, кстати, и другие экспериментальные монодрамы современных украинских авторов-прозаиков, скажем, С. Пыркало и В. Дибровы. Сегодня есть все основания говорить об актуализации категории содержательности жанровых форм в новейшей драматургии, в том числе и в жанровом модусе монодрамы. Помимо дальнейшей разработки традиционного русла углубленного лиро-психологизма, здесь актуализация имеет два вектора: с одной стороны, размывание жанровых констант на пути от монологической драматургии к драматургии дискурса, в которой «от самого дискурса, от его структуры зависит вся организация сцены» [15, с. 192], поскольку дискурс перестает быть речевым кодом, «вписанным» в изображение и сценическую речь, а становиться стержневой структурой театрального действа как целостности; с другой стороны, возобновлением жанровых границ, которые теперь учитывают достижения других пограничных родо-видовых структур, и прежде всего иных жанровых разновидностей внутри самого драматического рода, чем постепенно обогащается жанровый код даже в эпоху тотального разъятия эстетических форм и ревизионного пересмотра драматургической аксиологии. ________________________________ 1. Бентли Э. Жизнь драмы: Пер. с англ. / Э. Бентли. — М.: Искусство, 1978. 2. Близнюк А. Монодрама / А. Близнюк. // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. 269 3. Борев Ю. Б. Эстетика. Теория литературы: Энцикл. словарь терминов / Ю. Б. Бореев. — М.: Астрель-АСТ, 2003. 4. Вороний М. К. Драма живих символів / М.К. Вороний. // Вороний М. К. Театр і драма: Зб. ст. / Упоряд., вступ. ст. О.К.Бабишкіна. — К.: Мистецтво, 1989. 5. Гаврилів Т. Антиестетика Томаса Бернгарда / Т. Гаврилів. // Бернгард Т. Старі майстри: Комедія. Елізабет ІІ: Катма комедії: Пер. з нім. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. 6. Генсіцька І. Сповіді «Відлуння» // Український театр. 2003. № 4. 7. Горностай П. От редакции / П. Горностай. // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004. 8. Домашнев А.И. К социологии языка драмы / А. И. Домашнев. // Литература. Язык. Культура: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Г.В.Степанов. — М.: Наука, 1986. 9. Єршов В.О. Монодрама / В. О. Єршов. // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. – Т.3. – К: Українська енцикл., 1995. 10. Йорда К. Рецепционная теория с особым учетом сценического понимания // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004. 11. Лейтц Г. Вступительное слово / Г. Лейтц. // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004. 12. Монодрама // Литературный энцикл. словарь. — М.: Сов. энцикл. 1987. 13. Монолог // Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1977. 14. Ортіс Л.М. «Я»/інший (selt/other) / Л. М. Ортіс. // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. 15. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. / — М.: Прогресс, 1991. 16. Поляков М. Я. В мире идей и образов: Историческая поэтика и теория жанров. – М.: Советский писатель, 1983. 17. Современный словарь-справочник по искусству. — М.: Олимп, 1999. 18. Ткачук О. М. Наратологічний словник. — Тернопіль: Астон, 2002. 19. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. — Пг., 1923. 270 Л. Б. Сямёнава (Мінск) КАНЦЭПЦЫЯ СУСВЕТНАГА ПАРАДКУ Ў. ШЭКСПІРА Ў ТВОРЧАСЦІ СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ ДРАМАТУРГАЎ Творчасць Шэкспіра — адна з выдатных старонак сусветнай культурнай спадчыны, а таксама невычарпальная скарбніца літаратурных знаходак. Сваёй мастацкай зоркасцю, пранікненнем у сутнасць чалавечых страсцей і канфліктаў шэкспіраўская творчасць выходзіць за межы тагачаснай эпохі, заглядвае ў будучыню. Некаторыя з яго п’ес можна назваць адкрыццямі чалавечага сэрца. Невыпадкова, што шматлікія сучасныя пісьменнікі звяртаюцца да ўжо добрараспрацаваных ім тэм, карыстаюцца яго літаратурнымі знаходкамі. Адной з іх з’яўляецца шэкспіраўская канцэпцыя сусветнага парадку. Менавіта яе і прытрымліваецца, на нашу думку, сучасная беларуская пісьменніца Зінаіда Дудзюк ў сваёй п’есе “Заложнікі шчасця”. У дадзеным творы можна прасачыць не толькі прытрымліванне канцэпцыі сусветнага парадку, якая панавала ў творчасці Шэкспіра і была неад’емнай часткай светаўспрымання людзей эпохі Адраджэння, але таксама і падобныя матывы з “Рамэо і Джульетай” У. Шэкспіра, што сведчыць аб уплыве шэкспіраўскай традыцыі на творчасць сучаснай беларускай пісьменніцы. Героі п’есы “Заложнікі шчасця” Юля і Раман кахаюць адзін аднаго, але бацькі дзяўчыны супраць іх узаемаадносін. “Ён баязлівец і не варты цябе, дачушка! Я забараняю табе з ім сустракацца.” Гэтыя словы нагадваюць нам пралог са знакамітай п’есы Шэкспіра “Рамэо і Джульета”. Здаецца, пісьменніца свядома ўжывае ў сваім творы такія імёны закаханых: набліжае да беларускай мовы варыянты імён Рамэо і Джульеты і атрымлівае Рамана і Юлію. Як вядома, каханне, створанае Шэкспірам, лічыцца прыкладам чысціні і глыбіні адносін. Маладыя, такім чынам, праз сваё каханне супрацьпастаўляюцца знешняму свету з яго прагнасцю, брудам і коснасцю. Як і бацькі Джульеты, бацька Юліі жадае лепшага для сваёй дачкі, а яе брат збіраецца падшукаць ёй у жаніхі “сапраўднага мужчыну”. Такім чынам можна сцвярджаць, што ў двух творах супадаюць завязкі сюжэтаў. Бацькі сваімі паводзінамі падштурхоўваюць дзяцей да дзеяння. Шэкспіраўскія Рамэо і Джульета вянчаюцца без дазволу бацькоў, а гераіня З. Дудзюк “паехала з Раманам на край свету на ўсе канікулы”. Бацькі прытрымліваючыся старых поглядаў на права дзяцей вырашаць самастойна сваё жыццё, ледзь не пазбаўляюць маладых шчасця. 271 Дарослыя навязваюць уласную волю дзецям і тым падштурхоўваюць іх да смерці. Бацькі Рамэо і Джульеты пачынаюць разумець памылкі толькі пасля гібелі дзяцей. Дзве знатныя сям’і з Вероны страчваюць адзіных любімых дзетак праз сваю ўпартасць. І толькі стоячы перад целамі, яны разумеюць — прычына іх даўняй варожасці забыта, яе ўжо даўно не існуе. Канфлікты, якія вядуць да варажнечы, боек і, нават, забойстваў не маюць пад сабой грунту. Прычыны іх з’яўляюцца альбо забытымі, альбо мізэрнымі. М а н т э к і: Хто ж старую варожасць абудзіў? Больш таго, у II сцэне I акта яшчэ да трагедыі Капулеці гаворыць: Абодва мы з Мантэкі пакараны Аднолькава. Я думаю, што мы, Старыя людзі, зможам мірна жыць. Такім чынам, прадстаўнікі абодвух варожых сямей самі не разумеюць сэнсу боек і барацьбы, але ніхто з іх не робіць першага кроку да замірэння. Варожасць і смерць прадстаўнікоў абодвух сямей, як у выніку высвятляецца, былі абсурднымі і дарэмнымі. Шэкспір па-мастацку стварае карціну разладу, чалавечых пакут, выкліканых коснасцю і абмежаванасцю. Парушэнне любой дэталі “парадку”, нават мінімальны адыход ад яго ўніверсальнага прынцыпу мае трагічныя наступствы. Прытрымліваючыся касмалагічнай канцэпцыі, якая склала аснову гуманістычнай філасофіі і аб’яднала іерархічную сістэму каштоўнасцей з ідэямі неаплатонікаў антычнасці і сярэднявечча, Шэкспір лічыў, што Вялікі ланцуг быцця — вобраз сусветнай гармоніі — дасягнуты строгай іерархічнай згодай і супадпарадкаваннем усяго існага. Як гуманістычная думка, так і народная культура Адраджэння атрымалі ў спадчыну ад былых стагоддзяў канцэпцыю Вялікага ланцуга быцця, якая вядзе свой адлік яшчэ з антычнасці [1, с. 25]. Свет мае сферычную сістэму светаўпарадкавання, у цэнтры якой змешчана Зямля, вакол яе круцяцца планеты, якія кіруюцца анёльскім спасціжэннем; рухаючыся планеты выпраменьваюць “музыку сфер” — голас сусветнай гармоніі. Вызначальнае месца ва універсуме належыць чалавеку. Менавіта дзеля яго і створаны сусвет. “Скончыўшы тварэнне, пажадаў Майстар, каб быў хто-небудзь, хто змог бы ацаніць сэнс такой вялікай працы, любіў бы яе прыгажосць, захапляўся б яе радасцямі,” – пісаў Піка дэ ла Мірандола ў “Прамове аб годнасці чалавека.”[2, с. 10] Менавіта на аснове гэтай канцэпцыі Шэкспір выказвае свае думкі наконт сусветнага парадку. Такім чынам, калі няма галоўнага і другаснага, то змена альбо знікненне 272 якога-небудзь элемента ў сістэме вядзе да яе татальнага краху, на змену парадку прыходзіць хаос, які спараджае жудасныя наступствы. Усё навокал адпаведна канцэпцыі сусветнай гармоніі падпарадкоўваецца законам: закону развіцця, адзінства, суразмернасці і г. д. і парушэнне якога-небудзь з іх вядзе таксама да краху сістэмы, да хаосу. Самі таго не заўважаючы, бацькі не даюць дзецям магчымасці раскрыцца, самастойна вырашаць свій лёс і рухацца наперад. Славутыя Мантэкі і Капулеці з-за сваёй рыгарыстычную коснасць абмяжоўваюць маладое пакаленне, спрабуючы ўтрымаць іх у рамках традыцыі. Нянавісць становіцца іх традыцыяй. Мантэкі і Капулеці не ведаюць яе вытокаў, адкуль яна ідзе, але без яе свайго жыцця яны ўжо не ўяўляюць. Без нянавісці яны не будуць ведаць, хто яны такія. Ідэнтыфікацыя самасвядомасці і самасцвярджэння будзе парушана. Але маладое пакаленне спрабуе выйсці за межы традыцыі. Калі Джульета на балконе гаворыць: “Рамэо, каб і не Рамэо быў...” — гэта вялікае прасвятленне. Джульета раптоўна пачынае бачыць сапраўдны свет, у якім імёны нічога не азначаюць. Зараз яна ведае: трэба пакласці канец варажнечы. Супрацьстаянне было галоўнай спіраллю для ўсёй структуры горада Вероны — і сацыяльнай, і эканамічнай. Са смерцю Джульеты і Рамэо не застаецца Мантэкі і Капулеці. Знікаюць не толькі кланы (яны адзіныя нашчадкі), але надыходзіць канец і традыцыі нянавісці. У п’есе “Заложнікі шчасця” закаханыя сустракаюцца з іншай традыцыяй. Бацькі Юліі знайшлі ідэнтыфікацыю сваёй самасвядомасці і самасцвярджэння праз думкі аб шчасці дзяцей. Яны настолькі звыкліся са сваёй думкай, што самі не заўважаючы таго, пераблыталі шчасце з матэрыяльнымі дабротамі. Амаль увесь апошні час яны праводзяць у паздках за таварам (Турцыя, Германія), а потым прадаюць яго на базары. У пагоні за грошамі яны забылі пра дзяцей. А р ц ё м. У мяне сёння дзень нараджэння. М а ц і. Я помніла, помніла і забылася... А што ты хочаш, каб я табе падаравала? Маці не толькі забывае пра дзень нараджэння сына, але і перастае давяраць сваім дзецям. Б а ц ь к а. Ты свой возік пакінь... Мо хто з дзяцей на базар завязе... М а ц і. Не даверу я дзецям! Грошы і матэрыяльныя даброты становяцца больш важнымі за адносіны паміж людзьмі. Гэта думка галоўная не толькі для бацькі Юліі, яе таксама прытрымліваецца брат Арцём (“Хачу адшукаць галіён з золатам”) і іх сусед Іван ( “Так нічога не бывае, усё за грошы”). Гэтая традыцыя, быццам дрыгва, зацягвае і Юлію, але сапраўдныя і моцныя 273 пачуцці робяць яе праніклівай. Яна пачынае інакш глядзець на навакольны свет. “Адпусціце мяне! Чуеце! Лепш адпусціце! Вы страшныя! Брудныя! Чужыя!”— гаворыць яна бацькам. Як і Джульета Юлія спрабуе супрацьстаяць гэтай традыцыі і ўцякае з Раманам. У адпаведнасці з канцэпцыяй сусветнага парадку за парушэнне, нават на невялічкі час законаў, павінен пачацца разлад, хаос. Так і атрымліваецца: у творы Шэкспіра гінуць шасцёра ні ў чым не павінных чалавек. Яны загінулі праз нянавісць аднаго дома да другога, якая ў выніку аказалася нічым іншым, як традыцыяй. У п’есе “Заложнікі шчасця” увасабленнем абсурднасці з’яўляецца бацька Юліі, які ставіцца да бомбы з большай павагай і зацікаўленасцю, чым да сваіх дзяцей. Бомбу ён называе “мая даражэнькая, мая прыгажуня, гладкая, бліскучая”, а да сына звяртаецца “шчанюк”. Бацька прыносіць дадому бомбу і спрабуе яе распілаваць, не турбуючыся, што яна можа ўзарваць цэлы квартал. Раман спрабуе папярэдзіць бацьку аб жудасных наступствах : “Якая б ні была, гэта заўсёды небяспечна! Вельмі! Загінеце і ўзарвеце цэлы квартал. Гэта вар’яцтва.” Бомба, нарэшце, ўзарвалася. Загінуў Арцём, Іван, Юлія, аб’яўлена тэрміновая эвакуацыя жахароў горада. Толькі пасля гэтага бацькі пачынаюць разумець, што галоўнае ў іх жыцці. Першы раз за ўвесь твор яны гавораць пра свае пачуцці да дзяцей, адзін да аднаго. Маці звяртаецца да Бога: “Дай Божа, каб мае дзеці былі жывыя і здаровыя, каб яны вярнуліся дамоў і мы зноў жылі ўсе разам. Божа, пачуй мяне, вярні нам былое наша жыццё, былое наша шчасце. Госпадзі, даруй нам грахі нашы, выратуй нас і ўвесь наш горад ад бяды і смерці...” Надыходзіць канец свету для невялічкай сям’і, а таксама для традыцыі. Падагульняючы вышэй сказанае, можна зрабіць высновы, што фабульная канва, апрача развязкі, супадае: — бацькі супраць кахання дзяцей; — забароненае каханне хлопца і дзяўчыны; — сустрэчы закаханых; — смерць дзяўчыны. Адпаведна канцэпцыі А. Весялоўскага, сюжэт — гэта комплекс матываў, аб’яднаных ў межах дадзенага твора альбо жанру. Весялоўскі матэматычна даказвае, што верагоднасць рэцэпцыі тым вышэй, чым большая колькасць матываў супадае ў творах, якія параўноўваюцца [3, с. 494]. Б. Тамашэўскі падзяліў матывы на свабодныя і звязаныя. Пад звязанымі ён меў на ўвазе сюжэтаўтваральныя матывы, а пад свободнымі — дадатковыя, якія могуць вар’іравацца [4, с. 182 — 183]. Калі мы скарыстаемся схемай А. Весялоўскага з улікам выкладзеных 274 меркаванняў, то мы можам зрабіць наступныя высновы: калі ў двух творах супадаюць не толькі звазаныя матывы, але і свабодныя (канцэпцыя сусветнага парадку), то гэта будзе сведчыць аб тым, што аўтар другога твора не толькі ведаў першы, але, хутчэй за ўсё, запазычыў свядома. Усё гэта дае нам падставы сцвярджаць, што п’еса “Заложнікі шчасця” была напісана З. Дудзюк пад ўплывам шэкспіраўскай традыцыі. _____________________________ 1. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. ХХ век / А. Бартошевич. — М.: Искусство, 1994. 2. Пико делла Мирандола. «О достоинстве человека» / Пико делла Мирандола. // Титан: Сб. Вып. 31. — М., 1973. 3. Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов / А. Н. Веселовский. // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. — Л., 1940. 4. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. — М., 1996. 275 И. В. Соломатина (Минск) «ДРАМАТУРГИЯ» ЛИТЕРАТУРНОГО УСПЕХА М. АРБАТОВОЙ Современный массмедийный дискурс репрезентирует Марию Арбатову прежде всего как драматурга, несмотря на то, что, по ее собственному признанию, с 1994 года она не пишет пьес, объясняя это тем, что «надоело говорить с читателем по испорченному телефону театра…: пока нет нормальных театральных агентств, жизнь превращает драматургов в собственных коммивояжеров» [8, с. 3]. Выигрывая суды у провинциальных театров за бездоговорное использование своих пьес и получая мизерную компенсацию за моральный ущерб, Арбатова ставит вопрос, почему театры, имеющие государственные помещения, не научились пользоваться ими как статьей дохода и полезна ли вообще государственная монополия на искусство нынче? Не устраивает ее и стиль общения между современными драматургами и режиссерами: «Когда я вижу их лица и тексты, обращенные к режиссерам в жанре «Чего изволите?», я чувствую себя чужой на этом празднике жизни» [8, с. 3]. Писательница вспоминает : «Мужская режиссура перекраивала пьесы концептуально. Как только меня начали ставить женщины, выяснилось, что ничего не надо объяснять. Все и так понятно. Первый счастливый опыт был с Надеждой Репиной, снимавшей фильм по пьесе “Уравнение с двумя неизвестными”» [8, с. 3]. Артикулируется проблема взаимоотношений между женщиной-автором (драматургом) и мужчиной / женщинойрежиссером. Несмотря на все эти сложности с драматургией, Арбатова говорит: «На моем (писательском) поле у меня нет конкуренток, и это огорчает и расслабляет» [8, с. 3]. В основном печатается она в издательстве «ЭКСМО», имеет 18 изданных книг. Тираж каждой в среднем 10 тысяч экземпляров. Арбатова отмечена премиями конкурса молодых драматургов СТД СССР (1985, 1990), премией международного конкурса радиодраматургии (1992), Боннского театрального биеннале (1996), американского конкурса драматургии «Новые голоса из России». Литературные критики, отмечают, что Арбатова более известна как социально темпераментный участник телепрограмм. Они имеют много претензий к произведениям Арбатовой, но все же оправдывают ее появление, называя ее творческий метод «фанатизмом искренности»[11, с. 316], пишут, что Арбатова создает «женскую драматургию»[13, с. 169]. 276 Представляется интересным рассмотреть, под влиянием каких событий и обстоятельств формируется ее авторская женская (гендерная) идентичность. Какой приобретенный опыт позволил ей «быть услышанной» и сделал ее творчество частью того типа культуры и общества, к которому она принадлежит. «Существенно важным для осмысления авторской идентичность является категория гендера, понимаемая как социальный пол, который определяется через сформированную культурой систему норм, стереотипов поведения, предписываемых мужчинам и женщинам. Гендерная принадлежность индивида — не просто какой-то аспект его личности, но более фундаментально, — это то, что человек делает и делает постоянно в процессе взаимодействия с другими» [12, с. 99]. «Гендер» оказывается своего рода ритуальным действием, в котором социум нуждается и для принудительного воспроизведения которого существует определенный набор конвенций. Арбатова принадлежит к молодому поколению «брежневской» эпохи. Писательница рассказывает, что она как дитя «больнично-интернатскодетдомовское» была открыта к общению абсолютно со всеми. Вспоминает, что была хиппи, то есть была причастна к субкультуре людей, объединенных нежеланием жить по советским законам. «Я не к чему не призывала, когда говорила журналистам, что свою половую жизнь начала в 15 лет… Я только рассказываю о том, в какое время мы жили, и о том, что для нас проблема свободы могла развиваться только в одном направлении — свободы по отношению к собственному телу. За все остальное сажали…» [9, с. 5]. Конструируя собственную идентичность, Арбатова определяет себя через отношение к родителям и пережитую болезнь. Отношение к родителям описывает как «проблематичное». Фиксирует «отрицание родительского сценария» и приобретение «колоссального», качественно иного опыта социального выживания в условиях интерната и субкультуры. Героини арбатовских пьес проговаривают травмы детства: «ОНА: Мои родители махали передо мной всю жизнь плакатом с надписью: «Уважение надо заработать» и делали со мной в связи с этим все, что им было удобно. А ты уважал меня изначально…» («Уравнение с двумя неизвестными») [1, с. 136]; «Маргарита: Для того, чтобы стать мужчиной или женщиной, человек должен преодолеть родительский запрет» («Пробное интервью на тему свободы») [1, с. 18]; «Виктория: Родители меня любили, но боролись с этим, как могли… Они создавали своим детям искусственную атмосферу своего бедного детства, благодаря которому они, как им казалось, выросли такими замечательными и добились в жизни так много. Они создавали эту атмосферу, не лишая детей пищи, а устра277 ивая вокруг них колоссальное нервное напряжение» («Виктория Васильева глазами посторонних») [1, с. 226]. Автобиографический рассказ неотделим от осмысления символических значений пережитого с точки зрения более широких социальнокультурных отношений в сфере публичного [4, с. 8]. Молодость Арбатовой попадает на 1970-е гг. Это время, когда неподцензурная культура начинает осознавать себя как некоторое единство; возникает андеграунд, который противопоставляет себя официальной культуре именно с точки зрения эстетики. Арбатова принадлежит к «расколотому» поколению, для которого не существовало общей традиции, а значит и общего понимания. Об этом пьеса «Сейшен в коммуналке». У студентки философского факультета Даши, имеющей собственную квартиру на Арбате, собираются разные люди — «дети советской системы», выросшие в тоталитарном обществе, но пришедшие в противоречие с идеологией и психологией отцов. Причем их нельзя обвинить в чужеклассовом происхождении: Линда и Мурзилка — «номенклатурные дети», у Игоря отец — директор института, а у остальных родители — ученые, писатели, музыканты. Их трудно воспринимать как политическую оппозицию; на первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. Но революционный запал чувствуется в том, что под воздействием тех или иных жизненных противоречий у каждого из персонажей происходит переоценка ценностей. Герои стремятся к самостоятельному, независимому мышлению, они хотят говорить и читать, без «подсказок государства». На вопрос подруги: «Что же мы делали там, на Арбате?», — Даша отвечает: «Культивировали чувство собственного достоинства. Как умели» [1, с. 561]. В 20 лет Арбатова становится матерью сразу двоих детей (родились близнецы) и проводит 12 лет в «ссылке»: «сцепив зубы, в год писала по пьесе», «просто» писала себя; это происходило без всякого придыхания, между плитой, телефоном и разборками детей [9, с. 3]. Она писала о родах, абортах, описывала женский опыт, связанный с физической болью и унижением, об отношении к детям и мужчинам, то есть разрабатывала темы вполне женские. Но впервые в драматургии именно Арбатовой удалось артикулировать новую женскую идентичность, проявлением которой является сексуальность. Причем ее нужно понимать не как нечто второстепенное или запретное, а как «подлинно женское» [5, с. 68]. Так называемая «бытовая» литература 1970-х годов активно разрабатывала тему любовных отношений и легитимировала интерес к интимной жизни «простого человека». Любовь рассматривалась в одном комплексе с проблемами семьи и брака и понималась как непременное условие человече278 ского счастья. Наряду с этим тема интимных отношений выходит на передний план и в некоторых произведениях неофициальной литературы, но не за счет усиления откровенности в любовных сценах. У Арбатовой природа любви осознается как двойственная: с одной стороны — позитивно окрашенная реализация желаний, с другой — следование инстинкту, содержащее в себе репрессивные механизмы по отношению к человеческой воле и интеллекту. В пьесе «По дороге к себе» Елена объясняет бывшему возлюбленному: «Я не могу сделать тебя счастливым. У нас разная степень внутренней свободы. В твоей модели любви присутствуют два раба, в моей — два господина. Мы говорим на разных языках. Ты входишь в пространство моей свободы и устраиваешь там диктатуру любви… Отношения мужчины и женщины должны быть подобны танцу… когда оба ощущают друг друга, но при этом остаются самими собой» [1, 747]. У Арбатовой любовь перестает быть одной из бытовых реалий и становится направляющей силой женского существования. В этой функции она неотделима от сексуального влечения, которое больше не конкурирует с «чистой любовью», а, напротив, четко осознается как первооснова отношений. «Мужчина — это самый простой способ разобраться с проблемами…. Меня волнуют четыре мужчины. Они фиксируют меня в пространстве как четыре стороны света. В снах они сливаются друг с другом, меняются местами, превращаются в одного. Я никогда не чувствовала вкуса измены, потому что они все состоят из одной субстанции…» [1, с. 635], — объясняет близкая по духу автору Лиля из пьесы «Взятие Бастилии». Все героини арбатовских пьес — образованные, независимые, самодостаточные женщины интеллектуальных профессий. Эти женщины выделяются из толпы, их необычность получает признание и является мотивацией их поведения. Воссоздаваемые поведенческие стратегии свидетельствует о поиске нового социального идеала. В пьесах Арбатовой конструируется новая партнерская модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной, новая роль женщины в семье и обществе. В пьесе «Виктория Васильева глазами посторонних» героиня говорит: «Какое мне дело до всех? Они так живут потому, что им некогда жить подругому. Они спешат что-то доказать другим или себе. А я уже всем все доказала. Мне это теперь незачем. Я могу теперь позволить себе роскошь жить как хочется» [1, с. 246]. Сама Арбатова констатирует: «Существует патриархальная индустрия формирования женщин исключительно как идиоток или жертвенных животных…. В изменившемся мире женщина, везущая все на себе, не может выжить с установками Татьяны Лариной, Карениной и Наташи Ростовой» [8, с. 3]. 279 Писательница считает свои книги «учебниками по выживанию», особенно для молодых девушек, поскольку ее тексты помогают понять, как отстаивать себя в отношениях с мужчинами, быть удачной в профессии и любви. «Двойной стандарт», дозволяющий сексуальность мужчинам и запрещающий женщинам, абсолютно не означает, что мужчине «больше хочется»: это означает только то, что у них больше власти [6, с. 114]. Арбатова преодолевает традиционные «пределы» женской сексуальности, и именно с этой позиции ее творчество можно назвать феминистским. Стремительные изменения культурного и политического пространства 1980 — 90-х гг. дали возможность женщинам-авторам «быть увиденными» и услышанными. Была даже сделана попытка выделения женской литературы из общего массива текстов. На фоне возникновения нового дискурса, сознательно артикулирующего себя как «женский», происходит расширение и обновление традиционного литературного канона. Отпала необходимость в спектаклях подпольных студий, когда пьесы Арбатовой были запрещены цензурой. Именно в это время появляется такое направление в драматургии как «новая драма», которая открыла «непривычный для предшествующей драматургии тип социально-психологического конфликта» [10, с. 6]. «Новая драма» напоминала «документально зафиксированный…кусок нашего обычного бытия со всей его неоднозначностью» [13, с. 187]. Но Арбатова документирует свой собственный, женский кусок мира. Ее героини, стремящиеся к свободе, разрушают стереотипы женского счастья, для них главное сохранить себя как равноправную с мужчиной состоявшуюся личность. Арбатова стала и продолжает быть официально признанной писательницей-феминисткой, смело артикулирующей свою уникальность в отличие от «женского универсального», отражающего в конечном итоге мужскую норму. Несмотря на то, что Арбатова покинула литературно-театральную среду (ушла в политику), ее произведения востребованы на рынке литературной продукции, что свидетельствует о их талантливости. О них продолжают дискутировать критики, о них пишут в учебных пособиях для студентов университетов, их продолжают интерпретировать, и тем самым они присутствуют в поле современной культуры. _____________________________ 1. Арбатова М. По дороге к себе / М. Арбатова. — М.: Подкова, 1999. 2. Богданова М. Женщину делают глаза отца / М. Богданова. // Огонек. 1997. № 23. 3. Бондаренко М. Текущий литературный процесс как объект литературоведения / М. Бондаренко. // НЛО. № 62 (2003). 280 4. Брайн Р. Конструирование индивидуальных мифов / Р. Брайн. // ИНТЕР. 2004. № 2-3. 5. Жеребкина И. Гендерные-90-е, или Фаллоса не существует — СПб.: Алетейя, 2003. 6. Коннелл Р. Гендер и власть. Общество, личность и половая политика / Р. Коннелл. // Connell R.W. Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. — Cambridge: Polity Press, 1987. (Гендерный порядок (gender order) — иерархически организованная система отношений между полами, охватывающая все стороны социальной жизни — приватную и публичную). 7. Любарова Е. Драматургия судьбы в опыте феминизма / Е. Любарова. // Света. 1995. Декабрь. 8. Мария Арбатова. «В моей биографии технологии психоанализа изменили все!» / Мария Арбатова. // Лит. Россия. 2001. № 44. (2 ноября). 9. Мария Арбатова «…Сейчас я пишу автобиографический роман для “Вагриуса”» / Мария Арбатова. // Кн. обозр. 1997. № 46. (18 ноября). 10. Нефагина Г.Л., Гончарова-Грабовская С. Я. Современная драматургия (вторая половина 80-х — 90-е годы): Учебное пособие для студентов — Мн.: БГУ, 1994. 11. Тарханов И. ДЕТИ РАЙКА / И. Тарханов. // НЛО. 2000. № 44. 12. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера / К. Уэст, Д. Зиммерман. // Гендерные тетради. Труды СПб филиала ИС РАН — СПб., 1997. 13. Эрнандес Е. Драматургия, которой нет? / Е. Эрнандес. // Совр. драматургия. 1992. № 3 — 4. 281 Т. В. Федосеева (Минск) РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОСТИ В ДРАМЕ М. ХЛЕБНИКОВОЙ «РЕПЕТИЦИЯ» Одним из отличительных признаков современной (последнее десятилетие ХХ — начало XXI вв.) русской литературы, как никогда полиморфной и стремящейся к максимальной семантической насыщенности, является обращение писателей к мифу (национальному, античному, библейскому, восточному и т. д.). Всплеск интереса к мифологии в данный период вполне закономерен, поскольку активизация рецептивных процессов во времена социальноисторических и культурных переломов сама по себе уже является традицией в мировой литературе. Так, следствием общеевропейского кризиса морали и религии середины XIX в. явилось обращение к мифу французских поэтов: Ш. М. Леконта де Лиля, П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо и др. В Германии, инициировавшей в ХХ в. кровопролитную Первую мировую войну и потрясшей мир ужасами фашизма, мифологические мотивы в литературе, будучи эскапистской реакцией на современную политическую и культурную ситуацию, были одними из доминантных на протяжении века. В русской литературе конца XIX — начала XX вв. кризис реалистического направления в сочетании с духовными поисками рубежа столетий, войной и революцией начала ХХ в. дали импульс к появлению символизма и акмеизма. Представители этих знаковых литературных течений Серебряного века создавали собственные художественные модели мира, мечтая «о возрождении мифа, возникшего в те времена, когда человечество пребывало в большей гармонии с миром природы» [1, с. 10]. Ситуации рубежей XIX — XX и XX — XXI вв. во многом сходны. Социальные и культурные потрясения конца XX в. (исчезновение сверхдержавы СССР с карты мира, падение «железного занавеса», экономические реформы, разрушение прежней шкалы ценностей) не могли не повлиять на литературу этого периода. Впрочем, не только внешние факторы предопределяют обращение писателей к мифологическому наследию. Миф, являющийся уникальной символической системой, в течение всего развития литературы служил источником сюжетов, образов, мотивов, идей. Как отмечает Е. М. Мелетинский, «мифологическая мысль сконцентрирована на таких «“метафизических”» проблемах, как тайна рождения и смерти, судьба и т. д., которые в известном смысле периферийны для науки и по которым 282 чисто логические объяснения не всегда удовлетворяют людей даже в современном обществе» [2, с. 169]. Наряду с библейской, неизменной популярностью в мировой литературе пользуется античная мифология, образы и сюжеты которой «отличаются высоким идейно-эстетическим уровнем сюжетов-образцов и универсальностью их проблематики» [3, с. 19]. Частотность использования образов и сюжетов античной мифологии различна и всегда зависима от эпохи-реципиента. Одни образы, например Прометей, пользуются устойчивой популярностью в литературе; интерес к другим спорадичен; третьи и вовсе — в забвении. Миф о Медее, так же, как и миф об аргонавтах, составной частью которого он является, переживал разные времена. Сюжет о детоубийце Медее интересовал еще античных авторов: Гесиода, Пиндара, Аполлония Родосского, Аполлодора, а также Овидия, Сенеку, Гигина. Наибольшую известность приобрела обработка мифа греческим трагиком Еврипидом, остающаяся и сегодня самой популярной. В XVII в. П. Корнель посвящает Медее одну из своих трагедий; в XIX в. к мифу о ней обращаются немецкие писатели Ф. М. Клингер, Ф. Грильпарцер, а также русские авторы В. Буренин и А. Суворин; XX в. — время необыкновенно устойчивого интереса к образу Медеи в мировой литературе. К древнему мифу на протяжении всего столетия обращаются: француз Ж. Ануй, грек Я.Рицос, многочисленные немецкие авторы (Х. Х. Янн, Э. Ланггессер, А. Генц, М.-Л. Кашниц, А. Зегерс, У. Хаас, К. Вольф, Х. Мюллер) и др. В русской литературе начала XX в. к образу Медеи в своей поэзии обращается, например, В. Брюсов. В конце XX в. миф о Медее привлекает внимание многих авторов: И.Бродского, Л.Разумовской, Л.Улицкой, М. Курочкина, А. Антоновой, М. Свириденкова и др. Античный мифологический сюжет интерпретируется по-разному и в разных жанровых формах: от лирического этюда и рассказа до повести и драмы. Рассмотрим рецепцию мифа о Медее в драме М. Хлебниковой «Репетиция» (2001). Главное действующее лицо драмы М. Хлебниковой — Медея, присутствующая в каждой из пяти картин и в эпилоге произведения. Остальные персонажи также узнаваемы читателем, хотя бы поверхностно знакомым с древнегреческим мифом: муж Медеи Ясон, Первый и Второй сыновья, царь Креонт, Кормилица. Единственное нововведение автора в галерее образов драмы — Режиссер, который появится с несколькими репликами лишь в эпилоге. М. Хлебникова отказывается от второстепенных персонажей мифа (царь Эгей) и архаичных элементов 283 драмы (хор). Роль хора — нейтрального выразителя общественного мнения – в произведении выполняет Кормилица. Композиционно драма представляет собой «сцену на сцене»: актеры перед репетицией спектакля по пьесе Еврипида импровизируют на тему случившегося с Медеей и ее семьей. Структура «репетиции» лаконична: одно действие в пяти картинах с эпилогом — и соответствует стандартной схеме драматического действия: экспозиция — завязка — нарастание напряжения — кульминация — развязка. Финальный монолог главной героини в пятом действии также является составляющей классической драмы. Основной способ раскрытия образов драмы, примененный, кстати, и Еврипидом в его знаменитой трагедии, — речь персонажей (Медее принадлежат 282 строфы, что примерно в 1, 5 раза больше, чем у Ясона и Второго сына). Причем М. Хлебникова отказывается от пафосности и монументальности в пользу комического снижения героических мотивов, обытовления и частичной демифологизации своих героев. На протяжении всей драмы упоминаются культовые имена богов и героев греческой мифологии (Ахиллес, Елена, Парис, Зевс, Гелиос, Афродита) и истории (Сократ); мифические персонажи (Сирены, Сцилла и Харибда); географические апеллятивы (Дельфы, Сиракузы), в том числе и связанные с мифом о Медее (Колхида, Фазис, Коринф). Также употребляются некоторые традиционные речевые обороты греческой литературы («розовоперстая заря») и даже «визитная карточка» современной Греции — танец сиртаки. Все эти детали выступают как дань мифологической традиции и способствуют стилизации под греческое, выполняя скорее атрибутивную, чем семантическую функцию. Сюжетная линия мифа, в основном, сохранена: Медея, дочь царя Ээта и внучка Гелиоса, убивает своего брата, чтобы помочь Ясону добыть Золотое Руно и стать героем; Ясон, как и в мифе, хочет жениться на дочери царя Креонта и оставить жену и детей. Казалось бы — nil sub sole novum! — однако автор вносит коррективы в сюжетно-образную линию своего произведения. Если в античной версии дети Медеи выполняли роль своеобразного «материала», объекта в кульминации действия, то у М. Хлебниковой они выступают в принципиально ином качестве – как субъекты действия. Сыновья Медеи и Ясона в драме — подростки, переживающие переходный возраст с его физиологическими, эмоциональными, нравственными проблемами, но это также и возраст, когда к человеку приходит понимание жизненных перипетий, собственного положения в семье и взаимоотношений близких людей. 284 М. Хлебникова не дает сыновьям Медеи имен: их поступки не из тех, что воспевают поэты. Тринадцатилетний Первый сын тратит все карманные деньги на публичных женщин, Второй сын два года зарабатывает себе на жизнь интимными отношениями с царем Креонтом — такие безобразные формы обретает родительское безразличие Медеи и Ясона, поглощенных своей личной жизнью, своим прошлым и будущим, слепых и эгоистичных, не замечающих того, что происходит с их детьми. Закономерный итог родительского безразличия — слова Второго сына, сказанные Медее в финале драмы: «Я вас обоих ненавижу» [4]. Отметим, что в античном мифе носителем мотива ненависти была Медея. Для автора важно показать проблемы современности через призму античного мифа, расставить новые акценты, очертить новые грани этих проблем. В Медее М. Хлебниковой узнается тип женщины, имеющий древние корни, но особенно ярко проявившийся в XXI в. — тип madeself woman. Этому типу в драме противопоставляется другой – «счастливый» тип слабой, пассивной женщины (Елены Троянской). Трагедия Медеи М. Хлебниковой — это трагедия «сильной» женщины. Действие для нее (убийство брата) — это единственно возможный выход из любой ситуации и одновременно начало конца. Мотив амбивалентности, который был ярко выражен, например, у Л. Улицкой через мотив двойничества, у М. Хлебниковой полностью нивелируется. На его место приходит рефлексия, духовное истощение, экзистенциальное одиночество, поэтому нет в Медее М. Хлебниковой и предельной эмоциональности и страстности, которыми наделяет свою героиню Л. Разумовская. Деструктивное начало, направленное у античной Медеи вовне, у героини М. Хлебниковой направляется на нее саму. Вину она видит в себе, а следовательно, и избавление от вины — в избавлении от себя самой. Ни разу не возникает у Медеи мысли причинить вред кому-либо из окружающих. По-новому рассматривается в драме и образ Ясона. Его история – трагедия человека, который устал ждать ответа на свои чувства от женщины, охладевшей к нему в момент преступления, ради него же и совершаемого. С горечью говорит Ясон: «Да если б хоть одной струной она в ответ мне зазвенела, я наплевал бы и на Рок, и на богатство, и на дело» [4]. Пьянство Ясона — прямое следствие его неудач в семейной жизни, а желание жениться на другой — лишь стремление освободиться от тяжкого груза разочарований и нереализованных надежд. Таким образом, миф о Медее в драме М. Хлебниковой усложняется и упрощается одновременно. Усложнение происходит за счет обогащения 285 проблематики драмы, в которой раскрываются взаимоотношения мужа и жены, родителей и детей, матери и сына, а также проводится мысль о том, что в неудачах семейного союза всегда виноваты двое, а за грехи отцов расплачиваются дети. Упрощение мифа касается его социальной линии (тщеславие Ясона — лишь способ забыть о своих личных проблемах, а «родство» с богами ничуть не заботит Медею). Проблематика драмы М. Хлебниковой максимально приближена к современности, драматизация сюжета происходит за счет того, что все, находящееся вне сферы человеческих взаимоотношений, отходит на второй план или нивелируется (фантастическое, героическое). С помощью известного античного мифа автор подчеркивает универсальность, вневременность, актуальность проблем, поставленных в драме: проблем семьи, супружеской пары, отцов и детей. В эпилоге драмы М. Хлебникова проводит мысль о связи времен посредством Режиссера, говорящего, что «автор всегда в зале», т. е. что любой «импровиз», «вариация на тему» — это фиксация вечного на очередном этапе жизни человека. Миф о Медее (в обработке Еврипида, упоминаемого в эпилоге) зафиксировал одну из множества таких вариаций, которые будут появляться, пока будет существовать человек. Поэтому с приходом Режиссера начинается еще одна репетиция, а значит, начинается еще один виток бесконечного цикла. _____________________________ 1. Пайман А. История русского символизмаи / А. Пайман. — М., 1998. 2. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. — М., 1976. 3. Нямцу А. Е. Миф и легенда в мировой литературе: Теоретические и историколитературные аспекты традиционализации. Ч. 1. / А.Е. Нямцу. — Черновцы, 1992. 4. Хлебникова М. Репетицыя […]. — / М. Хлебникова. http: // lib.ru/POEZIQ/HLEBNIKOWA_M/repeticia.txt. — 24.04.2006. [Электронный ресурс] — runet. 286 СОДЕРЖАНИЕ Раздел 1. Актуальные проблемы современной литературы М. М. Голубков. Парадигмы современной литературы………… И. С. Скоропанова. Концептуальная модель русской литературы конца ХХ — начала ХХI вв. …………………………………... А. Ю. Мережинская. Русская литература ХХ века в обобщающих моделях. Типология и дискуссионные вопросы……………. М. П. Абашеева. Дискурс региональной идентичности в современной русской прозе………………………………………............ Т. Н. Маркова. Стилевая эклектика как закономерность литературы переходного периода…………………………………. К. Д. Гордович. Особенности изображения современных войн в русской прозе рубежа ХХ — ХХI вв. …………………………….. Ю. Б. Орлицкий. Особенности стихосложения современной русской поэзии (1990 — 2000-е гг.)……………………………….. А. І. Бельскі. Чарнобыльская міфатворчасць як выяўленне катастрофы свядомасці (на матэрыяле беларускай паэзіі)…………. С. Я. Гончарова-Грабовская. Современная русская драматургия: новации эксперимента………………….................................... Раздел № 2. Новые тенденции в современной прозе 3 12 27 56 64 68 77 91 97 А. Н. Андреев. «Больше Бена», но ниже пояса………………….. 104 Г. Л. Нефагина. Мотив зеркала в современной русской прозе… Т. Г. Симонова. Мемуарный аспект в современной русской литературе…………………………………………………………....... А. П. Бязлепкіна. Трансгрэсія ў сучаснай беларускай літаратуры і нацыянальная традыцыя…………………………………………………………………... А. А. Улюра. Сборники женской прозы в постсоветской России: создание прецедента………………………………………….. Данута Герчиньска. Мотив дома в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети»……………………………………………………………. У. М. Навумовіч. Эвалюцыя беларускай аповесці ХХ ст.: ідэйна-мастацкі змест, праблематыка, тыпалогія героя…………. А. В. Шарапа. Маральна-этычная праблематыка аповесці В. Быкава “Балота”…………………………………………………. Н. В. Еўчык. Узнаўленне народнага побыту ў прозе Івана Пташнікава………………………………………………………….. 112 118 123 127 132 137 145 150 287 А. Ю. Горбачев. Поэтика пространства и времени в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»…………………………. Э. Тышковска-Каспшак. Полет в иную жизнь. Поэтика абсурда в «Иной жизни» С. Довлатова…………………………… Л. В. Алейнік. Канцэпцыя творчасці А. Казлова……………….. Д. Д. Лемехова. «Культура пития» в романе И. Бобкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені»: диалектика формы и содержания…………………………………………………………………… Л. А. Ламека. Спецыфіка псіхалагічнага аналізу ў аповесці І. Шамякіна “Сатанінскі тур”……………………………………… К. Л. Киселев. Особенности выражения авторской позиции в романе Л. Леонова «Пирамида»…………………………………… О. Р. Хомякова. Рецепция классической модели конфликта в постмодернистских текстах (по рассказам В. Пелевина)………... Н. В. Дзенісюк. Тыпалагічныя асаблівасці беларускага постмадэрнісцкага мастацтва……………………………………… И. Б. Ничипоров. «Мои посмертные приключения» Ю. Вознесенской как современная повестьпритча……………………………………………………………….. М. В. Смирнова. «Роман-пунктир» vs роман-роль (роман А. Битова “Улетающий Монахов”)……………………………….. Н. Л. Блищ. Квазироман С. Соколова «Палисандрия»……......... И. И. Шпаковский. Жанровое своеобразие «Романа-жития» С. Василенко «Дурочка»…………………………………………… В. Ф. Падстаўленка. Неарамантычныя элементы ў апавяданні “Лісты не спазняюцца ніколі” У. Караткевіча……………………. Н. А. Давыдоўская. Роля вандроўных сюжэтаў у аповесці І. Клімянкова “Корак з-пад шампанскага”.……………………….. А. М. Аўчарэнка. Беларуская прастора класічнага дэтэктыва…. Г. М. Друк. Элементы паэтыкі постмадэрнізму ў “Сказе пра аднавокую казу Цылю” В. Казько…………………………………… Раздел 3. Современная драматургия: анализ состояния Н. И. Ищук-Фадеева. Трагикомедия как «раздвоение сюжета и стиля» («Подщипа» И. Крылова и «Доверие» В. Сорокина)………............................................................................................. Ивана Рычлова. Современная русская драма на чешских сценах…………………………………………………………………… 288 156 162 167 174 180 185 191 195 201 208 214 220 226 230 237 241 246 256 Е. Е. Бондарева. Теоретическая модель современной монодрамы: подвижные рамки жанрологического канона……… Л. Б. Сямёнава. Канцэпцыя сусветнага парадку У. Шэкспіра ў творчасці сучасных беларускіх драматургаў……………………... И. В. Соломатина. «Драматургия» литературного успеха М. Арбатовой………………………………………………….......... Т. В. Федосеева. Рецепция античности в драме М. Хлебниковой «Репетиция»………………………………………………………… 262 271 276 282 289 Научное издание Сборник научных статей Часть I В авторской редакции Подписано в печать _________. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. ____. Уч. -изд. л. _____. Тираж 100 экз. Заказ № Издатель и полиграфическое исполнение Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» ЛИ № 02330/0133359 от 29.06.2004 г. 220001, Минск, ул. Московская, 15. 290