Современный или, как говорят, раввинистический иудаизм
advertisement
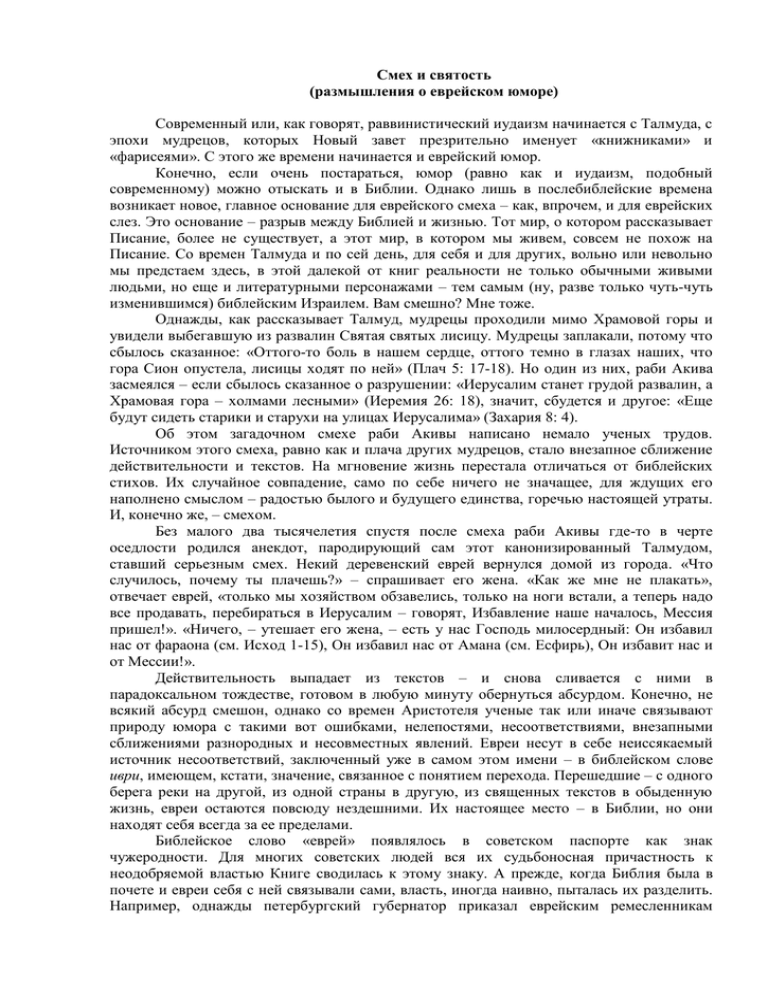
Смех и святость (размышления о еврейском юморе) Современный или, как говорят, раввинистический иудаизм начинается с Талмуда, с эпохи мудрецов, которых Новый завет презрительно именует «книжниками» и «фарисеями». С этого же времени начинается и еврейский юмор. Конечно, если очень постараться, юмор (равно как и иудаизм, подобный современному) можно отыскать и в Библии. Однако лишь в послебиблейские времена возникает новое, главное основание для еврейского смеха – как, впрочем, и для еврейских слез. Это основание – разрыв между Библией и жизнью. Тот мир, о котором рассказывает Писание, более не существует, а этот мир, в котором мы живем, совсем не похож на Писание. Со времен Талмуда и по сей день, для себя и для других, вольно или невольно мы предстаем здесь, в этой далекой от книг реальности не только обычными живыми людьми, но еще и литературными персонажами – тем самым (ну, разве только чуть-чуть изменившимся) библейским Израилем. Вам смешно? Мне тоже. Однажды, как рассказывает Талмуд, мудрецы проходили мимо Храмовой горы и увидели выбегавшую из развалин Святая святых лисицу. Мудрецы заплакали, потому что сбылось сказанное: «Оттого-то боль в нашем сердце, оттого темно в глазах наших, что гора Сион опустела, лисицы ходят по ней» (Плач 5: 17-18). Но один из них, раби Акива засмеялся – если сбылось сказанное о разрушении: «Иерусалим станет грудой развалин, а Храмовая гора – холмами лесными» (Иеремия 26: 18), значит, сбудется и другое: «Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима» (Захария 8: 4). Об этом загадочном смехе раби Акивы написано немало ученых трудов. Источником этого смеха, равно как и плача других мудрецов, стало внезапное сближение действительности и текстов. На мгновение жизнь перестала отличаться от библейских стихов. Их случайное совпадение, само по себе ничего не значащее, для ждущих его наполнено смыслом – радостью былого и будущего единства, горечью настоящей утраты. И, конечно же, – смехом. Без малого два тысячелетия спустя после смеха раби Акивы где-то в черте оседлости родился анекдот, пародирующий сам этот канонизированный Талмудом, ставший серьезным смех. Некий деревенский еврей вернулся домой из города. «Что случилось, почему ты плачешь?» – спрашивает его жена. «Как же мне не плакать», отвечает еврей, «только мы хозяйством обзавелись, только на ноги встали, а теперь надо все продавать, перебираться в Иерусалим – говорят, Избавление наше началось, Мессия пришел!». «Ничего, – утешает его жена, – есть у нас Господь милосердный: Он избавил нас от фараона (см. Исход 1-15), Он избавил нас от Амана (см. Есфирь), Он избавит нас и от Мессии!». Действительность выпадает из текстов – и снова сливается с ними в парадоксальном тождестве, готовом в любую минуту обернуться абсурдом. Конечно, не всякий абсурд смешон, однако со времен Аристотеля ученые так или иначе связывают природу юмора с такими вот ошибками, нелепостями, несоответствиями, внезапными сближениями разнородных и несовместных явлений. Евреи несут в себе неиссякаемый источник несоответствий, заключенный уже в самом этом имени – в библейском слове иври, имеющем, кстати, значение, связанное с понятием перехода. Перешедшие – с одного берега реки на другой, из одной страны в другую, из священных текстов в обыденную жизнь, евреи остаются повсюду нездешними. Их настоящее место – в Библии, но они находят себя всегда за ее пределами. Библейское слово «еврей» появлялось в советском паспорте как знак чужеродности. Для многих советских людей вся их судьбоносная причастность к неодобряемой властью Книге сводилась к этому знаку. А прежде, когда Библия была в почете и евреи себя с ней связывали сами, власть, иногда наивно, пыталась их разделить. Например, однажды петербургский губернатор приказал еврейским ремесленникам писать на вывесках свои имена не в благородной книжной, но в разговорной, неблагозвучной для русского уха форме: не Моисей, а Мошка, не Израиль, а Сруль. Конечно, евреи и в этом отношении не уникальны. Любой другой народ также существует одновременно и в действительности, и в своем воображении, состоит из отдельных людей, объединенных как общей жизнью, так и общими текстами, создающими идеальный образ национального единства. Все люди, а не только евреи, оказавшись в разрыве между жизнью и этими текстами, могут смеяться и плакать. И еще они могут, чтобы избавиться от этого печального и смешного разрыва, исправлять старые тексты и писать новые. Но вот этого как раз евреи сделать не могут. Библия, несущая в себе идеальный образ еврейского народа, не подлежит изменению. Евреи вынуждены считаться с этим самым старым из актуальных поныне национальных текстов. Если только они откажутся от него, они перестанут быть евреями, а их место займут другие люди, воображение которых позволяет им ощутить себя тем самым библейским Израилем. Так, например, как это сделали русские крестьяне-иудействующие, десятками тысяч приходившие (и приходящие по сей день) на смену «природным» евреям, отказавшимся от своего имени. В христианском мире, где существует и читается Библия, евреям не грозит исчезновение, потому что Библия теперь уже не принадлежит им. Скорее, это евреи принадлежат Библии. «Народ Израиля» – это такой симулякр (симулякр образ отсутствующей действительности, подобие, существующее отдельно и независимо от подлинника, вызывающее желание связать с ним новый "подлинник"), и на право наполнить его своим смыслом претендует множество самых разных людей. Может быть, именно в этом – секрет необыкновенного долголетия еврейского народа. Из такой безысходной ситуации, в которой оказались евреи, есть только два выхода: относиться к ней с юмором – или, наоборот, очень серьезно. Иногда, правда, серьезность бывает трудно отличить от юмора. Особенно – в Талмуде. Особенно – когда речь в нем идет о библейских персонажах и событиях. Вот, например, мудрецы задаются вопросом: кто записал последние восемь стихов Торы (Пятикнижия Моисеева), начинающиеся словами «И умер там Моисей, раб Божий» (Втор. 34: 5)? Не так-то легко ответить на этот вопрос, если хочется видеть в Библии полное совпадение с действительностью. Могло ли так быть, что Моисей умер и записал «И умер там Моисей, раб Божий»? Нет, иначе было: лишь до этого места записывал Моисей, а отсюда и дальше записывал Иегошуа. Так сказал раби Иегуда. Сказал ему раби Шимон: Могло ли так быть, что в книге Торы еще не хватало хотя бы одной буквы, [а Моисей уже сказал левитам] как написано: «Возьмите книгу Торы эту и положите ее в ковчег завета с краю» (Втор. 31: 25-26)? Нет, иначе было: до этого места Всевышний говорил, а Моисей повторял и записывал; отсюда и дальше – Всевышний говорил, а Моисей записывал и плакал (Бава батра 15а). Технический, формульный язык Талмуда скрывает от нас эмоции спорящих мудрецов. Всерьез ли волнует их проблема авторства Торы или же они подшучивают над своим желанием совместить несовместимое, подменить книгу реальностью, а реальность – книгой? А может быть, рассказ о смерти Моисея в самом конце его Торы, на пороге земли обетованной был для них просто поводом лишний раз задуматься о своем, наболевшем – о приемах вязания узлов, соединяющих тексты с жизнью? Наши мудрецы, заметим, делают это по-разному. Один начинает с вопроса о Моисее, другой – с вопроса о Торе. Один утверждает, что события жизни предшествуют их появлению в тексте, другой, наоборот – что тексты предшествуют событиям. Но оба они стремятся приладить одно к другому – хотя и с разных сторон. Несколько модернизируя, первому из мудрецов, идущему со стороны жизни, мы могли бы приписать гуманистические тенденции. Зато второму, с его текстуальным ригоризмом, удается бедными средствами талмудического языка создать потрясающий образ плачущего Моисея, описывающего свою смерть. . Интересно, что в одной из версий талмудического текста вопрос раби Иегуды звучит совсем иначе: могло ли быть, что Моисей был живым, когда писал «И умер Моисей»? Однако смысл вопроса от этого не меняется: Моисей, с точки зрения раби Иегуды, строго следовал в своем тексте за жизнью и не мог написать то, что еще не случилось. А когда оно случилось – он уже не мог писать. Жаль, что нет у нас такой версии текста, в которой Моисей в конце отрывка не плакал бы, а смеялся. Смысл не поменялся бы и от этого: на границе полного осуществления, слияния бытия и текста, обернувшегося вдруг распадом, казалось, достигнутого единства, можно только плакать или смеяться. Однако не все в Талмуде и в еврейской жизни происходит на таком высоком градусе плача и смеха. Сотнями прочных узелков мудрецы привязывают своевольную и подвижную повседневность к жесткому каркасу текста. У евреев принято разделение мясной и молочной пищи? Это потому, что сказано: «Не вари козленка в молоке его матери» (Исход 23: 19 и др.). Евреи не одобряют инцест? Это потому, что сказано: «Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу» (Левит 18: 6). Евреи стремятся дать своим детям образование? Это потому, что сказано: «И повторяй их [слова Торы] детям твоим» (Втор. 6: 7). Такими узелками-заповедями создается пространство Галахи, еврейского закона – сфера серьезного. Здесь, в этой сфере единство текста и жизни не может, не должно вызывать сомнений и смеха. В Торе ясно сказано о том, что нужно делать с ее словами: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6: 8-9 и др.) – и вот евреи надевают тфилин на руку и на голову, прибивают мезузы к своим дверям. А в них, в этих маленьких коробочках тфилина и мезузы спрятаны записанные на пергаменте и свернутые в трубочку те самые слова Торы. Но разве не смешны эти редкие островки единства, рассеянные в океане разделенности? Разве не прав был апостол Павел, высмеивавший надежду «оправдаться законом»? Однако еврейские мудрецы продолжают заниматься своим безнадежным делом. Они расширяют пространство Галахи и укрепляют его границы, защищаясь от вторжения стихии несоответствия и смеха. А для этого им нужны не философские рассуждения о возможности соответствия, но точные меры, точные методы установления тождества между Писанием и жизнью, чтобы серьезно, без всяких шуток судить, в каких случаях происходящее в жизни совпадает с буквой текста, а в каких – уже нет. Такое совпадение невозможно? Да, наверное. Но все же иногда оно случается. Так, настоящий, идеальный треугольник существует лишь в математических текстах, но иногда мы замечаем треугольники и в окружающей нас действительности. Один из выдающихся раввинов XX в., р. Йосеф Соловейчик сравнивает «человека Галахи», который «взирает на реальный мир с априорной и идеальной точки зрения», с ученым-естествоиспытателем: «Основополагающее направление Галахи заключается в том, чтобы перевести качественные свойства субъективной религиозной реальности – стремительные волны сознания человека веры, разбивающиеся о берег действительности, – в фиксированные, твердо установленные количественные величины, "подобные вбитым гвоздям" (Экклезиаст 12:11), не подвластные никаким бурям. Высшая Воля отражается как в зеркале реальности, так и в зеркале идеальной Галахи посредством задания размеров и пределов». Измерению и сопоставлению с буквами текста подлежит и самые будничные или даже «низкие» предметы, которые р. Соловейчик тут же вдохновенно перечисляет: «Человек Галахи исследует все уголки и закоулки мироздания и в физиологии, и в биологии. Он определяет характер всех функций человеческого тела – еды, половой жизни, других телесных отправлений по принципам и критериям Галахи – "размер оливки", "размер финика", "время, нужное для того, чтобы съесть полбуханки хлеба", "нормальная еда" и "ненормальная еда", "начало соития", "завершение соития", "нормальное соитие" и "аномальное соитие" и т. п. Галаха изучает функционирование организма: менструальный цикл женщины, различные выделения, бывающие и у женщин, и у мужчин, девственная кровь, беременность, различные этапы родов, признаки травм, из-за которых животные становятся некошерными, признаки чистых животных, птиц и рыб и т.п. … Вот лишь некоторые из предметов Галахи, многочисленных, как песок морской». Но почему же именно эти «песчинки» выбрал р. Соловейчик для своего перечня? Разве не боится он выставить себя и свою религию смешными в глазах читателей? Похоже, что не боится, а, напротив, намеренно выставляет напоказ бесстыдный педантизм Галахи, не вяжущийся с нашими представлениями о возвышенной вере. И от этой демонстрации смешной скрупулезности галахических категорий он легко и свободно переходит к пафосному обобщению: «Святость не мерцает нам, как таинственная звезда на далеких небесах, а пронизывает своим светом всю повседневную жизнь». Нет, Галаха вовсе не смешна сама по себе. Но, лишь подчеркнув ее смешные, мелочные стороны, можно увидеть ее святость. По крайней мере – тот аспект ее святости, о котором говорит р. Соловейчик. *** Конечно, не ускользает от внимания Галахи и сам смех. Талмуд его запрещает. Точнее, запретным оказывается не смех как таковой, а насмешка – лейцанут: «сказал раби Нахман: Всякая насмешка запрещена, кроме насмешки над идолопоклонниками» (Санхедрин 63б). Точнее… Впрочем, дальше Галаха, несмотря на весь свой педантизм, не идет. Чем отличается запрещенная насмешка от любой другой разновидности смеха, остается неясным. Вероятно, следует добавить: к счастью. Страшно представить себе, во что превратился бы иудаизм, если бы смех был измерен и регламентирован в Галахе так же, как это произошло, например, со злоязычием. В талмудической литературе есть много текстов, в которых мудрецы откровенно смеются. Объектами их шуток могут быть чужаки (например, хахамей Атуна – афиняне), невежественные люди (амей ха-арец) и даже свои – другие мудрецы. Однако здесь я хотел бы поговорить не об этом явном и, временами, довольно грубом юморе, который находится в специально отведенных для него жанровых резервациях. Меня привлекает больше тот смех, который живет на страницах Талмуда инкогнито. Не громкий хохот, но улыбки, которые прячутся в длинных бородах мудрецов. Вот, например, мудрецы обсуждают законы праздника Пурим, связанного с описанными в библейской книге Есфири событиями – происками злодея Амана, искавшего погибели для евреев, и возвышением праведника Мордехая, в последний момент спасшего свой народ: Сказал Рава: «В Пурим обязан человек выпить так, чтобы исчезло для него различие между словами проклят Аман и благословен Мордехай». Раба и раби Зейра устроили в Пурим праздничную трапезу. Когда они выпили, поднялся Раба и зарезал раби Зейру. На следующий день помолился Раба и оживил раби Зейру. Спустя год предложил Раба: «приходи, раби Зейра, и мы снова устроим с тобой праздничную трапезу». Сказал ему раби Зейра: «Не каждый день случаются чудеса» (Мегила 7б). Никаких указаний на юмористический характер этой невероятной истории в тексте Талмуда нет. Наоборот, она появляется в совершенно серьезном контексте обсуждения Галахи – законов праздника Пурим, и, значит, должна рассматриваться всерьез. Но как же трудно вписать эту историю с убийством в идеальную схему Галахи! Комментаторы, однако, справляются и с этой нелегкой задачей. Можно использовать, например, ассоциацию вино – Тора, аналогию между опьянением и глубоким погружением в текст. На высоком уровне опьянения Торой душа отделяется от тела. Именно это, как пишет Любавический ребе, произошло в нашей истории: когда мудрецы раскрывали тайны Торы («выпивали»), более подготовленный Раба «поднялся» и попытался поднять до своего уровня раби Зейру («притянул» или «зарезал» его). Не было никакого, не дай Бог, кровопролития – просто меньшему из мудрецов довелось испытать на себе всю остроту разрыва между текстом и жизнью. И, значит, эта история не является насмешкой над странной галахой, предписывающей напиваться в праздник Пурим. Еще один пример, отчасти похожий на предыдущий: мудрецам Талмуда необходимо объяснить явные нарушения Галахи в поведении героев Писания. Одна из жен царя Давида отобрана у него и отдана другому мужчине: «Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима» (I Цар. 25: 44). Однако, установив свою власть, Давид возвращает ее себе: «И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто краеобрезаний Филистимских. И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее и с плачем провожал ее до Бахурима» (II Цар. 3: 14-16). Согласно Галахе, Фалтий, живя с чужой женой совершал тяжелейшее преступление: «Если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, – да будут преданы смерти…» (Левит 20: 10). Если же Давид каким-то образом успел развестись с Мелхолой (о чем в тексте Писания не сказано), то снова взять ее в жены он не имел права: «Не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом» (Втор. 24: 4). Остается лишь один выход: сказать, что брак Фалтия и Мелхолы не был настоящим браком. Именно так и описывают их отношения мудрецы Талмуда: «Вонзил меч меж собой и ею. Сказал: "Кто этим делом займется, об этот меч уколется"». Т.е., не был он ей мужем, говорят мудрецы. «Но ведь написано», продолжает Талмуд, «Пошел с нею и муж ее» – все-таки Писание прямо называет Фалтия ее мужем, вопреки построениям мудрецов. Но и это не проблема: «Потому что сделался ей словно муж», т.е. уважал и любил ее, отвечают мудрецы, помещая Фалтия в один ряд с другими героями Библии, сумевшими преодолеть сексуальные соблазны – с Иосифом, убежавшим от своей красавицы-госпожи (Бытие 39), и с Воозом, к которому Руфь приходила ночью на гумно (Руфь 3). Талмуд даже ставит Фалтия выше их, как будто его испытание, приписанное ему мудрецами, труднее испытаний, описанных в тексте Писания: «Великое для Иосифа – легкое для Вооза, а великое для Вооза – легкое для Фалтия». Казалось бы, все ясно, но скептики в Талмуде не унимаются: «Но ведь написано: "с плачем провожал ее"» – как будто воздержание от сексуальных отношений с любимой женщиной исключает слезы при расставании с нею. Эту тему, однако, Талмуд не развивает дальше, завершая дискуссию в иной тональности: «Плакал о заповеди, что уходит от него» (см. Санхедрин 19б). Теперь мы не сможем понять, кого же любил нарисованный мудрецами Фалтий – женщину или Тору? Был ли он сухим «человеком Галахи», этаким религиозным фанатиком, видевшим в Мелхоле лишь повод для демонстрации своего благочестия и своей способности поступать «правильно» в любых ситуациях? Или же он, как живой человек, любил ее, мучился ее близостью и недоступностью? Не смеются ли мудрецы над нами? Или, может быть, они смеются над собой и своими попытками связать полный страстей мир Писания с интеллектуальным схематизмом Галахи? Не только в этих примерах – всегда, почти всегда талмудические дискуссии балансируют на грани смешного. Но крайне редко у читателя возникает уверенность в том, что перед ним – именно шутка, и ничто другое. Гораздо чаще остается сомнение, не находящее никакого выхода. Но почему же, если мудрецы действительно смеются, они не могут сказать об этом вслух? Один из возможных ответов на этот вопрос вполне тривиален: признав какой-либо текст шуткой, мы перестаем относиться к нему серьезно. Шутка не нуждается в комментарии; мы уже не можем поставить вопрос: «Возможно ли, что Раба действительно убил раби Зейру?» – ведь это всего лишь шутка. Надо ставить точку и заниматься другими делами, другими текстами. Но, может быть, именно так и стоило бы сделать? Чтобы ясно было, где – смешное, а где – серьезное. На мой взгляд – нет, не стоило бы. Ну, не нравятся мне жанры нарочито смешные. И нарочито серьезные тоже не нравятся. Поэтому я рад, что существует Галаха – очень серьезная и очень смешная одновременно.