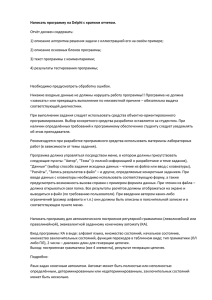Оглавление - Кафедра общего языкознания СПбГУ
advertisement
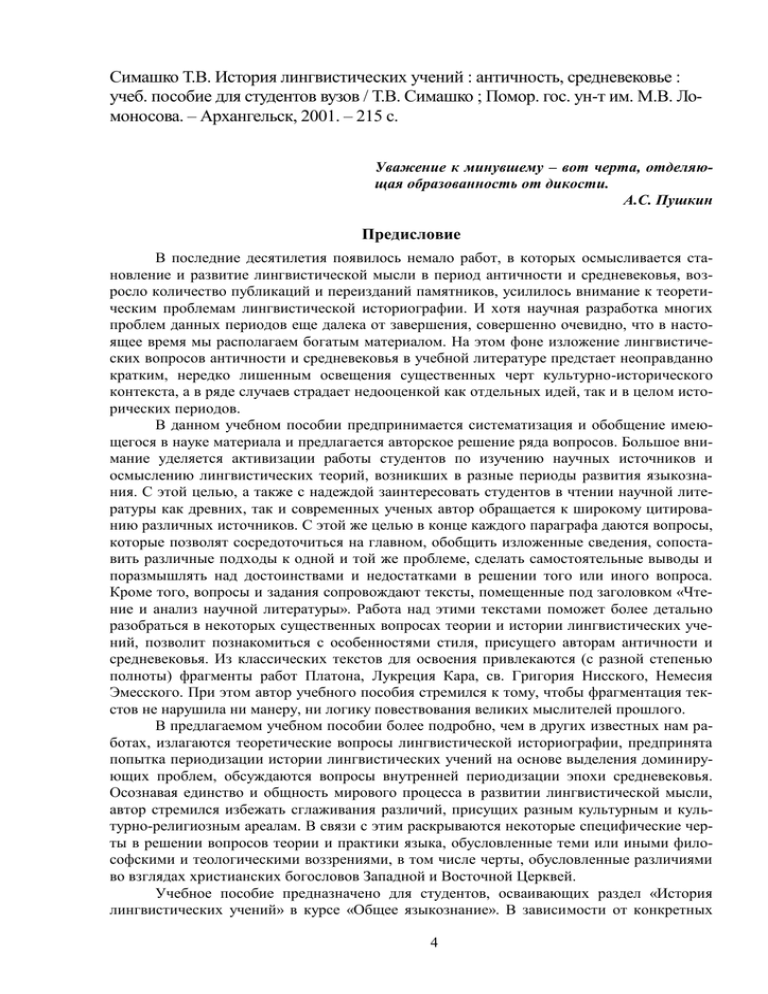
Симашко Т.В. История лингвистических учений : античность, средневековье : учеб. пособие для студентов вузов / Т.В. Симашко ; Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2001. – 215 с. Уважение к минувшему – вот черта, отделяющая образованность от дикости. А.С. Пушкин Предисловие В последние десятилетия появилось немало работ, в которых осмысливается становление и развитие лингвистической мысли в период античности и средневековья, возросло количество публикаций и переизданий памятников, усилилось внимание к теоретическим проблемам лингвистической историографии. И хотя научная разработка многих проблем данных периодов еще далека от завершения, совершенно очевидно, что в настоящее время мы располагаем богатым материалом. На этом фоне изложение лингвистических вопросов античности и средневековья в учебной литературе предстает неоправданно кратким, нередко лишенным освещения существенных черт культурно-исторического контекста, а в ряде случаев страдает недооценкой как отдельных идей, так и в целом исторических периодов. В данном учебном пособии предпринимается систематизация и обобщение имеющегося в науке материала и предлагается авторское решение ряда вопросов. Большое внимание уделяется активизации работы студентов по изучению научных источников и осмыслению лингвистических теорий, возникших в разные периоды развития языкознания. С этой целью, а также с надеждой заинтересовать студентов в чтении научной литературы как древних, так и современных ученых автор обращается к широкому цитированию различных источников. С этой же целью в конце каждого параграфа даются вопросы, которые позволят сосредоточиться на главном, обобщить изложенные сведения, сопоставить различные подходы к одной и той же проблеме, сделать самостоятельные выводы и поразмышлять над достоинствами и недостатками в решении того или иного вопроса. Кроме того, вопросы и задания сопровождают тексты, помещенные под заголовком «Чтение и анализ научной литературы». Работа над этими текстами поможет более детально разобраться в некоторых существенных вопросах теории и истории лингвистических учений, позволит познакомиться с особенностями стиля, присущего авторам античности и средневековья. Из классических текстов для освоения привлекаются (с разной степенью полноты) фрагменты работ Платона, Лукреция Кара, св. Григория Нисского, Немесия Эмесского. При этом автор учебного пособия стремился к тому, чтобы фрагментация текстов не нарушила ни манеру, ни логику повествования великих мыслителей прошлого. В предлагаемом учебном пособии более подробно, чем в других известных нам работах, излагаются теоретические вопросы лингвистической историографии, предпринята попытка периодизации истории лингвистических учений на основе выделения доминирующих проблем, обсуждаются вопросы внутренней периодизации эпохи средневековья. Осознавая единство и общность мирового процесса в развитии лингвистической мысли, автор стремился избежать сглаживания различий, присущих разным культурным и культурно-религиозным ареалам. В связи с этим раскрываются некоторые специфические черты в решении вопросов теории и практики языка, обусловленные теми или иными философскими и теологическими воззрениями, в том числе черты, обусловленные различиями во взглядах христианских богословов Западной и Восточной Церквей. Учебное пособие предназначено для студентов, осваивающих раздел «История лингвистических учений» в курсе «Общее языкознание». В зависимости от конкретных 4 задач, поставленных преподавателем, отдельные разделы могут использоваться либо для детального освоения, либо для ознакомления с основными направлениями в изучении тех или иных вопросов, т. е. как обзорные. В этом случае разнообразные факты, связанные с разработкой данных вопросов, не обязательны для запоминания, но они необходимы для понимания сути излагаемых идей. Студентам, самостоятельно работающим над материалами учебного пособия, советуем внимательно отнестись к вопросам и заданиям, данным в конце каждого параграфа, которые помогут сосредоточиться на усвоении наиболее важных положений. Отметим, что некоторые вопросы и задания нацелены на понимание общих закономерностей развития лингвистических идей, другие же предполагают анализ частных проблем, поставленных в определенные периоды в рамках некоторых лингвистических школ или выдвигаемых отдельными учеными (вопросы частного характера отмечены *). Систематизация материала рассматриваемых исторических периодов по отдельным разделам языка (фонетика, лексика, лексикография, грамматика) позволяет обратиться к выяснению истории становления и решения проблем названных разделов при изучении теоретических курсов. Автор надеется, что данное пособие может оказаться полезным не только студентам, но и аспирантам. 5 Историография лингвистики как часть теории языка Задача исследователя истории науки заключается в раскрытии логической природы каждого нового шага в развитии науки и тем самым в установлении материальной природы нового открытия как определенной ступени в познании мира. С.Д. Кацнельсон 1.1. Курс «История лингвистических учений» – неотъемлемая часть курса «Теории языка». Собственно, обе дисциплины имеют дело с одним и тем же объектом – определенным информационным блоком о языке. Но в «Теории языка» главным образом собраны результаты познавательного процесса после того, как из совокупности накопленных данных выделено, приведено в систему все самое значительное и представлено в виде относительно законченных и перспективных концепций, в курсе «Теории языка» рассматриваются также дискуссионные проблемы, раскрываются пути и причины разных решений тех или иных вопросов, определяется круг нерешенных, но уже поставленных проблем и т.п. В «Истории языкознания» изучается сам познавательный процесс, ведущий к накоплению определенных сведений о языке, рассматриваются особенности постановки и решения проблем языка. Историю языкознания интересует развитие лингвистической мысли как в мире в целом, так и в отдельной стране, при этом для историографалингвиста важно выяснить, как складываются те или иные традиции, кто первым высказывает определенные представления о языке, кто и как развивает их, в связи с чем меняются лингвистические взгляды и под. Как образно писал С.Д. Кацнельсон: «История языкознания – персонифицированная и драматизированная теория языка, в которой каждое научное понятие и теоретическое положение снабжено ярлыком с указанием лиц, дат и конкретных обстоятельств, связанных с их появлением в науке» (Кацнельсон 1980: 5). Однако принимая данное положение, следует учесть два сложных обстоятельства, требующих разъяснения. Первое из них связано с тем, что мы далеко не всегда можем выяснить конкретные даты и лица, если начало истории языкознания не станем относить лишь к ΧΙΧ в., заявившему о себе общей теорией языка (В. Гумбольдт), становлением научных методов генетических исследований (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков), формированием основ типологического языкознания, попытками определения области языковедческих проблем в структуре научных знаний. ΧΙΧ в. нам представляется веком расцвета лингвистических учений, но никак не их началом. Все богатство лингвистических исследований ΧΙΧ в. возникло не сразу и не на пустом месте, поэтому естественнее искать истоки размышлений о языке в более отдаленных эпохах. Данный поиск осложняется тем, что при продвижении в глубь веков мы начинаем в определенный момент истории наталкиваться лишь на косвенные свидетельства о принадлежности тех или иных представлений о языке определенным мыслителям прошлого. Изложения лингвистических взглядов каких-либо ученых, известные в более поздних интерпретациях, могут оказаться противоречивыми, нередко из таких источников нам становится известно об обращении к определенным проблемам языка, но остается неясным, как они решались. Период античного и средневекового языкознания как раз изобилует подобными фактами, поэтому порой приходится довольствоваться неполными сведениями, обозначая лишь общее направление развития без указания конкретных лиц, дат и обстоятельств. Более того, отметим, что даже многое из того, что 6 сохранилось в письменных памятниках, из-за их малой изученности еще не вошло в научный оборот и не осмыслено с точки зрения развития лингвистической мысли. Разумеется, из-за того, что многие памятники письменности безвозвратно утрачены, мы вряд ли сможем полностью воссоздать историю языкознания, в этом отношении наша наука находится в таком же положении, как и другие возникшие в древности науки. Однако осознавая это, необходимо тем более бережно относиться к тому, чем мы располагаем, что, к счастью, и наблюдается в современном языкознании. Второе обстоятельство, обусловливающее трудность работы историографа-лингвиста, связано со спецификой развития лингвистической мысли, которая на протяжении веков была органичной частью философского, эстетического и богословского учений. Стремясь понять, как складывалась и развивалась лингвистическая мысль, важно не только вычленить те проблемы, которые имеют отношение к языкознанию, но и рассмотреть их в том контексте, в котором они возникли. Особенно важно это при анализе лингвистической проблематики эпохи античности и средневековья, но, думается, вне контекста истории невозможно рассматривать любой период в развитии языкознания. Собственно, это предопределено самой сущностью языка: его неотделимостью от становления и развития общества, от всех и любых проявлений общественной жизни, его глобальностью, включенностью «во все сферы общественного бытия и общественного сознания» (Мечковская 1983: 33). Поэтому рассмотрение проблем лингвистической историографии вне контекста общественных и культурных проблем может «не только обеднить, но и исказить картину развития знаний о языке, включая и собственно научное знание» (Бокадорова 1986: 74). Вне контекста эпохи невозможно понять ни злободневности определенного круга вопросов, ни системы обоснования тех или иных положений, ни сути понятий, которые стоят за знакомыми нам терминами, но которые в контексте другой эпохи означают не совсем то или совсем не то, что они означают сейчас. Анализ представлений о языке в широком контексте предостерегает также от поиска в прошлом только тех проблем, которые актуальны в настоящее время, и, напротив, от забвения тех насущных вопросов, которые возникали в разные периоды развития человечества. Учитывая все сказанное, следует подчеркнуть, что, обладая несомненной близостью с такой областью лингвистических знаний, как теория языка, история науки о языке имеет свою специфику и свои собственные задачи. 1.2. Интерес к истории языкознания особенно заметно возрос в последние десятилетия, появилось много новых публикаций, в которых осмысливаются как работы отдельных ученых прошлого, так и особенности складывающихся традиций, направлений, в том числе отдаленных эпох. Представляется, что сложившаяся ситуация в области лингвистической историографии свидетельствует о зрелости науки о языке, которая проявляется как в стремлении понять место языкознания в структуре человеческих знаний, так и в необходимости и желании оценить новизну той или иной концепции, выяснить причины ее появления, установить степень и меру зависимости определенных идей от предшествующих учений и логику связей нового и старого. Лингвистика, как и другие гуманитарные знания, не может существовать без обращения к своему наследию: «прошлое естественным образом связано с настоящим. Уже достигнутое знание, ставшее частью духовной истории общества, непременно влияет на зарождение и становление новых идей и концепций <...>. В современном научном осмыслении языка мы невольно анализируем его сквозь призму прошлых научных построений, творчески пересматривая прежние идеи и теории, т.е. критикуя, развивая, дополняя и совершенствуя их. Как бы мы ни пытались освободиться от прежних идей и построений, они невольно сказываются на наших новых построениях и переходят в будущее» (Ольховиков 1985: 20–21). Аналитическая работа по осмыслению прошлого науки о языке предполагает два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, она помогает увидеть ошибочные идеи и, 7 главное, понять причины их «тупиковости», что важно для поступательного развития науки. А с другой стороны, аналитическая работа позволяет в старом увидеть новое: «Конечно, новое содержится в старом не в готовом для использования виде, и только вооруженный современными знаниями и по-новому ориентированный исследователь способен усмотреть в стародавних суждениях зародыши актуальных концепций. В этой обновляющей функции содержится, быть может, самое удивительное из того, что способна предложить история языкознания современному исследователю языка» (Кацнельсон 1980: 6). Вместе с тем поиск в прошлом проблем, созвучных современной науке, хорош лишь при соблюдении чувства меры и трезвости в оценке как прошедшего, так и настоящего. В этом отношении уместно вспомнить слова В.С. Храковского, который писал, что изучение истории науки сопряжено со следующими трудностями: «во-первых, нас подстерегает опасность модернизации науки прошлого, во-вторых, в ней можно не заметить новых идей и методов исследования» (Храковский 1985: 127). Осмысливая прошлое определенного временного отрезка науки о языке, как и наблюдая за современным процессом развития лингвистических теорий, можно заметить, что определенная проблематика на каком-либо этапе развития становится доминирующей, захватывает умы разных ученых нередко различных стран. Другие же проблемы оказываются на периферии и разрабатываются лишь немногими учеными или даже одним ученым (Косарик 1995: 104). Однако относительно этих проблем далеко не всегда можно утверждать, что их разработка менее важна для науки, чем разработка доминирующих проблем. Если это так, то в чем причина того, что данные, «периферийные», проблемы не привлекли внимание многих? Какова судьба этих проблем в дальнейшем? Если они в какой-то момент истории начинают привлекать ученых, то что стало этому причиной? Такие и подобные вопросы нередко возникают перед историографом-лингвистом, и на них необходимо ответить, хотя сделать это не всегда просто. Иногда лишь по прошествии времени идеи, не привлекшие должного внимания современников и не оцененные по достоинству, осознаются как значимые для науки или даже великие. Но ведь и такая ситуация создается не без причины, а следовательно, должна получить объяснение в истории лингвистических учений. Например, сейчас бесспорно мнение, что гениальный немецкий ученый Вильгельм фон Гумбольдт (1767 – 1835) является основоположником теоретического языкознания. Однако бесспорно и другое, что при жизни В. Гумбольдта его идеи отнюдь не были доминирующими и не разрабатывались так интенсивно и таким значительным количеством сил, как проблемы сравнительно-исторического языкознания. Изданный посмертно его труд «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» мало изменил ситуацию, хотя и нашел последователей, которые, кстати, во многом по-своему и по-разному интерпретировали идеи В. Гумбольдта, что породило различные лингвистические школы. Чем это обусловлено, почему так произошло? Все эти непростые вопросы также находятся в поле зрения лингвиста-историографа. Таким образом, в основные задачи лингвистической историографии входит: 1) раскрытие логики развития науки о языке, установление оснований, объясняющих возникновение новых идей в определенный исторический период, определение последовательности, в которой складываются различные концепции; 2) обнаружение связи языкознания с другими науками на каждом этапе развития, объяснение причин обращения к другим наукам и характера их влияния на развитие языкознания; 3) определение доминирующих теорий на разных этапах исследования языка, выявление их особенностей в различных национальных научных традициях и характера преемственности в последующие эпохи; 4) обоснование принципов периодизации истории развития науки о языке, выделение на их основе отдельных этапов; 5) теоретическое обоснование основных понятий, которые используются при описании истории лингвистических учений. 8 1.3. Объем материала, который подвергается анализу историографом-лингвистом, может быть различным, в соответствии с этим различны степень детализации рассматриваемого материала и аспекты его изучения. Поэтому, по аналогии с разделами, выделяемыми в теории языка, можно говорить об общей лингвистической историографии и о частной лингвистической историографии. Первый из разделов выстраивается как обобщение наиболее существенных тенденций в развитии истории науки о языке в различных странах, как осмысление их в тесном единстве с развитием истории и культуры цивилизации. Следовательно, в поле зрения общей лингвистической историографии попадает прежде всего глобальное направление в развитии лингвистической мысли. При этом анализ лингвистических идей, возникших у того или иного народа, обусловлен либо признанием приоритета данного народа в развитии этих идей, либо задачей раскрыть реализацию определенных общих тенденций на примере наиболее ярких образцов. Как правило, именно так строятся учебные курсы по «Истории лингвистических учений», в которых представляется развитие лингвистики на всех этапах человеческой цивилизации. В частной лингвистической историографии можно выделить два основных раздела. Первый из них можно рассматривать как историю становления и развития лингвистики в отдельной стране, например, история русского (английского, германского и т.д.) языкознания. При наличии тесных исторических связей между отдельными народами, а также при наличии принципиально общих тенденций на определенном временном отрезке, повидимому, можно говорить об общем этапе в истории развития лингвистической мысли ряда народов. Например, таким общим этапом в существенных своих чертах является, с нашей точки зрения, становление лингвистической проблематики в славянских странах в эпоху распространения кириллической письменности. Поэтому влияние лингвистических воззрений, развивающихся в одних странах, на другие, взаимосвязь между ними, совместная разработка отдельных вопросов и т.п. предполагает обобщение, позволяющее установить наиболее существенные особенности истории славянского языковедения, которая также рассматривается как частный раздел лингвистической историографии. Нередко предметом частной лингвистической историографии становится описание истории становления отдельных проблем языка и эволюции их решения, например, в качестве отдельной страницы частной историографии можно рассматривать: развитие теории глагольного вида, становление и развитие фонологических идей, история изучения односоставных предложений русского языка и под. В этом случае вопрос рассматривается либо на базе работ ученых одной страны, либо с привлечением трудов ученых разных стран, что в любом случае не меняет статуса таких описаний как частных разделов лингвистической историографии. Интенсивное развитие историографических работ выявило в настоящее время слабую теоретическую разработку методологического аппарата лингвистической историографии. Поэтому неудивительно, что в последнее время от разных ученых исходят призывы сосредоточиться на теоретических проблемах историографии. В.И. Абаев, размышляя над особенностями описательной и объяснительной лингвистики, напоминает, что первым, кто пытался поднять историю на уровень объяснительной науки, был итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико (1668 – 1744), считавший, что исторический процесс – это не беспорядочная смена отдельных событий, а подчиненный определенным законам круговорот с периодически повторяющимися стадиями. Учитывая этот общий взгляд на историю, В.И. Абаев пишет: «Исследования такого рода принято называть «философией истории». Поскольку описательный уровень исторической науки зовется историографией, почему бы объяснительный уровень не именовать историологией?» (Абаев 1986: 29). Повидимому, историография (в рассматриваемом нами значении как историография лингвистики) также не должна быть лишена объяснительной силы, но акцент на выяснении за9 конов развития, надо полагать, в определенной мере показывает специфику еще одного, третьего, раздела истории науки о языке. Н.Ю. Бокадорова наряду с историографией, которая занимается описанием событий и анализом их причин, предлагает выделить отдельную область исследований истории науки о языке и назвать ее историологией. Данный раздел должен бы заняться «разработкой собственного понятийного строя и концептуального аппарата, методами и принципами историографического исследования» (Бокадорова 1986: 68). Предлагая выделить в качестве особой области науки о языке историологию, Н.Ю. Бокадорова опирается на сформулированные Б.Г. Кузнецовым задачи и цели историологии по отношению к общей истории науки. В частности, ученый писал, что эта дисциплина соединяет гносеологию с историографическим анализом эпох, периодов, отраслей, национальных школ, создания и развития центров науки, занимается анализом проблемы генезиса науки, ее предмета, принципов периодизации, всего того, что выходит за пределы отдельных периодов и эпох (Кузнецов 1983: 18). Таким образом, надо полагать, что есть основания говорить об особом разделе истории науки о языке – лингвистической историологии, которая, если учитывать стоящие перед ней задачи, должна рассматриваться как теоретический и методологический раздел лингвистической историографии. Именно в этом разделе разрабатывается содержание понятий, используемых в лингвистической историографии. С основными из них, такими, как лингвистическое направление, школа, периодизация, научная традиция, необходимо познакомиться в учебном курсе. 1.4. Лингвистическое направление определяется единством представлений о целях, задачах изучения языка, о предмете исследования и о методах описания. При этом следует различать объект исследования, предмет исследования и материал, привлекаемый для изучения. «Объект исследования – это определенный круг реальных явлений, происходящих в окружающем нас мире и в нас самих независимо от исследователя; вещи и процессы, которые наблюдает исследователь и с которыми он экспериментирует, составляют так называемый протокольный материал или сырые данные науки <...>. Предмет изучения определяется тем аспектом, в котором рассматривается данный объект. Основные задачи исследования объекта, проблематика науки связаны с пониманием предмета» (Засорина 1974: 45–46; выделено мною. – Т.С.). Предмет изучения предопределяет выбор и разработку методов исследования, которые, чтобы быть лингвистически обоснованными, должны соответствовать природе объекта и аспекту его исследования. Вместе с тем само выделение предмета изучения отнюдь не простое дело. Нельзя не согласиться с В.Я. Мыркиным, который, касаясь вопросов прагматики речи, пишет, что ученые испытывают большие затруднения при выделении предмета прагмалингвистики, потому что при изучении речи обнаруживается, что она не просто неразрывно связана с жизнью человека, но сама «жизнь входит в актуальное содержание речи» и лишь «будущее покажет, какие ограничения наложит на себя лингвистика речи, какие более специализированные разделы разовьются внутри нее» (Мыркин 1994: 3–4). Любое лингвистическое направление складывается постепенно, вырастает, как правило, в борьбе с чуждыми подходами к языку и в соперничестве сходных подходов, идей, но различающихся какими-то частностями. Поэтому одномоментное заявление ученых о начале какого-то нового направления, что в истории лингвистики не раз случалось (вспомним хотя бы Манифест младограмматиков), вначале всегда воспринимается именно как заявление, а не как особое лингвистическое направление. Требуется время для его вызревания, корректировка наиболее существенных положений, необходимы конкретные результаты исследований и под., чтобы стало очевидно, что лингвистика обогатилась новым направлением. Так, анализируя пути становления психолингвистических исследований в середине XX в., отличительные черты во взглядах разных ученых этого направления, 10 Т.И. Ерофеева отмечает, что при всех различиях «предметом исследования в психолингвистике является не просто структура кода (т.е. языка) и не просто сигнал, не обезличенный текст, который можно сегментировать (как это делала американская дескриптивная лингвистика), а человеческие процессы кодирования и декодирования, т.е. то, что связано с созданием и осознанием текста, весь сложный комплекс факторов, связанный с человеческой коммуникацией» (Ерофеева 1998: 91). Лингвистическое направление, содержательно связанное с наиболее крупным движением лингвистической мысли, либо вырастает на базе более частных исследовательских подходов, ориентированных на один и тот же аспект изучения языка (независимо от того, будь то группа ученых или отдельные ученые), либо дробится на более частные подходы, найдя в общей идее данного лингвистического направления свой аспект. В каждом конкретном случае появление и эволюция лингвистического направления требует и конкретного разрешения, которое, как нам представляется, во многом обусловлено степенью зрелости данного направления. Потому что только при этом условии в том, что вначале казалось несовместимым, можно обнаружить общее, позволяющее при развитости разнообразных течений выделить их в единое направление. Например, как говорится в цитированной выше работе, при всех различиях, которые возникают между учеными психолингвистического направления, вплоть до разной трактовки явлений речевой деятельности, остается неизменным учет комплекса трех факторов: «Фактор человека, фактор ситуации и фактор эксперимента – обязательные, ведущие признаки лингвистического направления, которое может быть квалифицировано как психолингвистическое» (там же). Принципы выделения лингвистического направления, как и конкретное их описание до сих пор представляют собой мало разработанную теоретическую проблему. Лингвистическая школа предполагает наличие группы ученых, которые придерживаются некоторых общих теоретических принципов, ставят и решают круг задач, обусловленный данными теоретическими положениями, и используют сходные методы при изучении материала. Понятие лингвистической школы не следует отождествлять с местом жизни и деятельности той или иной группы ученых или отдельного ученого, хотя нередко школа формируется в определенном научно-образовательном центре. Вместе с тем чтобы установить, какой лингвистической школе принадлежит ученый, необходимо понять, каких теоретических взглядов на то или иное явление он придерживается. Например, как известно, Александр Николаевич Гвоздев (1892 – 1959) работал в Куйбышеве (Самаре), однако считается одним из представителей Петербургской (Ленинградской) фонологической школы. Вопрос о формировании лингвистических школ – важный и непростой вопрос теории историографии, требующий выяснения их истоков, системы теоретических положений, анализа их обоснованности, определения их результативности, степени влияния на современников и последующее поколение. Разнообразие конкретных реализаций названных факторов создает большие трудности для выявления не только общих принципов формирования школ, но и для описания особенностей каждой из них. Например, по меньшей мере три фонологические школы восходят к учению о фонеме, разработанному Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ (1845 – 1929), который, занимаясь этой проблемой на протяжении всей жизни, вносил уточнения в определение этой языковой единицы, рассматривал разные ее аспекты. Ученые, образовавшие Московскую, Петербургскую (Ленинградскую), Пражскую фонологические школы, опирались на различные идеи, высказанные И.А. Бодуэном де Куртенэ, акцентировали и развивали отдельные его положения, внося много нового, что в результате и создало неповторимый облик каждой из них. Лингвистическая школа может быть частью лингвистического направления, но может находиться вне доминирующего направления. Так, Пражский лингвистический кружок (школа), наряду с копенгагенской или американской школами, относится к струк11 туралистскому направлению, «позиция пражцев в целом отражает более компромиссную линию в трактовке основных дихотомий Соссюра» (Засорина 1974: 84). От некоторых категорических противопоставлений, высказанных Фердинандом де Соссюром (1857 – 1913) – родоначальником структурализма, пражцы были свободны, они отвергали утверждение о непреодолимости преград между синхронным и диахронным анализом, ими был выдвинут тезис о системном характере диахронических явлений и др. Однако по существу они не только не противоречили общим установкам структуралистов, но и отстаивали представление о языке как структуре вместе с другими школами данного направления. Когда говорят о научной традиции, то имеют в виду сохранение определенных принципов научного исследования и описания языка, сложившихся на некотором этапе развития лингвистики и используемых как совокупное знание последующими поколениями ученых. Конечно, это не означает полного копирования взглядов предшественников. Следование той или иной традиции надо понимать как сохранение каких-то важнейших положений, что не отменяет поступательного движения вперед. Например, основные принципы текстологического исследования сложились в рамках античной александрийской школы и использовались на протяжении веков, в том числе и в эпоху средневековья в патристике, однако в патристике эти принципы анализа были усовершенствованы за счет разработки новых методов исследований, за счет уточнения отдельных положений и др. Научная традиция может восходить к взглядам одного ученого, например, до сих пор отечественные лингвисты активно развивают отдельные положении неисчерпаемого богатства лингвистического наследия Александра Афанасьевича Потебни (1835 – 1891). Проблема установления научной традиции осложнена по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, далеко не всегда легко определить, в русле какой традиции находится развитие той или иной концепции, хотя бы из-за ее многогранности и отсутствия ретроспективных взглядов самого исследователя. Во-вторых, не всегда можно однозначно связать те или иные идеи с предшествующими учениями потому, что здесь может быть не следование каким-то положениям, высказанным в прошлом, а возникновение в новых условиях подобных идей безотносительно к высказываниям предшественников (см. об этом: Косарик 1995: 104–117). С последним связана и сложность в решении вопроса о соотношении традиции и инновации, особенно это касается рассматриваемого периода. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что до сих пор недостаточно изучен вопрос о становлении и развитии лингвистической проблематики в работах эпохи античности и средневековья. Определяя такие понятия, как лингвистическое направление, школа, научная традиция, нельзя замыкать их государственными границами, однако следует помнить о том, что проявляются они в каждой стране со свойственной им национальной окраской. Поэтому у каждого народа складывается собственная лингвистическая традиция, которая обусловлена специфическими чертами его истории и культуры, сложившейся системой ценностей. Специфика лингвистической традиции определенного народа обнаруживается особенно ярко при решении каких-то глобальных задач языкознания. Так, например, «при нормировании языка в русской традиции разработке грамматики принято уделять большее место, чем лексикографии, тогда как английский или китайский языки нормированы в большей мере или преимущественно лексикографически» (Рождественский 1975: 24). Или, например, древнегреческая лингвистическая традиция, безусловно, отличается от древнеиндийской лингвистической традиции, вместе с тем по определенным параметрам они обнаруживают сходство. В настоящее время предпринимаются попытки выделить типологические черты, присущие различным древним лингвистическим традициям, и описать лингвистическую традицию древних на основании единых критериев их оценки (Алпатов 1990: 13–25). Важной теоретической проблемой историографии является определение принципов периодизации и установление периодов, или этапов, в развитии языкознания. При 12 выделении этапов в развитии лингвистики следует «стремиться к тому, чтобы отразить реальный процесс эволюции научного познания языка» (Рождественский 1975: 29), смену типов различных языковых теорий, которая подготовлена как процессом внутреннего развития науки о языке, так и задачами общественно-языковой практики, влиянием на лингвистическую проблематику наиболее авторитетных в определенную эпоху областей знаний (философии, логики, математики, психологии и др.). Тот или иной период в развитии языкознания можно связать с доминирующей проблематикой, но нельзя исчерпать ею особенности каждого этапа. Тот или иной новый период с присущими ему специфическими чертами зарождается в хронологических границах предшествующего периода, поэтому конкретная дата нового периода не обязательно совпадает с концом предыдущего этапа в развитии лингвистики. Кроме того, следует помнить, что в каждой конкретной стране тот или иной этап развития науки о языке может охватывать большую или меньшую длительность конкретно-исторического времени. Если выделить крупные периоды в развитии истории лингвистической мысли, учитывая как временной, так и концептуальный (содержательный) фактор, то внутри них можно говорить о подпериодах, границы которых, не затрагивая глобального направления лингвистической мысли, определяются существенными изменениям, связанными с развитием теории и с возникновением новых практических задач. Основные крупные периоды в развитии языкознания можно представить следующим образом. 1. Период античности: середина первого тысячелетия до н. э. – III – V в. н. э. Данный период характеризуется постановкой и решением вопросов о природе имен, их соотношением с миром «вещей», рассмотрением критериев правильности имени и созданием грамматики как искусства (техники, мастерства), основанной на признании существования принципов нормы, выведенной из круга канонических текстов и обеспечивающей освоение иных, неязыковых, сфер духовной жизни. 2. Период средневековья: первые века нашей эры (не позднее II–III вв.) – XVI – начало XVII в. Развитие лингвистических проблем данного периода стимулируется распространением мировых религий, усвоением конфессиональных языков и текстов, предопределившим расцвет экзегетики, созданием письменности для бесписьменных народов, адаптацией классических грамматик для новописьменных языков и/или появлением первых грамматик «новых» языков на базе античного грамматического канона, формированием идеи всеобщей сущности языка и развитием на этой основе семантических проблем языка. 3. Новое время – XVII – XVIII вв. – характеризуется разработкой принципов всеобщей рациональной философской грамматики и созданием грамматик на основе данных принципов, качественно новым подходом к родным языкам и формированием вследствие этого специфической проблематики, обусловленной задачами укрепляющихся национальных государств и достигшей своего расцвета благодаря разработке и созданию разнообразных грамматик и словарей на национальной основе. 4. Период сравнительно-исторического языкознания: конец XVIII – XIX вв. Становление и развитие данного периода языкознания обусловлено признанием принципов историзма и эволюции по отношению к языковому материалу, что приводит к анализу языка с учетом закономерностей его развития, установлению генетического родства языков мира, их типологических свойств и формированию теоретического языкознания. 5. Период семиотического языкознания: конец XIX – первая половина XX в. В этот период сравнительно-историческое языкознание вступает в полосу кризиса, вызвавшего разнообразную критику сложившегося направления как изнутри, т.е. со стороны самих компаративистов, так и извне, т.е. со стороны ученых, выдвигающих новые подходы к языку; постепенно складывается и развивается представление о языке как особой семиотической системе, сложной и неоднородной в своей организации, но замкнутой «в самой себе». 13 6. Антропоцентрический период – со второй половины XX в. – характеризуется широким гуманитарным подходом в осмыслении языка и обнаружением разнообразных связей языка с другими знаковыми системами, стремлением в центр изучения поставить человека как творца и носителя языка, возникновением пограничных областей знаний, существенную часть которых составляет лингвистическая проблематика. Каждый период в развитии языкознания обладает не только своими специфическими проблемами и своими практическими задачами, но и наполнен существенными конкретными результатами описания различных языков, разработкой методов и приемов исследования, наличием особых школ, яркими именами мыслителей-лингвистов, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в развитие науки о языке. Вопросы и задания 1. В чем состоит наиболее существенное различие курсов «История лингвистических учений» и «Теория языка»? 2. Какие обстоятельства затрудняют исчерпывающее описание истории лингвистических учений? 3. Считаете ли вы необходимым для современного исследователя обращаться к изучению истории лингвистических учений? Почему? 4. Пользуясь сведениями, полученными в изученных ранее дисциплинах, приведите примеры, иллюстрирующие становление какой-нибудь теории в ее «персонифицированном» и «драматизированном» виде. 5. На примере одной из теоретических проблем покажите, что ее постановка и решение, отражая развитие своего времени, в значительной мере обязаны идеям ученых прошлого, оказавшимся созвучными новейшим направлениям. 6. Продумайте задачи истории лингвистики. Раскройте реализацию одной-двух задач, иллюстрируя свое сообщение конкретными сведениями, полученными при изучении частных лингвистических дисциплин. 7. Каковы задачи общей и частной лингвистической историографии? Есть ли смысл выделять в качестве особого раздела истории языкознания такой раздел, как историология? Почему? Ответ обоснуйте. 8. Могут ли цели и задачи конкретных исследований языка побуждать к использованию данных других наук? Ответ подтвердите фактами. 9. Приведите примеры одного-двух лингвистических направлений и укажите, на основании каких положений они выделяются, какие школы объединяют. 10. Приведите примеры различных лингвистических школ. Назовите общие для них принципы, задачи, пути решения поставленных задач. 11. Проиллюстрируйте примерами понятие «научная традиция» и укажите, сохранению каких основных принципов научного исследования обязано их выделение. 12. Зависит ли выделение этапов, периодов развития языкознания от национальных границ, учитываются ли те или иные национальные научные традиции при выделении этапов развития лингвистики? Библиография Абаев 1986: Абаев В.И. Parerga 2. Языкознание описательное и объяснительное. О классификации наук // Вопросы языкознания, 1986, № 2. Алпатов 1990: Алпатов В.М. О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы) // Вопросы языкознания, 1990, № 2. Бокадорова 1986: Бокадорова Н.Ю. Проблемы историологии науки о языке // Вопросы языкознания, 1986, № 6. Засорина 1974: Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. М., 1974. Ерофеева 1998: История лингвистических учений. Методические и хрестоматийные материалы / Сост. Т.И. Ерофеева. Пермь, 1998. 14 Кацнельсон 1980: Кацнельсон С.Д. Предисловие // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. Косарик 1995: Косарик М.А. К проблеме традиции и инновации в истории языкознания // Вестник Москов. университета, 1995, № 5. Кузнецов 1983: Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. М., 1983. Мечковская 1983: Мечковская Н.Б. Язык и общество // Общее языкознание / Под общей ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983. Мыркин 1994: Мыркин В.Я. Язык – речь – контекст – смысл. Архангельск, 1994. Ольховиков 1985: Ольховиков Б.А. Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания: Становление и эволюция грамматического описания в Европе. М., 1985. Ольховиков, Рождественский 1975: Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Введение // Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М.,1975. Храковский 1985: Храковский В.С. Концепция членов предложения в русском языкознании XIX в. // Грамматические концепции в языкознании XIX в. Л., 1985. 15 Проблемы языка в эпоху античности Мысли, подобно людям, имеют свою юность. Ф. Бэкон § 1. Античные традиции 1.1. К какому времени можно отнести начало учений о языке? Ко времени ли создания письменности, когда человеческий ум разрешил одну из труднейших задач – сумел фиксировать свою речь, или ко времени пробуждения интереса к языку в дописьменную эпоху? Ведь уже древние мифы и легенды разных народов свидетельствуют, что люди задумывались над тем, кто является творцом (или творцами) языка, почему существуют различные языки, как возникаюи слова. Примечательно, что само письмо осмысливалось как великий дар наиболее почитаемых богов. Например, в Древнем Египте – одной из древнейших цивилизаций – «иероглифическое, т.е. священное, письмо понималось как «слово бога», и важнейшая роль здесь принадлежала богу мудрости Тоту – Владыке слова бога, создателю письменности, покровителю литературы и писцов» (Древние 1989: 46). Есть свидетельства о том, что уже в древнейшую эпоху пытались разобраться, говоря современным языком, в механизме речи. Так, в «Мемфисском богословском трактате», время создания которого относят к III тыс. до н. э., возникновение языка связывается с творцом всего сущего – богом Птахом. Основными органами мироздания объявляются его сердце (по египетским представлениям – средоточие мысли) и язык, т.е. речь. Назначение языка состоит в том, чтобы «повторять задуманное сердцем», при этом «человеческие чувства (зрение, слух, обоняние) представляют материал для мысли, а уже речь выполняет замысленное» (Петровский 1980: 9). Однако ни создание письменности, ни интерес к различным проблемам языка в древнейшую эпоху не привели к формированию научных теоретических положений о языке. Это справедливо и по отношению к древним египтянам, и по отношению к шумерам, вавилонянам, хеттам, финикийцам и др. Вместе с тем нельзя не отметить, что древнейшая эпоха была временем накопления представлений о языковых явлениях, что диктовалось практическими потребностями обучения письму и чтению. Сохранившиеся школьные пособия и упражнения самих учеников свидетельствуют о значительном запасе знаний о разнообразных явлениях языка. Например, известны египетские списки служебных морфем, причем составленные в определенном порядке, что говорит о внимании к грамматическим фактам; сохранились перечни слов, сгруппированных по классам предметов, так, в «Рамессейском ономастиконе» (около XVIII в. до н. э.) собрано 323 слова, которые распределены по следующим группам: виды масел, птицы, рыбы, растения, животные и др. О внимании к фонетическим, грамматическим, лексическим явлениям можно судить по сохранившимся памятникам древней Месопотамии, среди которых и двуязычные списки, содержащие слова шумерского языка, ставшего в конце III тыс. до н. э. мертвым, и слова аккадского языка, пришедшего ему на смену. «Особый интерес для истории лингвистической науки представляют списки грамматического содержания» (Дьяконов 1980: 23), в которых не только даются некоторые парадигмы (например, местоимений, глаголов), но и, как предполагают, впервые используются собственно грамматические термины, поясняющие употребление шумерских или аккадских формантов. О высоком уровне эмпирических знаний свидетельствуют и особенности финикийской и угаритской письменности, в частности, угаритяне еще с середины II тыс. до н. э., а 16 финикияне с первой половины I тыс. до н. э. установили сигнализаторы, которые облегчали понимание слов, записанных консонантными знаками. Таким сигнализатором был какой-либо один гласный, характерный для данного слова, причем он использовался только в тех случаях, когда могло возникнуть затруднение в понимании слова. Следовательно, использование таких сигнализаторов, называемых matres lectionis, является особым способом фиксации огласовки (звучания) слова. Важно подчеркнуть, что создатели такого способа фиксации звучания «видели в совокупности гласных, имевшихся в слове, систему, благодаря чему оказывалось возможным обозначить один какой-то гласный звук, чтобы была ясна огласовка всего слова. Но это значит, что они подходили, если не подошли уже, к пониманию закономерностей огласовок слов различных классов и к выделению частей речи» (Шифман 1980: 58). Анализ имеющихся памятников приводит ученых к выводу, что уже к середине II тыс. до н. э. не только финикияне и угаритяне, но и другие народы Переднеазиатского Средиземноморья, чье культурное развитие происходило под финикийским влиянием, «выделяли в потоке речи гласные и согласные звуки (смыслоразличительные), слова как наименьшие значимые компоненты речи и имели представление об огласовке слова как системе, подходя, по всей видимости, к выделению классов слов в соответствии с различиями в их огласовке» (там же: 65). Выше приведено лишь несколько примеров, которые, однако, показывают стремление древних к систематизации языковых явлений и довольно глубокое проникновение в сущность многих из них. Между тем нет достаточных оснований говорить о теоретическом осмыслении языковых фактов, и все же было бы опрометчиво не признать достоверность и научность многих сведений о языке, содержащихся в древнейших памятниках. Поэтому вполне целесообразным кажется предложение Н.С. Петровского данный этап развития знаний о языке определить не как «ненаучный» или «донаучный», что явно не соответствует действительности, а как «протолингвистический». Вводя это понятие, ученый подразумевает под ним «ту стадию накопления языковых фактов и представлений, за которой непосредственно следует первая стадия уже вполне развитого лингвистического мышления, с характерными для него попытками философской и грамматической интерпретации фактов языковой действительности» (Петровский 1980: 16). 1.2. В истории древней цивилизации приблизительно в одно и то же время – в середине I тыс. до н. э. – начинают складываться три важнейшие лингвистические традиции: китайская, индийская и средиземноморская. Все три традиции возникли в рамках древней философии, знаменующей переход «от мифологического мировосприятия к мировоззрению, опирающемуся на знание, обретенное в интеллектуальном поиске» (Введение 1989: 80). Все три традиции можно назвать античными (в широком смысле этого слова). Чаще в европейской науке термин «античность» употребляется в узком смысле слова и обозначает греко-латинскую традицию. Между тем общность генезиса, а также постановка и решение сходных задач являются достаточным основанием для того, чтобы рассматриваемый период, длящийся почти тысячелетие, обозначить как период античных традиций языкознания. Античные традиции обладают рядом общих черт. В постановке проблем философии языка их объединяет интерес к происхождению имени и к выяснению соотношений между именем и вещью, т.е. между знаками языка и миром действительности. В решении конкретных языковых вопросов их объединяет прежде всего стремление к установлению правильности языковых фактов, к выработке норм языка, направленность исследований на понимание и интерпретацию письменных знаков и текстов в целом. Однако каждая из трех языковых традиций обладает и специфическими чертами. Немаловажную роль в их формировании играют типологические особенности языка и характер письменности. Китайская традиция формируется на основе иероглифической письменности, где каждый знак – иероглиф соотнесен с определенной смысловой единицей. Следовательно, 17 изучение письменных знаков и их комбинирования не находится в прямой зависимости от звучания иероглифа, хотя, конечно, определенная связь между записью смысла и звучанием существует. Сказанное объясняет сравнительно позднее изучение фонетики китайского языка. Кроме того, нельзя упускать из виду, что китайский язык является корнеизолирующим, это, в частности, обусловило позднее обращение к грамматическим явлениям, в отличие от индийской и средиземноморской традиций, с самого начала уделявших большое внимание фактам словоизменения. Для древнеиндийской и средиземноморской традиций общим является то, что языки, послужившие базой исследования, являются флективными, а в основе письменности лежит звуко-буквенный алфавит, который предполагает рассмотрение графических знаков в соотношении со звуками, отсюда ранний интерес к фонетическим и грамматическим явлениям. Отличие древнеиндийской традиции от средиземноморской состоит прежде всего в том, что она возникает из потребности уберечь от искажения сакральные тексты, передаваемые изустно. Поэтому вопрос о правильности речи оказывался предрешенным божественным происхождением канонических текстов, и, соответственно, исследования осуществлялись на базе этих текстов, общепризнанных и исчерпывающим образом определяющих правильное поведение человека. Древнегреческая традиция зарождается в ареале, характеризующемся наличием значительного количества диалектов и постепенным образованием «общего наречия» – койне. Вопрос о правильности речи не жестко был предопределен кругом канонических текстов, как в индийской традиции, поэтому необходимо было вырабатывать критерии правильности. Именно это определило движение лингвистической мысли. Вначале критерии правильности обсуждались в тесной связи с философской проблематикой, но постепенно ученые все определеннее сосредоточивались на обсуждении правильности языковых форм. Судьба трех важнейших традиций в истории языкознания различна. Влияние китайской традиции ограничено японским языкознанием и лингвистикой некоторых соседних с Китаем стран. Вместе с тем следует подчеркнуть, что «для описания ряда восточных языков китайские традиционные методы во многих случаях по-прежнему оказываются более пригодными (т.е. дают возможность сообщить более существенную информацию в более сжатой форме), чем европейские» (Яхонтов 1980: 92). Для нас сведения из истории китайских лингвистических учений важны прежде всего тем, что они позволяют представить древнюю традицию, которая возникла на почве языка, значительно отличающегося от европейских. Индийская традиция оказала существенное влияние на лингвистику многих стран Азии, учения древних индийцев были известны древним грекам. Знакомство с индийской культурой имело исключительное значение для европейцев конца XVIII – начала XIX в. Открыв для себя древний язык индийцев и написанные на нем тексты, европейцы обнаружили сходство санскрита с рядом древних европейских языков. Это вместе с другими факторами способствовало возникновению сравнительно-исторического направления в языкознании. Тесными узами со средиземноморской традицией связано не только языкознание средневековой Европы и средневекового Востока, но и лингвистика нового времени. Созданный греко-латинской традицией «концептуальный строй и понятийный аппарат науки о языке оказался в целом пригодным для описания как различных языков, так и наиболее общих свойств языка как особого явления» (Бокадорова 1990: 35). Кроме того, в эпоху античности были поставлены многие теоретические вопросы, которые оставались актуальными на протяжении веков и продолжают разрабатываться в наши дни: это проблема соотношения языка и действительности, сущности и природы слова, проблемы грамматических категорий и классификации частей речи, вопросы поэтики и важнейшие среди них – 18 вопросы о типах речи, о механизме образования тропов и фигур, о прагматике и стилистике текста и др. Средиземноморская традиция поистине – колыбель европейской науки о языке. Вопросы и задания 1. Можно ли о времени, предшествующем возникновению трех лингвистических традиций, говорить как об этапе донаучных знаний? Почему? 2. Какие проблемы и их решение позволяют рассматривать все три лингвистические традиции как единую античную традицию? 3. Назовите наиболее существенные черты, определившие отличие китайской традиции от индийской и средиземноморской традиций. Исходя из этого, подумайте, какие области науки о языке могли получить наибольшее развитие в каждой из традиций. 4. Какие наиболее существенные черты определили сходство развития индийской и греколатинской традиций? 5. Какую роль сыграла каждая из античных традиций в развитии лингвистических учений? § 2. Философские проблемы языка 2.1. Основная теоретическая проблема языка – о соотношении имени и сущности вещи – разрабатывалась в рамках философских учений всех трех античных традиций, причем заметно значительное сходство в ее решениях. Есть мнение, что общность взглядов на соотношение имени и вещи в определенной мере объясняется «структурным сходством разных мифологий» (Рождественский 1975: 33). Характерной особенностью начального этапа античной гуманитарной науки является наследуемое от мифологического мышления отождествление слова и вещи. Любая вещь представляет собой, с точки зрения древних, единство определенного комплекса неотторжимых от нее элементов, одним из таких элементов является имя. Это предопределяет своеобразное отношение к слову: во-первых, считается, что имя вещи отражает ее свойства, т.е. устанавливается в соответствии с признаками вещи – по ее природе; вовторых, поскольку имя не существует вне вещи, постольку, «совершая какие-либо операции над именем, мы воздействуем на вещь, подчиняя ее нашей воле» (Античные теории 1936: 9), т.е., иначе говоря, слово обладает магической функцией. Такое же понимание слова обнаруживается в разных высказываниях древних. Так, китайский философ Конфуций (около 551 – 479 гг. до н. э.) на вопрос, что бы он сделал, став правителем, ответил: «Самое необходимое – это исправление имен!», т.е. приведение их в надлежащий порядок. Напомним, что, согласно конфуцианским канонам, правила жизни и всего сущего в мире даны изначально всеобщим прародителем и великим управителем («Тянь», т.е. Небом). Поэтому правильное имя соответствует установленному порядку, помогает постигать мир, приобретать различные знания и жить в гармонии с миром. Для любой мифологии характерно признание творца, создателя имен и вещей. Это обусловлено тем, что древние всякий процесс мыслили по аналогии с трудовым процессом, поэтому не только вещь кто-то «сделал» или «нашел», но и слово имеет своего творца, изобретателя. Например, «в ведийской мифологии «установление имен» равнозначно акту творения. Поэтому в «Ригведе» Господин речи (таково одно из определений Вашвакармана, божественного творца вселенной) – одновременно и Всеобщий ремесленник, ваятель, плотник, создавший небо и землю; он же – вдохновитель священной поэзии и покровитель состязаний в красноречии» (Мечковская 1998: 57). Греческая мифология не выделяет никакого определенного персонажа в качестве творца имен, но само представление об «установителе имен» – «ономатотете» – встречается в трудах греческих философов, в том числе и у Платона. 19 Итак, мысль о том, что всякое имя кем-то изобретено, создано, еще одна характерная черта мифологии. Обратим внимание на важное замечание И.М. Тронского о том, что «представления об акте установления имени и о неразрывной связи имени с вещью отнюдь не являются взаимоисключающими друг друга: ономатотет либо «находит» в вещи ее имя, либо в акте наименования присваивает вещи нечто, становящееся ей отныне присущим; ибо, только получив имя, вещь приобретает полную реальность» (Античные теории 1936: 9). Совершенно очевидно, что такой взгляд на связь имени и вещи вполне естественно определяет цели и методы исследования древних: посредством нахождения в производных словах первичных слов и анализа последних они стремились прийти к познанию сущности предметов реального мира. С этим, кстати, связано существенное отличие этимологии древних от современного понимания данной области лингвистики. Таким образом, для древних слово – «всеобъединяющее начало», оно помогает постигать и объяснять мир, оно образует все разумное: и в смысле мирового разума (логоса), и в смысле разумности отдельного человека. Поэтому слово требует внимательного к себе отношения, его нужно правильно создавать и применять, чтобы не нарушать порядок в обществе. Смысл теории наименования состоит в том, чтобы уметь устанавливать гармоническую целесообразность общества и мировой порядок одновременно (Рождественский 1975: 35–36). Вопрос о соотношении имени и вещи волновал умы ученых на протяжении многих веков. Насколько известно, в греческой философии еще в начале V в. до н. э. природная связь между именем и вещью по сути не подвергалась сомнению. Однако в это время проблема приобретает новый аспект. Так, в трудах Парменида (родился около 540 г. до н. э.) и Гераклита Эфесского (около 544/540 – 480 г. до н. э.) ставится вопрос о том, обладает ли человеческая речь возможностью выразить объективную действительность. Парменид считает, что человеческая речь ложна в самой своей основе, как и все, что относится к сфере воспринимаемого чувствами: «картина мира, внушаемая нам чувствами, не истинная, иллюзорная» (Асмус 1976: 46). Но из этого еще не следует, что Парменид отрицает природную связь имени и вещи, потому что для него «мысль и предмет мысли – одно и то же <...>, мысль – это всегда мысль о предмете. Мысль не может быть отделена от своего предмета, от бытия» (там же: 45). Гераклит, напротив, уверен, что на вопрос, обладает ли человеческая речь возможностью выразить объективную действительность, следует дать положительный ответ. Но его прежде всего интересует вопрос о том, возможно ли в отдельном слове выразить противоречивую сущность явлений, поскольку он исходит из того, что любое явление представляет собой единство противоположностей. Анализируя взгляды Гераклита, В.В. Каракулаков приходит к выводу, что греческий мыслитель считает полностью соответствующими «природе» вещей только те «имена, которые охватывают, именуют предметы и явления в единстве противоположностей» (Каракулаков 1966: 103). В качестве примера можно привести сопоставление слов, данное самим Гераклитом (правда, смыслоразличительная функция ударения остается здесь неучтенной): «Итак, луку (βιός) имя жизнь (βίος), а дело его – смерть» (Античные теории 1936: 31), т.е. одно и то же, с точки зрения Гераклита, слово выражает противоречивую сущность явления. Таких слов, по мнению Гераклита, немного, но именно они полностью и правильно отражают соответствие «природе» вещей. Таким образом, по-видимому, можно сказать, что рассуждения Парменида и Гераклита, которые делают прямо противоположные выводы о возможности человеческой речи выразить объективную действительность, еще не приводят к отрицанию природной связи между именем и вещью. Однако в учениях этих философов можно обнаружить элементы, которые подрывают традиционный мифологический подход к решению названной проблемы и ведут к формированию новой точки зрения – об условной связи между предметом и его названием, которая возникает по договоренности (по договору). 20 Для признания новой точки зрения были веские аргументы, например, такие, которые Прокл (V в. н. э.) приписывает Демокриту (около 470 – 380 гг. до н. э): это название различных вещей одним словом, обозначение одной вещи разными словами, переименование вещей, наличие вещей, не имеющих имен (т.е. отсутствие словообразовательных параллелей, например, мысль – мыслить, но существительное справедливость не имеет однокоренного глагола). Вопрос о том, действительно ли Демокрита можно отнести к сторонникам условной связи между именем и вещью, нередко дискутируется, высказываются мнения, что он выступал лишь против крайностей «природной» теории, но даже при самой осторожной оценке можно сказать, что верх в его учении берет взгляд об условной связи между именем и вещью. Аналогично решался данный вопрос и в китайской традиции, где условную связь между словом и вещью признавали философы даосского направления (вторая половина I тыс. до н. э.). Позже, в III в. до н. э., китайским ученым Сюнь Куаном была предпринята попытка синтезировать оба подхода: «Нет изначальной связи между названием и реальностью, название дается людьми по договоренности; но когда название становится привычным, его привычное употребление считается правильным» (Яхонтов 1980: 95). В греческом языкознании на исходе V в. до н. э. и после этого времени к вопросу о соотношении имени и вещи обращались многие мыслители, в том числе Платон, Аристотель, Хрисипп, Эпикур и др. Эту лингвистическую проблему восприняли и древние римляне. Со многими нюансами в разработке данной проблемы вы познакомитесь, читая приведенные ниже фрагменты диалога «Кратил». Современные исследователи именно с постановкой вопроса о соотношении имени и вещи и решением его в направлении «вещь – слово» связывают зарождение ономасиологического направления: «Ономасиологические установки, выработанные в рамках философии языка, перешли в александрийскую грамматику и развивались в рамках семасиологической грамматики, однако в ней они были подчинены ее семасиологическим задачам, которые состояли в систематизации формальных структур языка и описании их функций» (Даниленко 1988: 111–112). 2.2. В середине I в. до н. э. римская наука ознаменовалась философской поэмой Тита Лукреция Кара (около 98 – 55 гг. до н. э.) «О природе вещей» (De rerum natura), которая, как пишет В. Асмус в предисловии к русскому изданию, была изложением «всей философии материализма: и теории познания, и учения о человеке, и, наконец, этики <...>. Поэма Лукреция поднимает завесу, открывающую рождение таких высоко развитых теоретических построений, какими являются философские учения Демокрита и Эпикура. Она наглядно показывает происхождение философской абстракции из чувственного опыта, доступного всем и каждому» (Лукреций 1937: 11–12). Автор поэмы “О природе вещей” предстает не только как ученик и продолжатель греческого мыслителя Эпикура (III в. до н. э.), но и как зрелый самостоятельный философ. Изложение идей Эпикура на латинском языке было непростой задачей для Лукреция, потому что в то время римская наука еще не имела достаточно разработанной философской терминологии. Но Лукреций, обладая исключительным поэтическим даром, блестяще передает все тонкости материалистической физики, теории познания и психологии Эпикура. Более того, он развивает многие положения греческого мыслителя и передает с поразительной поэтической силой «идею неистребимости, вечности и неоскудевающей производительности жизни в целом, в ее последних материальных элементах» (Лукреций 1937: 15). В пятой книге поэмы Лукреций рисует широкую философско-поэтическую картину развития человечества и здесь же рассказывает о происхождении языка и письма. Всесторонняя аргументация, многочисленность примеров и сопоставлений, которые дает Лукреций, несомненно, говорят о наличии иных в то время точек зрения, о необходимости доказывать выдвигаемые положения о естественном происхождении языка. Чтобы почувство21 вать стиль поэта-мыслителя и разобраться в его идеях по этим вопросам, лучше всего самим прочитать один из фрагментов поэмы (Лукреций 1937: 206–208). Что же до звуков, какие язык производит, – природа Вызвала их, а нужда подсказала названья предметов Тем же примерно путем, как и малых детей, очевидно, К телодвиженьям ведет неспособность к словам, понуждая Пальцем указывать их на то, что стоит перед ними. Чувствует каждый, на что свои силы способен направить: Прежде еще, чем на лбу у теленка рога показались, Он уж сердито грозит и враждебно бодается ими; И не успели еще зародиться ни когти, ни зубы У молодого потомства пантер и у львят, как они уж Когтем и лапою бьют и пускают в защиту укусы. Птичий весь, далее, род полагается, видим, на крылья И охраняет себя движением трепетным перьев. А потому полагать, что кто-то снабдил именами Вещи, а люди словам от него научились впервые, – Это безумие, ибо, раз мог он словами означить Всё и различные звуки издать языком, то зачем же Думать, что этого всем в то же время нельзя было сделать? Кроме того, коли слов и другие в сношеньях взаимных Не применяли, откуда запало в него представленье Пользы от этого иль возникла такая способность, Чтобы сознанье того, что желательно сделать, явилось? Также не мог он один насильно смирить и принудить Многих к тому, чтоб они названья вещей заучили. Да и ко слову глухих не легко убедить и наставить В том, как им надобно быть: они бы совсем не стерпели И не снесли бы того, чтобы их ушам понапрасну Надоедали речей дотоле неслыханным звуком. Что же тут странного в том, наконец, если род человека Голосом и языком одаренный, означил предметы Разными звуками всё, по различным своим ощущеньям? <...> Да и крылатая птиц, наконец, разновидных порода – Ястреб, гагара, скопа, – когда они по морю ищут В волнах соленых себе пропитанье и корм добывают, То по-иному совсем кричат в эту пору обычно, Чем если спорят за корм или борются с самой добычей. Также иные из них с переменой погоды меняют Хриплое пенье свое, например, ворон долговечных Племя и воронов стаи, когда, – говорят, – призывают Сырость они и дожди или ветр накликают и бури. Стало быть, коль заставляют различные чувства животных Даже при их немоте испускать разнородные звуки, Сколь же естественней то, что могли первобытные люди Каждую вещь означить при помощи звуков различных? К более поздним достижениям человеческого разума Лукреций справедливо относит изобретение письма, связывает этот факт с прогрессом в развитии человечества, наряду с развитием городов, судостроения, обработки полей, оружейного дела и с появлением других изобретений, которые «выводит время, а разум людской доводит до полного блес22 ка», «до вершин совершенства» (там же: 218). Изобретение письма, надо полагать, – это и возможность запечатлеть все человеческие дела, что же касается времени, когда не было письма, то Лукреций пишет: «о том, что до этого было, не знаем иначе, как по следам, истолкованным разумом нашим» (там же). Б.В. Якушин, анализируя поэму Тита Лукреция Кара, пишет, что римский философ «возможно, первым выдвигает гипотезу, которая впоследствии была названа эмоциональной» (Якушин 1985: 55), при этом ученый подчеркивает особую значимость идеи Лукреция о том, что впечатления человека о вещи вызываются не простым ее созерцанием, а осознанием ее полезных или вредных свойств, на что до сих пор не всегда обращают внимание философы и лингвисты. После этапа эмоциональных выкриков люди, с точки зрения Лукреция, сами стали «конструировать» имена соответственно впечатлениям, которые производили на них вещи. Кстати, методы такого конструирования излагает Сократ в диалоге «Кратил», когда обращается к этимологии, отыскивая первичные имена. К эпохе античного языкознания восходит и звукоподражательная гипотеза происхождения языка (например, в учении стоиков). Таким образом, в вопросе о происхождении языка, который осмысливался прежде всего как вопрос о происхождении звуковой стороны слов, «античная философия фактически высказала почти все возможные точки зрения, которые впоследствии главным образом углублялись или комбинировались. Если философ считал, что язык создан «по установлению», то он должен, естественно, отвечать на вопрос, кто его «установил» <...>. Если же философ полагал, что язык создавался главным образом «по природе», то его гипотеза утверждала или то, что словам соответствуют свойства вещей, или то, что им соответствуют свойства человека (его поведения), или то и другое вместе» (там же: 6). 2.3. В индийской философии внимание к проблемам языка, его способности выразить действительность не ослабевало практически на всех этапах ее развития. Широкий круг лингвофилософских вопросов затрагивает один из крупнейших теоретиков Индии Бхартрихари (V – VI вв. н. э.). В учении Бхартрихари тесно спаяны представления о вселенной и языке. Высшей реальностью, не имеющей ни начала, ни конца, мировой духовной субстанцией признается Брахман, в одном из своих значений – ‘слово-сущность’. «Брахман есть Единое, которое реализует себя в различных эмпирических формах» (Катенина, Рудой 1980: 87–88) и порождает все предметы и явления в форме слова. Данное определение основывается на положении о том, что все мысли и все знания изначально тесно сплетены со словом, их выражающим. Следовательно, ‘слово-сущность’ (брахман) потенциально включает все предметы и явления и выражающие их слова, т.е. состоит из выражаемого и выражающего (обозначаемого и обозначающего). Соответственно с этим развертывание ‘слова-сущности’ описывается в двух видах: 1) статическом, представленном всем многообразием объектов, существующих в пространстве, и 2) динамическом, представляющем собой всю совокупность действий и процессов, происходящих во времени. Нетрудно заметить, что это соответствует двум главным частям речи – имени и глаголу. В полном согласии с представлениями о ‘слове-сущности’ Бхартрихари решает вопрос о связи сознания со словом. Поскольку Брахман – высшая духовная субстанция, проявляющаяся во всем, постольку, естественно, сознание неразрывно связано со словом, и эта связь наблюдается даже у новорожденного. Ребенок рождается, обладая «семенами» знаний и умений, эти «семена» представляют собой остаточные следы языка из его предыдущей жизни (что в принципе отражает религиозные воззрения индийцев). Пробуждаются эти «семена» под действием энергии, порожденной его поступками в прежней жизни. Философ считает, что если бы отсутствовало остаточное знание языка, то никакое бы обучение не помогло передать ребенку способность понимать жизненные ситуации (не предвосхищение ли это идеи о врожденной способности к языку?). 23 Для Бхартрихари, конечно, слово и сознание тождественны, однако интересно, что он рассматривает три стадии, которые проходит Слово до своей реализации в естественном языке: 1) слово лежит вне обыденного употребления, вне времени и пространства, вечно и неделимо, выступает как внутренний свет – «тонкое слово», 2) слово лежит в сфере разума человека, ментальное слово, не воспринимаемое другими и 3) артикулируемое слово, т.е. речь, которую используют люди в повседневной жизни, такая речь бесконечно многообразна, может быть правильной и неправильной. Именно эта речь является предметом грамматики как науки о правильном употреблении слов. С точки зрения общей теории языка, особый интерес представляет собой вторая стадия – спхота, т.е. ментальное слово. Спхота – центральное понятие учения Бхартрихари – и обозначает то, что обусловливает возможность языкового общения. По сути спхота рассматривается как неделимый языковой символ, обладающий целостным смыслом, а целостный смысл может быть выражен только посредством предложения. Аргументируя данное положение, Бхартрихари говорит даже о том, что расчленение предложения на слова и их деление на классы глаголов, имен и т.д., а также выделение корней и суффиксов представляют собой лишь удобное средство для изучения языка и не заключают в себе никакой реальности (Катенина, Рудой 1980: 91). Таким образом, Бхартрихари в качестве центральной единицы выдвигает предложение, слова же вычленяются из него и получают обусловленные им значения. Это идея очень интересна в рамках античной традиции, если учесть, что в то время преобладала мысль о предложении как соединении слов. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что, по Бхартрихари, слова хоть и проявляются только через предложение, существуют и вне предложений, т.е. существуют в сознании. Все названные особенности слова позволяют предположить, что Бхартрихари уже осознавал различие языковых и речевых единиц. Понимание природы и сущности языка в учении Бхартрихари со всей очевидностью показывает и неразрывную его связь со своим временем, и включенность в него более ранних воззрений, и рациональные ростки того нового, что еще предстоит осмыслить лингвистам будущего. Вопросы и задания 1. Чем вызвано понимание «природной» связи между именем и вещью на первоначальном этапе развития лингвофилософии? Какой функцией языка обусловлены эти взгляды? 2. Подумайте, какие изменения в культурной жизни в целом могли вызвать появление взгляда на «условную» связь (по договору) между именем и вещью и как это проявилось в размышлении отдельных философов? 3. В чем проявляется общность в решении проблемы о соотношении имени и вещи в разных античных традициях и как вы можете объяснить данный факт? 4. Существует мнение, что проблема происхождения языка в античной традиции осмысливалась прежде всего как вопрос о звуковой стороне языка, как вы это понимаете? Какие стороны данной проблемы, известные вам из более поздних исследований, не получили освещения в античной традиции? 5. Познакомьтесь с книгой Б.В. Якушина (Якушин 1985). Составьте таблицу, выделив различные гипотезы о происхождении языка, выдвигаемые античными учеными (первый столбец), приведите аргументы каждого из них (второй столбец). В третьем столбце отразите сведения о том, в каком веке, кем и как данные гипотезы поддерживались или развивались. 6. Является ли поэма Лукреция Кара подтверждением мысли о преемственности или заимствовании римскими учеными положений греческих философов? Почему? Определите значение поэмы Лукреция. 7. Какие аргументы выдвигает Лукреций Кар в пользу естественного происхождения языка? 24 8. Какие положения о языке в учении Бхартрихари обусловлены религиознофилософскими воззрениями? Как вы оцениваете эти положения? 9. Есть ли основания согласиться с мнением Бхартрихари о том, что расчленение предложения на различные языковые единицы (слова, корни и т.п.) вызвано лишь удобством научного изучения и не обладает реальностью? Чтение и анализ научной литературы Диалог Платона «Кратил» – основной источник сведений о взглядах великого мыслителя на центральную проблему античной философии языка – теорию именования. «Это уникальное во всей античности сочинение не только рассматривает правильность имен как предписание общего порядка, но и раскрывает методы создания правильных имен и делает это путем объективного анализа самой ситуации именования. Вот почему «Кратил» всегда входит в любой курс истории языкознания» (Рождественский 1975: 36). Истолкованию этого диалога посвящена более обширная литература, чем любому другому сочинению Платона, хотя полная ясность в его интерпретации не достигнута, более того, считается, что «едва ли когда-нибудь удастся дать такой вполне безупречный анализ, который уже не подлежал бы никакой серьезной критике» (Лосев 1994: 826). В диалоге участвуют три действующих лица: Кратил и Гермоген, которые высказывают противоположные точки зрения на характер отношения между вещью и ее наименованием, и привлекаемый для решения спора Сократ, устами которого Платон обычно высказывает свое мнение. Ниже приведены фрагменты диалога для чтения и осмысления, вопросы и задания. Слова, данные курсивом и заключенные в квадратные скобки, представляют собой выделенный составителем тематический вопрос диалога, а номер в них обозначает соответствующие ему примечания к тексту. В тексте диалога приняты следующие сокращения: С. – Сократ, Г. – Гермоген, К. – Кратил. См. полный текст: Платон. Собр. соч. в четырех томах. Т.1. М., 1994. С. 613 – 680. <...> Г. Кратил вот здесь говорит, Сократ, что существует правильность имен, присущая каждой вещи от природы, и вовсе не та произносимая вслух частица нашей речи, которой некоторые из нас договорились называть каждую вещь, есть имя, но определенная правильность имен прирождена и эллинам, и варварам, всем одна и та же. <...> Так вот, если ты можешь как-то истолковать это Кратилово пророчество, я бы выслушал с удовольствием. А лучше, с еще большим удовольствием я узнал бы, что сам ты думаешь о правильности имен. <...> С. <...> Однако я уже говорил: узнать вещи такого рода трудно, а нужно сообща сопоставить наши мнения и посмотреть, так ли обстоит дело, как говоришь ты или как Кратил. Г. Так ведь что до меня, Сократ, то я часто и с ним разговаривал, и со многими другими, но ни разу меня не убедили, будто правильность имени есть что-то другое, нежели договор и соглашение. Ведь мне кажется, какое имя кто чему-либо установит, такое и будет правильным. Правда, если он потом установит другое, а тем, прежним, именем больше не станет это называть, то новое имя будет ничуть не менее правильным, нежели старое; ведь когда мы меняем имена слугам [1], вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде. Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть <...> [Критика теории условного происхождения имен] ... я могу называть любую вещь одним именем, какое я установил, ты же – другим, какое дал ты. То же самое я наблюдаю и в городах – иногда одни и те же вещи в каждом городе называются особо, у одних эллинов не так, как у других, и у эллинов не так, как у варваров. 25 С. Что ж, давай посмотрим, Гермоген. Может быть, тебе и относительно вещей все представляется так же, а именно, что сущности вещей для каждого человека особые, по словам Протагора, утверждающего, что «мера всех вещей – человек», и, следовательно, какими мне представляются вещи, такими они и будут для меня, а какими тебе, такими они будут для тебя? <...> Г. Я могу сказать, Сократ, что уже однажды в поисках выхода я пришел было к тому, чему учит Протагор; однако мне вовсе не кажется, что дело обстоит именно так. <...> С. Однако, я думаю, ты не считаешь также вместе с Евтидемом [2], что все вещи постоянно для всех людей одинаковы. Ведь не было бы людей ни хороших, ни дурных, если бы сразу и одинаково для всех и всегда существовали добродетель и порочность. Г. Это правда. С. Итак, если не все сразу одинаково для всех и всегда и если не особо для каждого существует каждая вещь, то ясно, что сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность безотносительно к нам и независимо от нас и не по прихоти нашего воображения их влечет то туда, то сюда, но они возникают сами по себе, соответственно своей сущности. Г. Я полагаю, Сократ, так оно и есть. С. Тогда, может быть, сами они возникли таким образом, а вот действия их происходят иным способом? Или и сами они представляют собою один какой-то вид сущего, эти действия? Г. Ну, конечно же, и они сами. С. В таком случае и действия производятся в соответствии со своей собственной природой, а не согласно нашему мнению. Например, если бы мы взялись какую-либо вещь разрезать, то следует ли это делать так, как нам заблагорассудится, и с помощью того орудия, какое нам заблагорассудится для этого выбрать? Или только в том случае, если мы пожелаем разрезать вещь в соответствии с природой разрезания, то есть в соответствии с тем, как надо резать и подвергаться разрезанию, и с помощью какого орудия, данного для этого от природы, – лишь тогда мы сможем эту вещь разрезать и у нас что-то получится, и мы поступим правильно? И с другой стороны, если мы будем действовать против природы, то совершим ошибку и ничего не добьемся? Г. Я думаю, это так. <...> С. А говорить – не есть ли одно из действий? Г. Да. <...> С. Эти действия, как мы уже выяснили, существуют безотносительно к нам и имеют какую-то свою особую природу? Г. Верно. С. В таком случае и давать имена нужно так, как в соответствии с природой вещей следует их давать и получать, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится <...>. Ты не знаешь, кто передал нам имена, которыми мы пользуемся? Г. Право, не знаю. С. Не кажется ли тебе, что их дал закон? <...> А как ты полагаешь, законодателем может быть любой человек или тот, кто знает это искусство? Г. Тот, кто его знает. <...> С. Итак, давай посмотрим, на что обращает внимание законодатель, устанавливая имена. А рассмотрим мы это, исходя из ранее сказанного. На что обращает внимание мастер, делая челнок? Вероятно, на что-нибудь такое, что самой природой предназначено для тканья? Г. Разумеется. 26 С. Что же, а если во время работы челнок у него расколется, то делая новый, станет ли он смотреть на расколовшийся челнок или на тот образец (ει̃δος – Т.С.), по которому он его делал? Г. На тот образец, я думаю. С. Не вправе ли мы сказать, что этот образ и есть то, что мы называем челноком? <...> А посему, если нужно сделать челнок для легкой ткани, либо для плотной, <...> или какой-нибудь другой, разве не должны все эти челноки прежде всего иметь образ челнока, а затем уже, какой челнок по своей природе лучше всего подходит для каждого вида ткани, такие свойства при обработке ему и придать? <...> Так вот и с другими орудиями: отыскав для каждого дела орудие, назначенное ему от природы, человек должен и тому, из чего он создает изделие, придать не какой угодно образ, но такой, какой назначен природой. <...> Таким образом, бесценнейший мой, законодатель, о котором мы говорили, тоже должен уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, какое в каждом случае назначено от природы. Создавая и устанавливая всякие имена, он должен также обращать внимание на то, что представляет собою имя как таковое, коль скоро он собирается стать полновластным учредителем имен. И если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же словах, это не должно вызывать у нас недоумение. Ведь и не всякий кузнец воплощает одно и то же орудие в одном и том же железе: он делает одно и то же орудие для одной и той же цели; и пока он воссоздает один и тот же образ [3], пусть и в другом железе, это орудие будет правильным, сделает ли его кто-то здесь или у варваров. Так? Г. Разумеется. С. Следовательно, ты так же судишь и о законодателе, будь он здешний или из варваров. Пока он воссоздает образ имени, подобающий каждой вещи, в каких бы то ни было слогах, ничуть не хуже будет здешний законодатель, чем где-нибудь еще. <...> Гермоген, боюсь, что не такое уж это ничтожное дело – установление имени, и не дело людей неискусных или случайных. И Кратил прав, говоря, что имена у вещей от природы и что не всякий мастер имен, а только тот, кто обращает внимание на присущее каждой вещи по природе имя и может воплотить этот образ в буквах [4] и слогах. Г. Я не могу, Сократ, должным образом возразить на твои слова, и в то же время нелегко так внезапно чему-то поверить. Но мне сдается, я поверил бы тебе скорее, если бы ты мне показал, что, собственно, ты называешь правильностью имени от природы. С. Я-то, дорогой мой Гермоген, ни о какой такой правильности не говорю; ты забыл, что я говорил немногим раньше: я этого, пожалуй, не знаю, но исследую вместе с тобой. Теперь же, пока мы это рассматривали, ты и я, многое уже прояснилось в сравнении с прежним: и что у имени есть какая-то правильность от природы, и что не всякий человек способен правильно установить это имя для какой-либо вещи. Не так ли? Г. Именно так. [Вопрос о правильности имен] С. В таком случае нам нужно продолжить наше исследование, если, конечно, ты желаешь знать, в чем состоит правильность имени. Г. Как раз это я и желаю знать. С. Тогда смотри. Г. Как же нужно смотреть? С. Правильнее всего, дружище, делать это вместе со знающими людьми <...>. Ну если тебе и это не нравится, остается учиться у Гомера и у других поэтов. Г. А что, Сократ, говорит Гомер об именах? И где? С. Во многих местах. А больше и лучше всего там, где он различает, какими именами одни и те же вещи называют люди и какими боги. Или ты не находишь, что как раз здесь им сказано нечто великое и удивительное по поводу правильности имен? Ведь совершенно ясно, что уж боги-то называют вещи правильно – теми именами, что определены от природы. Или ты не находишь? 27 Г. О, конечно, я прекрасно знаю, что если они что-то называют, то называют правильно. Но о чем именно ты говоришь? С. Разве ты не знаешь, что тот поток в Трое, который единоборствовал с Гефестом, боги, по словам Гомера, называют Ксанфом, а люди – Скамандром? [5] <...> Так как же? Не находишь ли ты, что очень важно, почему, собственно, более правильно этот поток называть Ксанфом, нежели Скамандром? <...> Правда, это может оказаться несколько выше нашего с тобой понимания. А вот имена Скамандрий и Астианакт вполне в человеческих силах рассмотреть, как мне кажется. Имена эти, по словам Гомера, были у Гекторова сына <...>, он думал, что более правильно звать мальчика Астианактом, нежели Скамандрием? Г. Очевидно. С. Посмотрим же, почему это так. Ведь он говорит: Ибо один защищал ты врата и троянские стены, (Гектор ...) [6] Именно поэтому, как видно, правильно называть сына хранителя города Астианактом, то есть владыкой того города, который, по словам Гомера, защищал его отец. Г. По-моему, да. С. Так в чем же тут дело? Ведь сам-то я здесь ничего не пойму, Гермоген. А ты понимаешь? Г. Клянусь Зевсом, тоже нет. С. Однако, добрый мой друг, имя Гектора тоже установил сам Гомер? Г. Ну и что? С. А то, что, мне кажется, оно чем-то близко имени Астианакта, и оба этих имени похожи на эллинские. Слова αναξ (владыка) и εκτωρ (держатель) значат почти одно и то же, имена эти – царские. Ведь над чем кто владыка, того же он и держатель. Ясно ведь, что он вместе и властвует, и обладает, и держит. Или тебе кажется, что я говорю вздор и обманываю себя, думая, что напал на след Гомерова представления о правильности имен? Г. Клянусь Зевсом, вовсе нет. Как мне кажется, ты и правда на что-то такое напал. <...> С. Прекрасно. Вот и последи за мной, чтобы я как-нибудь не сбил тебя с толку. <...> если у царя появится потомок, его следует называть царем. А теми же ли слогами или другими будет обозначено одно и то же – не имеет значения. И если какая-то буква прибавится или отнимется, неважно и это, доколе остается нетронутой сущность вещи, выраженная в имени. Г. Как это? С. Здесь нет ничего хитрого. <...> Ведь от царя будет царь, от доброго – добрый и от славного – славный. И во всем остальном так же <...>. Можно, правда, разнообразить слоги, чтобы человеку неискушенному казалось, что это разные имена, в то время как они одни и те же. Как, скажем, снадобья врачей, разнообразные по цвету и запаху, кажутся нам разными, в то время как они одни и те же, а для врача, когда он рассматривает их возможности, они кажутся тождественными и не сбивают его с толку своими примесями. Так же, наверно, и сведущий в именах рассматривает их значение, и его не сбивает с толку, если какая-то буква приставляется, переставляется или отнимается или даже смысл этого имени выражен совсем в других буквах. Точно так же обстоит с тем, о чем мы здесь говорили: имена Астианакс и Гектор не имеют ни одной одинаковой буквы, кроме теты, но тем не менее означают одно и то же. Да и что общего в буквах имеет с ними Археполис? [7] А выражает тем не менее то же. И есть много других имен, которые означают не что иное, как «царь». А еще другие имена значат «воевода», как Агис, Полемарх или Евполем <...>. Вероятно, мы найдем и много других имен, которые разнятся буквами и слогами, а смысл имеют один и тот же. Это очевидно. Не так ли? 28 Г. Да, весьма очевидно. С. <...> Откуда, по-твоему, нам следует теперь начать рассмотрение? Г. <...> Не могли бы мы рассмотреть имена богов по тому же способу <...>? С. Клянусь Зевсом, Гермоген! Пока мы в здравом уме, для нас существует только один способ, по крайней мере наилучший: сказать, что о богах мы ничего не знаем – ни о них, ни об их именах, как бы там каждого ни звали. <...> Так что, если хочешь, давай рассмотрим эти имена, как бы предупредив сначала богов, что о них мы ни в коем случае не будем рассуждать, поскольку не считаем себя достойными это делать, но будем рассуждать о людях и выяснять, какое представление о богах те имели, когда устанавливали для них имена. <...> Так вот, я думаю, милый мой Гермоген, что первые учредители имен не были простаками, но были вдумчивыми наблюдателями небесных явлений и, я бы сказал, тонкими знатоками слова. <...> Г. А что ты хотел сказать, Сократ? <...> С. Мне кажется, я вижу Гераклита, как он изрекает древнюю мудрость о Кроносе и Рее; у Гомера, впрочем, тоже есть об этом. Г. Это ты о чем? С. Гераклит говорит где-то: «все движется и ничто не остается на месте», а еще, уподобляя все сущее течению реки (ροή), он говорит, что «дважды тебе не войти в одну и ту же реку». <...> Ты полагаешь, далек был от этой мысли Гераклита тот, кто установил прародителям всех остальных богов имена Реи и Кроноса? [8] Или, по-твоему, у Гераклита случайно, что имена обоих означают течение? <...> Г. Мне кажется, ты дельно говоришь, Сократ. <...> А как же огонь и вода? С. Огонь? Затрудняюсь сказать. <...> А все же смотри, какое ухищрение я придумал для всего того, что я затруднился бы объяснить. <...> Смотри же, что я здесь подозреваю. Мне пришло в голову, что многие имена эллины заимствовали у варваров, особенно же те эллины, что живут под их властью. Г. Так что же? С. Если кто-либо возьмется исследовать, насколько подобающим образом эти имена установлены, исходя из эллинского языка, а не из того, из которого они, как оказывается, взяты, то понятно, что он встанет в тупик. Г. И поделом. С. Взгляни теперь, может быть, и это имя – «огонь» (πυ̃ρ) – варварское? Ведь эллинскому наречию и справиться с ним нелегко, да к тому же известно, что так его называют фригийцы, лишь немного отступая от этого произношения; то же самое относится к именам «вода» (υδωρ), «собаки» (κύνες) и многим другим. [9] <...> Ну ладно. Что же у нас было за этим? Г. Времена года, Сократ. <...> С. «Времена года» (ωραι) нужно произносить по-аттически (οραι), как и встарь, если хочешь знать вероятное их значение. Они так называются по праву, ибо как бы отгораживают (οριζουσιν) зиму от лета, время бурь от времени, когда земля дает плоды. <...> лишь старое имя выражает замысел учредителя. <...> Оно, видимо, более правильно установлено, нежели теперешнее <...>. Г. Мне кажется, Сократ, ты здорово разобрал. Ну а если кто-нибудь спросил бы тебя: а «шествующее», «текущее», «обязывающее» – какая правильность у этих имен? С. Что бы мы ему ответили, говоришь ты? Так? Г. Вот именно. С . Так ведь одно мы уже изобрели, позволяющее нам казаться людьми, рассуждающими дельно. <...> А вот: считать чем-то варварским то, чего мы не знаем. Какие-то имена, может быть, и правда таковы; но может быть, что причина недоступности смысла первых имен – в их глубочайшей древности: ведь после всевозможных извращений имен не удивительно, что наш древний язык ничем не отличается от нынешнего варварского. 29 Г. Твои слова не лишены смысла. С. Да ведь я говорю очевидные вещи. Впрочем, мне кажется, дело не терпит отлагательств, и нам нужно обратиться к его рассмотрению. Вдумаемся же: если кто-то непрестанно будет спрашивать, из каких выражений получилось то или иное имя, а затем начнет так же выпытывать, из чего эти выражения состоят, и не прекратит этого занятия, разве не появится в конце концов необходимость отказать ему в ответе? Г. Я допускаю это. С. Так когда же отвечающий вправе будет это сделать? Не тогда ли, когда дойдет до имен, которые уже выступают как бы в качестве первоначал, из которых состоят другие имена и слова? Ведь мы не вправе подозревать, что и они состоят из других имен, если они действительно простейшие. <...> Значит и те имена, о которых ты спрашиваешь, могут оказаться простейшими, и нужно уже другим каким-то способом рассматривать, в чем состоит их правильность? <...> Ведь все слова, о которых мы уже говорили, видимо, восходят как раз к таким именам. Если это правильно, – а мне кажется, что это так, – посмотри тогда вместе со мной, не вздор ли я несу, рассуждая о том, какова правильность первых имен? Г. Ты только говори, а я уж буду следить за рассуждением вместе с тобой, насколько я в силах. С. Ну с тем, что у всякого имени, и у первого, и у позднейшего, правильность одна и та же и ни одно из них не лучше другого как имя, думаю я, и ты согласен? Г. Разумеется. С. Далее, у тех имен, которые мы рассматривали, правильность была чем-то таким, что указывало на качества каждой вещи? Г. А как же иначе? С. Значит, это в равной степени должны делать и первые, и позднейшие имена, коль скоро они суть имена. Г. Верно. С. Но позднейшие, видно, были способны выражать это через посредство первых. <...> А вот те, первые, которые не заключают в себе никаких других, каким образом смогут они сделать вещи для нас предельно очевидными, если только они действительно имена? Ответь мне вот что: если бы у нас не было ни голоса, ни языка, а мы захотели бы объяснить другим окружающие предметы, не стали бы разве обозначать все с помощью рук, головы и вообще всего тела, как делают это немые? Г. Другого способа я не вижу, Сократ. С. <...> В таком случае имя, видимо, есть подражание [10] с помощью голоса тому, чему подражают, и имя тому, чему подражают, дается при помощи голоса. Г. Мне кажется, так. С. Клянусь Зевсом, а вот мне не кажется, что я хорошо сказал это, друг. <...> Нам пришлось бы тогда признать, что те, кто подражает овцам, петухам и другим животным, дают им имена тем самым, что им подражают? <...> И тебе кажется, здесь все в порядке? Г. Да нет, по правде сказать. Однако, Сократ, какое подражание было бы именем? С. Ну прежде всего, мне кажется, не такое, какое бывает тогда, когда мы подражаем вещам музыкой, хотя и тогда мы подражаем с помощью голоса. <...> Искусство наименования, видимо, связано не с таким подражанием, когда кто-то подражает подобным свойствам вещей. <...> А подражание, о котором мы говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть еще и сущность, как есть цвет и все то, о чем мы здесь говорили? <...> Если кто-то мог бы посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, сущности, разве не смог бы он выразить каждую вещь, которая существует? Или это не так? Г. Разумеется, так. <...> 30 С. Однако какой бы нам найти способ различения того, где именно начинает подражать подражающий? Коль скоро это будет подражанием сущему посредством слогов и букв, то не правильнее ли всего начать с различения простейших частиц. <...> Хорошенько все это рассмотрев, нужно уметь найти для каждой (вещи) наиболее соответствующее ей (имя): либо одно слово связать с одной вещью, либо отнести к этой вещи смесь многих слов. <...> Смешным, я думаю, должно казаться, Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения правильности первых имен, <...> ты ведь не хочешь, чтобы и мы так же отделались от нашего предмета, сказав, что первые имена установили боги и потому они правильны? А может быть, нам сказать, что они взяты у каких-нибудь варваров? <...> Или что за древностью лет эти имена так же невозможно рассмотреть, как и варварские? Ведь все это были бы увертки <...> для того, кто не хочет рассуждать о первых именах. <...> А между тем, если он почему бы то ни было не знает правильности первых имен, он не сможет узнать и позднейшие, ибо по необходимости они выражаются через те самые первые, о которых он ничего не знает. <...> Но все-таки то, что я почувствовал в первых именах, кажется мне заносчивым и смешным. С тобой я, конечно, этим поделюсь, коли хочешь. <...> Итак, прежде всего ρο представляется мне средством (выразить) всякое движение. <...> Я думаю, законодатель видел, что во время произнесения этого звука язык совсем не остается в покое и сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он и воспользовался им для выражения соответствующего действия. <...> Так же, я думаю, и во всем остальном: он подбирал по буквам и слогам знак для каждой вещи и таким образом создавал имена. А последующие имена он составлял уже из этих, действуя подобным же образом. Вот какова, мне кажется, Гермоген, должна быть правильность имен, если только Кратил чего-нибудь не возразит. <...> К. <...> Так и мне, Сократ, будто прямо в душу запали твои прорицания <...>. С. Добрый мой Кратил, я и сам давно дивлюсь своей мудрости и не доверяю ей. Видимо, мне еще самому нужно разобраться в том, что я, собственно, говорю. <...> Вот и теперь давай посмотрим, что у нас уже сказано. Правильность имени, говорили мы, состоит в том, что оно указывает, какова вещь. <...> Так не сказать ли нам, что это (устанавливать имена. – Т.С.) – искусство и что существуют люди, владеющие им? [Критика релятивизма в учении об именах] К. Это верно. С. Следовательно, так же и законодатели: у одних то, что они делают, получается лучше, у других – хуже? К. Я этого пока не нахожу. С. Выходит, что все имена установлены правильно? К. По крайней мере те, что действительно суть имена. <...> С. Ну хорошо. Давай чуть-чуть отвлечемся, Кратил. Может быть, ты согласишься, что одно дело – имя, а другое – кому оно принадлежит? К. Ну положим. С. А согласен ли ты, что имя есть некое подражание вещи? К. В высшей степени. С. Не полагаешь ли ты, что и живописные изображения – это подражания каким-то вещам, но подражания, выполненные неким иным способом? К. Да. <...> С. Скажи, можно ли различать эти изображения в их отношении к вещам, подражания которых они собой представляют, или же нет? К. Можно. С. Итак, <...> может ли кто-то <...> изображение мужчины отнести к женщине, а изображение женщины – к мужчине? 31 К. Может случиться и так. С. И оба этих распределения будут правильными? Или только одно из двух? К. Только одно. С. <...> Ведь имя тоже в некотором роде есть подражание, как и картина, <...> если это так и можно распределять имена неверно, относя к вещам не то, что им подобает, но иногда и то, что им не подходит, то таким же образом можно составлять и выражения. <...> Если мы еще раз уподобим первые имена картинам, то скажем, что, как в живописи, в них можно воплотить все подобающие цвета и очертания, а иной раз и не все – некоторые можно опустить, некоторые добавить в большей или в меньшей мере. Или так сделать нельзя? К. Можно. <...> С. Ну а тот, кто подражает сущности вещей с помощью слогов и букв? С таким же успехом и он, если отразит все подобающие черты, получит прекрасное изображение, которое и будет именем; если же он какие-то черты опустит, а иной раз и добавит, то, хотя и получится какое-то изображение, оно не будет прекрасным! Так что и среди имен одни будут хорошо сделаны, а другие – худо? К. Возможно. <...> С. Значит, возможно, клянусь Зевсом, чтобы, как и в других искусствах, один законодатель был хорошим, другой же – худым, коль скоро ты согласен с прежним моим утверждением. К. Да, это так. Но взгляни и ты, Сократ, когда мы эти буквы – альфу, бету и любую другую – присваиваем именам по всем правилам грамматики, то, если мы что-то отнимем или добавим, или переставим, ведь нельзя будет сказать, что имя написано, хоть и неправильно: ведь оно вообще не будет написано и тотчас станет другим именем, если претерпит что-либо подобное. С. Ты не боишься, Кратил, что из такого рассмотрения у нас не выйдет ничего хорошего? К. Почему же? С. Может быть, с теми вещами, которые существуют или не существуют в зависимости от того или иного количества, дело так и обстоит, как ты говоришь: скажем, если к десяти или любому другому числу что-то прибавить или отнять, тотчас получится другое число. Но у изображения совсем не такая правильность, но, напротив, вовсе не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы получить образ [11]. Смотри же, так ли я рассуждаю? Будут ли это две разные вещи – Кратил и изображение Кратила, если ктолибо из богов <...> сделает все, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила? К. Два Кратила, Сократ. Мне по крайней мере так кажется. С. Так что видишь, друг мой, нужно искать какой-то иной правильности изображений и того, о чем мы здесь говорим, и не следует настаивать на том, что если чего-то недостает или что-то есть в избытке, то это уже не изображение. <...> Да ведь смешные вещи, Кратил, творились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если бы они были во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его имя. К. Это правда. С. Поэтому смелее допустим, благородный друг, что одно имя присвоено хорошо, другое же – нет. И не настаивай на том, что имя должно иметь лишь такие звуки, какие делали бы его полностью тождественным вещи, которой оно присвоено. Допустим, что и какая-то неподходящая буква может тут быть добавлена. <...> но от этого ничуть не хуже можно называть вещи и рассуждать о них, пока сохраняется основной облик вещи <...>. Если отражены все подобающие черты – прекрасно, если же малая часть их – то плохо. Так бросим, милый мой, этот разговор <...>. Или уж поищи тогда какой-нибудь другой 32 правильности и не соглашайся, что имя есть выражение вещи с помощью букв и слогов. <...> если же какое-то имя присвоено плохо, то, верно, в большей своей части оно будет состоять из подобающих букв – подобных вещи, – раз оно все-таки остается изображением, но при этом оно будет иметь и неподобающие буквы, из-за чего мы скажем, что это неправильное имя и присвоено худо. Так или нет? К. Я думаю, нам с тобой не стоит сражаться, Сократ, хотя мне не нравится называть что-либо именем, но говорить при этом, что оно плохо присвоено. С. А может быть, тебе вообще не нравится, что имя есть выражение вещи? <...> Или тебе больше нравится <...> что-де имена – это результат договора и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в этом-то и состоит правильность имен – в договоре, – и безразлично, договорится ли кто-то называть вещи так, как это было до сих пор, или наоборот <...>. К. Ну, это совсем разные вещи, Сократ, – выражать что-то с помощью подобия или как попало. С. Ты говоришь отлично. В таком случае если имя будет подобно вещи, то по природе необходимо, чтобы и буквы, из которых составлены первые имена, были подобны вещам. <...> Но вот что скажи мне: какое значение имеют для нас имена и что хорошего, как мы бы сказали, они выполняют? К. Мне кажется, Сократ, они учат. И это очень просто: кто знает имена, тот знает и вещи. <...> С. А может быть, в этом же состоит и постижение вещей: кто постигнет имена, тот постигнет и то, чему принадлежат эти имена? Или исследовать и постигать вещи нужно иным каким-то способом? А это – способ учиться вещам? К. Ну конечно, это способ исследования и постижения вещей, по той же самой причине. С. Тогда давай поразмыслим, Кратил. Если кто-то в своем исследовании вещей будет следовать за именами и смотреть, каково каждое из них, не думаешь ли ты, что здесь немалая опасность ошибиться? К. Каким образом? С. Ведь ясно, что первый учредитель имен устанавливал их в соответствии с тем, как он постигал вещи. <...> Значит, если он постигал их неверно, а установил имена в соответствии с тем, как он их постигал, то что ожидает нас, доверившихся ему и за ним последовавших? Что, кроме заблуждения? К. Думаю, это не так, Сократ. Необходимо, чтобы имена устанавливал знающий учредитель. В противном случае, как я уже говорил раньше, это не имена. <...> Разве ты не видишь этого – ты, который говорил, что все имена возникли по одному и тому же способу и направлены к одному и тому же? С. Но знаешь, друг мой Кратил, это не оправдание. Ведь если учредитель обманулся в самом начале, то и остальное он поневоле делал уж так же, насильно согласовывая дальнейшее с первым. В этом нет ничего странного <...>. Помнишь, ты только что сказал, что учредитель имен непременно должен был знать вещи, которым устанавливал имя. <...> Тот, кто первый устанавливал имена, устанавливая их, говоришь ты, знал эти вещи? К. Знал. С. Но по каким именам он изучал или исследовал вещи, если еще ни одно имя не было присвоено? Мы ведь говорили раньше, что невозможно исследовать вещи иначе, как изучив имена или исследовав их значение? К. В том, что ты говоришь, что-то есть, Сократ. С. Тогда каким же образом, сказали бы мы, они могли устанавливать со знанием дела имена или оказаться законодателями, если еще не было присвоено ни одного имени, по которому они могли бы узнать, что вещи нельзя постичь иначе как из имен? 33 К. Я думаю, Сократ, что справедливее всего говорят об этом те, кто утверждает, что какая-то сила, высшая, чем человеческая, установила вещам первые имена, так что они непременно должны быть правильными. С. Ты думаешь, такой учредитель, будь он гений или бог, мог бы сам себе противоречить? Или ты считаешь, что до сих пор мы болтали вздор? К. Но противоположные имена исходили уже не от них. С. Какие же именно, превосходнейший? <...> если возмутятся имена и одни скажут, что именно они – подобие истины, другие же – что они, как мы сможем их рассудить, к чему мы прибегнем? <...> Ясно, что нужно искать помимо имен то, что без их посредства выявило бы для нас, какие из них истинны, то есть показывают истину вещей. К. Мне кажется, это так. С. Если это так, Кратил, то можно, видимо, изучать вещи и без имен. К. Очевидно. [Гносеологические выводы] С. Но с помощью чего же другого и как предложил бы ты их изучать? <...> Так вот, узнать, каким образом следует изучать и исследовать вещи, это, вероятно, выше моих и твоих сил. Но хорошо согласиться и в том, что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих. <...> Смотри же, бесценный друг мой, что я часто вижу, словно в грезах. Могли бы мы сказать, что есть что-то прекрасное и доброе само по себе и что это относится к каждой существующей вещи? Или нет? К. Мне кажется, могли бы, Сократ. С. Но можно ли тогда что-либо правильно именовать, если оно всегда ускользает, и можно ли сначала сказать, что оно представляет собою то-то, а затем, что оно уже такоето, или же в тот самый момент, когда бы мы это говорили, оно необходимо становилось уже другим и ускользало и в сущности никогда бы не было таким, (каким мы его назвали)? К. Именно так. С. Но разве может быть чем-то то, что никогда не задерживается в одном состоянии? Ведь если бы оно когда-нибудь задерживалось в этом состоянии, то тут же стало бы видно, что оно нисколько не изменяется; с другой стороны, если дело обстоит так, и оно остается самим собой, как может оно изменяться или двигаться, не выходя за пределы своей идеи? [12] К. Никак не может. <...> С. И видимо, нельзя говорить о знании, Кратил, если все вещи меняются и ничто не остается на месте. <...> А если существует вечно познающее, то есть и познаваемое, есть и прекрасное, и доброе, и любая из сущих вещей, и мне кажется, что то, о чем мы сейчас говорили, совсем не похоже на поток или порыв. Выяснить, так ли это или так, как говорят последователи Гераклита и многие другие, боюсь, будет нелегко; и несвойственно разумному человеку, обратившись к именам, ублажать свою душу и, доверившись им и их присвоителям, утверждать, будто он что-то знает, <...> и думать, и располагать вещи так, как если бы все они были влекомы течением и потоком. Поэтому-то, Кратил, дело обстоит, может быть, так, а может быть, и не так. Следовательно, здесь надо все мужественно и хорошо исследовать и ничего не принимать на веру: ведь ты молод и у тебя еще есть время. Если же, исследовав это, ты что-то откроешь, поведай об этом и мне. <...> Примечания [1] Рабы-чужеземцы, носившие имена, звучавшие «варварски» для греческого уха, часто получали от своих хозяев новое имя. [2] Евтидем – современник Сократа, хиосец, поздний софист, по своим воззрениям близкий Калликлу и Полу. [3] В оригинале ιδεα. 34 [4] Древние не различали звуки и буквы. [5] Гомер «Илиада» (Перевод Н.И. Гнедича XX 73 – 74): Против Гефеста – поток быстроводный, глубокопучинный, Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных – Скамандром. Ксанф (Скамандр) – река, берущая начало в горах Иды, протекающая по долине Троады, где находилась Троя (Илион), и впадающая в Эгейское море (ныне Мендерессу), в античности русло этой реки пролегало вблизи Трои. Слово ксанф обозначает ‘рыжий, бурый, желтый, золотисто-желтый’. Ср.: «Симоент и Скамандр, сливаясь на равнине, несут с собой много ила, заносят побережье» (Страбон. «География» в 17 книгах / Под общей ред. С.Л. Утченко. М., 1994, с. 558). Поэтому, возможно, с точки зрения Платона, имя Ксанф, своей внутренней формой указывающее на цвет воды данной реки, является более правильным по сравнению с именем Скамандр. [6] Цитата из Гомера. [7] Археполис – слово, состоящее из двух основ: «власть» (αρχη) и «город» (πολις), т.е. оно близко по своему значению к имени «Астианакт» («владыка города»). [8] Сократ производит имя Рея от ρειν (течь); Кронос от κρουνός (источник). [9] «Огонь», «вода», «собака» – слова индоевропейского происхождения. Их древние корни – малоазийские (хеттские, тохарские, фригийские, лидийские), т.е. для грека Сократа – варварские. [10] Подражание (μιμησις) – термин, часто встречающийся у Платона и Аристотеля. Понимался Платоном как воспроизведение какого-либо образа (идеи, эйдоса). Для понимания мысли Сократа о первоначальных словах, созданных подражанием, важно сравнить мнение Демокрита: «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: (а именно мы – ученики) паука в ткацком и портняжном ремеслах, (ученики) ласточки в построении жилищ и (ученики) певчих птиц, лебедя и соловья, в пении». [11] По мнению Сократа, здесь и ниже подражание (изображение предмета, или его образ, – εικων) не может быть буквальным копированием. Здесь сказывается принципиальная новизна Платона по сравнению со старой натурфилософией, еще не порвавшей с мифологической значимостью имени. [12] Сократ критикует гераклитовцев, в том числе и Кратила, которые довели до крайности учение Гераклита о вечном движении. Вопросы и задания к тексту 1. Как Сократ обосновывает мысль о том, что полный субъективизм и произвол в момент присвоения имен исключается? 2. Какие аргументы использует Сократ, чтобы показать, что имена присваиваются в силу объективного закона? 3. Можно ли, с точки зрения Сократа, говорить о правильности имен как простой репрезентации предметов в нашем сознании? Ответ подтвердите примерами из текста. 4. В чем Сократ видит принципиальное отличие «подражания» вещам, предметам, осуществляемого в музыке (живописи) и в именах? 5. Почему, с вашей точки зрения, Кратилу трудно согласиться с тем, что имя может быть «плохо присвоено»? 6. Каким образом Сократ обосновывает мысль о невозможности познать вещи (предметы), исходя из исследования их имен? § 3. Становление и развитие грамматики 3.1. В древних лингвистических традициях вопросам грамматики уделялось неодинаковое внимание. В греко-латинском языкознании грамматика занимала центральное место в описании языка. В древнекитайской традиции грамматические явления практически не изучались, а стали интересовать ученых лишь в новое время и тогда, в XVIII – XIX вв., грамматика начала выделяться в особую область знаний. 35 Своеобразное описание получает грамматика в индийском языкознании, основные идеи которой были изложены в «Восьмикнижии» Панини и долго не подвергались существенным изменениям. Время создания грамматики Панини установить не удается, указываются даты от VII до II в. до н. э., как наиболее вероятную называют V в. до н. э. Труд Панини состоит из восьми глав, или книг (отсюда и название – «Восьмикнижие»), главы делятся на разделы, а разделы – на отдельные правила (сутры). В целом грамматика Панини насчитывает 3996 правил, каждое из которых представлено в виде определенного мнемонического приема. Предполагалось, что ученик заучивает мнемонические символы, а учитель комментирует их содержание, снабжает примерами и поясняет (если надо) текстами. По смыслу мнемонические правила можно представить в виде следующих групп: а) называющие и определяющие термины и символы мнемонических сокращений; б) касающиеся основных единиц орфографии и орфоэпии; в) определяющие построение слов из морфем и предложений из слов; г) устанавливающие изменения звукового облика морфем (Рождественский 1975: 78). Названные группы правил отражают в общем виде и содержание грамматики Панини, композиция которой обусловлена основными задачами грамматики: представить правила таким образом, чтобы пользователь получил возможность при соблюдении всех предписываемых операций создать фонетически правильное предложение. В связи с этим следует отметить два существенных момента, отличающих индийскую грамматику от европейских. Во-первых, в индийской традиции материал излагается от низшего уровня к высшему: сначала рассматривается фонетическое изменение слов и затем показывается, «с чем оно связано в грамматике и что оно дает для построения и понимания текста» (там же: 84). Тогда как в европейских грамматиках описание начинается с общих категорий: излагается учение о частях речи, а затем раскрываются фонетические изменения слов, обусловленные их словоизменением и словообразованием. Во-вторых, труд Панини представляет собой своеобразную порождающую грамматику, задача которой состоит в «фиксации всех правил порождения единиц языка, причем явления, уникальные по форме или по значению, описываются не менее тщательно, чем общие, системные» (Катенина, Рудой 1980: 79). Вместе с тем отметим, что грамматика Панини не была рассчитана на создание бесконечного множества высказываний, ее правила описывали правильный язык – санскрит – язык канонических текстов, количество которых было ограничено и определяло сакральную, практическую, юридическую и некоторые другие виды деятельности древних индийцев. Именно совокупность данных текстов исчерпывающе определяла план содержания санскрита. Соответственно план выражения также был строго определен и канонизирован, и создание значимых комбинаций звучания предопределяло «весьма значительный, но закрытый список единиц всех уровней» (Рождественский 1975: 90). В «Восьмикнижии» систематизированы фонологические и морфонологические явления, Панини пользуется понятием нуля звука, т.е. осознает факт значимого отсутствия звука. В грамматике дается перечень корней с указанием значения каждого из них, корни объединяются в классы, для которых определяются аффиксы, участвующие в образовании слов и форм. Выделение корней и аффиксов в слове – заслуга именно индийского языкознания, европейцы научились этому гораздо позднее. Подробное описание в грамматике Панини получают морфологические и синтаксические особенности санскрита: детально представлена система падежей (обозначенных номерами), выявляются особенности глагольного управления, приводятся эквивалентные глагольные и именные словосочетания, рассматривается трансформация словосочетаний и предложений, сообщаются отдельные сведения о сложном предложении. Полнота изложения, уникальность и строгость подачи материала, высокий теоретический уровень определили судьбу грамматики Панини в истории индийского языко36 знания: «Ничего столь же оригинального, как труд Панини, создать больше так и не удалось. Уже с середины 1-го тысячелетия н. э. индийская традиция приобрела эпигонский характер, постоянно воспроизводя одни и те же идеи, прежде всего идеи Панини. В таком виде она дожила до конца XVIII в., когда с ней впервые познакомились европейцы, освоившие затем ряд ее идей и методов. Существует она даже в современной Индии параллельно с лингвистикой европейского типа» (Алпатов 1998: 12). Большинство грамматистов, живших после Панини, комментируют его труды и/или составляют учебники, ориентируясь на его идеи. Несомненный интерес представляет труд Вараручи «Освещение пракритов», который относят к III–II вв. до н. э. Пракриты (в переводе – ‘природный’, ‘естественный’) – это среднеиндийские языки и диалекты, первоначально разговорные, в дальнейшем подвергнутые литературной обработке. Грамматику Вараручи составляют правила порождения пракритских форм из соответствующих санскритских, сами правила формулируются так же, как у Панини, сохранена и терминология великого предшественника. Труд Вараручи является важным источником сведений о тех пракритах, литература на которых утрачена. Традиции Панини сохранялись и в период средневековья. Особняком стоит лишь созданная в XIII в. грамматика Вопадевы, в которой материал распределен по тем же категориям и почти в той же последовательности, что и в западных грамматиках нового времени, правда, некоторые черты грамматики Панини проявились и в этой грамматике. По свидетельству ученых, труд Вопадевы был популярен среди европейских лингвистов XIX в. «Последняя ступень развития индийской грамматики – создание учебников, препарирующих и адаптирующих труд Панини для широкого круга учащихся. Сутры Панини располагаются по темам и популярно объясняются с помощью примеров» (Катенина, Рудой 1980: 86). Лучшим из таких пособий считается книга Бхаттоджи Дикшита, написанная в XVII в., фрагменты из которой до сих пор используются для преподавания санскрита в некоторых школах и колледжах. 3.2. Древняя Греция. Становление понятий, которые в настоящее время относятся к грамматике, происходило постепенно и благодаря трудам многих древних философов, для которых проблема языка отнюдь не была периферийной (Гринцер 2000: 49), а составляла неотъемлемую часть целостного гуманитарного знания древних. Первые грамматические правила построения речи, по-видимому, были сформулированы странствующими учителями, известными со II половины V в. до н. э., которые впоследствии стали называться софистами. Обращение софистов к грамматическим проблемам всецело определялось целями обучения ораторскому искусству. В свою очередь ораторское искусство стимулировалось существовавшим в то время общественным устройством: в условиях прямой демократии, господствовавшей во многих государствах Греции, главным способом добиться влияния и власти было умение убеждать народ в справедливости своей позиции. Занимаясь просветительской и преподавательской деятельностью, софисты стремились подготовить молодых людей к практической, особенно общественной, жизни, сосредоточивая основное внимание не на точных, а на общественных науках. Одно из центральных мест среди этих наук отводилось ораторскому искусству. Добиваясь от своих учеников умения красиво и убедительно говорить, софисты естественным образом подошли к решению проблемы языковой нормы, к определению правил речи, достойной образованного человека. Наиболее выдающийся из софистов – Протагор из Абдеры (ок. 480 – 410 до н.э.) – считается первым греческим мыслителем, высказавшим некоторые представления о грамматическом строе. По свидетельству более поздних авторов (Аристотеля, Квинтилиана, Диогена Лаэрция), именно Протагор стал различать три рода имени – мужской, женский и вещный, четыре типа высказывания – вопрос, ответ, поручение, просьбу. Кстати, позднее различение этих типов высказываний послужило основой для разграничения наклонений греческого глагола (Перельмутер 1980 а: 125). 37 Не обошел вниманием грамматические проблемы и великий мыслитель античности Платон, хотя, как известно, интересы ученого в основном были сосредоточены в области философии языка. Между тем рассуждения философа о способах выражения истинных и ложных суждений оказываются существенными в развитии грамматических идей. Для понимания этого важно иметь в виду, что Платон чисто мыслительные категории неразрывно связывал со словесным выражением. Соответственно логику и грамматику Платон рассматривал на равных правах, т.е. логические и грамматические моменты в учении Платона были слиты воедино, кроме того, синтаксический аспект не отграничивался от морфологического. Подход Платона к языку носит функциональный характер, формальная сторона языковых явлений у него не вызывает никакого интереса. Вместе с тем исследование, порожденное задачами логического порядка, подводит ученого к существенной для языкознания проблеме предложения и составляющих его компонентов. В диалогах «Теэтет» и «Софист», неоднократно обращаясь к данному вопросу, Платон подчеркивает, что предложение-суждение (даже самое краткое) представляет собой сложное составное целое, включающее два компонента. Первый из них – словесно выраженный субъект суждения, а второй – словесно выраженный предикат суждения. Для обозначения целого ученый использует слово λόγος, понимая его как ‘суждение’, ‘предложение’. Компоненты, составляющие λόγος, также могут быть истолкованы как имеющие отношение и к логике, и к грамматике. Так, ονομα не только субъект суждения, но и подлежащее, а поскольку в роли субъекта-подлежащего, как правило, используется имя, то данное слово означает также ‘имя’. Соответственно, ρημα – ‘предикат’, ‘сказуемое’, ‘глагол’ (Перельмутер 1980 б: 153). Следовательно, Платон утверждает тождество между мыслью и речью. Единственное различие между ними он усматривает в том, что словесное выражение сопровождается звучанием. Поэтому, с точки зрения Платона, речь позволяет обнаружить мысль, которая сама по себе недоступна для непосредственного наблюдения. В названных диалогах Платона интересует прежде всего мышление, все его рассуждения направлены на выяснение истинности/ложности высказываний, поэтому неудивительно, что он не касается звуковой стороны языка или формальной его организации. Вместе с тем именно наблюдения над формой выражения субъекта и предиката в составе суждения-предложения побудили Платона обратить внимание на противопоставление имени и глагола. Таким образом, по-видимому, Платон впервые разграничил в предложении-суждении два компонента высказывания (ονομα и ρημα) и тем самым предпринял первую попытку дать классификацию слов. Данное разграничение не имело еще чисто грамматического значения, но, очевидно, позднее, получив новое осмысление, послужило основой для собственно грамматических исследований. Значительным шагом вперед в области грамматических исследований являются работы Аристотеля (384 – 322 гг. до н. э.). Главными нашими источниками, на основании которых мы можем судить о взглядах Аристотеля по вопросам грамматики, служит двадцатая глава «Поэтики» и одно из его логических сочинений – трактат «Об истолковании». В трактате «Об истолковании» еще многие языковые явления получают объяснения, в которых, как и у Платона, отсутствует разграничение логических и грамматических категорий, морфологических и синтаксических признаков. Вместе с тем Аристотель более дифференцированно, чем его учитель Платон, подходит к анализу языковых форм, которые могут выражать отдельные части суждения-предложения. Прежде всего отметим, что великий мыслитель увидел различную функциональную нагрузку одних и тех же слов в предложении-суждении. В результате этого он выделяет имя (или глагол) и падежи, в частности, в «Поэтике» читаем: «Падеж имени или глагола – это обозначение отношений по вопросам «кого», «кому» и т.п., или – обозначение единства или множества или отно38 шений выразительности, например вопрос, приказание: «пришел ли», «иди». Это глагольные падежи, соответствующие этим отношениям» (Античные теории 1936: 63). В данном стремлении к разграничению названных явлений более ярко предстает, с одной стороны, отождествление суждения с определенной грамматической формой, а с другой – понимание различий форм языка. Термин όνομα обозначает у Аристотеля одновременно логическую категорию и грамматическую категорию, но с понятием «имени» как логического субъекта отождествляется лишь форма именительного падежа. Например, в суждении-предложении Филон есть слово Филон – «имя» (логический субъект, форма им. п.). Во всех других употреблениях данное слово уже не считается «именем», в частности, в трактате «Об истолковании» Аристотель пишет: «Филона же или Филону и тому подобные выражения не суть имена, а падежи имени» (там же: 61). Аналогичным образом, как было отмечено, толкует Аристотель и «глагол», понимая под этим термином только формы настоящего времени, потому что в суждениях общего характера глагол, являясь их предикатом, выступает по преимуществу в форме настоящего времени. Что же касается других форм времени – прошедшего и будущего, то они не глаголы, а падежи глагола. Правда, в «Поэтике» (20, 9) Аристотель высказывает иную точку зрения: в качестве глагола рассматриваются не только формы настоящего времени, но и формы других времен, а «падежами глагола» называются только формы повелительного наклонения и формы, используемые в вопросительных предложениях. Причина такого разграничения носит также чисто логический характер: вопросительные и повелительные формы не образуют суждения (Тронский 1941: 28). Представляется, что противоречивость высказываний Аристотеля отражает поиск того объема языковых фактов, который может быть охвачен одним и тем же понятием или, говоря более обобщенно, отражает момент становления грамматических понятий. И все же рассуждения Аристотеля показывают, что тождества языковых форм для него еще оказываются скрытыми из-за того содержательного различия, которое присуще разным синтаксическим структурам. Например, исключительно на основе смыслового подхода Аристотель выделяет «неопределенный глагол», связывая его с отрицательным предложением и объясняя причину этого тем, что в предложениях типа Петр не гуляет, не сообщается ничего определенного. В предложении же без отрицания – Петр гуляет – слово гуляет считается Аристотелем глаголом. Конечно, смысловая разница в приведенных примерах очевидна, но для нас ясно и то, что в морфологическом и в синтаксическом отношении слово гуляет в обоих предложениях представляет собой одно и то же: глагол и сказуемое. Подобная логика рассуждения приводит Аристотеля и к выделению «неопределенного имени». В сочинении «Об истолковании» ученый пишет: «‘‘Не-человек’’ не есть имя; нет такого имени, которое могло бы это обозначать, ибо это не есть ни понятие, ни отрицание. Пусть оно называется неопределенным именем, потому что оно применимо к чему угодно, как к существующему, так и несуществующему» (Античные теории 1936: 61). Термины «неопределенное имя» и «неопределенный глагол» Аристотель использует только в трактате «Об истолковании». Значительно слабее логическая точка зрения на языковые явления представлена в «Поэтике». Именно в «Поэтике» при определении имени и глагола используются некоторые морфологические признаки. Так, определяя глагол, Аристотель указывает на присущий ему отличительный признак – время: идет или пришел имеют добавочное значение (настоящее и прошедшее), а слова человек или белый не означают времени (Аристотель 1978: 145), поэтому они относятся к именам. Подчеркнем, что в целом для учения Аристотеля характерно отсутствие лингвистической терминологии, однако нельзя упускать из виду то, что мыслитель сделал много интересных наблюдений над функционально-семантической стороной языковых явлений. Это способствовало выработке дифференцированного подхода к языковым фактам. Так, при анализе многозначности слов Аристотель детально описывает то различное содержа39 ние, которое может скрываться за одинаковой внешней языковой формой. Тем самым он по сути дает верные наблюдения над многозначностью падежных форм, хотя и не пользуется для этого специальными названиями. Более детально, чем Платон, Аристотель классифицирует слова. Наряду с именем и глаголом он выделяет и другие разряды слов. Правда, определения, данные Аристотелем, столь запутаны, что между современными учеными нет согласия в том, какие именно разряды слов мыслитель связывал с введенными им понятиями. Однако ясно, что Аристотель наряду со «значащими» (по современной терминологии со знаменательными) частями речи выделял служебные. Подчеркнем, что Аристотель рассматривал служебные слова как «незначащие», т.е. лишенные значения. В этом проявился господствовавший в то время подход к слову, согласно которому значение слова отождествлялось с предметным, вещным содержанием. Следовательно, слова, лишенные такого соотношения, не могли иметь значения. Представление об особом грамматическом значении еще не сложилось, и все же выделение служебных слов в особый разряд было шагом вперед по сравнению с классификацией слов, данной Платоном. 3.3. Значительных успехов грамматические исследования достигли в эпоху эллинизма (III – I вв. до н. э.). Из всех философских школ, сложившихся в это время, наибольшее внимание к проблемам языка проявляли философы стоической школы. Взгляды стоиков дошли до нас по большей части в изложениях более поздних авторов, из которых не всегда можно получить вполне ясное представление о воззрениях стоиков. Но даже то относительно немногое, что достоверно известно, позволяет считать именно стоиков подлинными основателями учения о языке, которые оставили позади себя даже таких великих мыслителей, как Платон и Аристотель. Существенный вклад в изучение проблем языка внесли такие корифеи древней Стои, как основатель школы Зенон Китионский с Кипра (ок. 336 – 264 гг. до н. э.), Хрисипп из Сол или Тарса в Киликии (ок. 281 – 208/5 гг. до н. э.), Диоген Вавилонский (ок. 240 – 150 гг. до н. э.) и др. Проблемы языка включались стоиками в одну из трех частей их философии – в логику, которая признавалась равноправной частью философии, наряду с физикой (натурфилософией) и этикой. Считается, что сам термин «логика», производный от древнегреческого λόγος – ‘слово’, впервые стали употреблять стоики. «Логика для стоиков – исследование внутренней и внешней речи. Стоики большое значение придавали материальному выражению мысли – слову и речи, вообще – знакам» (Чанышев 1991: 125). Логику стоики делили на риторику и диалектику, включая в последнюю «нашу грамматику, стилистику, поэтику и эстетику» (Лосев 1979: 83). В основе разработки диалектики «лежало представление о знаковом характере слова-логоса, о необходимости различать «обозначающее» и «обозначаемое». <...> Учение о частях речи, т.е. формы и средства, они относили к области «обозначающего», а учение о грамматических категориях рассматривали как учение об «обозначаемом», т.е. о том, что мыслится относительно реальных форм речи» (Бокадорова 1990: 495). Однако не следует думать, что стоики выделили учение о языке в самостоятельную научную дисциплину. Интерес к проблемам языка еще полностью определялся задачами философских исследований, и в этом стоики ничем не отличались от своих предшественников и современников. Чтобы понять оригинальность учения стоиков и значимость его для языкознания, необходимо обратиться к теории обозначаемого, которое стоики назвали λεκτόν (лектон). Лектон представляет собой категорию, через призму которой стоики осмысливали и систематизировали всю речевую деятельность. Лектон есть нечто умопостигаемое. Именно смысл является концептуальным центром лектон. Смысл, согласно стоикам, «навеян» материальным миром, но он окончательно определяется в соответствии с природой человеческого духа, и именно через человеческую личность смысл вторично проецируется на 40 мир (Ольховиков 1985: 60 и далее). Для осознания сущности понятия «лектон» важно отграничить его от смежных понятий (явлений). Лектон нельзя отождествлять с психическим актом, поскольку психический акт «трактуется у стоиков как простой отпечаток вещи в уме <...>. В этом резкое отличие общего психического акта от смыслового и выразительного акта в лектон» (Лосев 1979: 104). Лектон нельзя сводить к предмету: «Лектон – это чистый смысл, а физический предмет есть та или иная телесная субстанция, с которой лектон соотнесен» (Лосев 1979: 101). В стоическом лектон нет ничего чисто логического, ведь все логическое представляет собою нечто, основанное на понятиях, суждении, умозаключении, доказательстве теории, «то есть нечто, во всяком случае, так или иначе сконструированное <...>. Лектон дано настолько прямо и непосредственно, настолько интуитивно и нераздельно, единично, что его понимает всякий человек, который никакой логике не обучался» (там же: 105). Суть данного отличия А.Ф. Лосев объясняет таким образом: «Когда я говорю, что этот предмет есть дерево, и вы меня понимаете, то ни в моем назывании дерева, ни в вашем понимании того, что я имею в виду, употребляя слово «дерево», ровно нет никакой логической конструкции, ровно нет никакого громоздкого аппарата логики как науки, а есть только одно то, о чем можно говорить без всяких специально логических усилий и что можно понимать тоже без всяких специально логических конструкций» (там же: 105). Лектон не может расцениваться с точки зрения истинности или ложности в его соотнесенности с действительностью: «Суждение «сейчас день», когда оно соответствует действительности, и суждение «сейчас день», когда оно не соответствует действительности, имеет свой определенный смысл, оно нечто значит. Следовательно, по мысли стоиков, и о смысле действительности можно говорить независимо от его истинности или ложности. А это значит, что и лектон, взятое само по себе, вовсе не есть ни что-нибудь истинное, ни что-нибудь ложное. Я могу говорить о любой нелепости. Но если вы скажете, что это нелепость, значит, вы поняли смысл моего высказывания и только утверждаете, что он не соответствует действительности. Я могу сказать, что «все быки летают», и это будет ложным суждением. И вы поняли смысл этого суждения, раз говорите, что оно ложное. Итак, лектон, по мысли стоиков, есть такой смысл предмета, который фиксируется вне всякой его истинности или ложности» (там же: 106). Но нельзя понимать лектон в абсолютной изоляции: «Уже то одно, что лектон есть словесная предметность, свидетельствует о наличном в нем отношении и к слову, предметом которого оно является, и к физическому предмету, который им обозначается. Другими словами, мы теперь должны сказать, что лектон обязательно есть та или иная система отношений, то есть система смысловых отношений» (там же: 107). А.Ф. Лосев отмечает, что разнообразные попытки классифицировать лектон показывают, что стоики усматривали в лектон различную смысловую природу. До стоиков не было такого понимания мыслительной области человека, чтобы мысль отражала не только любые оттенки чувственного восприятия, но и любые оттенки языка и речи. «Стоическое лектон формулируется так, чтобы отразить все мельчайшие оттенки языка в речи в виде определенной смысловой структуры <....>. Само это понятие лектон потому и было введено стоиками, что они хотели фиксировать малейший сдвиг в мышлении. Отвлеченные категории мысли, с которыми имели дело Платон и Аристотель, для стоиков были недостаточны именно ввиду своей абсолютности, неподвижности и лишенности всяких малейших текучих оттенков. Не только то, что мы теперь называем падежами или глагольными временами, залогами, было для стоиков всякий раз тем или иным специфическим лектон. Но даже одно и то же слово, взятое в разных контекстах, или какой-нибудь контекст, допускавший внутри себя то или иное, хотя бы и малейшее, словечко, все это было для стоиков разными и разными лектон» (Лосев 1979: 112–113). 41 Таким образом, именно стоикам принадлежит идея разграничить, с одной стороны, мысль как чисто психический образ, а с другой – содержание, смысл речевого высказывания. «Идея эта имела основополагающее значение для развития науки о языке, поскольку она способствовала выявлению специального объекта этой науки» (Перельмутер 1980 в: 189, подчеркнуто мною. – Т. С.). Новый подход к осмыслению языковых явлений проявился и в учении стоиков об аномалиях. Разработка этого учения, приоритет в которой отдается Хрисиппу, основывается на анализе фактов несоответствия смысла слова и его звуковой формы. Например, названия городов Афины (Αθη̃ναι), Фивы (Θηβαι) имеют форму множественного числа, но каждое из этих названий указывает на один город, с другой стороны, такие слова, как δη̃μος (‘народ’) или χορός (‘хор’), обозначают множество лиц, но имеют форму единственного числа (там же: 203). Такие и подобные факты стоики рассматривали как ανωμαλία ‘отклонения’ – аномалии. Для уяснения сути учения стоиков об аномалиях важно понять, что речь идет вовсе не об отсутствии соответствия между звучанием, взятом в отрыве от значения, и предметным значением слова. Как ясно из изложенного выше, между названными объектами, согласно стоикам, принципиально невозможно установить соответствие или несоответствие. Поэтому по существу стоики называли аномалией несоответствие между смысловым предметным значением (особым образом организованной мыслью, представленной в речи) и тем грамматическим значением, на которое указывает звуковая форма слова. Таким образом, в учении об аномалии, как и в учении о лектон, стоики продемонстрировали понимание того, что наличествует особый объект языковедческих исследований. С открытием области языковых значений связан более глубокий подход стоиков к толкованию частей речи. Так, в отличие от Аристотеля, стоики, выделяя служебные части речи, нигде не говорят, что у них отсутствует значение. Это лишний раз позволяет предположить, что стоики приблизились к осознанию грамматического значения. Нельзя не отметить также и то, что именно стоики в качестве особого раздела о языке излагали учение о частях речи, отличая их от языковых единиц иного порядка (от звуков, слога, падежа, предложения и др.). У стоиков более дифференцированно, по сравнению с предшественниками, представлен состав частей речи. Хрисипп установил пять частей речи: имя собственное, имя нарицательное, глагол, союз (в современной терминологии – союзы и предлоги), член (объединяющий местоимения и артикли). Во II в. до н. э. Антипатр Тарсский присоединил к названным частям речи наречие. Однако надо сказать, что распределение слов по различным частям речи осуществлялось стоиками на основании учета семантических и синтаксических признаков, морфологические же различия слов практически не принимались во внимание. Ср., например, определения, данные Диогеном Вавилонским: «Нарицание <...> – часть речи, означающая общее качество, например: человек, конь. Имя – часть речи, показывающая единичное качество, например: Диоген, Сократ. Глагол – часть речи, означающая несоставной предикат <...>, например: пишу, говорю» (Античные теории 1936: 70). Выдающихся результатов добились стоики в изучении грамматических категорий, прежде всего категории падежа имени и категории времени глагола. Термин «падеж» стоики заимствовали у Аристотеля, но придали ему новое значение: «На смену первоначально образного значения πτω̃σις (падеж. – Т.С.) как ‘отпадение’ постепенно пришло понимание этого термина как формы «имени», поскольку номинатив воспринимался как одна из «форм» имени, то и на него логично распространялось наименование падежа» (Каракулаков 1969: 9–10). Стоики выделили пять падежей (Хрисипп «О пяти падежах») и дали им названия, которые затем были скалькированы римскими грамматиками, а латинские названия послужили основой для кальки в современных европейских языках, в том числе и в русском. 42 Следовательно, разработку падежной терминологии следует безусловно считать существенным вкладом, который внесли стоики в создание грамматики. Вместе с тем нельзя не отметить, что стоики изучали падеж как чисто семантическую категорию, не проявляя никакого интереса к способам выражения падежных значений, к парадигмам склонения. Аналогичным образом стоики рассматривали и времена греческого глагола. В целом верно описав систему времен глагола, как и систему падежей, т.е. выявив их вполне адекватно для древнегреческого языка, стоики не останавливаются на описании их морфологических особенностей, полностью сосредоточиваясь на анализе функционально-семантических и логико-синтаксических аспектов рассматриваемых языковых явлений. Немало ценных наблюдений было сделано стоиками и в области синтаксиса. По мнению некоторых ученых, сам термин «синтаксис» также введен стоиками. Но «синтаксис был для них по существу скорее логической дисциплиной, чем грамматической» (Перельмутер 1980 в: 198–199). Вместе с тем следует подчеркнуть, что стоики иначе, чем, например, Аристотель, подошли к определению предложения-суждения. Так, предложение, с точки зрения стоиков, может быть образовано не только путем сочетания предиката-сказуемого с субъектом-подлежащим в форме именительного падежа, но и путем сочетания предиката-сказуемого с субъектом, выраженным косвенным падежом: Сократу грустно. Кроме того, есть все основания предположить, что, в отличие от Аристотеля, считавшего субъект-подлежащее главным компонентом в предложении-суждении, стоики полагали, что наиболее важным компонентом предложения является предикат. Подтверждает это хотя бы тот факт, что стоики в основание классификаций предложений положили именно разработанные ими типы предикатов. Одна из таких классификаций содержится в комментариях Аммония (преподаватель школы в Александрии около 500 г. н. э.) к трактату Аристотеля «Об истолковании». Согласно данному изложению, стоики выделенные четыре типа предложений различают, во-первых, в зависимости от того, требует ли предикат постановки субъекта в грамматической форме прямого или косвенного падежа, и, вовторых, нуждается ли или не нуждается предикат в дополнении, т.е. является ли предикат переходным (Античные теории 1936: 71–72). Соответственно приводятся следующие примеры: Сократ гуляет, Сократу грустно, Платон любит Диона, Платону жаль Диона (Перельмутер 1980 в: 201). Другая классификация предложений основывается на различении предикатов по признаку активности и пассивности (в современной терминологии это различие можно истолковать как залоги – действительный, страдательный и возвратно-средний). Кроме этого, стоики разработали классификацию типов предложений, различающихся по цели высказывания, разграничили простые и сложные предложения, «положили начало изучению видов сложного предложения, которое они исследовали в интересах своей теории умозаключения» (Тронский 1957: 307). Именно задачи логической теории стимулировали стоиков к тщательной классификации сложного предложения, эти же задачи побуждали их к описанию семантики различных сочинительных и подчинительных союзов, «которое и впоследствии останется характерным для греческой грамматики» (там же). Даже кратко обозначенные вопросы, к которым обращались стоики, позволяют заключить, что в области изучения синтаксических явлений достижения стоиков были огромны. Таким образом, совершенно очевидно, что открытие стоиками области языковых значений, выделение частей речи в особый раздел, анализ грамматических категорий имени и глагола, изучение типов предложений позволяют считать, что именно стоикам удалось создать предпосылки к развитию науки о языке и заложить основы для формирования морфологии и синтаксиса как особых отраслей лингвистики. 43 Стоики завершили период, когда язык был предметом изучения философов, и «предвосхитили появление александрийской грамматики, ставшей канонической «традиционной» грамматикой на многие последующие века» (Лукин 1999: 137–138). 3.4. Александрийская школа возникла в III в. до н. э. и получила такое название по имени крупнейшего научного центра эллинистической эпохи – Александрии (столицы эллинистического Египта), где располагалась богатейшая библиотека древности, которая, по преданию, насчитывала около 700 тыс. свитков (Древние 1989: 310). Главной задачей ученых–филологов было изучение имеющихся вариантов рукописей, приписываемых тому или иному древнему автору, выявление подлинных текстов классической литературы, их комментирование, критический анализ. Вся эта кропотливая работа по подготовке текстов к изданию, требовала «установления языковых норм издаваемого автора» (Античные теории 1936: 25), побуждала к внимательному изучению форм языка. Кроме того, необходимо учесть, что к эпохе эллинизма устная речь приобрела значительные отличия от языка, на котором были написаны произведения классической литературы, тогда как в кругу образованных людей представление об идеальной речи («эллинской речи») по-прежнему связывалось с классическими образцами. Именно в это время, как отмечает М.Н. Славятинская, изменяется соотношение между письменной и устной речью: «В устной речи появляются многочисленные местные варианты, смешиваются формы различных диалектов и наряду с этим создается некая усредненная разговорная форма, понятная на всем пространстве греческого мира. <...> В письменном литературном языке прозы начинается сознательная консервация его классической аттической нормы V – IV вв. до н. э. и ионийско-аттического варианта литературного языка конца IV – II вв. до н. э.» (Славятинская 1996: 10). Поэтому вполне естественно, что одной из важнейших проблем этого периода становится проблема выработки норм образцовой литературной речи. Следовательно, изучение языка получает мощный импульс от двух источников, связанных «с необходимостью филологического толкования и издания классических литературных произведений и нормирования общего единого литературного языка всей Греции – так называемого ‘‘койне’’» (Лоя 1968: 20). Соответственно, исследования в области языка получают новую ориентацию: в центре внимания оказываются явления языковой формы, требующие прежде всего практического, а не философского решения. Однако данный факт еще не приводит к полной самостоятельности языкознания, т.е. к выделению его в особую науку. Изучение языковых явлений становится лишь вспомогательной дисциплиной, одной из частей в комплексе исследований, посвященных письменным памятникам. Поэтому в этот период само понятие «грамматика» имело иное содержание по сравнению с тем, которое известно в настоящее время. «В александрийскую эпоху «грамматика» – это исследование памятников литературы в широком смысле, исследование, охватывающее критику текста (διόρθωσις) и интерпретацию (εξήγησις) авторов классического периода греческой литературы с языковыми, литературоведческими, а также историко-антикварными объяснениями. Грамматик – это исследователь языка и стиля писателей, филолог широкого профиля» (Кобов 1966: 107). Вместе с тем широкое понимание термина «грамматика» не означает, что исследователи языка не пытались установить собственный объект изучения, определить предмет грамматики в качестве лингвистического исследования. Древнегреческие определения предмета грамматики, как и приемы собственно лингвистического описания языка складываются, в первую очередь, благодаря работе ученых двух школ: александрийской (названной выше) и пергамской, возникшей в крупном культурном эллинистическом центре Малой Азии – в городе Пергама. Наивысший расцвет в области науки Пергама переживает при Эвмене II (197 – 159 гг. до н. э.), ко времени царствования которого уже была создана и продолжала пополняться библиотека, немало способствовавшая развитию филологических исследований. Именно во II в. до н. 44 э. развернулась и непримиримая полемика между представителями александрийской и пергамской школ, которая была обусловлена резкими различиями в понимании языковой нормы и разным подходом к анализу языковых явлений. Страстная полемика между учеными александрийской и пергамской школ, первые из которых известны в истории науки как аналогисты, а вторые – как аномалисты, оказалась чрезвычайно плодотворной и привела в конечном итоге к разработке формальных аспектов морфологии. О наличии множества грамматических трудов ученых Александрии и Пергама нам известно из сочинений более поздних античных писателей, которые пересказывают взгляды аналогистов и аномалистов, полемизируют с ними, приводят отдельные цитаты, однако количество грамматических сочинений, сохранившихся полностью, незначительно. Главой александрийской филологической школы считается Аристарх Самофракийский (около 217 – 145 до н. э.), главным представителем пергамской филологической школы признается философ–стоик Кратет Маллосский (первая половина II в. до н. э.). Аналогисты утверждали, что в языке, главным образом – в морфологии, существуют правила единообразного изменения слов, которые являются результатом полного согласия между логическими и грамматическими категориями. Исследуя классические тексты, ученые встречались с множеством таких слов и форм, которые нарушали принцип единообразного изменения и, следовательно, вызывали сомнение в их правильности. Аналогисты были убеждены, что установление и использование правильных форм будет способствовать созданию образцовой эллинской речи. Их противники считали, что в языке нет полной упорядоченности, сходства форм, более того, преобладают неправильности (аномалии) – противоречия между грамматикой и логикой. Однако наличие в речи всякого рода аномальных форм, различных исключений не вредит языку и не затрудняет понимание. Этот общий взгляд на языковые явления распределил и роли ученых двух школ в полемике. Аналогисты стремились к разработке критериев, которые бы позволили отличать правильные формы от неправильных, и следовательно, к разработке методики анализа языковых фактов. Аномалисты заняли позицию критиков, отыскивая слабые места в изложении правил грамматики, создаваемых их противниками. Правильными формами представители аналогистов признавали такие, которые обнаруживали наибольшее сходство с соответствующими формами других слов того же грамматического разряда. Данное понимание опиралось на идею, что языковым формам слов одного и того же грамматического разряда присущи соразмерность, соответствие, пропорциональность. Сталкиваясь с неясными и сомнительными формами, ученые сравнивали их с правильными формами. «Сравнение это выглядело как математическая пропорция: сомнительная форма одного из двух (или нескольких) однотипных сравниваемых слов восстанавливалась на основе соответствующей бесспорной формы другого (или остальных) слов, подобно тому, как вычисляется неизвестный член пропорции при остальных трех известных» (Каракулаков 1975: 8). Таким образом, считая, что упорядоченность форм, грамматическая аналогия присущи самой природе языка, ученые александрийской школы приступили к разработке правил склонения и спряжения, позволяющих создавать идеально правильные грамматические формы. Эти опыты александрийцев являлись безусловно новыми для древнегреческой науки и плодотворными, хотя они были и не всегда удачными, особенно вначале. Непоследовательность тех или иных положений, неполный охват языковых фактов, наличие исключений из правил вызывали критику со стороны аномалистов. Следует также отметить, что, по–видимому, аналогисты были заняты не только поиском существовавших правильных форм, но и исправлением реально бытовавших форм, которые не соответствовали принципу аналогии. Последнее также вызывало резкое неприятие со стороны критиков. Например, Секст Эмпирик (конец II в. н. э.), приводя примеры искусственно созданных аналогистами форм, замечает: «... это представляется не только неясным, но и достойным осмеяния и даже порицания» (Античные теории 1936: 45 87). Такая оценка основывается на признании приоритета «всеобщего обихода» в определении правильности форм: «... нет нужды в аналогии, нужно только наблюдать, как говорит большинство, и что оно принимает как эллинское, или чего оно, наоборот, избегает как не являющегося таковым. <...> полезным для правильного пользования эллинской речью является наблюдение над всеобщим обиходом, а не аналогия. Ибо удовлетворительным мерилом почти всего того, что полезно для жизни, служит возможность не попадать в неловкое положение по поводу предъявляемых ею запросов» (там же: 86). Однако надо иметь в виду, что аномалисты не отрицали наличия определенных правил, которыми пользуются в своей речи люди, именно эта мысль, по-видимому, лежит в основе следующего утверждения Секста Эмпирика: «В повседневной беседе люди будут либо порицать нас за некоторые слова, либо не будут порицать. И если они будут порицать, то немедленно же и исправят нас, и таким образом наша эллинская речь будет результатом того, что установлено самой жизнью, а не грамматиками» (там же). Как говорил Кратет, познание языка достигается не в результате усвоения правил, а путем наблюдения над обычным употреблением. Очевидно, что, с точки зрения аномалистов, нет смысла выравнивать все существующие в обиходе (или в памятниках) формы в соответствии с идеальными формами, созданными с учетом принципа аналогии. Более того, возражение вызывала сама возможность установления общих правил для всех имен. В частности, в цитированной выше работе «Против грамматиков» Секст Эмпирик писал, что выведение общих правил потребовало бы обращения ко всем именам, а этого сделать невозможно, так как имен «неограниченное количество, а неограниченного нельзя познать» (Античные теории 1936: 91). Неприемлемым ученый считает и мнение, согласно которому общее правило может быть выведено на основании большинства случаев, поскольку «свойство, имеющее место в отношении большинства имен, вовсе не должно иметь места в отношении всех сходных имен. Напротив, подобно тому, как и во многом другом природа кое-что создает своеобразно, например в числе змей, число которых безгранично, – рогатую гадюку, носящую рога; <...> в числе минералов – магнит, притягивающий железо, так же точно естественно, что среди множества имен с одинаковым именительным падежом окажется и такое имя, которое склоняется не одинаково с большинством» (там же: 91–92). Развитие полемики шло в таком направлении, что аномалисты не уставали выявлять несовершенство тех или иных правил, приводить примеры слов, близких по звучанию и значению, но имевших разные формы склонения или спряжения. «Стремясь парировать доводы аномалистов, александрийские грамматики видели свою задачу в том, чтобы выявить ту совокупность признаков слова, которая позволила бы с точностью установить, к какому типу склонения или спряжения данное слово относится» (Перельмутер 1980 в: 213). Практическим результатом спора между учеными александрийской и пергамской школ стало накопление достаточного для обобщения языкового материала и выработка принципов его систематизации. Именно ученым александрийской школы, убежденным в том, что язык представляет собой сложное явление, обладающее регулярным и системным характером, принадлежит первенство в создании нормативной греческой грамматики. 3.5. По косвенным данным известно, что вопросами грамматики занимались многие ученые александрийской школы, но до нашего времени дошло незначительное количество работ. Наиболее полно сохранились «Грамматическое искусство» Дионисия Фракийца (170 – 90 гг. до н. э.) и отдельные произведения Аполлония Дискола (II в. н. э.). Объем грамматики, как он определяется александрийскими учеными, не совпадает с современными представлениями об этом. Например, из шести частей, которые выделяет в грамматике Дионисий Фракиец: умелое чтение с правильным произношением, объяснение тропов, толкование трудных слов, исследование этимологии, подбор аналогии, эстетическая оценка произведений (Античные теории 1936: 106), только одна – подбор анало46 гии – имеет сугубо грамматическое содержание, касающееся частей речи, парадигм склонения и спряжения. Кратко остановимся лишь на тех вопросах, которые имеют отношение к грамматике в современном смысле слова. Прежде всего следует подчеркнуть, что александрийскими учеными был сделан значительный шаг вперед по сравнению со стоиками в определении основных языковых единиц – слова и предложения. В отличие от стоиков, ориентировавшихся на логику, александрийцы дают этим единицам вполне лингвистическое определение. Например, в схолии к Дионисию Фракийцу находим следующее определение: «Предложение – взаимосогласованное сочетание слов, доводящее мысль до завершения» (Античные теории 1936: 118). Примечательно также то, что слово рассматривается, с одной стороны, как часть предложения, а с другой – как единица, обладающая самостоятельностью: «Слово – членораздельный звук, выражающий нечто подуманное» (там же: 117). Данные определения не только стали общепринятыми в античности, но и не утрачивали своей ценности на протяжении многих веков. Огромным достижением александрийских ученых является разработка формальных аспектов морфологии. В соответствии с этим в определении частей речи преобладали морфологические признаки в сочетании с семантическими, в некоторых случаях учитывались также и синтаксические особенности слов. Надо полагать, именно внимание к морфологическим признакам позволило уточнить и состав частей речи. Так, в отличие от стоиков, которые выделяли собственные и нарицательные имена как отдельные части речи, александрийские ученые объединяют их в одну часть речи, в частности, Дионисий Фракиец пишет: «Имя есть склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь (тело – например, камень; вещь – например, воспитание) и высказываемая как общее и как частное: общее – например, человек; частное – например, Сократ» (там же: 118). Александрийцы установили восемь частей речи: имя, глагол, причастие, член (артикль), местоимение, предлог, наречие, союз; определили и описали различные грамматические категории; установили разряды (или, как их называли в то время, «виды») отдельных частей речи; представили попытку классификации имен на основании их лексикограмматических признаков; рассмотрели особенности словообразования различных частей речи и многое другое. Заслуги александрийских ученых в области морфологии огромны: «вся последующая история теории частей речи так или иначе была связана с восьмью частями речи древнегреческого языка» (Лукин 1999: 38). Синтаксическая теория греческого языка подробно изложена Аполлонием Дисколом. Главной задачей в изучении синтаксиса ученый считает объяснение того, как отдельные слова объединяются в предложения. Аполлоний был убежден, что слова соединяются в предложение не случайно, поэтому существенно раскрыть те закономерности, которые лежат в основе сочетания слов. Путь к решению поставленной задачи Аполлоний видит в изучении специфических свойств частей речи и их семантики, так как характер синтаксических сочетаний слов, по мнению ученого, обусловлен их принадлежностью к той или иной части речи. Аполлоний еще не использовал особые термины для главных и второстепенных членов предложения, синтаксических связей слов в предложении, видов предложений и под., но, пользуясь названиями частей речи и названиями некоторых грамматических категорий, он придал им синтаксический смысл. Синтаксическое учение Аполлония Дискола оказало большое влияние на становление и развитие римской грамматической науки, а через нее и на грамматики других европейских народов. Таким образом, к началу нашей эры благодаря усилиям многих древнегреческих ученых в основном сложился образец грамматики как искусства, который будет воспринят и усвоен многими народами мира. 3.6. В Древнем Риме грамматика развивалась с середины II в. до н. э. под непосредственным влиянием греческих ученых, причем лингвистические споры между аналоги47 стами и аномалистами, которые велись в Древней Греции и эллинистических странах, стали распространяться и в Риме. Следует учесть также и то, что в Риме, как и в Древней Греции, возникает важная и трудная задача нормализации языка. И это было обусловлено не только греческим влиянием, но и собственными причинами. С одной стороны, появилась необходимость в критическом издании и комментировании имеющейся к этому времени разнообразной литературы. С другой стороны, состояние латинского языка этого периода характеризовалось наличием морфологических дублетов, орфографическим разнобоем, перегруженностью грецизмами и диалектизмами, усилением социальной дифференциации языка. В такой ситуации вопросы о правильных формах, о нормах употребления, о путях устранения неправильных языковых образований, которые волновали представителей аналогистов и аномалистов, стали чрезвычайно актуальными для ученых Древнего Рима. Исключительно плодотворным периодом в развитии грамматики был последний век Республики – 130 – 30 гг. до н. э., когда по уровню своего развития и по общественному признанию языкознание выдвигается на одно из первых мест среди других наук. К этому времени, как предполагают, относится первая теоретическая работа о принципах систематизации латинского склонения и спряжения – трактат «Об аналогии» Стаберия Эрота. Известный грамматик и ритор, домашний учитель Цезаря, Антоний Гнифон в трактате «О латинской речи» с позиций аналогистов обсуждает вопросы нормализации языка. Значительный вклад в развитие грамматики внес Элий Стилон (около 150 – 90 гг. до н. э.), написавший трактат «О простых повествовательных предложениях», который считается первым исследованием по синтаксису латинского языка. Много внимания лингвистическим вопросам уделял крупнейший римский ученыйэнциклопедист Марк Теренций Варрон (116 – 27 гг. до н. э.). Главный лингвистический труд Варрона – трактат «О латинском языке», который состоял из трех частей: этимологии, морфологии и синтаксиса, представленных в 25 книгах. К сожалению, сохранилось только 3 книги, посвященных этимологии, и 3 книги, посвященных морфологии, но и этого достаточно, чтобы судить о большой самостоятельности и оригинальности ученого в разработке вопросов грамматики. Варрон, по-видимому, был первым ученым, разграничившим словообразование и словоизменение; установившим (или во всяком случае обосновавшим) наличие в латинском языке аблатива – отложительного падежа, которого не было в греческом языке; обнаружившим, что на основании окончаний одной из форм можно установить тип склонения и тип спряжения. В частности, по окончаниям аблатива он предложил разграничивать типі склонений существительных и прилагательных, а по окончанию второго лица единственного числа настоящего времени – типі спряжений глагола. Большой интерес представляют собой рассуждения Варрона по поводу различных языковых явлений, которые обнаруживают стремление ученого не просто описать те или иные из них, а объяснить их и обосновать. Например, о природе и пользе склонения Варрон рассуждает следующим образом: «Склонение вошло в речь не только латинскую, но и всех людей в силу пользы и необходимости: ведь если бы этого не произошло, то мы не могли бы и заучить такое число слов, – ибо бесчисленны естества, на которые они отклоняются, – да и из тех, которые мы заучили бы, не было бы видно, какова связь вещей между собой. Теперь же мы видим, что сходно, что производно. Если legi (я прочел) склоняется от lego (я читаю), то видны сразу две вещи: что говорится некоим образом одно и то же и что действие происходит не в одно и то же время, а если бы, например, одно говорилось Priamus (Приам), а другое Hecuba (Гекуба), то это не обозначало бы того единства, которое видно в lego – legi, Priamus (Приам) – Priamo (Приаму)» (Античные теории 1936: 80). Варрон делает попытку разобраться в причинах наличия или отсутствия у слов склонения: «Для тех вещей, употребление которых однообразно, таково и склонение слова, как в доме, где только один раб, нужно одно рабское имя, а в том, где рабов много, 48 нужно несколько. Так же и у таких вещей, какими являются имена, вследствие многих различий в употреблении слова имеется и много отпрысков, а у тех вещей, которые служат связками и соединяют слова, – так как им не было надобности склоняться на многое, то они и остаются единичными: ведь одним ремнем можно привязать и человека, и коня, и все, что только может быть привязано к другому. Так, когда мы говорим: «Консулами были Туллий и Антоний», то этим же самым et (и) мы можем связать любых двух консулов, и более того любые имена и даже любые слова; а односложная опора – то самое et – остается одна» (там же: 81). Много места в трактате Варрона отведено разбору взглядов аналогистов и аномалистов. Вступая в полемику, ученый отмечал, что языку свойственны и регулярность и произвольность. Так, он говорит, что при словоизменении преобладают регулярные формы, т.е. соответствующие принципу аналогии, тогда как словообразованию присущи нерегулярные формы, т.е. здесь преобладает аномалия, поэтому ученый подчеркивает: “...не следует отвергать ни аномалию, ни аналогию” (там же: 94). Немало глубоких и вполне современно звучащих высказываний находим у Варрона по частным вопросам. Например, аномалисты рассматривали несоответствие грамматического и биологического рода как явное доказательство логического несоответствия, однако Варрон находит тому иное объяснение, в том числе приводя в качестве доказательства и факты истории языка: «... хотя за всякой речью скрывается природная вещь, однако, если она не доходит до практического применения, то и слова до нее не доходят; таким образом, говорится equus (жеребец) и equa (кобыла), потому что их различия имеют практическое значение (подчеркнуто мною. – Т.С.); а corvus и corva – нет, потому что здесь природное различие не имеет практического значения. Поэтому в некоторых случаях раньше было не так, как теперь: например, columbae (мн. ч. от columba – голубь) назывались все, и самцы и самки, потому что не были в домашнем употреблении, как теперь; теперь же, наоборот, вследствие их домашнего употребления, которое мы усвоили, самец называется columbus, а самка – columba» (там же: 95–96). До сих пор не утратило ценности утверждение Варрона о том, что отсутствие множественного числа у некоторых слов объясняется их семантикой: слова, лишенные форм множественного числа, обозначают предметы, которые подлежат «скорее измерению и взвешиванию, чем счету» (там же: 96), тогда как форма множественного числа свойственна словам, которые обозначают предметы, поддающиеся счету. Таким образом, «Варрон был самой яркой фигурой в римском языкознании, как и вообще в римской науке. Он сделал наиболее подробный и основательный разбор теоретических установок аналогизма и аномализма. Он стремился раскрыть внутреннюю упорядоченность словоизменения и добился здесь немалых успехов» (Шубик 1980: 242–243). Варрон сумел установить и описать многие специфические для латинского языка факты. Все сказанное не позволяет согласиться с мнением, что «вклад римских языковедов в науку невелик» (Кондрашов 1979: 18), гораздо справедливее при изучении истории науки бережно относится к любому шагу, способствующему поступательному ее движению. В связи с последним нельзя обойти вниманием созданную в середине I в. н. э. первую большую грамматику латинского языка – «Грамматическое руководство» Квинта Реммия Палемона (около 10 – 75 гг. н. э.). Само руководство не сохранилось, но оно легло в основу последующих грамматик, что и позволило его в определенной мере реконструировать (Оленич 1964). Палемон во многом следовал греческой грамматике Дионисия Фракийца, однако немало у него было и нового. Так, считается, что Палемон впервые в античном языкознании выделил междометия в качестве самостоятельной части речи, у греческих грамматиков оно рассматривалось в составе наречий. Палемон исключает артикль из состава частей речи как чуждый латинскому языку, подробно рассматривает словоизменение, много внимания уделяет синтаксису, в частности согласованию времен в сложном предложении, взаимосвязи подчинительных союзов и наклонений глаголов, употребле49 нию предлогов с различными падежами. Палемон внес значительный вклад в кодификацию норм классической латыни, в создание латинской лингвистической терминологии. Четвертый век нашей эры ознаменован трудом Элия Доната «Ars grammatica» («Искусство грамматики»), который состоял из двух частей: «Ars minor» («Малая грамматика») – для начальной ступени обучения и «Ars maior» («Большая грамматика») – для более высокой ступени обучения. Грамматика Доната получила признание уже в античности и имела необыкновенный успех на протяжении многих веков: более тысячи лет – до начала XV в. – она служила основным учебником латинского языка в школах Европы, а в переработанном виде труд Доната широко использовался до конца XVIII в. В Ars minor в форме вопросов и ответов кратко излагается лишь учение о частях речи. Ars maior представляет собой полный курс школьной грамматики и включает сведения по фонетике, письму, по стихосложению, учение о частях речи и стилистику. Двучастная структура учебника, рассчитанная на обучение от простого к сложному, делала его популярным в преподавательских кругах. Кроме того, «успеху Доната содействовало и то, что он был учителем крупного христианского писателя Иеронима (около 340 – 420 гг.): это делало имя Доната широко известным в христианских кругах и вызывало здесь благожелательное отношение к его учебнику. В VI в. видный деятель христианской церкви Кассиодор (около 480 – 575 гг.) рекомендовал грамматику Доната в качестве основного учебника латинского языка для монастырских школ и тем самым положил начало его распространению по странам Европы» (Шубик 1980: 254). Итог исканиям и достижениям античного языкознания подводит Institutiones grammaticae – «Курс грамматики», написанный Присцианом в первые десятилетия VI в. в Константинополе, ставшем важным центром античной культуры и науки после раскола на две части римской империи (IV в.). В своем «Курсе» Присциан опирался на труды как греческих ученых, особенно Аполлония Дискола, так и римских грамматиков. «Курс» Присциана содержит восемнадцать книг, в которых подробно излагаются вопросы морфологии и синтаксиса. В средние века «Курс» Присциана был после грамматики Доната самым распространенным учебником латинского языка, активно использовался до XIV в. и не утратил значимости даже в XVIII в. На рубеже IV и V вв. появился трактат Макробия, который «был, возможно, единственной в римском языкознании работой по сопоставительному изучению грамматики» (там же: 255). В трактате «О различиях и сходствах греческого и латинского глаголов» римский грек Макробий сопоставляет состав грамматических категорий глагола греческого и латинского языков, образование их форм, однако вопросов семантики почти не касается. Таким образом, несмотря на имеющиеся в разных лингвистических традициях отличия в грамматических учениях, им присуще существенное сходство, определяющее создание нормативных грамматик. Описательные нормативные грамматики, разработанные в средиземноморской традиции, активно использовались в период средневековья и стали образцом для создания грамматик новых языков. Вопросы и задания 1. Объясните, с чем связан тот факт, что в Китае грамматика появилась лишь в XVIII – XIX вв. ? 2*. Выясните, какую композицию имеет труд Панини, чем она обусловлена и какова ее роль в реализации основной задачи грамматики? 3*. Обусловлено ли своеобразие грамматики Панини особым отношением к языковому материалу? Ответ обоснуйте. 4. Какие вопросы получили наиболее существенное описание в грамматике Панини и как они связаны с порождающим характером грамматики? 50 5. В чем своеобразие грамматики Вараручи и каким образом в ней проявляется следование традиции Панини? 6. Какие причины вызвали интерес к вопросам нормы и правильности речи у древних греков? 7*. Как бы вы объяснили отсутствие у Платона интереса к формальной стороне языковых явлений? 8. Определите вклад Платона в развитие грамматической мысли. 9*. Какие факты позволяют утверждать, что Аристотель отождествляет логические и грамматические категории и в то же время более дифференцированно подходит к анализу языкового материала? 10. Определите то новое, что было сделано Аристотелем в изучении грамматических явлений, по сравнению с Платоном. 11. Какое место в системе философских воззрений стоиков занимают проблемы языка? Можно ли утверждать, что стоики выделили учение о языке в самостоятельную дисциплину? Почему? 12*. Раскройте понятие лектон в учении стоиков и покажите его отличие от смежных понятий (явлений). 13*. Какой смысл вкладывают стоики в понятие аномалия? В чем вы усматриваете общность определенных стоиками понятий лектон и аномалия? 14. Какие признаки были положены в основание различения частей речи стоиками? Почему в отличие от Аристотеля стоики нигде не говорят о служебных частях речи как лишенных значения? В чем состоит слабая сторона в учении о частях речи у стоиков? 15*. Одним из замечательных учений стоиков является учение о падеже. Чем принципиально отличается понимание падежа стоиками и Аристотелем? Какие характеристики, не содержащиеся в трудах стоиков, использовали при описании падежей представители александрийской школы? 16*. В чем состоит отличие в понимании синтаксических категорий стоиками по сравнению с пониманием их Аристотелем и какие черты сходства в этих учениях можно отметить? 17. Как понимается термин «грамматика» в эпоху александрийской школы? Какие попытки уточнить предмет собственно грамматических исследований вам известны? 18*. Какие факты можно считать толчком к тому, что в александрийской школе впервые грамматические явления стали изучать с формальной стороны? Какие приемы анализа форм языка были разработаны александрийцами и почему предложившие их ученые стали называться аналогистами? 19*. В чем аномалисты усматривали ошибочность взглядов аналогистов на язык? Каким образом в позициях ученых этих двух школ проявляется их представление о норме языка? 20. Определите, каким образом шла полемика между аналогистами и аномалистами и к каким практическим результатам привел этот спор? 21. Какими чертами принципиально отличаются определения слова и предложения, данные учеными александрийской школы, по сравнению со стоиками? 22. Чем по сравнению с предшественниками отличается учение о частях речи, разработанное представителями александрийской школы? Какое значение в развитии теоретической лингвистики имела теория частей речи александрийских ученых? 23. Какие факторы обусловили актуальность проблемы нормы в римском языкознании с середины ΙΙ в. до н. э. 24*. Каким образом Варрон обосновывает необходимость склонения (спряжения) слов, а также отсутствие их в некоторых разрядах слов? Как вы расцениваете рассуждения ученого? 25*. Насколько вам представляются обоснованными рассуждения Варрона относительно наличия/отсутствия грамматического рода, числа у некоторых слов? 26. Чем обусловлена необычайная популярность на протяжении веков грамматик Доната и Присциана? 27. Суммируйте представления древнегреческих и древнеримских ученых о синтаксическом строе языка. 51 Чтение и анализ научной литературы Кобов И.У. Предмет и задачи античной грамматики // Язык и стиль античных писателей. Л., 1966. С. 106–114. Термин «грамматика» по-разному толковался на протяжении веков в античную эпоху, современное содержание понятия «грамматика» вырабатывалось постепенно. Но существо проблемы состоит не столько в изменении значения слова, сколько в различии задач, которые ставили разные ученые, в оценке ими материала, который может привлекаться для анализа, в вычленении структурных частей грамматики. Именно все это в итоге и меняло содержание понятия «грамматика». Предлагаемая для чтения статья поможет разобраться в этом интересном и непростом вопросе. Вопросы и задания к тексту 1. Выпишите определения грамматики, данные Дионисием Фракийским, Аристоном Хиосским, Марком Теренцием Варроном. 2. Установите, в чем усматривали ученые Древней Греции и Древнего Рима свои задачи и как определяли предмет исследования. 3. Какое направление принимает дальнейшее развитие грамматики, если учитывать трактаты Доната, Присциана? 4. Как понимались задачи грамматики византийскими учеными? § 4. Вопросы лексикологии и лексикографическая практика 4.1. В античном языкознании лексикология как особая отрасль еще не сложилась. Часть вопросов лексикологии, например значение и этимология слова, связывалась, как известно, с философскими проблемами языка. Интересно, что в конкретных попытках этимологизации, известных во всех античных традициях, заметна общность подхода, а именно: стремясь понять происхождение имени, ученые выделяли среди них первичные слова и образованные от них производные и показывали, что в основе первичных имен лежит уподобление материала знака вещи, которую он обозначает. Следовательно, чтобы истолковать первоначальное значение, в составе знака выделялись более простые его компоненты, посредством которых и осуществлялось толкование. В разных античных традициях этот общий принцип, конечно, проявлялся своеобразно. Например, индийский ученый Яска (середина I тыс. до н. э.) с целью объяснения первоначального значения слова isti ‘жертвоприношение’, выделяет в нем части, сопоставляет с другим корнем is; icchati ‘ищет’, ‘желает’. На основании данного сопоставления он указывает причины сложившегося наименования, толкуя его как историю побега жертвы и поиска ее богами (Яхонтов 1980: 68). Аналогичный способ этимологизации обнаруживаем у Платона, который в трактате «Кратил» утверждает устами Сократа: слово антропос ‘человек’ «означает, что прочие живые существа не рассуждают и не размышляют по поводу того, что они видят, и не рассматривают. Человек же и рассматривает (αναθρει̃)̃ и обдумывает то, что он видит (όπωπε). Отсюда – только человек, единственное из живых существ, был правильно назван человеком (άνθρωπος) – рассматривающий то, что он видит (αναθρων, ὰ όπωπε)» (Античные теории 1936: 44). В китайском языкознании подобный анализ предпринимается по отношению к иероглифам. Например, в словаре Сю Шэня «Шовэнь цзецзы» («Описание простых и объяснение сложных знаков»), создание которого относят к 100 г. н. э., сложные иероглифы рассматриваются как состоящие из простых, «каждый из которых как бы сохраняет свое значение в составе целого» (Рождественский 1975: 71). Так, иероглиф со значением ‘отдыхать’ состоит из сочетания знаков со значением ‘человек’ и ‘дерево’ и тем самым дает изображение ‘человек под деревом’. Объединение двух более простых значений создает определенную идиоматичность единого знака, что и фиксируется сложным иероглифом. Простые иероглифы классифицируются по способу изображения значения, а сложные – 52 по способу передачи значения путем сочетания простых. Сю Шэнь установил 6 категорий иероглифов. Приведенный выше пример относится к идеографической категории, простейшие по способу выражения значения названы изобразительными, потому что они представляют собой схематизированные рисунки предметов и наиболее близко стоят к обозначаемой вещи. Ю.В. Рождественский считает, что 6 категорий, установленных Сю Шэнем, представляют тот перечень способов этимологизации, который в основном соответствует так называемой вульгарной этимологии, восходящей к Платону и широко представленной в европейском языкознании до становления сравнительно-исторического метода. Следовательно, учитывая и индийские изыскания, можно предположить, что такой способ анализа словесных знаков свойствен всей античности. Однако «европейская филология, несмотря на большой объем этимологий, не построила и не кодифицировала этимологию каждого слова, что было начато Сю Шэнем и осуществлено в китайской традиции. Иначе говоря, в Европе не было предложено систематизации слов по этимологическим категориям. Европейские этимологии не стали поэтому правилами производства новых слов, тогда как категории Сю Шэня, напротив, стали правилами производства новых графических слов <...>. Эти различия можно объяснить характером письменности» (там же: 73). Располагая иероглифическим письмом, в котором с помощью знака-иероглифа записывается значение, ученые подвергают интерпретации прежде всего значение, соотнесенное с формой знака, и лишь через значение иероглиф связывается со звучанием. В греческой науке вопросами этимологии особенно много занимались стоики, и хотя полученные ими результаты, с современных позиций, не поддаются критике, нельзя не остановиться на отдельных интересных для истории языкознания вопросах. Кроме того, напомним, что уже в древнейших памятниках (Гомер, Гесиод) наблюдаются попытки осмыслить происхождение некоторых имен. Оценивая данный факт, И.М. Тронский писал: «толкование имени – этимология – первое проявление рефлексии над языком в истории греческой мысли» (Античные теории 1936: 9). Считается, что сам термин «этимология» был введен Хрисиппом и что именно ему принадлежит несколько книг об этимологии. Пожалуй, наиболее существенные выводы стоики сделали не в отношении «первичных имен», толкование которых, связываемое с особенностями обозначаемой вещи, трудно назвать правдоподобным, а в отношении закономерностей образования производных слов, восходящих к «первичным именам». В частности, стоики на основании отношений, которые могут существовать между вещами, устанавливают три принципа наименования: по сходству, по смежности и по контрасту. Правда, известные из разных источников иллюстрации данных отношений не вызывают особого доверия. Например, Хрисипп для обоснования того, что центр духовной жизни человека, его ведущее начало (ηγεμονικόν) находится не в голове, а в сердце, в качестве аргумента приводил тот факт, что при произнесении слова εγώ (‘я’) подбородок, опускаясь, приближается к груди, к сердцу и указывает тем самым на место, где находится подлинное «я» человека. Далее, стремясь доказать, что центральным органом духовной жизни является сердце, Хрисипп указывал на близость по звучанию между словом καρδία ‘сердце’, с одной стороны, и словами κράτος ‘сила’, ‘мощь’, κύριος ‘повелитель’, ‘владыка’ – с другой (Перельмутер 1980 в: 185). Случайность звукового сближения и в целом фантастичность приведенных аргументов очевидна. Однако несомненно положительным является то, что «стоики пытаются внести определенную систему в область изменения значений слова, пытаются выявить правила, в соответствии с которыми происходит перенос названия с одного предмета на другой» (там же: 187). Наиболее последовательно на теорию и практику стоиков опирался римский ученый Варрон, но его взгляды представляются более интересными и глубокими, по сравнению с предшественниками. Отметим хотя бы три следующие момента. 53 Варрон предлагает вести этимологический анализ по лексическим группам, выделенным на основе классификации вещей. Эта идея вытекает из его общих представлений о том, что «человеком при установлении слов для вещей руководила природа» (Шубик 1980: 237) и что, следовательно, познание слов связано с познанием вещей. Варрон в соответствии с установленными им четырьмя основными категориями вещей выделил четыре класса слов, обозначающих: 1) пространство, 2) тела, 3) время, 4) события. Сама идея вести этимологические разыскания с учетом имеющихся между словами связей кажется чрезвычайно привлекательной, однако принципы систематизации слов, предложенные Варроном, вряд ли можно считать удовлетворительными. Отметим, что сам ученый обращал внимание на размытость границ в выделенных им группах и в качестве примера приводил слово agricola – ‘земледелец’, включенное в класс единиц, обозначающих тела, и слово ager – ‘поле’, имеющее пространственное значение, но находящееся с первым в этимологической связи. Вместе с тем такие случаи Варрон считал периферийными, однако, надо полагать, этого вряд ли достаточно для решения проблемы отбора материала для анализа. Вторым интересным моментом является рассуждение Варрона о причинах, препятствующих успешной работе этимолога. Представляется, что с большинством из них нет смысла спорить даже при современном уровне развития этимология. Так, некоторые трудности, которые испытывает этимолог, ученый объясняет происходящими в языке изменениями: 1) выпадением слов из языка (что может привести к потере либо первичного слова, либо промежуточных звеньев между исследуемым словом и словом первичным); 2) изменением внешнего облика слов; 3) появлением у слова нового значения при утрате старого. Варрон отмечает также, что успешной работе этимолога, стремящегося охватить весь объем материала, препятствует наличие в языке иноязычных слов. Пятая трудность, на которую указывает ученый, – это ошибки тех, кто создавал слова. Данное высказывание ярко отражает связь мыслителя со своим временем. И наконец, более глубокий подход Варрона проявляется в том, что он нередко привлекает диалектный материал, факты других языков и даже обращает внимание на отдельные фонетические изменения, происшедшие в истории языка, например, он отмечает, что во многих словах древнее S стали произносить как R. В целом же отметим, что хотя римляне, как и другие древние, любили заниматься этимологией и много писали на эту тему, уровень этих работ был чрезвычайно низок. 4.2. В античное время началось практическое описание различных групп слов на основе объединяющих их признаков, хотя, конечно, о теоретической разработке данного вопроса вряд ли стоит говорить. Как наиболее древние могут быть отмечены группировки слов на идеографической основе. Например, Яска, составляя списки слов, важных для толкования вед, представляет их в виде нескольких разделов. В первом из них слова группируются таким образом, что позволяют судить о трех основных частях древнеиндийской модели мира: земля, пространство между небом и землей, небо. Этот же труд Яске показывает, что вполне осознано понятие синонимии. Так, ученый приводит 21 синоним слова земля, 15 синонимов слова золото – одного из богатств земли (Катенина, Рудой 1980: 69). Объединение слов в различные группы может показаться не всегда логичным современному человеку, но нельзя отрицать того факта, что у древних могли быть для этого свои основания. Например, в категорию «вода» включается 100 слов, среди которых не только важнейшие жидкости: мед, молоко, вино и под., но и, по-видимому, все, что определяется понятием «текучего» (изменчивого): yaśas (‘слава’, ‘успех’), bhuvanam (‘существование’, ‘бытование’), bhavisyat (‘будущее’) и др. (там же). Идеографическая (или тематическая) классификация слов представлена и в китайском словаре «Эр я», основная часть которого была составлена в III в. до н. э., а ряд добавлений сделан во II в. до н. э. Все иероглифы распределены по 19 главам, каждая из кото54 рых представляет собой тематический свод толкований одной из категорий мира, которые в совокупности отражают представления древних китайцев о происхождении и дифференциации вселенной. Начинают эту философскую картину мира иероглифы, обозначающие творящее слово, затем идут списки наименований родства, правления, музыки, неба, земли, травы, животных и т. д. Как и в рассмотренном выше словаре, здесь также приводятся синонимические ряды, куда включаются иероглифы сходные по значению, например, синонимический ряд со значением «начало» включает любые слова-наименования, которые могут быть истолкованы как исходный пункт творения: ‘начинать’, ‘голова’, ‘предок’, ‘утроба’ и др. В древнегреческой науке вопросы лексики изучались в тесной связи с проблемами риторики и языковой нормы. По свидетельству Платона, большое внимание синонимам уделял Продик из Кеоса (V в. до н. э.). Продик утверждал, что не существует полных синонимов, и стремился установить различия между близкими по значению словами. Многие ученые полагают, что углубленное изучение синонимов, предпринимавшееся Продиком, обусловлено его философскими и эстетическими взглядами: мыслитель был сторонником природной связи между вещью и именем, а анализу подвергал преимущественно слова, называющие нравственные понятия. Но, пожалуй, наиболее яркие страницы, оставшиеся от античной эпохи и вписанные в историю лексики, принадлежат Аристотелю. Исследования именно этого философа открывают многовековую историю изучения семантики слов. Прежде всего отметим, что Аристотелю принадлежит разграничение двух типов многозначности. К первому он относил слова, отдельные значения которых никак не связаны между собой, а ко второму – слова, отдельные значения которых определенным образом связаны между собой, т.е., по современной терминологии, он отделил омонимию от полисемии. Аристотель был первым греческим ученым, который дал определение метафоры и поставил вопрос об изучении механизма семантических изменений: «Переносное слово (μεταφορά) – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» (Аристотель 1978: 147). Определив способы метафорических переносов, ученый объясняет особенности каждого из них. Так, перенос по аналогии он объясняет через пропорцию: «когда второе так относится к первому, как четвертое к третьему, и поэтому <писатель> может сказать вместо второго четвертое или вместо четвертого второе <... >, например, когда <сеятель> разбрасывает свои семена, то <это называется> «сеять», а когда солнце свои лучи, то это названия не имеет, но так как <действие> это так же относится к солнцу, как сеяние к сеятелю, то и говорится «сея богоданный свет»» (там же: 147–148). Много внимания Аристотель уделяет способам создания выразительности речи и условиям достижения выразительности. С именем Аристотеля по праву связывается начало поэтики, риторики, стилистики художественного текста. Однако есть и другая сторона – со времени Аристотеля функционально-семантические особенности слова (как и высказывания) стали на долгие века предметом риторики, а к теоретической разработке семантических проблем слова ученые обратились довольно поздно. 4.3. Создание первых словарей было связано с необходимостью толкования сакральных и авторитетных светских текстов. Таковыми, например, являются глоссы к вышедшим из употребления словам «Ригведы» – древнейшие лексикографические опыты индийцев. Значительным трудом в индийской традиции стал словарь, приписываемый Яске, о котором говорилось выше. Помимо сказанного, отметим, что в этом словаре приводятся также разнообразные понятийные группы глаголов и отглагольных имен: физической и умственной деятельности, еды, эмоций, движения и др.; отдельно систематизированы существительные и прилагательные, которые часто встречаются в описании богов и их функций: размеры, цвет, красота, добрые дела, мудрость, сокрытие и воровство и т.п. 55 Своеобразный грамматический словарь представляют собой списки слов, содержащиеся в качестве приложения к грамматике Панини. Списки представляют собой группы слов, которые объединяются общими грамматическими признаками. Например, глаголы сгруппированы по десяти классам спряжения с указанием ударения, особенностей словообразования, чередований звуков и др. В словаре Панини особенно хорошо представлена лексика, связанная с ритуалом, что полностью соответствует практической направленности грамматики в целом. Однако все это были первые опыты, своего расцвета лексикографическая работа в Индии достигла в средние века. В Китае словари служили для систематизации и истолкования иероглифов, содержащихся в древнейших литературных памятниках и документах. Систематизированное собрание иероглифов из древних книг нашло отражение в первом китайском толковом словаре – «Эр я», который был отредактирован Конфуцием (около 551 – 479 до н. э.) и вошел в так называемые «Тринадцать канонов», составляющих основу конфуцианства. «Эр я» включает разнообразную информацию: орфографическую, энциклопедическую, семантическую (толкование иероглифов). Идеографическое построение словаря было воспринято в качестве основного принципа, определившего структуру словарей, созданных после «Эр я». Одним из наиболее значительных среди подобных словарей был «Фан янь» («Местные слова»), созданный на рубеже нашей эры. Повторяя структуру «Эр я», данный словарь толкует не те иероглифы, которые значимы для канонических текстов, а те, которые вошли в литературно-письменные тексты из речи, бытовавшей на разных территориях Китая. Соответственно в словарную статью объединяются слова разных диалектов, при этом указывается место бытования слов и даже описываются ситуации, в которых они употребляются. Данный словарь вполне справедливо оценивают как начало китайской диалектологии. Первым полным китайским словарем, охватывающим все иероглифы, а не только устаревшие, как в «Эр я», или местные, как в «Фан янь», является словарь Сю Шэня «Шовэнь цзецзы», речь о котором шла выше. Словарь включает 9 353 иероглифа, которые объединены в 540 групп на основании входящих в иероглифы смысловых элементов – «ключей». Таким образом, данный словарь одновременно является и толковым и «формальным», так как слова в нем располагаются в зависимости от формы знаков, а не с учетом их идеографической или тематической принадлежности. Новым словом в области китайской лексикографии стал словарь Лю Си (около 200 г. н. э.) «Ши мин» («Объяснение имен»). Его своеобразие состоит в том, что значение слова автор пытается объяснить путем сопоставления данного слова с другим близким по звучанию словом. Таким образом, в этом словаре речь идет не об «этимологии» иероглифов, как в «Шовэнь цзецзы», а о возможности выведения этимона на основе звучания. Это отражало общие установки Лю Си, который считал, что начальное имя (этимон) надо искать в связи звучания и значения, а не в связи графики и значения. Подчеркнем, что объяснение значения слова через обращение к звучанию других слов встречалось и в книгах предшественников Лю Си. Представляется, что эти разработки лежат в основе нарождающейся китайской фонетики и оригинального метода фаньце – «разрезания» иероглифа с целью записи его чтения. В классический период Древней Греции, особенно в эпоху высочайшего подъема культуры в V в. до н. э., многие памятники, написанные устаревшим языком, нуждались в комментировании. Именно к этому времени относят первые глоссы, включающие старинные или инодиалектные слова. Но расцвета греческая лексикография достигает в эпоху эллинизма. В это время стали собирать не только устаревшие слова, но и такие, которые сохранились в речи, но не во всех своих значениях были понятны обыкновенному носителю греческого языка. Следует подчеркнуть, что все составители словарей этого периода в качестве материала при56 влекали только письменные источники, лексика же устной речи, в том числе и диалектная, не получала отражения в словарях. В эту эпоху появились словари, включающие лексику одного какого-нибудь автора или определенного литературного жанра. Например, известно, что первый руководитель Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский (325 – 260 гг. до н. э.) составил словарь гомеровских глосс, построенный по алфавитному принципу. Основателем научной лексикографии считается выдающийся александрийский филолог Аристофан Византийский (257 – 180 гг. до н. э.). Дошедшие до нас работы Аристофана свидетельствуют о глубокой продуманности подачи материала в словарях. Ученый стремился максимально охватить все слова и выражения, относящиеся к избранной им сфере, скрупулезно выявлял значения отдельных слов, различные значения иллюстрировал примерами из поэтических и прозаических текстов классической эпохи, нередко отмечал изменения значений слов, происшедшие в период от древнейших памятников до современного ему времени. Лексикографическая практика Аристофана обнаруживает широкий круг его интересов. До нас дошли фрагменты его словарей аттического и лаконского диалектов; словари, построенные по предметному принципу; лексикографический труд «О наименовании возрастов», где собрано много слов, связанных с возрастом людей и животных; словарь, в который входят слова со значением родства. Известны и другие названия лексикографических работ Аристофана, однако сами работы не сохранились. После Аристофана по образцу его трудов создавалось немало словарей различной тематики: этимологические словари, гомеровские глоссы, лексика сиракузского и лаконского диалектов, лексика аттической трагедии и аттической комедии, наименования растений и животных. В I в. н. э. Памфил создал обширный лексикон, состоящий из 95 книг, систематизировав лексикографические работы своих предшественников. Используя этот словарь, во II в. н. э. Диогениан составил в 5 книгах словарь для целей школьного обучения. Однако оба эти словаря не сохранились. Правда, лексикон Диогениана был переработан Гесихием Александрийским (V – VI вв. н. э.) и в настоящее время представляет собой самый объемный античный словарь. Римская лексикография ведет свое начало с I в. до н. э., следовательно, она уже имела возможность использовать богатый опыт древнегреческой лексикографии. Первым выдающимся лексикографом Рима считается Август Веррий Флакк (вторая половина I в. до н. э. – начало I в. н. э.), который создал словарь «О значении слов». В полном виде словарь не дошел до нас, а сохранился лишь в извлечениях и сокращениях, сделанных сначала Секстом Помпеем Фестом (II в. н. э.), а затем Павлом Диаконом (VIII в.). Словарь Веррия Флакка является толковым словарем, в котором в алфавитном порядке располагались слова, способные вызвать затруднения лексического или грамматического характера, преимущественно это были слова устаревшие, специальные, многозначные. В словаре, помимо толкования слов, содержались некоторые сведения о морфологических и фонетических особенностях слов, а также их стилистические характеристики и этимологические справки. Кроме того, словарь включал ценную информацию о жизни древних римлян, их обычаях, раскрывал отдельные стороны священных обрядов, игр, содержал фактические сведения исторического, географического и бытового порядка (Чекалова 1966: 192). Вся эта энциклопедическая информация, а также богатый иллюстративный материал, почерпнутый из произведений римских авторов, несомненно повышает ценность словаря Веррия Флакка. От IV в. сохранилось два римских словаря-справочника, которые пополняют наши представления о разных типах словарей, создаваемых в древнюю эпоху. Разнообразным по структуре и содержанию предстает словарь Нония Марцелла. Словарь состоял из двадцати глав, материал которых показывает, что автор преследовал разные цели: часть работы касалась вопросов этимологии, в другой части объяснялось 57 значение многозначных слов, в отдельной части проводилось различие между синонимами. В нескольких главах лексика сгруппирована по тематическому принципу, например, типы кораблей, виды одежды, разновидности сосудов, и словам каждой из групп дается толкование. Ряд глав можно назвать грамматическим словарем, так как в них указываются грамматические особенности слов: колебания рода существительных, необычные падежные формы и под. Арусиан Мессий создал словарь-справочник синтаксической сочетаемости, включив в него глаголы, существительные, прилагательные, предлоги. Для каждого слова приводятся возможные синтаксические конструкции, которые, к тому же, иллюстрируются примерами, извлеченными из произведений римских авторов. Таким образом, в эпоху античности проблемы лексики еще не стали особой областью исследований, хотя многие существенные семантические вопросы были предметом размышлений древних. Изучение лексики, как и создание словарей, прежде всего стимулировалось практическими потребностями речевого общения, развитием риторики и необходимостью объяснения малопонятных слов. Вместе с тем в каждой древней лингвистической традиции определились свои особенности в развитии лексикографии, которые получат развитие в эпоху средневековья. Вопросы и задания 1. Какие философские взгляды ученых оказали влияние на методы конкретных исследований в области этимологии слов? 2. В чем состоит сходство и различие в этимологическом анализе слов, предпринимавшемся в рамках разных античных традиций? 3. Чем объясняется интерес древних ученых к этимологии и чем обусловлен низкий уровень этимологических изысканий? 4. Проанализируйте указанные Варроном причины, препятствующие успешной работе этимолога, оцените их с позиций нашего времени, приведите примеры, известные вам из истории изучаемого языка, когда названные ученым трудности преодолевались. Объясните, чем это обусловлено. 5. В чем вы усматриваете сходство и различие в систематизации лексики, предпринятой древнеиндийскими и древнекитайскими учеными? Получила ли данная идея развитие в истории языкознания? 6. Какие важные проблемы семантики решались в трудах Аристотеля? 7. Сравните характеристики известных вам китайских словарей, установите, какие задачи преследовал каждый из них и каким образом эти задачи решались? 8. Можете ли вы среди древнегреческих и древнеримских словарей выделить такие, которые бы обнаруживали черты сходства с индийскими и китайскими словарями? Чем вы это объясняете? 9. В чем вы видите своеобразие словаря Августа Веррия Флакка? 10. Продумайте, какие из современных типов словарей имелись уже в древности в виде самостоятельных словарей или хотя бы в виде их частей. § 5. Исследования в области фонетики 5.1. Из всех рассматриваемых традиций наиболее высокого уровня развития фонетика достигла в учении древних индийцев. Во многом это обусловлено их отношением к сакральным текстам, произнесение которых должно было осуществляться в архаичном виде, что, естественно, побуждало к изучению особенностей звукового строя языка. Древнеиндийские ученые разграничивали гласные и согласные звуки, указывая на положение органов речи при их произнесении и на различие их функции в слове, отмечая слогообразующий характер гласных и неспособность согласных самостоятельно образовывать слоги. Вместе с тем еще с середины первого тысячелетия до н. э. индийские уче58 ные начали разрабатывать артикуляционную классификацию, в которой гласные и согласные звуки рассматривались в единой системе. При выяснении особенностей образования звуков тщательно изучается работа органов речи, учитываются малейшие их изменения, что дает возможность выделять различные признаки, посредством которых может характеризоваться тот или иной звук. Например, детально рассматриваются отношения между пассивными органами речи и языком, благодаря этому между ними обнаруживаются разные ступени контактов, позволяющие устанавливать тонкие звуковые различия: звуки полного контакта, звуки легкого контакта, закрытые, полузакрытые, открытые. При характеристике этих же звуков учитываются особенности движения воздушной струи через ротовую полость, что дает возможность разделить их на смычные, полугласные, спиранты, долгие гласные и краткие гласные. Подробно описывается характер действия голоса и резонаторов, в связи с чем звуки различаются: по открытости и закрытости глоточной полости, на проточные или резонансные, на вокализованные или невокализованные, придыхательные или непридыхательные, назализованные или неназализованные. Многоступенчатый характер носит и описание признаков места образования. Детальная разработка признаков, положенных в основу классификации, а также анализ гласных и согласных в единой системе составляет своеобразие индийской классификации звуков, которая внешне «похожа на принятую у европейцев классификацию согласных: по месту артикуляции, способу артикуляции, характеру воздушной струи при образовании звука. Но индийская классификация равно включает гласные и согласные и потому имеет другую систему признаков» (Рождественский 1975: 81–82). Звуки речи индийцы отличали от звуков языка (фонем). По сути при изложении грамматики Панини (вероятно, V в. до н. э.) ведет речь о позиционных вариантах фонемы, об идентификации фонем и морфофонем, о морфофонологических явлениях. Существенно также и то, что индийские ученые описывали чередование звуков, уподобление определенных звуков в процессе речи, правда, при этом они не делали различий между комбинаторными изменениями и историческими изменениями в структуре слова. 5.2. В Китае фонетические явления начинают изучаться поздно. Зарождение фонетики тесно связано с особенностями китайской письменности, в частности, с совершенствованием способов записи, с помощью которой может осуществляться чтение иероглифов. В самом конце эпохи Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.) был изобретен такой способ, который позволял представить чтение какого-либо иероглифа с помощью чтения двух других иероглифов. Этот способ был назван «разрезание» – фаньце. Важно учесть, что в китайском языке фонетической единицей является слог, причем границы между слогами, за редким исключением, совпадают с границами между морфемами. Слог делится на две части – начальную (инициаль) и конечную (финаль), последняя характеризуется не только составом входящих в нее звуков, но и определенной мелодикой – тоном. Чтобы обозначить чтение иероглифа, подбирали два других: первый из них читался с тем же начальным согласным, а второй – с той же финалью (и тоном), что и «разрезаемый» иероглиф. Таким образом, метод разрезания позволяет точно обозначить чтение любого иероглифа. Вскоре после династии Хань появляются словари рифм. «На состояние языкознания в это время оказали влияние главным образом два явления в китайской культуре: расцвет поэзии и широкое распространение буддизма. Развитие поэзии, появление теории стихосложения потребовало изучения рифмы и тона. С другой стороны, буддизм принес с собой элементы индийской культуры; знакомство с индийской алфавитной письменностью показало китайским ученым возможность фонетического анализа слова, принципы классификации звуков» (Яхонтов 1980: 99). О первых словарях рифм либо известно по косвенным источникам, либо известно немногое из особенностей их строения. Значительным толчком в развитии словарей рифм 59 было изучение тонов, начавшееся в V в. Теория тонов, наряду с рифмой, играет важную роль в китайском стихосложении. Начиная с этого времени, словари рифм делятся на четыре части в соответствии с установленным количеством тонов. Наибольшую известность приобрел словарь, созданный в 601 г., – «Це юнь» («Разрезание и рифмы»), который несколько раз перерабатывался и в расширенном виде (с XI в.) сохранился до сих пор под названием «Гуан юнь» (Расширенный [Це] юнь). В этом словаре, по сравнению с «Це юнь», представлено большее количество рифм – 206, сгруппированных в 61 класс, изменен также и порядок расположения рифм. С XI в. известен и самый объемный по количеству иероглифов (53 525) словарь, хотя число и название рифм в нем осталось то же, что и в словаре «Гуан юнь». Таким образом, создание словарей рифм способствовало выяснению особенностей рифмующейся части слова и тонов. Однако начальные согласные и гласные, следовавшие за начальным согласным и относившиеся к финали, не изучались. Первый список начальных согласных, как и их классификация, был создан явно под индийским влиянием не ранее IX–X вв. и напоминал порядок букв в алфавите деванагари. Позже, в эпоху Сун (960 – 1279 гг.), список согласных был увеличен с 30 до 36 «букв», а также были внесены уточнения в классификацию согласных, причем, важно подчеркнуть, построенную на основе артикуляционных признаков. «Значительным шагом вперед в области изучения китайской фонетики было появление фонетических таблиц, которые позволяют наглядно представить всю фонетическую систему китайского языка полностью, включая и рифму, и инициали, и промежуточные гласные, и тон» (Яхонтов 1980: 108). Фонетические таблицы стали специальным методом изучения китайской фонетики, имели свою теорию и довольно сложный терминологический аппарат. Именно со времени создания фонетических таблиц китайская фонетика рассматривается как особая дисциплина. Таким образом, знакомство с работами по фонетике показывает, что китайское языкознание развивалось в этой области практически самостоятельно, испытав лишь незначительное влияние со стороны индийской науки. Во многом это было обусловлено тем, что усилия китайских ученых были направлены на изучение письменной речи, которая представляет собой иероглифическую систему, кроме того, сам язык значительно отличается по своему строению от языков, на основе которых возникли как индийская, так и европейская традиции. 5.3. В Древней Греции фонетика занимала значительное место, и хотя, по сравнению с Древней Индией, результаты в этой области біли не столь существенны, но они важны для нас как складывающаяся европейская традиция в описании звукового строя. О хронологической глубине изучения звукового строя языка и высоком уровне его осмысления греками свидетельствует создание письменности, которое обычно относят к IX или X в. до н. э. Изобретение алфавита, имевшего с самого начала специальные знаки не только для согласных, но также и для гласных звуков, – великое достижение греков, которому, естественно, предшествовало тонкое осознание звуковых сходств и различий, установление соответствий между символами и звучащей речью. В последующие века, особенно в V в. до н. э., изучение фонетики, по-видимому, углублялось. По косвенным данным известно, что к вопросам фонетики обращались многие мыслители, хотя письменных источников почти не сохранилось. Например, до нас дошли названия сочинений Демокрита из Абдеры (около 470 – 380 гг. до н. э.), часть из которых свидетельствует о его интересе к фонетическим явлениям: «О ритмах и гармонии», «О благозвучных и неблагозвучных буквах», «О Гомере, или об орфоэпии и глоссах». Заметим, что античные ученые не различали строго терминологически звук и букву, что видно из приведенных выше названий работ Демокрита и что следует помнить, знакомясь с литературой античных авторов. 60 С концом V в. до н. э. связывают наблюдения над особенностями образования звуков и попытки создания их классификации. «Когда в конце V в. афиняне официально перешли от своего старинного алфавита на новоионийский, автор законопроекта Архин составил объяснительную записку к этой реформе; Архину уже известны три места образования взрывных звуков» (Античные теории 1936: 12). В частности, как свидетельствуют более поздние авторы, «Архин говорил, что (согласные) или произносятся у сложенных губ, как пи, и отсюда возникает пси у кончика языка, или широкой поверхностью языка у зубов, как дельта, и поэтому дзета возникает в этой местности, или изгибом и сжатием в глубине рта, как каппа, откуда проистекает кси» (там же: 35). Платон также ссылается на какую-то известную классификацию звуков, которая, как он пишет, заимствована им у «знатоков этого дела» («Кратил», согласно общепринятой рубрикации – 424 с). Правда, самого Платона мало интересовали вопросы фонетики. Обращаясь к классификации звуков («Кратил» – 424 с, «Филеб» – 18 bс), он практически не приводит примеров. Поэтому трудно понять, какие именно звуки Платон противопоставляет гласным, называя их безгласными или беззвучными и что он подразумевает, говоря о звуках «безгласных, но не беззвучных». Понятия слога и ударения, которые упоминает Платон, также не получают серьезного освещения в его работах. В Древней Греции фонетические исследования с самого начала отличались тем, что они проводились в тесной связи с теорией музыки и включались в метрику. К этому располагала практика обучения, в основе которой лежало чтение поэтических текстов, а также сама специфика древнегреческого стихосложения, которое в теории литературы определяется как «метрическое», основанное на различном сочетании долгих и кратких слогов: «долгий слог произносился приблизительно вдвое протяжнее, чем краткий, и обладал большей высотой звука» (Радциг 1977: 23). Много внимания ритмике и метрике уделяли представители пифагорейской школы, которые во всем пытались усмотреть соразмерность, пропорцию, стремились установить параллелизм между фонетическим строем и музыкальными ритмическими элементами, им же принадлежит изучение музыкальной и поэтической гармонии. Значительный шаг вперед в изучении звукового строя был сделан Аристотелем. Им определена общественно значимая роль звуков человеческого языка как носителей разумного слова, именно в этом ученый усматривал принципиальное отличие звуков речи от любых иных звуков, в том числе от непроизвольных звуков, произносимых людьми, или от звуков, издаваемых животными. Аристотель более подробно, по сравнению с предшественниками, характеризует звуки речи, используя при этом как акустические, так и артикуляционные признаки. Например, в «Поэтике» он пишет: «Гласный – тот, звучание которого слышится без прикладывания языка, например, α и ω; полугласный – тот, звучание которого слышится при прикладывании языка, например σ и ρ; безгласный – тот, который, при наличии прикладывания языка, не дает однако самостоятельно никакого звука, а делается слышным в соединении со звуками, имеющими какую-нибудь звуковую силу, например γ и δ. Эти элементы различаются в зависимости от формы рта, от места их образования, густым и тонким придыханием, долготой и краткостью и кроме того острым, тяжелым и средним ударением» (Античные теории 1936: 62). Аристотель дает определение слога как сочетания гласного и безгласного звуков, но следует помнить, что для него еще не существует слога, состоящего из одного гласного. В александрийской грамматической школе фонетика входила в грамматику, составляя ее первую часть. Дионисий Фракиец выделяет 24 звукобуквы, из них 7 гласных, которые могут быть долгими – η и ω, краткими – ε и ο, двухвременными – α, ι, υ. Последние названы так потому, что могут и удлиняться, и сокращаться. Ученый приводит перечень дифтонгов, выделяет двойные согласные (ζ, ξ, ψ), определяя их как составленные из двух звуков: ζ из δ и σ, ξ из κ и σ, ψ из π и σ , называет плавные согласные (λ, μ, ν, ρ). Обратим внимание на то, что и в работе Дионисия Фракийца не только дана характерис61 тика звуков, но и заметно стремление дать им эстетическую оценку. Так, выделяя девять безгласных – β, γ, δ, κ, π, τ, θ, φ, χ, ученый пишет: «Безгласными они называются потому, что дают худший звук, чем остальные, подобно тому как мы называем безголосым трагического актера с дурным голосом» (Античные теории 1936: 107). Автор примечаний, данных к текстам из цитируемого сборника, отмечает: «Объяснение Дионисия свидетельствует о том, что термин «безгласный» уже стал непонятным; но это является признаком не каких-либо новых успехов фонетики, а ее полного омертвления: старая теория и терминология переходит из одного грамматического руководства в другое как традиционный и не перерабатываемый более материал» (там же: 305). По свидетельству Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э.), называлось и другое количество звуков греческого языка – 13 или 30, это, по-видимому, зависело от того, признавались ли самостоятельными элементами все краткие и долгие или принимались лишь по количеству букв алфавита, независимо от их долготы и краткости, считались ли «двойные» отдельными элементами или сочетанием элементов и под. Ученые Древнего Рима продолжили традиции древних греков в описании фонетических явлений. Как известно, «Грамматическое руководство» Квинта Реммия Палемона (около 10 – 75 гг. н. э.) в качестве первого раздела содержало сведения из фонетики и письма. От II в. дошел до нас стихотворный трактат Теренция Мавра «О буквах, о слогах, о размерах», в котором подробно характеризуются звуки латинского языка, правда, как отмечают комментаторы, не всегда правильно. Сведения по фонетике, письму и стихосложению содержатся также в грамматике Доната (IV в.), благодаря которой они широко распространились в период средневековья по Западной Европе. Таким образом, в эпоху античности были заложены основы изучения фонетических явлений. Тонкие наблюдения древних, особенно индийцев, над произношением позволили установить многие существенные артикуляционные характеристики звуков, выделить слог, ударение, некоторые особенности интонации, осознать смыслоразличительную функцию звука. Вместе с тем очевидно, что у древних интерес к фонетике всецело обусловлен практическими потребностями чтения текстов. С особенностями письменного текста, с отношением к ним связано и своеобразие каждой из древних традиций. Китайская система письма, значительно отличаясь по характеру от других традиций, побуждала к разработке правил чтения иероглифов. Древнегреческие фонетические исследования развивались в тесной связи с музыкальным искусством в силу значимости ритма звучащего текста, обусловленного наличием кратких и долгих гласных, а также в силу повышенного внимания к эстетической стороне текстов. Стремление к точности произношения сакральных текстов во многом обусловило ту тщательность и многомерность в описании артикуляции звуков речи, которая была характерна для древних индийцев. Вопросы и задания 1. С чем связано повышенное внимание древних индийцев к звуковому строю языка и каким образом это определило направление их исследований? 2. Что определило внимание Панини к морфонологическим процессам? 3. Как вы объясняете позднее развитие фонетики в Китае? 4. Какие предпосылки к созданию словаря рифм в китайском языкознании вы можете назвать? Насколько правомерно технику их создания ставить в зависимость от индийского влияния? 5. В чем вы усматриваете черты сходства в изучении фонетического строя языка древнеиндийскими и древнегреческими учеными? 6. В чем состоит своеобразие в исследовании фонетического строя языка древними греками и чем оно обусловлено? 7. Сформулируйте, что нового по сравнению с предшественниками внес Аристотель в разработку фонетики? 8. Какое место занимала фонетика в александрийской грамматике? 62 9. Попытайтесь объяснить, чем определяются специфические черты фонетических исследований каждой из рассмотренных традиций. Выводы 1. Используя полученные сведения, дайте общую характеристику особенностей каждой из трех рассмотренных древних традиций. Раскройте специфику развития каждой из них, выделите наиболее существенные области лингвистической проблематики, объясните, чем это обусловлено. 2. Подготовьте тезисный ответ на тему «Роль греко-латинской традиции в становлении европейского языкознания». Продумывая данную тему, не пренебрегайте информацией, полученной вами в других учебных курсах, причем не только по дисциплинам лингвистического цикла, но и по философии, теории литературы. 3. Изложите, как решались перечисленные ниже проблемы, поставленные в греколатинском языкознании (укажите имена ученых или назовите лингвистические школы): – философское осмысление человеческой речи: а) в онтологическом плане; б) в аспекте осуществления факторов, движущих сил, приведших к возникновению языка (гипотезы о происхождении языка); в) в семантическом аспекте (соотношение мира имен и мира вещей); – тесная связь логики и грамматики; – принципы описания грамматического строя; – лексико-семантический анализ слов (синонимия, многозначность, омонимия, этимология); – акустико-артикуляционная характеристика звуков, принципы классификации звуков; – различное понимание нормы языка; – риторика как учение о красноречии; – особенности прозаической и поэтической речи; – практика создания словарей, их разновидности; – разработка лингвистической терминологии. Библиография Алпатов 1998: Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1998. Алпатов 1990: Алпатов В.М. О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы) // Вопросы языкознания, 1990, № 2. Античные теории 1936: Античные теории языка и стиля / Под общей ред. О.М. Фрейденберг. М.–Л., 1936. Аристотель 1978: Аристотель и античная литература / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М., 1978. Бокадорова 1990: Бокадорова Н.Ю. Стоики // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. Гринцер 2000: Гринцер Н.П. Лингвистические основы раннегреческой философии // Язык о языке: Сб. статей / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 2000. Даниленко 1988: Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в истории грамматики // Вопросы языкознания, 1988, № 3. Древние 1989: Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард–Левина. М., 1989. Каракулаков 1966: Каракулаков В.В. Проблема языка у Гераклита // Язык и стиль античных писателей. Л., 1966. Каракулаков 1969: Каракулаков В.В. К истории разработки учения о грамматической категории падежа // Учен. зап. Душанбинск. пед. ин-та им. Т.Г. Шевченко. Т. 70. Душанбе, 1969. 63 Каракулаков 1975: Каракулаков В.В. Возникновение в науке понятия аналогии и его проникновение в область грамматики // Вопросы теории языкознания. Калинин, 1975. Катенина, Рудой 1980: Катенина Т.Е., Рудой В.И. Лингвистические знания в Древней Индии // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Кобов 1966: Кобов И.У. Предмет и задачи античной грамматики // Язык и стиль античных писателей. Л., 1966. Леонтьев 1988: Леонтьев А.А. Генезис семантической теории: античность и средневековье // Вопросы языкознания, 1988, № 1. Лосев 1979: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979. Лосев 1994: Лосев А.Ф. Статья к диалогу «Кратил» // Платон. Собр. соч. в 4-х т.. Т.1. М., 1994. Лоя 1968: Лоя Я.В. История лингвистических учений. М., 1968. Лукин 1999: Лукин О.В. Части речи в античной науке (логика, риторика, грамматика) // Вопросы языкознания, 1999, № 1. Лукреций 1937: Лукреций. О природе вещей / Перевод с латинского и комментарий Ф.А. Петровского. Вступительная статья В.Ф. Асмуса. М., 1937. Мечковская 1998: Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998. Оленич 1964: Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона. Автореф. .... канд. наук. Львов, 1964. Оленич 1980: Оленич Р.М. Александрийская грамматическая школа // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Ольховиков 1985: Ольховиков Б.А. Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания: Становление и эволюция грамматического описания в Европе. М., 1985. Ольховиков, Рождественский 1975: Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В Введение // Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Перельмутер 1980 а: Перельмутер И.А. Греческие мыслители V в. до н.э. // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Перельмутер 1980 б: Перельмутер И.А. Платон // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Перельмутер 1980 в: Перельмутер И.А. Философские школы эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Петровский 1980: Петровский Н.С. Представления древних египтян о языковых явлениях // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Платон 1994: Платон. Собрание сочинений в 4-х т.. Т.1. М., 1994. Радциг 1977: Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977. Рождественский 1975: Рождественский Ю.В. Теория языка в античности //Амирова Т. А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Славятинская 1996: Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. Часть 1. М., 1996. Тронский 1941: Тронский И.М. Учение о частях речи у Аристотеля // Учен. зап. ЛГУ, № 63. Сер. фолол. наук, вып. 7, Л., 1941. Тронский 1957: Тронский И.М. Основы стоической грамматики // Романо-германская филология: Сб. статей в честь акад. В.Ф. Шишмарева. Л., 1957. Чанышев 1991: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. Чекалова 1966: Чекалова Е.И. Из истории римской лексикографии (о характере словаря Веррия Флакка) // Язык и стиль античных писателей. Л., 1966. 64 Шифман 1980: Шифман И.Ш. Возникновение знаний о языке у финикиян // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Шубик 1980: Шубик С.А. Языкознание Древнего Рима // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. Якушин 1985: Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М., 1985. Яхонтов 1980: Яхонтов С.Е. История языкознания в Китае // История лингвистических учений. Древний мир. М., 1980. 65 Проблемы языка в эпоху средневековья Средние века – самая загадочная и чарующая эпоха мировой цивилизации, полная антитезисов и противоречий. Н.А. Бердяев § 1. Периодизация и общая характеристика 1.1. Период средневековья по давней традиции в течение длительного времени, даже во второй половине XX в., рассматривался как период застоя, спада научной мысли (см., например, учебники: Кондрашов 1979: 20; Березин 1984: 18). Между тем еще в 1911 г. Н.А. Бердяев писал: «Средние века не есть эпоха варварства и тьмы; этот старый взгляд давно уже оставлен культурными историками, наоборот, это эпоха великого напряжения духа, великого томления по абсолютному, неустанной работы мысли, это эпоха культурная и творческая <...>. Всякому известны тьма и невежество средних лет человечества. Но <...> средневековые ужасы миновали безвозвратно, средневековая дикость ушла в глубь прошлого, средневековая красота, средневековая культурность, средневековая напряженность духовного томления манит нас и до сих пор. Философия будущего более будет иметь общего с философией средневековья, чем с новейшей» (Бердяев 1989: 161–163). В лингвистике отношение к средневековым учениям начинает меняться лишь в последние десятилетия, когда стала утверждаться мысль о непрерывности, преемственности и своеобразии культур, когда стали постепенно осознавать, что лингвистические взгляды средневековых авторов можно оценить, лишь обратившись к контексту идейных ценностей средневековой культуры в целом. Немалую роль в формировании нового подхода к эпохе средневековья сыграли широкая публикация памятников этого периода, появление работ, посвященных анализу мировоззрения отдельных теологов и философов, изучение языковой ситуации данной эпохи, а также исследование состояния лингвистической мысли в отдельных странах Европы и Востока. Временные границы начала и конца средневековья определяются в различных источниках по-разному. Чаще всего начало средневековья связывают с падением Западной Римской империи (476 г.), но такое установление временной границы, с одной стороны, кажется слишком поздним, а с другой стороны, создает впечатление мгновенности, как будто бы переход от античности к средневековью произошел в одночасье. Однако очевидно, что период формирования нового типа общества и нового типа мышления был продолжительным. Вспомним хотя бы, что уже с конца II в. начинают укрепляться племенные союзы Западной Европы, «оживляются местные традиции, культы, языки, искусство» (История Европы 1988: 9). Существенно и то, что именно во второй половине II в. зарождается патристика – учение ранних христианских теологов, в котором, наряду с решением кардинальных проблем христианства, ставятся и проблемы теории языка, решавшиеся, разумеется, в соответствии с христианской доктриной. Безусловно, следует иметь в виду, что переход к новому периоду в истории человеческой мысли осуществляется постепенно. В первые века нашего тысячелетия сосуществуют бок о бок, соперничают между собой философские традиции, сложившиеся в эпоху античности, и «формирующиеся очаги новой веры и новый мысли, составившие впоследствии основу средневековой теологии и философии» (Введение 1989: 115). В связи с этим стоит учесть замечание о том, что «историю науки нередко приходится излагать во66 преки хронологической последовательности. Так, апологии римского юриста Тертуллиана (около 160 – после 220) выражают мировоззрение раннего средневековья, а труды неоплатоников от Плотина и Порфирия до Прокла (410 – 485) и последнего схоларха платоновской Академии Дамаския (около 470 – после 531) принадлежат еще античному миру <...> . Эта крупнейшая школа античной философии синтезировала достижения именно античной, а не средневековой мысли» (Эдельштейн 1985: 158). Как писал А.Ф. Лосев, «Христианское учение о творении еще недоступно неоплатоникам, и вместо него выступает учение об эманациях ипостасей Единого и о порождении от них сущего» (Лосев 1980: 226). Итак, вряд ли стоит ориентироваться на «официальную» дату падения Западной Римской империи, определяя время становления средневековой мысли. Думается, более целесообразно датировать начало средневековья не позднее второй половины II – III вв. Конец периода средневековья также определяется по-разному. Одни ученые обозначают его временем падения Константинополя (1453 г.), другие – открытием Америки (1492 г.), третьи – началом Реформации в Германии (1517 г.). В ряде исследований период средневековья связывается со временем развития и разложения феодализма, и его конец датируется в Европе XVI – серединой XVII вв., а в отдельных азиатских странах XVIII – XIX вв. (История 1980: 7), т.е. эпохой зарождения капитализма. Надо сказать, что последняя дата при определении конца периода средневековья представляется для истории лингвистических учений наиболее приемлемой в том смысле, что она действительно показывает существенное обновление духовной жизни, когда происходит значительное изменение языковой ситуации (начинают формироваться и укрепляться национальные языки), когда проводится большая работа по выработке и закреплению норм литературной формы национальных языков и возникает новая проблематика в теории языка. Кроме того, такое обозначение нижней границы периода средневековья позволяет учесть неравномерность конкретно-исторического времени, с которой связан переход от эпохи средневековья к Новому времени и которая присуща разным народам в развитии лингвистической мысли. Из сказанного понятно, что период культурного Возрождения включается в исторический период средневековья, в этом отношении мы следуем за традицией, заложенной в XVII в., хотя изначально термин «средние века» (medium aevum) ввели как раз итальянские гуманисты (лингвисты и литераторы), чтобы обозначить им период от античности до их века, и тем самым противопоставить себя своим предшественникам. С XV в. этот термин стали употреблять историки, а позже временные границы средневековья были расширены за счет включения в него и периода, названного Возрождением. Естественно, что такой длительный период, который назван в истории лингвистических учений как средневековье, не мог быть однородным и не был им. В рамках европейского средневековья можно выделить следующие значительные периоды: 1) раннее средневековье – со второй половины II – III в. до XI–XII вв.; 2) позднее средневековье – с XII в. до XIV в.; 3) Возрождение – с XIV в. до конца XVI – середины XVII в. Граница между периодами раннего и позднего средневековья определяется с учетом нескольких факторов, существенных для культурно-исторической жизни Европы и важных в развитии лингвистических учений. Во-первых, к концу XI – XII в. в основном сложились феодальные государства. На смену этногенетических и демографических сдвигов, характеризующих Европу предшествующих веков, приходит период относительной стабилизации, складываются отдельные народности, возникают города как культурные центры раннефеодальных государств. Как известно, в IX в. сложилось древнерусское феодальное государство, которому с начала X в. принадлежит значительная роль в международных отношениях и культурной жизни Европы того времени. Во-вторых, в XI в. происходит окончательное разделение церквей, начавшееся фактически задолго до этого, на православие и католицизм, что завершило формирование особых религиозно-культурных ареалов, в рамках которых и развивается лингвистическая мысль. В-третьих, что особенно 67 было важно для становления западноевропейской лингвистики, к концу XI в., католическая церковь, добившись ведущего положения в государствах, «начинает жестоко расправляться со своими противниками. К этому времени определилась особенность идеологической формы западноевропейского феодализма – схоластика» (Попов, Стяжкин 1974: 136). Основная идея схоластики – «рациональное» обоснование религиозных догм «путем применения логического метода доказательства <...>. Схоластика осуществила систематизацию христианского вероучения и создала своды («суммы») католического богословия» (Христианство 1994: 456). При формировании схоластики использовались неоплатоническая традиция в христианской переработке и идеи Аристотеля. Поэтому существенной вехой в становлении схоластики была середина XII в., когда католическому Западу стал известен весь состав аристотелевского «Органона», переведенного на латинский язык. С этого периода начинается христианизация учения Аристотеля. В рамках схоластики возникает логический спор о природе общих понятий (универсалий), который, все более обостряясь со временем, сыграл исключительную роль в последующем развитии не только логики, но и лингвистики. Выделение третьего периода в истории развития лингвистики средневековья связано с тем влиянием, которое оказывают идеи Возрождения как в целом на языковую ситуацию Европы, так и на развитие лингвистических идей. Именно с XIV в. начинают раздаваться голоса против официальной церкви, против того понимания проблемы мира и Бога, соотношения природы и Божественного первоначала, которое было принято в ортодоксальной схоластике. «Философская мысль Возрождения создает новую, пантеистическую в своей главенствующей тенденции картину мира <...>. Бог философии Возрождения – не бог ортодоксальной религии <...>, он лишен свободы, он не творит мир «из ничего», он «со-вечен» миру и сливается с законом естественной необходимости» (Горфункель 1980: 10). Природа из творения Бога превращается в обожествленное начало, наделенное всеми необходимыми силами, а человек рассматривается прежде всего в его земном предназначении. Возрождение классических древностей в качестве идеала сформировало взгляды гуманистов, которые оказали существенное влияние на все спектры жизни и науки, в том числе и на лингвистику. Под влиянием этих идей филологическая наука обращается к классическим текстам, возникают новые переводы произведений античности, формируются новые черты текстологии. Рост самосознания народов приводит к открытому заявлению о ценности родного языка, о необходимости его изучения, что ведет к созданию национальных грамматик. Вместе с тем, как показывает время, эпоха Возрождения, обладая несомненной спецификой, остается в пределах средневековья. Гуманисты выступили против официальной религии, но не против Бога, они стремятся осмыслить сущность Божественного, но в рамках создаваемого ими философского учения, вне теологического ортодоксального догмата. В этом видится прежде всего их погруженность в средневековый мир. Разрыв со средневековьем в типе мышления, не лишенный, разумеется, преемственности, возникнет в Новое время, когда откроется естественнонаучная картина мира в качестве исторического процесса. С этим фактором будет связана и новая линия в развитии лингвистических учений, впрочем, также осуществляющаяся не в одночасье, а имеющая глубокие корни в прошлом. 1.2. Говоря о лингвистических учениях средневековья, следует выделить, по крайней мере, два направления: во-первых, практическое – собственно описание различных аспектов разных языков, создание грамматик, словарей, письменности, а во-вторых, теоретическое – постановка и решение проблем языка в рамках теологических учений. Такое разделение, конечно, нельзя рассматривать как полное отсутствие решения теоретических проблем при практическом описании языка (подобное предположение было бы абсурдным). Но о нем следует сказать, потому что проблемы общей теории языка (о его природе и сущности), как и в эпоху античности, разрабатывались не лингвистами и не рассматри68 вались как самостоятельные. И этим постановка теоретических вопросов в эпоху средневековья глубоко отлична от постановки их в Новое время и проявляет сходство с эпохой античности. Сходство развития теоретической мысли средневековья и античности состоит в том, что проблемы теории языка возникали в рамках общих размышлений о бытии мира, в попытке осмыслить его происхождение и законы существования. Однако в античном мире языковедческие проблемы были частью философии, тогда как в средние века они стали частью теологии и предметом размышления теологов, утверждавших идею единобожия (монотеизма), которая, постепенно развиваясь, сложилась в строгое учение трех различных основных мировых религий – буддизма, ислама и христианства с его ранним разделением на католичество и православие. Распространение мировых религий в различных культурных ареалах обусловило специфические черты развития лингвистических проблем в период раннего средневековья, главные из которых: создание письменности для «молодых» (формирующихся) народностей, активное развитие лексикографической практики, исследование и комментирование канонических текстов, вызвавшие к жизни герменевтику и экзегетику, изучение конфессиональных надэтнических языков. Распространение мировых религий обусловило и своеобразие языковой ситуации в средние века: «в самых разных регионах Европы и Азии складывается особый вид культурного двуязычия, которое образовывали, с одной стороны, надэтнический язык религии и книжно-письменной культуры (близкой к религиям), а с другой, – местный (народный) язык, который обслуживал обиходное общение, в том числе и письменное» (Мечковская 1998: 17). Отношения между каноническим языком и языком народа, принявшего одну из мировых религий, складывались в различных культурных ареалах по-разному и принимали подчас непростые формы. Определяя особенности средневековой лингвистики, важно подчеркнуть, что проблемы теории языка, наряду с любыми другими вопросами, не могут рассматриваться вне основных догматов той или иной мировой религии, как они не могут рассматриваться и вне догматических различий между православием и католичеством. И хотя официальный разрыв между Восточной и Западной Церквями происходит только в середине XI в., и «все, что ему предшествует, является общим и неразделенным сокровищем обеих разъединившихся частей» (Лосский 1991 а: 100), но и в этом «неразделенном сокровище» содержатся ростки будущего догматического несогласия. Вл. Лосский отмечает, что нередко пытаются объяснить разногласия между католичеством и православием политическими, социальными, этническими и другими факторами, однако это светский взгляд, внешний по отношению к самому бытию Церкви. Историк-христианин, отдавая должное этим условиям, не может отказаться от того, чтобы видеть в Церкви некое самобытное начало, подчиняющееся иному закону, не детерминистическому закону «мира сего». И для православных и для католиков любые размышления обусловлены догматическими установками, которые являются для тех и других «неким духовным обязательством, сознательным выбором в области исповедания веры» (там же: 101). Умалять значение тех догматических данных, которые определили все дальнейшее развитие традиций обеих Церквей, значит проявлять бесчувствие к самому догмату, рассматривать его как нечто внешнее и абстрактное, а не как то, что формирует личность христианина. «Если политическая доктрина, преподанная политической партией, может в такой степени формировать умозрение, что появляются разные типы людей, отличающиеся друг от друга известными нравственными и психологическими признаками, то тем более религиозный догмат может изменить самый ум того, кто его исповедует: такие люди отличаются от тех, что формировались на основе иной догматической концепции» (там же: 106–107). Сказанное важно как в целом для характеристики мышления средневекового человека, так и для понимания его раздумий над частными проблемами, каковыми являются и проблемы языка. 69 Сравнивая европейские античные и средневековые лингвистические теории, следует учитывать, что «наиболее важным отличием было не сужение сферы исследования, не ограничение языковедения грамматическим каноном, не стремление уклониться от решения кардинальных проблем философии языка (не было, пожалуй, ни одного аспекта общей теории, который теологи обошли своим вниманием), существеннейшим отличием было признание средневековыми мыслителями авторитета Откровения, зависимость их учения от христианской доктрины, от Писания и предания, чего не знали античные философы» (Эдельштейн 1985:161), с их обращением к природе как к совершенству, средоточию логоса, как к эталону организации и мерилу мудрости. Средневековое мышление по существу своему теоцентрично: Бог является «абсолютной основой всего сущего» (Минин 1991: 340). Поэтому невозможно понять духовные искания средневекового мыслителя, выдвигаемые и развиваемые им понятия, а также своеобразие связи этих понятий вне догматических учений определенного вероисповедания. Фундаментальное отличие во взгляде на мир самым непосредственным образом сказывается на методах исследований и оценке излагаемых теорий. Античный философ искал истинность определенной системы взглядов в логической непротиворечивости исходных постулатов, избранных им свободно, и в правильности самого хода рассуждений. Теолог отвергал все то, что «противоречило христианской ортодоксальной доктрине, не входило гармонической частью в целое, вносило разлад в незыблемый и прекрасный, по учению церкви, порядок, будь то в космосе или теории, что не находило себе прямого или косвенного подтверждения в Библии» (Эдельштейн 1985:161). Безусловно, этим во многом объясняется сложность работы современного историографа, который стремится разобраться в средневековых проблемах теории языка, вычленяя их из богословских систем. 1.3. Степень полноты культурных связей средневековья с античным миром, как и характер этих связей, различны в разных регионах мира. Живым проводником античной культуры в течение нескольких веков была Византия, которая, в отличие от Западной Римской империи, не пережила потрясения распада и не испытала разрыва в своем переходе от античности к средневековью. Роль Византии в культурной жизни средневековья огромна. Довольно рано влияние со стороны Византии испытали армяне, которые с V в. восприняли многие философские проблемы, волновавшие умы греческих ученых (например, об отношении слов и вещей, о природе общих названий и др.). Армянам им были известны труды Аристотеля и Платона, под влиянием греческого грамматического канона появились многочисленные работы по грамматике (Джаукян 1981: 7–10). Византийское соседство способствовало развитию грузинской письменности, «памятники духовной литературы переводились на грузинский язык преимущественно с греческого. Переводчики прекрасно видели различия в структурах обоих языков и нередко высказывались по этому вопросу» (Сарджвеладзе 1983: 113). В VI–VII вв. сирийцы заложили основы семитской грамматики, которая существенно опиралась на греческую. В VII–VIII вв. значительное влияние Византии испытала коптская словесность. Как известно, Византия сыграла исключительную роль в культуре славян, ведь создание славянского алфавита принесло в славянский православный мир не только грамоту, но и понятия теории языка и словесности, образцы различных литературных жанров. «Переворот в мышлении, произведенный христианством, послужил мощным толчком к новому развитию языка. Лексика языка – классического древнегреческого, а за ним и старославянского, приобрела новые значения сообразно новым представлениям. Фактически был создан язык христианства. Отцы восточной церкви, используя и философские термины, и слова из повседневного обихода, сообщили им способность обозначать новую реальность. Новое значение возникает в слове из его исходного по обычному переносу с конкретного на абстрактное <...>. Возникли новые системные отношения между словами» (Матвеенко 1999: 194–195). Влияние Византии в западноевропейских госу70 дарствах не было столь значительным, как в восточно-христианском ареале, однако отметим, что создатель готской письменности (середина IV в.) и переводчик Библии – Вульфила (Ульфила) родился и учился в Византии. Исключительно важное значение для сохранения античного наследия имело переписывание рукописных древних книг, которое осуществлялось как на Востоке, в частности в Византии, так и на Западе, где это решение было связано с именами Бенедикта и Кассиодора. Современный ученый А.К. Гаврилов отмечает, что принятие на себя церковью, в особенности монастырями, задачи сохранения эллинской книжности имеет «отчасти парадоксальный характер и вместе всемирно историческое значение» (Гаврилов 1985: 123). Интересно, что были даже изданы особые уставы, в которых оговаривались наказания нерадивым переписчикам. «Душеполезный смысл заботы о книгах получил принципиальную важность в последующей судьбе древних авторов, а значит, и новых народов» (там же). 1.4. Лингвистическая мысль Западной Европы, впоследствии принявшей католицизм, развивалась под влиянием римских источников. Напомним, что латинский язык выступал на протяжении всего средневековья в роли международного языка не только церкви, но и науки, занимал центральное место в системе школьного образования. Латинская грамматика считалась образцовой, а Донат и Присциан пользовались безграничным авторитетом, поэтому неудивительно, что модель грамматики поздней античности «позволила в период большого творческого подъема в образовании (XII – XIV вв.) создать собственную модель грамматики» (Грошева 1985: 216). Теоретические взгляды западных средневековых ученых, как и восточных, складывались под влиянием доступных им произведений античных мыслителей, многие положения из которых принимались, если они согласовывались с христианскими догмами, или порождали полемику, если противоречили им. Таким образом, средневековье нельзя воспринимать как время «темной эпохи», прерывающее нить лингвистических исследований. Признавая в определенной мере преувеличенную оценку связи между древним и средневековым периодами, все же можно повторить вслед за Н.А. Бердяевым, что «вся античная культура вошла в средневековье» (Бердяев 1989: 162). Однако нельзя думать, что эпоха средневековья не внесла ничего нового в теорию и практику лингвистических исследований. Вопросы и задания 1. В чем состоит трудность в изучении лингвистических проблем периода средневековья? 2. Каковы, по вашему мнению, причины низкой оценки развития лингвистической проблематики средневековья, бытовавшие ранее, и с чем связано переосмысление наследия средневековья? 3. С какими историческими событиями и с какими чертами духовного развития общества связывается начало и конец периода средневековья? Какая точка зрения вам представляется наиболее убедительной? 4. Какими чертами обусловлена внутренняя периодизация развития лингвистической мысли средневековья? 5. В чем состоит сходство и различие в развитии теории языка в период средневековья и античности? 6. Расскажите о влиянии Византии на духовное развитие народов средневековья и об особенностях влияния римских источников на развитие лингвистической мысли западноевропейских народов. § 2. Создание письменности 2.1. Одним из важных стимулов в создании письменности в период раннего средневековья явилось распространение мировых религий, каждая из которых располагала определенным сводом канонических текстов и стояла перед необходимостью разъяснения своего вероучения. Совершенно очевидно, что в связи с этим возникают проблемы выбора 71 языка богослужения и возможности перевода текстов священных книг. Эти вопросы не решались однозначно: римская церковь допускала богослужение только на трех языках, на которых существовало Священное Писание (еврейском, греческом и латинском), тогда как византийская церковь, как и сторонники буддизма, не только не препятствовала использованию родного языка в богослужении, но и видела в этом путь к пониманию своего вероучения. Поскольку мировые религии принимались народами, не только имевшими письменную традицию, но и не имевшими ее, то в случае гибкого отношения к языку богослужения церковь во многом способствовала созданию собственной письменности в государствах, оказавшихся под ее влиянием. Однако в силу того, что распространение мировых религий является не единственным источником появления письменности, то народы в период раннего средневековья, ставшие на путь развития своей экономики, культуры, государственности, естественно, также создавали свою письменность, абсолютно необходимую в новых условиях. Для понимания сути процесса создания письменности в эпоху средневековья не следует забывать о том, что в мире уже существовало множество различных алфавитов и видов письма, созданных в древности, поэтому в преобладающем большинстве новые графические системы создавались с ориентацией на уже сложившиеся. Впрочем, заимствование – это вполне обычный путь создания известных нам буквенно-звуковых систем письма. Так было и в древности. Напомним, что финикийское письмо возникло на основе древнеегипетского; древнееврейское, арамейское и греческое – на основе финикийского; арабское – на основе арамейского; латинское – на основе греческого. Интересно другое: в период раннего средневековья процесс становления письменности оказался зафиксированным в памятниках литературы, поэтому его можно воспринять и осмыслить. И еще одно существенное и удивительное явление: в этот период письменности создаются отдельными людьми, т.е. акт сознательного творчества становится особенно очевидным. Таким образом, в период раннего средневековья можно выделить «два вида заимствования письменности – стихийный и авторский» (Кузьменко 1985 а: 12). 2.2. В Западной Европе процесс создания письменности осуществлялся на основе латинского алфавита и шел стихийно. Характерной чертой этого пути заимствования является то, что существовало множество аллографов для обозначения одной и той же фонемы, выбор буквы нередко зависел от вкуса писца, поэтому одно и то же слово могло писаться по-разному, естественно, что никаких правил орфографии не было. Процесс приспособления латинской системы письма к новым европейским языкам шел постепенно и в каждом конкретном случае обладал своей спецификой. Вместе с тем, анализируя пути развития различных письменностей, ученые выделяют «общие принципы их создания и первоначального функционирования» (там же: 13). Эти принципы, или способы, создания письменности можно представить следующим образом: вначале наблюдаются вкрапления местных слов, чаще всего топонимов, в латинские памятники, переписывавшиеся местными писцами; затем на полях или между строчками латинского текста осуществляется написание отдельных глосс, а потом и целых предложений на родном языке; и, наконец, появляются первые памятники на родном языке, чаще всего это были переводы латинских церковных текстов. Своеобразие конкретных путей развития письменности западноевропейских народов определяется многими факторами: наличием или отсутствием письма до появления латиницы, вырабатываемыми способами приспособления латинских букв для нужд собственного произношения, временем возникновения письма, влиянием уже возникших на латинской основе алфавитов на еще создающиеся, наличием или отсутствием близости устной речи, на базе которой создается алфавит, к устной речи латыни и др. Приведем несколько примеров. Первыми для записи текстов на родном языке стали использовать латиницу ирландские монахи. Христианство Ирландия приняла в V в., имея к этому времени соб72 ственную письменность – огамическое письмо, которое связывается обычно с языческой традицией. Кстати, сведения о составе огамического алфавита, как и о его предназначенности выполнять магическую функцию, известны из среднеирландских лингвопоэтических трактатов, а также из многочисленных надписей, нанесенных на камень. Однако уже к началу VIII в. употребление языческого огамического письма прекращается. По данным ученых, под влиянием ирландцев появляется письменность у англосаксов и у некоторых других германских народов. Предполагают (см., например: Исаченко 1963), что первые переводы на славянский язык с использованием латиницы – заслуга также ирландских миссионеров, действовавших в среде паннонских и моравских славян. Имели свою письменность до проникновения латиницы и германские народы – руническое письмо, которое раньше всего исчезает в Германии, где оно считалось языческим наследием, позднее всего – в Скандинавии, где новая письменность возникает под сильным влиянием английского и немецкого письма. О постепенном становлении письма на основе латиницы говорит то, что отдельные руны использовались в германоязычных рукописях, написанных латиницей, и то, что известны скандинавские рунические надписи христианского содержания. Интересным фактом приспособления латинского алфавита для передачи германских фонем является деятельность франкского короля Гильпериха (VI в.), который предложил несколько дополнительных букв. Отдельные из этих букв восходят к рунам. Идея о наличии в дохристианский период собственной письменности у тех или иных народов, достигших высокого уровня развития племенного строя, обретает доказательность по мере развития археологии и нахождения материальных свидетельств (данная идея в принципе отражает общий путь развития письма у всех народов мира). Это, кстати, относится и к славянам. Еще в середине XX в. академик С.П. Обнорский писал: «Отнюдь не явилось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже русам антского периода» (Обнорский 1948: 9), т.е. примерно периода VI в. н. э. В течение второй половины XX в. в работах ряда ученых (Е. Георгиева, С.А. Высоцкого, В.А. Истрина) все настойчивее обосновывается мысль, высказывавшаяся и ранее, что южные и восточные славяне, имея самобытное письмо типа «черт и риз», делали также записи греческими и латинскими буквами, т.е. приспосабливали стихийно, как и западноевропейские народы, чужие алфавиты для своих нужд. Поэтому не являются неожиданными и высокий расцвет болгарской литературы в конце IX – начале X в., и широкое распространение грамотности в быту восточных славян X – XI вв. Позднее появление письменности на родном языке в романоязычных странах (IX – X вв.) скорее всего объясняется близостью латыни возникающим на ее основе романским языкам. Ведь несмотря на то, что романизированные народы подвергались в течение первых веков второго тысячелетия многочисленным завоеваниям со стороны племен разного этнического происхождения, это не оказало «существенного воздействия на исторические судьбы языка населения бывших римских владений: впитывая в себя некоторые сравнительно незначительные иноязычные элементы, латинский язык и развивающиеся на его основе незаметно для его носителей романские языки продолжали служить основным средством общения их жителей» (Алисова, Репина, Таривердиева 1982: 61–62). Поэтому вполне вероятно, что в период раннего средневековья умеющий читать не испытывал затруднений в восприятии канонических текстов, написанных на церковной латыни. Отметим также, что романские средневековые писцы, создавая записи на родном языке, стремились к тому, чтобы графический облик слова не слишком отличался от латинского прообраза. По-видимому, в этом проявляется и знание писцами латыни, и особое их отношение к ней. Романские писцы, как правило, не изобретали новых букв, даже тогда, когда в их языке были фонемы, отличные от латинских, однако для таких фонем они использовали диграфы или надстрочные знаки. 73 Вероятно, самым ярким примером сдерживания церковью развития письменности на родном языке может служить история славянского письма латиницей. Как ранее говорилось, отношение римских пап к службе на родном языке было отрицательным, правда, если смотреть во временной перспективе, то надо сказать, что оно на протяжении нескольких веков было неопределенным. Так, в течение IX – XI вв. папы с интервалом в несколько десятков лет то разрешали славянам, принявшим католичество, проводить службу на родном языке, то накладывали на это запрет. Первые чешские памятники латиницы появились лишь в XIII в., причем чешские монахи учились письму у немцев, поэтому создаваемая графика испытывала значительное влияние немецких рукописей, «однако приспособить латинский алфавит для передачи богатого славянского консонантизма оказалось очень сложно» (Кузьменко 1985 а: 28). Еще позднее – в XIV в. – письменные памятники на латинице появились в Польше, польские писцы ориентировались прежде всего на чешскую графику, которая не была совершенной. Особую трудность писцы испытывали в передаче носовых гласных и ряда согласных, которых не было ни в одном европейском языке. Необходимо подчеркнуть, что при всех трудностях, возникших в процессе стихийного приспособления латиницы к ряду западноевропейских языков, и многих несовершенствах графики средневековые писцы осуществили серьезную работу по анализу фонетических систем своих родных языков, выработали ряд графических приемов в передаче фонем, отсутствовавших в латинском языке, и вполне удовлетворительно решили свою задачу. 2.3. Распространение ислама в принципе не могло стимулировать создание новых письменностей, так как ислам строго придерживается закона, что «Коран» переводить нельзя, поэтому в странах, принимавших ислам, распространялся арабский язык как язык сакральных текстов. Более того, в результате арабских завоеваний местные языки могли утрачиваться. Так, например, случилось со среднеперсидским языком, который, кстати, к тому времени уже имел свою письменность – авестийское письмо. Впоследствии авестийское письмо использовалось лишь в качестве сакрального в зороастрийских общинах для чтения среднеперсидских текстов (Герценберг, Саймиддинов 1981: 97), но с течением времени зороастрийцев становилось меньше, а многие рукописи погибли. С распространением буддизма, напротив, связано появление многих письменностей. Например, тибетская графика была создана в VII в. ученым по имени Тхон-ми Самбхоту, «которому было предписано составить первую грамматику тибетского языка и разработать тибетскую письменность» (Рождественский 1975: 126). В этом нельзя не усмотреть связь с тем, что в конце VI в. в Тибете складывается государство и принимается буддизм в качестве официальной религии. Тхон-ми создал письменность, написал грамматический трактат, сделал первые переводы буддийских сочинений на тибетский язык, причем с большой точностью сумел передать все буддийские заклинания. Тем самым Тхон-ми Самбхоту снискал себе не меньшую славу, чем европейские просветители. У большинства народов, принявших христианство из Византии, письменность явилась плодом индивидуального творчества выдающихся людей своего времени, просветителей раннего средневековья, имена которых хорошо известны всему миру, это – Вульфила (311 – 382), Месроп Маштоц (361 – 440), Кирилл (около 827 – 869) и Мефодий (около 815 – 885). Авторские письменности были «гораздо более единообразны, последовательны и фонографичны, чем стихийные европейские письменности на латинской основе» (Кузьменко 1985 а: 33). Епископ Вульфила создал готскую письменность, в основу которой положил греческое унциальное письмо IV в., на это указывает начертание букв, их порядок в алфавите, за редким исключением, соответствующий греческому. Правда, в некоторых буквах исследователи находят сходство с латинскими, а отдельные из букв связывают с руническим 74 письмом. Вульфила хорошо смог передать особенности фонетики готского языка, ввел специальную графему для обозначения лабиовелярных звуков, обозначил одним знаком аллофоны одной и той же фонемы и др. Однако мнения ученых относительно качества передачи фонетических особенностей готского языка расходятся. Одни к несомненным достоинствам письменности Вульфила относят последовательное употребление одной графемы для передачи одной фонемы (Кузьменко 1985 а: 39). Другие считают, что «однозначное соответствие между графемами и фонемами прослеживается не всегда» (Смирницкая 1990: 112). Но это никак не может повлиять на общую оценку письменности, созданной Вульфилой. Готский алфавит и система графики в целом были хорошо приспособлены для передачи фонологических различий и безусловно превосходили в этом отношении последующие графические системы, которые складывались стихийно. Алфавитом, который в самом начале V в. создал Месроп Маштоц, до сих пор пользуется армянский народ. На протяжении веков его коснулись лишь небольшие изменения, одно только это свидетельствует о его высокой жизнеспособности. Возникновение армянского письма связывают с принятием христианства и потребностью создания богослужебной литературы на родном языке. Письменность Месропа Маштоца оригинальна, и вопрос о ее прототипе не имеет однозначного решения в науке. Общие принципы построения алфавита указывают на вероятное влияние греческого письма. Порядок расположения букв в основном соответствует порядку греческого алфавита, «причем буквы, недостающие в греческом алфавите, расположены главным образом за теми буквами, с которыми они сходны по начертанию» (Джаукян 1981: 21). Существует мнение, что Месроп Маштоц «мог частично использовать так называемые Данииловы письмена (22 знака), приписываемые епископу Даниилу; возможно использование одного из вариантов арамейского письма, а также пехлевийского курсива» (Туманян 1990: 45). В письменности, созданной армянским просветителем, было 36 графем, которые хорошо передавали фонемы армянского языка. Комбинированные знаки или диакритики отсутствовали. Большинство ученых единодушны в признании, что для своего времени алфавит, созданный Месропом Маштоцем, является одной из наиболее совершенных систем фонетического письма. Деятельность Кирилла (Константина Философа) и Мефодия протекала в 60–80-е гг. IX в. Было создано две азбуки – глаголица и кириллица. Достоверно известно, что обе азбуки некоторое время сосуществовали. Самым поздним сроком начала использования азбук считают X в., но более вероятная дата – последнее десятилетие IX в. Об истории славянских азбук существует многочисленная литература, в которой высказано немало противоречивых положений, касающихся прежде всего следующих вопросов: какая из азбук была создана первой и какая из них принадлежит Кириллу, кто изобрел другую, когда и где каждая из азбук изобретена, как соотносятся между собой буквы кириллицы и глаголицы. Освещение различных точек зрения по этим вопросам, аналитический обзор научной литературы, появившейся на протяжении многих веков, а также обширная библиография содержатся во многих работах (см., например: Бернштейн 1984; Истрин 1988; Супрун 1989). Ответы на поставленные вопросы требуют активизации очень глубоких знаний, установления соответствий многочисленных фактов не только лингвистических, но и исторических, археологических, поэтому необходимо очень внимательно подходить к тем или иным положениям, имеющимся в литературе, особенно, к категоричным утверждениям, нередко характерным для обзорных статей, содержащихся в пособиях по истории лингвистических учений, как, например следующее: «Сейчас мнение о том, что Константин Философ создал именно глаголицу, общепринято» (Кузьменко 1985 а: 40–41). Такое мнение действительно существует, но вряд ли его стоит называть общепринятым. Как раз напротив – тщательное исследование особенностей обеих азбук, сопоставление начертаний букв и их соотношений, обращение к историческим событиям тех лет, критический анализ имеющейся по данному вопросу литературы, предпринятые, 75 например, В.А. Истриным, не позволяют, по крайней мере, безоговорочно считать автором глаголицы Константина и отказывать ему в авторстве кириллицы. Остановимся лишь на тех вопросах, которые касаются особенностей славянского алфавита, опираясь прежде всего на положения, представленные в работе В.А. Истрина. По своему составу кириллица и глаголица почти совпадают. По данным XI в., кириллица имела 43 буквы, а глаголица – 40, из которых только одна буква «дервь», служившая для передачи звука г, стоявшего перед гласными е, и (например, в слове ангел), отсутствовала в кириллице. Значительно отличаются азбуки по форме букв. В кириллице форма букв геометрически простая, четкая и удобная для письма. Из 43 букв 24 заимствованы из византийского устава, а остальные 19 построены в большей или меньшей мере самостоятельно, но с соблюдением единого стиля алфавита. Буквы глаголицы, наоборот, мало напоминали греческое письмо, их форма была чрезвычайно сложной и замысловатой, со множеством завитков, петель и т.п., однако «многие буквы глаголицы, если их освободить от завитков и петелек, близки по форме к аналогичным буквам кириллицы» (Истрин 1988: 58). Казалось бы, большая оригинальность глаголических букв должна быть и свидетельством их большей самостоятельности, тогда как кириллица, обнаруживающая несомненное сходство с греческими буквами, является несамостоятельной. Именно такой взгляд высказывает немало ученых, в том числе современных зарубежных историков письма. Исходя из признания несамостоятельности кириллицы, эти ученые, как правило, уделяют незначительное внимание славянскому письму. Однако такой взгляд, несомненно, является поверхностным, поскольку не отражает саму сущность графических систем, предназначенных для передачи фонетических особенностей речи. Нельзя не согласиться с мнением В.А. Истрина о том, что оригинальность форм букв не может служить аргументом в решении вопроса о степени самостоятельности системы письма. Как неоднократно отмечалось выше, ценность того или иного алфавита определяется прежде всего тем, насколько он эффективен в передаче фонетического состава своего языка. В этом отношении степень самостоятельности кириллицы не может вызвать сомнения. Проводя сопоставительный анализ славянского алфавита с западноевропейскими, В.А. Истрин говорит о недостаточно творческом отношении их создателей к латинскому алфавиту. Это утверждение вытекает из следующих наблюдений: вводятся многочисленные надстрочные и подстрочные знаки, некоторые звуки обозначаются не отдельной графемой, а сочетанием разных букв, в ряде случаев имеется дублирование и др., собственные же буквы, необходимые для передачи особенностей родного языка, практически не изобретаются. Тогда как в славянском алфавите было 19 букв, которые отсутствовали в византийском алфавите и изобретение которых было вызвано глубоким осмыслением звукового состава языка. Благодаря этому кириллица имела все буквы, необходимые для правильной передачи фонетического состава старославянского языка (Истрин 1988: 61–62). Вместе с тем при всех достоинствах обеих график следует отметить и их недостатки, например, кириллица включала шесть букв, не нужных для передачи славянской речи («омега», «фита», «пси», «кси», а также два из трех кирилловских «и»: «и восьмеричное», «и десятеричное», «ижица»), а глаголица – четыре буквы (те же, что в кириллице, но без «пси» и «кси»), есть и другие частности, хорошо описанные в литературе. Названные выше «лишние» буквы в основном служили для цифровых обозначений, а также применялись в заимствованных славянами греческих словах, чаще всего сакральных, кстати, возможно, последнее и не делало их лишними, с точки зрения автора славянской азбуки. Сопоставление букв кириллицы и глаголицы, как упоминалось, показывает их сходство, но ученые по-разному объясняют данный факт: 1) общностью первоисточника обеих азбук, 2) влиянием глаголицы на кириллицу или 3) влиянием кириллицы на глаголицу. Не вдаваясь в тонкости анализа начертаний букв обеих азбук, приведем только вывод, к которому приводят результаты сопоставления: «форма всех 40 букв глаголической 76 азбуки может быть объяснена без обращения к византийской скорописи, принципиально отличной от глаголицы в графическом отношении и не применявшейся для литургических целей. Форму 25 глаголических букв (11 букв, служивших для передачи звуков, одинаковых в греческом и славянском языках, и 14 букв, служивших для передачи особых славянских звуков) можно объяснить подражанием принципу построения или же стилизацией формы соответствующих букв кириллицы, а форму шести других глаголических букв – стилизацией соответствующих латинских букв. Три глаголические буквы («аз», «иже», «слово») представляют собой искусственные символические построения, четыре («ер», «ерь» и первоначальные глаголические «юсы») – самостоятельные сложные графические композиции. Все это подтверждает <...>, что глаголица является продуктом искусственного индивидуального творчества с использованием для нее в качестве основы ранее существовавшей кириллицы» (Истрин 1988: 88). Прокомментируем три глаголических буквы, имеющие символическое значение: первая буква алфавита «аз» по форме представляет собой крест, по-видимому, такую форму автор придает, «чтобы указать, что изучение азбуки – богоугодное дело и поэтому должно начинаться с крестного знамения» (там же: 79). Буква «иже» представляет собой сочетание треугольника (вверху) и круга (внизу), а буква «слово» сочетание этих же фигур, изображенных наоборот. Такое однотипное построение этих букв некоторые исследователи (Г. Чернохвостов, В.Р. Кипарский) считали не случайным и объясняли тем, что обе буквы входили в состав имени Иисуса. Приведенные лингвистические доказательства более раннего создания кириллицы по сравнению с глаголицей хорошо согласуются с историческими событиями того времени и характером миссии Кирилла. Напомним, что Кирилл был послан в Моравию по просьбе моравского посольства. В его задачи входило способствовать утверждению культурно-политического влияния Византии и византийской церкви в противовес влиянию Рима и немецко-католического духовенства. Трудно представить, чтобы Кирилл, выполняя эту важную миссию, создал глаголический алфавит, сложный и вычурный, имеющий мало общего с византийским письмом. В связи с этим вполне вероятным представляется и то, что глаголица могла быть создана лишь после изгнания из Моравии учеников Кирилла и Мефодия (886 г.), а несходство ее букв с греческим письмом и кириллицей (при сохранении всех способов передачи звукового состава) было результатом сознательного выбора автора, стремившегося уберечь славянское письмо от преследований немецко-католического духовенства. В свете излагаемого вопроса важно подчеркнуть, что обе азбуки являются плодом индивидуального целенаправленного творчества. Кириллица, как известно, была принята всеми народами, исповедующими православие, а впоследствии легла в основу многих национальных алфавитов. Глаголица в течение ряда веков применялась у юго-западных славян, перешедших в католичество, но сохранивших славянское письмо. Таким образом, все авторские азбуки отличаются хорошей приспособленностью к передаче фонем соответствующего языка и обладают высокой степенью самостоятельности в том смысле, как об этом писал В.А. Истрин: «Степень самостоятельности любой буквенно-звуковой системы определяется не столько оригинальностью ее графики, сколько степенью соответствия звукового состава алфавита звуковому составу данного письма» (Истрин 1988: 60–61). Вместе с тем подчеркнем, что создание письменности, независимо от того, каким путем, стихийным или авторским, оно осуществлялось, является показателем высокого уровня проникновения в фонетические системы родных языков, которое проявилось в эмпирическом выделении фонем, подлежащих отдельному обозначению. 2.4. В течение раннего средневековья была проделана огромная практическая работа, в результате которой многие народы обрели письменность, однако пока очень мало известно о теоретических трудах по данному вопросу. В свете этого уникальным представляется трактат (хранящийся в библиотеке Копенгагенского университета) неизвестного 77 исландского автора XII в., взявшего на себя труд объяснить принципы построения алфавита. Автор трактата хорошо осознает, что алфавит для родного языка можно создать лишь в том случае, если усовершенствовать чужой алфавит, исключив из него ненужные буквы и добавив необходимые. Чтобы выяснить состав звуков, подлежащих обозначению буквами, автор трактата сознательно использует метод противопоставления минимальных пар, причем использует его очень последовательно и обосновывает идею, что необходимость в специальном знаке возникает только тогда, когда меняется смысл слова (Кузьменко 1989 б: 82–83). Благодаря осознанию этого главного фонологического принципа, приводящего к выявлению фонем, автор доходит до понятия различительного признака, например, он выделяет четыре признака (долгота – краткость, назальность – оральность), которые охватывают все гласные. Возможные между гласными 36 различий он предлагает передавать с помощью 9 букв, так как именно в стольких случаях каждая из гласных вызывает смысловое различие слов. Этот же подход обнаруживается и при анализе согласных, интересно, что автор трактата предлагает одну букву для обозначения звонкого и глухого дентальных плоскощелевых звуков, которые в его время, как и сейчас, представляли собой разновидности одной и той же фонемы (там же: 82 – 86). Основной принцип, который автор трактата определяет для своей графики, состоит в том, что каждой фонеме должна соответствовать одна графема. Вопрос о том, были ли у автора рассматриваемого трактата предшественники, пользовался ли он какими-то иноязычными источниками, или он сам открыл фонологический метод, до сих пор не получает однозначного решения. Но сам факт появления такого труда в XII в., несомненно, весьма примечателен. Однако описанный автором трактата идеальный фонографический алфавит не повлиял на практику разработки письма. В Исландии развитие письменности, судя по памятникам, происходило стихийно, со всеми присущими этому пути особенностями, которые наблюдались и в других западноевропейских странах: отсутствие орфографических правил и наличие большого количества аллографов. Таким образом, создание письменности в эпоху раннего средневековья следует отнести к событиям, имеющим огромное культурно-историческое значение. Помимо этого, для лингвистики данное событие важно еще и тем, что позволяет осмыслить различные пути и способы создания письменности, получившие отражение в памятниках литературы, и тем самым пополнить наши представления об истории становления письма, первоначально создававшегося в глубокой древности. Вопросы и задания 1. Что послужило стимулом к созданию письменности в период средневековья? 2. В чем состоит своеобразие создания письменности в период средневековья по сравнению с древним периодом? 3. Назовите основные черты графики, которые проявляются при стихийном создании письменности. Чем определяется своеобразие создания алфавитов в каждом конкретном случае? 4*. Какие общие принципы приспособления латинской графики для новых языков наблюдаются при стихийном создании письменности? Приведите примеры. 5. Раскройте на примерах, каким образом отношение к каноническим текстам и языку богослужения сказалось на процессе создания письменности? 6. В чем заключается превосходство авторского пути создания письменности по сравнению со стихийным путем? 7*. Дайте общую характеристику алфавитам, созданным Вульфилой и Месропом Маштоцем. 8. Какие свойства алфавита следует учитывать, решая вопрос о степени самостоятельности той или иной системы письма? 78 9*. Какими фактами объясняют сходство букв кириллицы и глаголицы? Какая точка зрения вам представляется более убедительной? 10*. Какой основной принцип построения алфавита выдвигает неизвестный исландский автор XII в. в своем теоретическом трактате? Какой путь он предлагает для установления звукового состава родного языка, подлежащего буквенному обозначению? 11. Определите культурно-историческое значение создания письменности в эпоху средневековья. § 3. Проблемы философии языка в раннем средневековье 3.1. В период раннего средневековья проблемы теории языка ставятся в трудах апологетов, т.е. христианских богословов и философов, которые обосновывали преимущество христианства по сравнению с политеистическими верованиями Римской империи. Одни из них искали сходство с учениями античных философов, доказывая, что христианство не противоречит античной философии и науке, другие утверждали их принципиальную несовместимость. Как это было принято во всей христианской литературе, авторы, отстаивая те или иные догматические положения, касались и вопросов языка, причем круг поставленных проблем был значительным. Существенно отметить, что с эпохи средневековья формируется новый взгляд на языки мира, отстаивающий их равноправие, и высказывается идея универсальной сущности человеческого языка. Надо полагать, что побудительной силой, приведшей к такому подходу, является толкование одного из основных христианских догматов – о Божественном мире и его сущности. Нельзя также забывать, что христианство, выдвигая идею равенства, с самого начала стремилось обратиться с проповедью ко всему миру. И.А. Бодуэн де Куртенэ неоднократно отмечал, что именно христианство стимулировало «переворот во взглядах на языки земного шара» (Бодуэн 1963: 106). В связи с этим напомним, что в древних традициях абсолютной ценностью обладал лишь родной язык, а для римлян, помимо своего, – еще греческий. Однако начало борьбы с античными философскими учениями было и началом выступления в некоторых трудах христианских мыслителей против понятия «варварские языки», привычного в кругу древних. В этом отношении для нас интересно высказывание одного из апологетов христианства, яркого церковного писателя, римлянина Тертуллиана (около 160 – после 220), создавшего множество трудов по апологетике и догматике. Укрепляя христианскую доктрину о равноправии множества внешне разнообразных языков, проявляющих единую сущность человеческого языка, Тертуллиан говорил: «Ты глуп, если станешь приписывать это одному лишь только латинскому или греческому языкам, которые считаются родственными между собою, отрицая всеобщность натуры. Душа снизошла с неба не для латинян только и греков. Все народы – один человек, различно лишь имя; одна душа, различны слова; один дух, различны звуки; у каждого народа есть свой язык, но сущность языка всеобща» (цит. по: Эдельштейн 1985: 178; выделено мною. – Т.С.). Такое понимание языка, несомненно, связано с общими представлениями христиан о мире. Дионисий Ареопагит, имя и годы жизни которого (III – VI вв.) до сих пор вызывают разногласия, восклицает: «Так воспрославим же в мирных славословиях Начало всякого единения, объединяющее все сущее, – божественный Мир, прародителя и творца всякого единомыслия и согласия! <...> этот (божественный) Мир, являясь основанием и мира как такового, и всякого будь то общего или частного проявления мира, соединяет всех друг с другом в неслиянном единстве, в котором <...> каждый сохраняет свой облик чистым и неповрежденным, ни в чем не нарушая безукоризненное единство и чистоту» (Дионисий 1991: 84–85). Нетрудно видеть, что понимание Божественной сущности любых проявлений мира в их «неслиянном единстве» определяет отношение христианского учения и к такой частности, как различные языки. 79 Вместе с тем идея возвышения одного языка над другим проявится в римской католической церкви, придерживавшейся в течение длительного времени доктрины о священности только трех языков. В качестве обоснования этого указывалось, что надпись на кресте, на котором был распят Христос, была сделана по-еврейски, по-гречески и по-латински. В восточной христианской Церкви эта идея воспринималась как «трехъязычная ересь», например, константинопольский патриарх Фотий (около 820 – около 891), страстно боровшийся против влияния римской церкви на Византию и отправивший вместе с императором Михаилом Константина (Философа) создать азбуку для славян, писал, что переводы слова Божия на любой язык оправданны и равноправны (Аверинцев 1976: 31). Однако по мере утверждения различных конфессий проблема языка богослужения будет решаться непросто. 3.2. Для христианских мыслителей вопрос о правильности имен, так волновавший античных философов, представляется нелепым, поскольку он обращен к выяснению сущности посредством имен, и, конечно, для них неприемлема мысль о том, что наиболее правильные имена дают боги (ср. такое замечание хотя бы у Платона). Вопрос о сущности у ранних христианских теологов ставится как вопрос о непознаваемой природе Бога. К этой проблеме обращались богословы различных школ. На Востоке это были христианские мыслители каппадокийского кружка (II – IV вв.), в трудах которых складывались основные каноны православия. Для главы каппадокийцев – св. Василия Великого (329 – 379) – «не только Сущность Божественная, но и сущности тварные (сотворенные. – Т.С.) не могут быть выражены понятиями. Созерцая предметы, мы анализируем их свойства, что и позволяет нам образовывать понятия. Однако анализ никогда не может исчерпать самого содержания объектов нашего восприятия; всегда остается некий иррациональный «остаток», который от этого анализа ускользает и понятиями выражен быть не может: это – непознаваемая основа вещей, то, что составляет их истинную, неопределимую сущность» (Лосский 1991 а: 115). Тайны Божественной Премудрости нельзя приспособить к человеческому мышлению. Чтобы это понять, необходимо учесть, что в отличие от язычества, боги которого родственны природе, христианство признает тайну Творения, отсюда резкое противопоставление Бога и твари (сотворенного. – Т.С.). Св. Афанасий (293 – 373) писал: тварь произошла и возникла, и потому она есть «естество текучее и распадающееся», Бог не произошел и безначален, Он Бытие и Сущий, однако тварь в своем возникновении получила не только бытие, но и стала «причастная подлинно сущего от Отца Слова» (Флоровский 1992 а: 31). Это краеугольное положение не следует упускать из вида при чтении трудов теологов, касающихся вопросов познания, и, соответственно, не следует смешивать человеческое слово и творящее Слово Бога, которое выступает как «податель разума, ума, мудрости и причина всего сущего, нераздельно содержащая в себе все сущее прежде его воплощения в бытии» (Дионисий1991: 72). Человеческое же слово осуществляется вследствие учения, оно лишено личного бытия, потому что «наша природа подвержена смерти и легко разрушима», тогда как Слово Бога лично и вечно (Дамаскин 1992: 83). Св. Григорий Нисский (332 – после 394) писал, что о Боге мы говорим не в именах, а в символах или в подобиях, ибо, как и другие богословы, считал, что «Божество превыше любого слова» (Дионисий1991: 19). Поэтому, занимаясь именами, называющими Бога, св. Григорий Нисский показывал их символическое значение, раскрывающее путь ума, восходящего через очистительное отвлечение к раскрытию своего созерцательного ведения о Боге. Наряду с такими именами св. Григорий выделяет имена, которые «касаются нашей жизни», эти имена закрепляют человеческие умопредставления и являются «изобретением человеческого рассудка», поэтому понятно, почему существует много языков. Св. Григорий Нисский подробно излагает свою теорию наименований, которая во многих положениях проявляет его знание учения античных авторов (Платона, Аристотеля). 80 Вопрос о наименованиях, как и в античных теориях, тесно связан с вопросом о происхождении языка, но средневековые теологи разрешали его, опираясь на известные слова библейского текста: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Бытие, глава 2, 19–21). Согласно ортодоксальному учению, Богом дан человеку дар слова как некая разумная способность, а сам язык был создан человеком. Отметим, что высказывалась и другая интерпретация библейских слов, согласно которой язык не мог иметь чисто человеческое происхождение, а представлял собой высшую премудрость. Эта позиция, естественно, рассматривалась как еретическая. Св. Григорий Нисский писал: как Бог не управляет непосредственно каждым движением им созданной твари, так не сидит Он, как некий грамматик, занимаясь тонкословием имен. Слова, звуки и выражаемые в них понятия творят люди, – творят силою данного им промышления, которое «есть способность открывать неизвестное, отыскивающая дальнейшее при помощи ближайших выводов о том, что составляет предмет знаний» (цит. по: Флоровский 1992 а: 140). Таким образом, язык в понимании св. Григория Нисского есть нечто творческое и живое. «Изобретение» языка человеком св. Григорий представляет себе не как произвольную выдумку, но как раскрытие и осуществление естественных сил разума. Сам акт номинации изложен Григорием четко и ясно. Наименование предполагает именуемое, и именуются вещи для их точного обозначения, для закрепления нашего познания и знания о них, в противном случае имена не были бы знаками, наделенными смыслом. В этом он усматривает непроизвольность имен. Наименование связано с разделением понятий, с изменчивостью человеческого опыта, что, кстати, также является аргументом в пользу человеческого происхождения языка. Имена не нужны Богу, который объемлет все сущее. Данное положение также объясняет и то, почему нельзя познать и именовать сущность вещей: сущность мира открыта лишь Богу. Имена создаются людьми, но имена предполагают умысел. Св. Григорий Нисский пишет: «Разумная сила души, происшедшая таковою от Бога, затем сама собою движется и взирает на вещи, а для того чтобы знание не потерпело слитности, налагается на каждую вещь как бы некия клейма, обозначения посредством звуков» (Флоровский 1992 а: 141; выделено мною. – Т.С.). Нетрудно видеть, что выстраивается довольно стройная система теории номинации. В полном согласии с христианской онтологией, окружающий мир, будучи сотворенным, обладает объективным существованием, он независим от именующего его субъекта, как независим и от означающих его звуков. В отличие от античных учений, в теологии никакое имя не может мыслиться связанным с природой вещи, ее сущностью. Между объектом и его именем стоит человек, познающий мир. «Вещи познаются в их отношениях, в их действиях и взаимодействиях. О них мы и судим и говорим, – изображая не естество описываемого, но некоторые отличительные черты, качества, усматриваемые в вещах» (там же: 141). Лишь действиями человека объясняется наличие в мире не только полезного, но и вредного, в том числе и вредных имен. А это, кстати, еще один аргумент против того, что имена создал Бог, который в принципе не может быть создателем зла. Конечно, в разных трудах теологов можно найти различные нюансы в понимании мира и его отражения в словах, что требует серьезного и подробного анализа. Здесь же следует подчеркнуть самое главное, что лежит в основе всех средневековых учений, – это тезис о первичности сотворенного мира и вторичности слова как знака или символа. 3.3. Анализируя взгляды Аврелия Августина (354 – 430) – христианского теолога, признанного в католицизме святым, Ю.М. Эдельштейн отмечает, что Августину принадлежат глубокие и многолетние размышления об особенностях знака, его означающем и означаемом. В частности, Августин считал, что означающим языкового знака «является не сам звук, но сохраняемый памятью акустический образ слова <...>, означающее – линей81 ная последовательность элементов, из которых состоит всякий вербальный знак, но которые, не обладая значением, не могут быть признаны знаком» (Эдельштейн 1985: 204). Говоря современным языком, признается психическая сущность означающего и отсутствие значения у фонем. Аналогично и означаемое языкового знака не есть материальная сущность, но хранимый нашей памятью образ именуемой реальности. В связи с этим особый интерес представляет высказывание Августина, где он предполагает, что звучащее слово – знак другого знака: «Когда мы говорим, мы только обозначаем то, что говорим; и из уст говорящего исходит не сама обозначаемая вещь, а знак, которым вещь обозначается, если только не знак других знаков» (цит. по: Эдельштейн 1985: 204; выделено мною. – Т.С.; имеется ли здесь в виду означающее как носитель значения?). Подобным образом Августин объясняет и процесс восприятия: когда мы слышим какое-то слово, в наши уши входит не предмет, а слово, звук; он возбуждает в нашей памяти образ названной реалии, мы переносимся мыслью к тому, знаком чего служит воспринятый звук. Таким образом, в эпоху раннего средневековья формируется достаточно ясное представление не только о слове как о знаке или символе, от которого не зависит существование именуемого, но и о структуре знака. К проблеме отношений между означающим языкового знака и его означаемым обращались многие теологи. В патристике подчеркивалось, что в языковом знаке нельзя установить однозначное соответствие между означаемым и означающим. Знак целостен, но целое не есть простая механическая сумма элементов, значение целого не выводится из суммы значений составляющих, как и знание элементов не дает познание целого. Аргументация выстраивается на основе аналогии с устройством человека, в котором признается сопряжение души и тела. Так, Немесий Эмесский (точное время жизни не установлено: на рубеже IV – V вв. или в V в.) начинает свой трактат «О природе человека» словами: «Многими, и притом славными, мужами признано, что человек прекрасно устроен из разумной души и тела и настолько хорошо, что иначе (лучше) невозможно было ему произойти и существовать» (Немесий 1996: 17), однако сложным является вопрос о соединении души и тела. В аспекте рассматриваемого вопроса интересен следующий вывод Немесия: «Душа соединена с телом, но соединена неслитно» (там же: 65), и далее – «всякий раз, когда говорится, что душа находится в теле, то понимается это не в том смысле, что она находится в теле, как в месте, но в смысле связи, взаимоотношения, она присутствует в теле в том смысле, в каком говорится, что Бог (обитает) в нас» (там же: 67). Тело не есть человек, но лишь часть его, сама по себе не существующая и не проявляющаяся как целое, как и душа, животворящая своим присутствием тело, существует не сама по себе, но в составе целого. «Так и в языке «телесные» звуки сами по себе – просто звуки, они не составляют языка; и значение вне материального способа его выражения есть только наша мысль о чем-то и не есть язык» (Эдельштейн 1985: 165). То, что между человеком и языком средневековые теологи очень часто проводили аналогии, не представляется случайным. Ведь одним из основных тезисов христианских теологов было утверждение, что язык является отличительным признаком человека: нет языка без человека, как и нет человека без языка. Разумность и словесность всегда присущи человеку: «Человеческая природа есть середина между двумя крайностями, отстоящими друг от друга, – природой божественной и бесплотной и жизнью бессловесной и скотской. Ведь в человеческом составе можно частично усматривать и то, и другое из названного: от божественного – словесное и разумевательное <...>, а от бессловесного – телесное устроение» (Григорий Нисский 1995: 52–53). Обладание разумом и языком является отличительной чертой человека, признаком его совершенства, созданного таким образом, чтобы принять в природе «старшинство по достоинству рождения» (там же: 14), человек стал высшей ступенью природы, «совершая путь восхождения от самого малого к совершенному» (там же: 25). Анализируя порядок творения, св. Григорий Нисский писал: «А последняя (совершенная) жизнь в теле находится в природе словесной, то есть человече82 ской: она и питаема, и чувственная, и причастная слову, и управляемая умом» (там же: 22– 23; выделено мною. – Т.С.). Таким образом, человек, как утверждает христианство, – венец природы, совершенство его исходит из словесной и разумной природы, обнаруживающей черты нашего подобия Божественной красоте: «Божественность есть ум и слово, ибо искони бе Слово <Ин.1,1>. И пророки, согласно Павлу, имеют ум Христов, в них глаголющий <1 Кор. 2,16>. Не далеко от этого и человеческое. Видишь в себе самом и слово, и разумение, подражание истинному уму и слову» (Григорий Нисский: 17). Ум (мысль) и слова находятся в неразрывной связи. Особенно ярко это обнаруживается в рассуждениях теологов, когда они объясняют уникальность человеческой способности владеть языком. Так, животные не имеют языка, поскольку, хотя им присуща некоторая рассудительность, ловкость и хитрость, они не наделены разумом. Ангелы, не обладающие единством природы, не имеют языка, хотя наделены несказанной способностью разумения. Только человек обладает разумом и языком одновременно. 3.4. Важно, что, объясняя уникальность человека владеть языком, отцы церкви раскрывают причину этого: язык нужен для того, чтобы открывать другому человеку свои мысли, чтобы движения разума могли стать известны другим людям. Так определяется основная функция языка – коммуникативная. Но не единственная. Нельзя не усмотреть в высказывании св. Григория Нисского понимание языка как средства объективации и дискретизации действительности: «Поскольку нам невозможно иметь всегда перед глазами все существующее, то нечто из того, что всегда перед нами, мы познаем, а другое запечатлеваем в памяти. Но сохраниться раздельное памятование в нас иначе не может, если обозначение именами заключающихся в нашем разуме предметов не дает нам средство отличить их один от другого» (цит. по: Эдельштейн 1985: 167). Можно сказать, что теологи хорошо осознавали когнитивную функцию языка, например, Немесий, выделяя отличительные особенности человека, пишет: «Свойственно ему (человеку. – Т.С.) также знание наук и искусств, а равно и деятельность, соответствующая этим искусствам. Поэтому человека и определяют как животное разумное, смертное, обладающее способностью мышления и познания» (Немесий 1996: 30). Заметим, что разумное и словесное в представлении средневековых мыслителей предполагали друг друга, но не отождествлялись и не разделялись. Надо полагать, что такое понимание вытекает из общего принципа «неслиянности и нераздельности» мира, о котором не раз говорилось выше. Мышление всех людей признается принципиально единообразным, обладающим всеобщей сущностью, а формы разных языков – различными. Иоанн Дамаскин (конец VII в. – до 753 г.) в своем основном труде «Точное изложение православной веры» писал: «Наше слово, выходя из ума, ни всецело тождественно с умом, ни совершенно различно; потому что, будучи из ума, оно есть иное сравнительно с ним; обнаруживая же самый ум, оно уже не есть всецело иное сравнительно с умом, но, будучи по природе одним, оно является другим по положению» (Дамаскин 1992: 83), «произносится голосом, <...> изливается в воздух и исчезает» (там же: 84). Примечательно, что богословы останавливаются и на таком интересном для лингвистов вопросе, как внутреннее слово (речь), утверждая, что человек мыслит и тогда, когда не произносит слова вслух. Понятие внутреннего слова получило разнообразную и противоречивую интерпретацию, значительно расходились в его трактовке западные и восточные теологи. Приведем полностью (за исключением вводного предложения) XIV главу «О внутреннем и произносимом слове» из трактата Немесия Эмесского «О природе человека». « <...> есть еще другое деление разумной души – деление по другому способу – на так называемое внутреннее слово и произносимое. Внутреннее слово есть движение души, происходящее в рассудке, – без всякого внешнего выражения. Отсюда, мы часто и молча ведем с самими собой целое рассуждение, а также разговариваем во время сновидений: по 83 этой способности преимущественно мы все считаемся разумными, и именно – не столько по слову произносимому, сколько по внутреннему. Ведь и глухонемые от рождения, и потерявшие голос по причине какой-нибудь болезни или страсти нисколько не менее разумны. Слово же произносимое проявляется в звуке и разговорах. Органы звука (голоса) многочисленны – именно: внутренние межреберные мышцы, грудная клетка, легкие, дыхательное горло и гортань, особенно – хрящевые части этих последних, возвратные нервы, язычок и все мускулы, движущие эти части, являются органами произношения. Орган речи – рот: в нем именно складывается, образуется и как бы формируется речь, причем, язык и надгортанник играют роль плектра (палочка для удара по инструменту, смычок. – Т.С.), нёбо – литавры (инструмент, издающий звук. – Т.С.), зубы и различные открытия рта исполняют назначение струн, как в лире; принимает здесь некоторое участие и нос, способствуя благозвучию или какофонии, что бывает очевидно при пении» (Немесий 1996: 107– 108). В учениях средневековых теологов нередко встречаются высказывания, в которых говорится, что сначала рождается образ предмета, потом, после его представления, избираются значения, свойственные данному образу, а затем с помощью членораздельных звуков обнаруживается мысль. Здесь, очевидно, предполагается, что мышление протекает вне языковой формы. Впрочем, то, что мышление первично, а звуковая форма закрепляет его, известно из многих трудов теологов. Описанию звуков человеческой речи средневековые теологи отводили незначительное место, их внимание было сосредоточено прежде всего на звукокомплексе, обладающем значением, поскольку для них было достаточным признать, что человек всегда разумен и словесен, и тем самым отграничить человеческую речь от нечленораздельных звуков природы или членораздельных и неразумных. 3.5. Установление основных догматов христианства было связано с тщательным изучением канонических текстов, поэтому в средние века получили развитие текстологические исследования. Как известно, учение о способах истолкования текстов – герменевтика – начинала складываться еще в античную эпоху в связи с изучением классических текстов. Однако наибольшего развития герменевтика достигла в эпоху средневековья, когда формировалась экзегетика – богословская дисциплина, занимавшаяся истолкованием религиозных текстов, и прежде всего Библии. Герменевтика в качестве методологического приема, помогающего раскрыть многогранность смысла религиозных текстов, входит в экзегетику. Уже в эпоху раннего средневековья сложились разные экзегетические школы. Считается, что основы экзегетики заложил александриец Ориген (185 – 253/254), который осуществил огромный текстологический труд, создав сравнительный текст 6 редакций Ветхого завета на еврейском языке и в греческих переводах. Ориген написал комментарии к священным книгам, преимущественно аллегорические. Впоследствии ученики Лукиана Самосатского (II пол. III – нач. IV в.) – лукианисты – «отрицательно относились к аллегорическому методу александрийцев и к связанному с ним мистико-философскому умозрению» (Карсавин 1994: 84). Лукианисты не признавали ничего непостижимого, были представителями точного, основанного на прямом смысле Писания богословия. Это методологическое расхождение, которое будет проявляться и позже, связано с различием тех античных филологических традиций, к которым примыкали те или иные теологи. Одним из признанных экзегетов IV в. является Диодор Тарсский (Тарсийский) (ум. в 392 г.), «ревностный аскет и борец за православие» (Флоровский 1992 а: 219). Сохранилось его небольшое рассуждение «Созерцание и иносказание», в котором он излагает основные экзегетические положения, различая три метода толкования: история, иносказание и созерцание. Выдвигаемые Диодором положения направлены, с одной стороны, против «эллинизма», который он усматривал в аллегорическом методе, а с другой стороны, против грубого вербализма, не проникающего дальше поверхностного смысла слов, свой84 ственного «иудаизму». С точки зрения Диодора, библейские рассказы должны толковаться исторически, поскольку они не притчи, в них нет иносказаний. Напротив, иносказание отрывается от прямого смысла: об одном говорится, а другое понимается («меняется подлежащее»). «Созерцание в самой истории открывает высший смысл, – исторический реализм этим не отрицается, но предполагается» (там же: 219), созерцание дает возможность постигать пророческий смысл. Однако труды Диодора, где бы на практике использовались эти методы, неизвестны. Талантливым учеником Диодора был св. Иоанн Златоуст (между 344/354 – 407), который с большим чувством вспоминал своего учителя. Златоуст считал, что толкователь должен проникать далее и глубже буквы, не довольствуясь лишь поверхностным смыслом, потому что в Писании, как в слове Божием, есть некая трехмерность, есть глубина. Златоуст выдвигает метод «типологии», в основании которого лежит представление об особой связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ветхий Завет обращен к грядущему, он исполнен в Новом Завете, и его отдельные события указывают на некоторые другие события будущего. Поэтому, только исходя из Нового Завета, можно раскрыть смысл Ветхого. При этом Златоуст отличает свой метод от аллегорического толкования. Согласно последнему, в библейских рассказах содержатся лишь притчи, чистые символы, а Ветхий и Новый Заветы для аллегористов представляют собой две системы толкования символов, два мировоззрения. Для Златоуста Ветхий и Новый Заветы являются двумя этапами домостроительной истории: события (а не слова) Ветхого завета пророчествуют грядущее. Так, ветхозаветный агнец прообразует Христа, переселение в Египет и исход оттуда «типологически сходны» с бегством Иосифа в Египет с Младенцем и возвращением в Палестину и др. Второй ряд, требующий толкования, Златоуст видит в самих образных словах и выражениях, особенно в тех, которыми говорят пророки. В этом случае речь может идти о символах в собственном смысле слова, причем о символах многозначных: Иаков пророчествует об Иуде, но в то же время и о Христе, двоякий смысл имеют Псалмы и др. Уже в те времена толкование Нового Завета Златоустом считалось лучшим из его творений. Объясняя причины высокой оценки трудов Златоуста, протоиерей Георгий Флоровский писал: «Это зависит от той зоркости, с какой он схватывал малейшие оттенки греческой речи... Филолог чувствуется в Златоусте, когда он ставит вопросы: кто говорит, к кому говорит, что и о чем говорит... Он раскрывает оттенки синонимов, равновозможных оборотов речи... Смысл Писания он всегда старается вывести из самого Писания, – сравнительно мало и редко ссылается на предание. Для него Библия была как бы самодостаточною» (Флоровский 1992 а: 222–223). Значительный вклад в экзегетику внес блаженнейший Феодорит (393 – 457). В своих толкованиях Феодорит опирается на историко-грамматический анализ текста, крайне отрицательно он относится к аллегорическим объяснениям. Однако Феодорит не ограничивается буквальным смыслом, а полагает, что в библейском тексте многое сказано метафорически, поэтому толкование должно раскрывать смысл образов и тропов. «Кроме иносказательного и нравственного смысла Феодорит находит во многих ветхозаветных текстах скрытые намеки на христианские истины веры. Так, множественное число в рассказе о творении человека он признает за прообраз Троической тайны <...>. Таким образом, у Феодорита сохраняется живая связь двух Заветов» (Флоровский 1992 б: 83). Будучи вполне самостоятельным исследователем, Феодорит умело использовал достижения предшественников, особую связь проявив с Златоустом. Впоследствии в круг интересов экзегетов вовлекаются труды отцов церкви, поскольку складывается мнение, что чем ближе стоит экзегет ко времени Откровения, тем больше у него возможности проникнуть в тайну Св. Писания. Нельзя не отметить также, что в первые века нашей эры, в годы становления христианских догматов, основанных на тщательном изучении текстов священных книг, ве85 дется огромная работа по уточнению основных христианских понятий, а вместе с этим и по уточнению значений слов, их обозначающих, т.е. по сути складывается собственная терминология. Создание христианской терминологии, наполнение терминов определенным содержанием протекало бурно и страстно в спорах между ортодоксами и еретиками. Таким образом, в период раннего средневековья не только закладываются основы экзегетики, но и открываются новые, по сравнению с античностью, методы текстологических исследований. Конечно, во многом можно признать их несовершенство, но бесспорно и то, что это был шаг вперед, значимый как для христианского богословия, так и для будущей филологической науки. Вопросы и задания 1. Чем обусловлен новый взгляд на языки мира и человеческий язык в целом? Какие обоснования этому приводят отцы церкви? 2. Почему ортодоксальная церковь отрицает мысль, что Бог создал язык? 3. Объясните, какие положения привлекают отцы церкви для объяснения процесса номинации? Чем отличаются представления о соотношении имени и вещи, изложенные в патристике, от представлений античных философов? 4. Какие аргументы приводятся в патристике для обоснования взаимоотношений между составляющими языкового знака? 5. Как в патристике объясняется уникальность способности человека обладать языком? 6. Какие основные функции языка выделяли теологи раннего средневековья? Как это связано с основными христианскими догматами? 7. Как решался вопрос о взаимоотношении языка и мышления и какими положениями обусловлено это решение? 8. Каким образом истолковывается теологами понятие внутреннего слова (речи) и в чем усматривается его отличие от внешнего слова? 9. Какое место занимают вопросы фонетических явлений в рассуждениях теологов? 10. Какие методы исследования использовали экзегеты? В чем своеобразие каждого из них и чем это обусловлено? 11. Как вы оцениваете экзегетику раннего средневековья с позиции современного филолога? Чтение и анализ научной литературы Нисский Григорий. Об устройстве человека Трактат Нисского святителя Григория «Об устройстве человека» принадлежит к классическим произведениям святоотеческой антропологии. «Антропология находится в пограничной области, частично относясь к сфере богооткровения истин и частично приходя в соприкосновение с данными «внешних наук» – философии, естествознания, медицины» (Лурье: 147). Св. Григорий Нисский (332 – после 394) – авторитетнейший представитель грекоязычной патристики, представитель каппадокийского кружка, один из немногих авторов, занимавшихся вопросом о внешних материальных условиях возникновения человеческой речи. Однако, несмотря на то, что в целом сочинения Григория Нисского оказали существенное влияние на формирование христианской доктрины и были известны мыслителям последующих веков как Востока, так и Запада, именно данные его рассуждения «были, кажется, слишком хорошо и надолго забыты наукой последующих веков в Византии и Западной Европы» (Эдельштейн 1985: 190). Ниже приведены отдельные главы указанной работы (полный текст см.: Нисский Григорий. Об устройстве человека / Пер., прим. и послесловие В.М. Лурье. – СПб.: Аксиома, Мифрил, 1995. – 176 с.) Глава VII Почему человек обнажен от природных покровов и оружия 86 Но зачем нужна эта прямота облика? Почему тело не имеет врожденных сил для борьбы за жизнь? Ведь человек обнажен от природных покрытий, какой-то безоружный и бедный, нуждающийся во всем, что требуется для поддержания жизни. Кажется, что он достоин скорее сожаления, чем ублажения <...>. Всем всегда что-либо от рождения дает природа для их спасения <...>. Из всех один только человек медлительнее быстроногих, ниже великорослых и беззащитнее тех, чья безопасность – в прирожденном оружии. И кто-нибудь спросит, как же такой получил начальство над всеми? Но тут я не вижу труда доказать, что мнимая недостаточность нашей природы – это повод к обладанию подчиненными. Ведь если бы человек был настолько силен, что быстротой превосходил коня, ноги его стирались бы от твердого, будучи защищенными копытами, наподобие лошадиных или парнокопытных, или чем-нибудь в том же роде, носил бы рога, жала и когти, то, во-первых, был бы он звероподобным и страшным, когда бы все это имело от рождения его тело. А кроме того, не нуждаясь в содействии подчиненных, он пренебрегал бы начальствованием над другими. Теперь же наши жизненные потребности распределены между подъяремными нам и делают необходимым начальствование над ними. Медлительность и малоподвижность тела побудили использовать и обуздать коня. Нагота тела сделала необходимым присмотр за овцами, чтобы недостаток нашей природы восполнился ежегодным приношением шерсти. А наша потребность ввозить припасы для жизни даже из других мест для таких услуг запрягла вьючных животных. Неспособность, подобно скоту, питаться травой сделала подручными нам в жизни быка, который трудами своими облегчает нам жизнь. А поскольку была потребность иметь зубы и кусаться для защиты от других животных, зубами наносящих нам вред, то пес тут же предоставил в наше распоряжение свою челюсть и свое проворство, став для человека как бы одушевленным мечом. А еще придумал человек железное оружие, более крепкое, чем выставленные вперед рога, и более острое, чем концы когтей, которое не навсегда срослось с нами, как рога и когти зверей, но после того, как в нужный момент послужило нам в битве, остальное время отделено от нас. И вместо крокодиловой чешуи, бывает, человек делает самого крокодила средством защиты, на время надевая на себя его шкуру. А если ее нет, то мастерством и в нее обращается железо, чтобы, помогши во время войны, в мирное время оставить воина свободным от бремени. Услуживают нам в жизни и крылья птиц, так что, благодаря изобретательности, мы не нуждаемся даже в скорости пернатых. Одни из них делаются ручными и помогают охотникам; мы научили их завлекать других птиц для наших нужд. А мастерство, научив сделать стрелы наши крылатыми, при помощи лука дает нам для наших нужд скорость пернатых. И то, что ступням нашим при ходьбе легче причиняется боль и они стираются, сделало необходимым использовать то, что есть под рукой; ведь из этого можно сделать удобную для ног обувь. Глава VIII Почему облик человека прямой, и о том, что руки – для слова, и тут же некоторая философия о различии душ (1) Облик человека прямой и тянущийся к небу, и смотрит он вверх. И этим обозначается его начальственность и царское достоинство. Ведь одно то, что из всех сущих таков лишь человек, а у всех прочих тела поникли долу, ясно показывает различие в достоинстве тех, кто преклонился перед владычеством, и возвысившейся над ними власти. У всех прочих передние конечности тела – ноги, потому что согнувшееся всегда требует подпорок; но в устроении человека эти конечности стали руками. Ведь прямому стану достаточно было одного основания, надежно стоящего и на двух ногах. Но, помимо того, содействие рук помогает потребности слова. И если кто-нибудь содействие рук назовет особенностью словесной природы, он не совсем погрешит. Подразумеваю не только общую и очевидную мысль о том, что благодаря умению рук мы обозначаем слово буквами <...>, но имею в виду другое и говорю, что руки содействуют произношению слова. Но лучше, 87 прежде чем исследовать это, обратимся в предложенной выше главе. Ведь мы едва не остались в неведении относительно порядка творения, – того, почему предшествует появление из земли растений, потом появляются бессловесные животные и затем, после их устроения – человек. Ибо, возможно, поймем отсюда не только очевидное для разума – то, что Сотворившему оказались нужны для животных трава, а для человека скоты, благодаря чему прежде травоядных появилась их пища, а прежде человека – то, что должно служить человеческой жизни. Но мне кажется, что во всем этом Моисей объявляет некое сокрытое учение и неизреченно преподает философию о душе, о которой мечтала и внешняя ученость, однако не уразумела отчетливо. Ибо Слово учит нас этим, что в трех различиях усматривается жизненная и душевная сила. Одна сила – только растительная и питательная, подводящая то, что нужно для роста питаемого; она называется природной и усматривается в растениях. Ведь и в растительном можно заметить некоторую жизненную силу, но не причастную чувству. Но кроме того есть и другой вид жизни, который включает и первый. Но прибавляет к нему управляемость через чувство; он есть в природе бессловесных. Они не только питаются и растут, но имеют и чувственное действие (энергию) и восприятие. А последняя (совершенная) жизнь в теле находится в природе словесной, то есть человеческой: она и питаемая, и чувственная, и причастная слову, и управляемая умом. Пусть же и в нашем слове будет принято такое деление: из всего сущего одно – умное, а другое телесное <...>. А из телесного одно совершенно лишено жизни, а другое причастно жизненной энергии. Из живых же тел опять: иное живет с чувством, а иное лишено чувствования. Чувственное же вновь разделяется на словесное и бессловесное. Поэтому Законоположник говорит, что первой после неодушевленного вещества, как бы в качестве основы для [нанесения] идей одушевленного, была образована эта природная жизнь, предсуществующая в семени растений. После нее уже приходит в бытие то, что управляется чувством. А поскольку, согласно этой последовательности, из принявших жизнь через плоть чувственное может быть само по себе без умной природы, но словесное не иначе возникнет в теле, как только срастворившись с чувственным, то поэтому последним после произрастающего и пасущегося был устроен человек, ведь природа известным путем последовательно шла вперед к совершенству. Ибо всякая идея душ срастворена словесному сему животному, человеку, ибо он питается по природному виду души, растительной [1] же способности [у него] прирождена чувственная, которая по своей природе занимает середину между умной и вещественнейшей сущностью – настолько грубее первой, насколько чище последней <...>. Таким образом, природа как бы из ступенек, то есть из отличительных признаков (идиом) жизни, совершает путь восхождения от самого малого к совершенному. А поскольку человек есть словесное животное, нужно было устроить орган тела, соответствующий потребности слова. Как мы видим у музыкантов, что они в зависимости от вида инструмента исполняют разную музыку: на лирах не свиряют, а на свирелях не бряцают, – таким же образом следовало, чтобы устройство органов было соответствующим слову, – чтобы оно, издаваемое звучащими частями по мере потребности в словах, отдавалось бы в ушах должным образом. Ради этого и приданы телу руки. Ведь если бы человек был лишен рук, то, несомненно, у него, по подобию четвероногих, части лица были бы устроены соответственно с потребностью питаться: лицо было бы вытянутым и утончалось бы к ноздрям, у рта выдавались бы вперед губы, мозолистые, твердые и грубые, как это нужно, чтобы щипать траву, между зубами был бы вложен язык не такой, как теперь, а мясистый, жесткий и бугристый, помогающий зубам пережевывать то, что попало в зубы, или влажный и мягкий по краям, как у собак и прочих хищников, высовывающийся из пилы зубов сквозь щель между челюстями. Потому, если бы не имело тело рук, то как бы образовался у него членораздельный голос, когда устройство гортани не было бы приспособлено к потребности произношения? Тогда, несомненно, пришлось бы человеку блеять, или мяукать, 88 или лаять, или ржать, или реветь, подобно быкам или ослам, или как-нибудь рычать позвериному. Но теперь, когда телу дана рука, уста удобно служат слову. Следовательно, руки являются особенностью словесной природы, измысленной Зиждителем для удобства слову. Примечания 1. Автор перевода утверждает, что он следует буквальной передаче терминов св. Григория, которые передает русскими словами природный и растительный, поэтому поясняет их смысл. Растительный – относится к процессу роста, не имеет отношения к растению. Природный – ‘относящийся к растению’. Вопросы и задания к тексту 1. В чем Григорий Нисский видит, причину того, что человек не обладает врожденными средствами защиты от неблагоприятных для него проявлений природы? С какими свойствами человека связывает мыслитель отсутствие средств защиты, известных в животном мире? 2. Какое значение, по мнению Григория Нисского, имеет прямохождение для исполнения человеком своего предназначения? 3. Как оценивается роль руки в речевой деятельности человека? Какие важнейшие ее функции выделяются мыслителем? 4. Каким образом Григорий Нисский связывает прямохождение и наличие руки с развитием речевых органов? 5. Какое место в акте Творения отводится человеку? Как это объясняет совершенство человека и его связь с сотворенной природой и отличие от нее? 6. Какая роль в характеристике человека отводится его способности обладать речью (словом)? 7. Как вы оцениваете слова Григория Нисского о том, что «словесное не иначе возникает в теле, как только срастворившись с чувствами»? 8. Оцените высказанные Григорием Нисским положения с точки зрения современной эволюционной гипотезы о происхождении человеческой речи. § 4. Возникновение новой лингвистической традиции 4.1. Новая лингвистическая традиция связана с утверждением арабского монотеизма – ислама (от араб. – ‘покорность’), или мусульманства. Ислам складывается в период преодоления племенной разобщенности и становится идеологической основой создания единого арабского государства (VII в.). Канонический текст ислама – Коран – записывается учениками Мухаммеда (570 – 632), считавшегося после смерти пророком. В Коране выдвигается положение о превосходстве арабского языка над всеми языками мира. Причину єтого арабы видели в том, что истинная вера, воплощенная в Коране, была провозглашена аллахом пророку его Мухаммеду на арабском языке. Поэтому ни один язык мира, думали арабы, кроме их родного языка, не может сообщить всю полноту божественного откровения. Этим же объясняется и запрет переводить Коран на другие языки. Формула, выдвинутая арабами: «язык арабский – это религия», служила обоснованием широких арабских завоеваний. Эта же формула обусловила исключительное внимание к арабскому языку со стороны ученых средневекового Востока с первых же веков ислама, а также поддержку, которую оказывали правители Халифа исследователям арабского языка. Вопрос об истории возникновения арабского языкознания еще не достаточно хорошо разработан, существуют разногласия в том, какие античные и средневековые традиции оказали влияние на арабов. По-видимому, в решении этого вопроса нельзя не учитывать того, что арабы, начавшие завоевания уже в первый век существования исламского государства, покорили многие высококультурные народы, которые были хорошо знакомы 89 как с эллинистической, так и с индийской наукой, некоторые из этих народов приобщились к христианству. Надо учитывать также и то, что «начиная с середины VIII в. было сделано много переводов с греческого и сирийского языков на арабский. Прежде всего, переводились труды по философии, математике, астрономии. Много было переведено также с персидского языка» (Орешкова 1980: 140). Поэтому вряд ли без влияния всего запаса знаний, накопленного народами Азии, Африки и Европы, арабы смогли бы достичь такого скорого совершенства в лингвистике, которое наблюдается уже в VIII в., хотя, конечно, влияние со стороны других лингвистических традиций не означает прямого заимствования и отсутствия самостоятельности. Арабская лингвистика признается новой традицией, которая сложилась именно в эпоху средневековья, находясь в непосредственной зависимости от основных канонов ислама и его распространения среди других народов. Новым является то, что арабская лингвистика создает свою оригинальную грамматическую систему, «полностью соответствующую структуре арабского языка» (Ахвледиани 1981: 63), вырабатывает собственную систему понятий и соответствующую им специфическую терминологию. Говорить именно о традиции арабского языкознания, а не просто об особом ее развитии позволяет то, что «арабская грамматическая система переносится на новые языки, генеалогически и типологически отличные от арабского, например, на тюркские языки и на персидский язык» (Рождественский 1975: 147). Методы исследований, разработанные арабами, «применялись еще в XI в. при составлении грамматики древнееврейского языка» (Габучан 1990: 40). Позже (XVI в.) арабская лингвистическая традиция оказала значительное влияние на европейскую арабистику. 4.2. Основы арабской языковедческой концепции закладываются в VII –VIII вв., когда формируются две лингвистические школы: басрийская и куфийская (названные по имени городов). Затем возникла багдадская школа, которая, по-видимому, не отличалась оригинальностью, так как складывалась на базе двух указанных выше школ и стремилась примирить существовавшие между ними разногласия, за что ее называют смешанной. Главные разногласия между басрийцами и куфинцами были связаны с их отношением к нормам языка. Басрийцев часто называли аналогистами: они не признавали никаких отклонений от норм языка Корана и классической поэзии. Куфийцев называли аналитиками: они допускали отклонение от норм литературного языка, в основном в области синтаксиса. Обосновывая свои положения, куфийцы ориентировались на разговорный язык. Вместе с тем есть свидетельства, что и басрийцы, а не только куфийцы, при установлении норм канонического языка обращались к исследованию устной речи. Более того, считалось «важным естественное обогащение знанием устного языка, поэтому филологи из обеих школ не только исследовали речь информантов, но и подолгу жили среди арабских племен Хиджаза и Йемена, родственных курейшитам, из которых происходил Мухаммед. Можно, пожалуй, считать, что такой подход к выработке норм языка является первым применением понятия «опорный диалект» при разработке грамматического норматива» (Рождественский 1975: 149). Расхождения во взглядах ученых двух школ проявлялись при описании грамматических явлений, например, по-разному понималась основная единица грамматики (слово или предикативное словосочетание), различно толковался характер предикативной связи слов и др. 4.3. Грамматика представляет собой наиболее оригинальную часть арабской лингвистической традиции. Сравнение арабской грамматики с индийскими и греко-латинскими показывает, что в последних трудно найти какие-либо существенные предпосылки, которые бы позволили говорить о заимствовании грамматического канона. Первой арабской грамматикой является сочинение басрийца Сибаваихи (Сибавейхи) (ум. в 794 г.), в котором ученый рассматривает все важнейшие проблемы синтаксиса, морфологии, словообразования и фонетики. Книга Сибаваихи представляла собой крупное достижение в области изучения литературного арабского языка, стала образцом науч90 ных исследований для последующих поколений и авторитетна до сих пор. В своем труде Сибаваихи опирался на многие положения своих предшественников, поэтому можно считать, что до создания этого сочинения «арабская языковедческая наука прошла сложный путь накопления и систематизации материала, путь выработки основных теоретических предпосылок для построения цельной системы грамматики арабского языка» (Ахвледиани 1981: 57). Особенности в построении и описании грамматики всецело обусловлены спецификой арабского языка, и прежде всего особой структурой корня и способами выражения грамматического значения. Арабское слово содержит корень, состоящий из согласных. Для того, чтобы выразить определенное грамматическое значение, необходимо, помимо использования нужных частиц и аффиксов, между согласными поставить те или иные гласные. Отсюда ясно, что любое преобразование – словообразовательное или словоизменительное – приводит к изменению звучания всего слова. Эти перемены в звучании играют важную роль в выражении значений. Следовательно, если слово меняет синтаксическую функцию, то меняет и звучание; если образуется иная форма слова, например, изменяется число, то также изменяется звучание всего слово и др. При этом существенно, что выбор средств выражения для передачи одних и тех же грамматических значений зависит от звукового состава корня слова. Поэтому не должно вводить в заблуждение то, что в арабском языке, так же, как в европейских языках, выделяется, с одной стороны, корень слова, а с другой – изменяемая часть слова. Грамматическое описание в арабском языке должно строиться на принципиально другой основе, потому что правила изменения слов определяются не изменяемой частью слова, как в европейских языках (аффиксами), а корнем. Значит, только учитывая фонетическую структуру корня, можно описать тот стандартный набор изменений, который возможен в случае с тем или иным типом корня. Такое большое отступление, касающееся некоторых особенностей языка, на основе которого создавалась новая традиция, сделано намеренно. С одной стороны, с той целью, чтобы стало ясно, что сам материал языка выдвигал перед арабскими учеными довольно сложную задачу, требующую самостоятельного решения. А с другой стороны, чтобы была понятна специфика построения грамматики, созданной арабскими учеными. Арабская грамматика охватывает все те же уровни языка, что и европейская: фонемный, морфемный, словный, синтаксический, но она строится не как описание каждого отдельного уровня, а как межуровневое описание, «любая часть арабской грамматики есть установление связи уровня слова и фонемного уровня» (Рождественский 1975: 161), при этом учитывается и синтаксическая функция слова. Поэтому для арабской грамматики, которая состоит из трех частей, можно провести «лишь примерные аналогии» (там же) с европейскими грамматиками. Кроме того, между главными разделами грамматики есть пограничные области. Материал в грамматике выстраивается от общего к частному. Арабская грамматика состоит из трех частей: нахв, сарф и таджвид. Чтобы уяснить понятия, стоящие за этими терминами, кратко укажем основные вопросы, которые рассматриваются в каждой из частей. В части первой (нахв) содержится учение о предложении и о частях речи. Рассматриваются способы деления предложения на определенные части в зависимости от следования в них слов и от функции слов. На основании сопоставления данных способов выделяются части речи, даются формальные характеристики каждой из частей речи и описываются все варианты звучания слов, вызванные переменой позиции. Следует подчеркнуть, что здесь рассматриваются только такие варианты звучания, которые грамматически значимы. Во второй части (сарф) описывается переход имен в глаголы и наоборот, а также словообразование глаголов и имен. Особенностью этого раздела является то, что рассматриваются те изменения в звучании, которые обусловлены не грамматической позицией, а смыслом слов. Здесь не описываются отдельно особенности частей речи, так как перемена 91 в звучании не связана с изменением позиции слова в предложении и с синтаксическими отношениями между словами. Поэтому основным вопросом становится описание структуры слова, выделение корня и изменяемой части слова, а также различение типов варьирования звучания в зависимости от связи корневой и некорневой частей. Третья часть (таджвид) рассматривает только те изменения звучания, которые связаны с фонацией связной речи и которые не имеют отношения ни к синтаксису, ни к семантике. Здесь же приводятся правила произношения букв алфавита, классификация звуков речи, устанавливается связь фонетики с пением и ритмикой. Особенностью фонетического описания является то, что в качестве основных единиц арабские ученые рассматривают не слоги как единицы плана выражения, а слово и морфему. «Сообразно этому классификация звуков речи и установление парадигматических и синтагматических отношений между звуками речи основываются не на месте, которое они занимают в слоге, а на их месте в морфеме и слове. Таджвид, таким образом есть не фонологическое, а морфологическое учение о звуках речи» (Рождественский 1975: 160). Таким образом, совершенно очевидно, что к описанию грамматического строя языка арабские ученые подошли вполне самостоятельно, учитывая самые существенные особенности своего языка. В арабской грамматике большое внимание уделяется функциональной стороне составляющих ее частей, заметна ее практическая направленность, связанная с описанием разнообразных правил употребления единиц. 4.4. Помимо того, что вопросы фонетики в качестве составной части входили в грамматику, им посвящено немало и отдельных трактатов, в которых рассматривались разнообразные вопросы. Например, арабскими учеными выделяются варианты основных фонетических единиц, которые наблюдаются в разных фонетических позициях, при этом указываются такие группы, которые часто употребляются при чтении Корана и образцовой поэзии, и такие, которые неприемлемы при чтении классических текстов, а являются достоянием диалектов. В трактатах большое внимание уделяется описанию комбинаторных изменений, особенно согласных. Арабские языковеды «касаются вопросов фонетического символизма. В зачаточном виде они имеются у Халиля (предшественника Сибаваихи. – Т.С.) и Сибаваихи, но детальный анализ этого вопроса представлен у ибн Джини (XI в.). Арабские языковеды в данном случае выделяют две группы слов» (Ахвледиани 1981: 87). К первой группе относят звукоподражательные слова, которые воспроизводят звуки природы или звуки, издаваемые животными. А ко второй – такие слова, в которых путем усиления (удвоения) согласного создается акустический эффект. Происходит это потому, что определенные согласные, как считали арабы, способны передавать различные нюансы значения, например, такие, как интенсивность, объем предмета, степень влажности и др. Арабские ученые разработали весьма совершенную артикуляционную классификацию звуков. Показательной в этом отношении является классификация, созданная выдающимся мыслителем средневековья Абу Али ибн Сина (Авиценна) (около 980 – 1037) – блестящего знатока анатомии и физиологии человека. Ибн Сина детально описал артикуляцию согласных арабского языка, выделив девять групп с учетом места образования. Интересным в описании Ибн Сина является установление звуковых соответствий (пропорций), благодаря которым становится очевидным тот признак, который является отличительным для пар звуков, например, в его трактате засвидетельствовано следующее соответствие: [d] : [t] = [z] : [s]. При характеристике звуков арабские языковеды учитывали характер преграды на пути воздушной струи, подъем языка к нёбу, резонаторы (гортань, полость рта и полость носа) и др. Менее подробно описывали арабы гласные звуки. Это объясняется тем, что гласные считались менее значимыми по сравнению с согласными. Тем не менее стоит отметить, что арабскими учеными были замечены такие признаки гласных, как долгота-краткость, различная степень подъема языка к твердому нёбу, степень широты раствора рта, участие губ в образовании звуков. 92 В целом можно сказать, что арабские ученые достигли высоких результатов в области фонетики, намного превосходя в этом европейцев. 4.5. Арабские языковеды довольно глубоко для своего времени изучили лексический состав языка, причем ими были проанализированы слова не только литературного языка, но и диалектов, хотя изучение диалектов еще и не составило особого раздела науки. Целенаправленное изучение лексики отличает арабскую традицию как от античных традиций, так и от европейских средневековых учений, где вопросы лексикологии решались, как правило, лишь попутно с какими-нибудь другими вопросами. Арабские ученые занимались как теоретическими проблемами слова, так и систематизацией слов, которая, впрочем, также требовала теоретической разработки ее основ. Так, арабами был поставлен вопрос о том, является ли слово знаком внешних предметов или мыслимых образов этих предметов. Данная проблема, как известно, дискутировалась учеными и других стран. Арабами также высказывались разные точки зрения: «часть ученых придерживалась мнения, что слова установлены по отношению к внешним предметам (Абу Исхак аш-Ширази). В противовес этому положению Фахр ад-Дин ар-Рази и Аснави считают слова знаками мысленных образов» (Ахвледиани 1981: 89). Это противостояние продолжалось в течение всего средневековья. Арабы писали о прямых и переносных значениях слов, выделяя различные основания для переноса, изучали синонимы и омонимы, возникновение новых значений путем сложения слов, обращались к описанию некоторых устойчивых словосочетаний, состоящих из двух рифмующихся слов и др. Систематизацию слов арабы осуществляли на разных основаниях. Наиболее специфичными для арабской традиции являются классификации, опирающиеся на теорию корня. В частности, арабские ученые, учитывая количество сочетаний согласных в корне, выявили, что теоретически наибольшее число слов должно состоять из четырех и пяти согласных, но реально используются трехсогласные корни, которые арабы и считали наиболее правильными. Арабские лексикологи вывели «точные правила совместимости и несовместимости определенных согласных в одном корне» (там же: 88), и тем самым установили корпус возможных и невозможных корней в языке. Таким образом была создана классификация употребляемых и неупотребляемых слов. Анализ лексического состава языка привел арабских ученых к выделению немногочисленной группы устаревших слов, которые употреблялись до ислама, и слов, вызванных распространением ислама (религиозные и правовые термины Корана). Много внимания арабы уделяли заимствованным словам, особенностям их усвоения, рассматривали причины заимствования. К самому началу развития арабской традиции относится лексикографическая практика арабов. Создавались полные толковые словари, предметные словари, словари синонимов, редких слов, заимствований, были и переводные словари. Разнообразна и структура словарей, при этом следует отметить, что при построении словарей во многом также учитывали особенности корня, например, располагали слова с учетом первого (или последнего) корневого согласного или, полностью соблюдая внутренний алфавит в расположении корней, использовали анаграмматический метод группировки корней, когда, взяв за основу один из корней, выводили из него все возможные модификации, различая при этом теоретически допустимые и «реально существующие корневые единицы» (там же: 91). К концу X в. возникает традиция создания словарей с использованием «метода рифм»: слова располагались по алфавиту, но с учетом последнего корневого согласного. Словарная работа не прекращалась на протяжении всего средневековья, а сложившиеся традиции развивались в арабской науке и позже. Лексикографические изыскания арабов были восприняты другими народами, прежде всего иранцами, турками, частично индийцами и др. Таким образом, арабская лингвистическая традиция сложилась и существовала в культурном ареале ислама в VII–XIV вв. В качестве самостоятельных дисциплин в араб93 ской традиции «выделяется учение о грамматике и лексике классического арабского языка» (Габучан 1990: 39), признававшегося арабами священным и единственно правильным из всех языков мира. 4.6. Нельзя не сказать несколько слов и об общетеоретических вопросах, которые рассматривались арабами, прежде всего о теории происхождения языка, которая получила наиболее интенсивное развитие в IX–XI вв. Правда, предлагаемые арабами решения не представляются оригинальными: ученые разделились на сторонников божественного происхождения языка и на сторонников возникновения его по соглашению между людьми. Первая точка зрения, обосновывавшая божественность арабского языка, наиболее хорошо согласуется с основным каноном ислама. В.Г. Ахвледиани в статье об арабской лингвистической традиции сгруппировал все существовавшие тогда теории и выделил несколько главных решений этого вопроса: 1) арабский язык – первый на земле, создан аллахом, который и научил ему Адама; 2) арабский язык – божественное откровение, основы его были преподаны Адаму, далее – всем пророкам с соответствующими обогащениями, но лишь Мухаммеду было сообщено все богатство языка; 3) изначально язык не был божественным, но усовершенствование его произошло в результате божественного вмешательства (Ахвледиани 1981: 64). Вторая точка зрения появилась позже первой и утверждала два взгляда на происхождение языка: в результате творчества мудрецов или (что более интересно) в результате деятельности людей из нужды наименовать все окружающее. Таким образом, в XII в. в сочинении Ас-Сикийа ал-Хараси (ум. в 1110 г.) сделана попытка обосновать мысль, что язык создан всем обществом, нуждающемся в коммуникации в условиях совместного существования. Большой интерес представляют собой теоретические взгляды создателя двуязычного тюркско-арабского словаря («Дивана») Махмуда Кашгарского, творчество которого приходится на вторую половину XI в. Исследователи словаря считают, что «при решении вопроса о взаимоотношении языка и бытия, жизни его носителей автор стоял на интуитивной материалистической позиции» (Кононов, Нигмашов 1981: 132). Суммируя взгляды Махмуда Кашгарского, исследователи отмечают, что он 1) понимал язык как средство общения между людьми; 2) рассматривал язык как отражение бытия народа; 3) осознавал самобытность, равноправность и разносистемность неродственных языков и стремился выявить специфические отличия грамматического строя тюркских языков от языков арабского и иранских; 4) правильно оценивал благоприятные взаимовлияния разносистемных языков друг на друга (см. также § 5 данного раздела). Вопросы и задания 1. Какими причинами объясняется исключительное внимание арабов к изучению своего языка (в том числе инициирование этого правителями Халифата)? 2. Какие аргументы можно привести в доказательство того, что арабы создали действительно новую традицию? 3*. Какие взгляды лежат в основе противостояния басрийской и куфийской школ? 4. Назовите факторы, обусловившие особое построение грамматики арабского языка. 5*. Объясните, каким образом в арабской грамматике проявляется межуровневое описание языковых единиц. 6*. В чем состоит специфика каждой из трех частей арабской грамматики? 7. Выделите наиболее интересные и перспективные, с вашей точки зрения, проблемы фонетики, к которым обращались арабские лингвисты. 8. Какие проблемы лексикологии решались в арабском языкознании? В чем их своеобразие и сходство, по сравнению с известными вам другими лингвистическими традициями? 9. Чем обусловлена специфика лексикографических работ арабов и как она проявилась в практике составления словарей? 10. Какие точки зрения на происхождение языка существовали в арабской лингвистической традиции? Какие из положений вам представляются теоретически интересными и почему? 94 11. Как решается вопрос об отношении языка и общества в трудах Махмуда Кашгарского? Какова его позиция по вопросу о взаимоотношении между различными языками? § 5. Лексикография средневековья 5.1. Одним из существенных достижений в эпоху средневековья следует признать создание многочисленных словарей, которое самым непосредственным образом было связано с огромной текстологической работой, лексическими и этимологическими исследованиями. Особенно широкий размах лексикография получили на Востоке. Большая словарная работа проводилась в Византии. Создавались значительные по объему лексикографические своды различных типов. Однако современным исследователям непросто разобраться в таких сводах, включающих как разные античные источники, так и собственно византийский материал. «Яркий пример чрезвычайной запутанности лексикографической традиции – это так называемый «Глоссарий Кирилла», который уже в VI в. был введен с словарь Гезихия, а затем в «Лексикон» Фотия (VIII в.) и в Суду (X в.). Энергии нескольких поколений ученых до сих пор не удалось надежно выявить и удовлетворительно издать ядро этого переменчивого собрания» (Гаврилов 1985: 137). Самым крупным по числу словарных статей является «Гезихий» («Гесихий»), он интересен также тем, что включает множество диалектных глосс, которые возникали на территориях, имеющих смешанное население, и отражали старинные лексические различия греческого языка. Рядом со словарем Гезихия по объему глосс можно поставить словарь «Суда» (около 30 тыс. слов), который имеет огромное значение в целом для науки, исследующей греческие древности, прежде всего потому, что при его создании использовались энциклопедические источники. По содержанию византийская лексикография довольно разнообразна, к сожалению, многие словари до сих пор плохо изучены и мало изданы. Отметим, что в течение средневековья в Византии создавались сборники античных изречений и выписки из византийской литературы, лексикон синонимов глаголов, алфавитный лексикон общеупотребительных глаголов, с указанием присущей им категории переходности/непереходности (XIV в., Константин Арменопул), специальные терминологические словари (ботанические, юридические, медицинские и др.), двуязычные глоссарии (библейские, сиро-греческие, латино-греческие и пр.). Ученые, отмечая слабую теоретическую разработку словарей, все же высоко оценивают византийскую лексикографию в целом: «сохранив часть несметных словарных богатств античности, засвидетельствовав до некоторой степени и явления более позднего литературного языка, византийская лексикография влилась в грецистику нового времени» (Гаврилов 1985: 142). Без византийской лексикографии невозможно представить современные знания о греческой лексике. Распространение христианства в западноевропейских государствах стимулировало создание двуязычных словарей. Вначале это были переводы или пояснения малопонятных, а также редких слов, которые вносились прямо в тексты религиозного содержания или сопровождали их в виде словариков, затем стали создаваться отдельные глоссарии. Так, в Англии первый латино-древнеанглийский глоссарий объемом в тысячу латинских слов с переводом создается в 730 г. (Эпинальские глоссы). Также в VIII в. были составлены самый крупный древнеанглийский глоссарий (Corpus glossary), который содержал более двух тысяч слов, и Глоссарий греческих и древнееврейских слов (Клейнер 1985: 65). Собственно толковым словарем латинского языка, созданным в Англии, считается «Книга об орфографии», принадлежащая церковному писателю Беде Достопочтенному (650 – 735). В этой книге мало говорилось об орфографии в нашем понимании этого слова, в основном автор объяснял значение аббревиатур, давал числовые значения букв, приводил толкование многозначных и редких слов, пояснял, с точки зрения христианского учения, 95 предпочтительность перевода какого-то слова тем или иным эквивалентом, к некоторым словам писатель давал греческие параллели. 5.2. Довольно рано лексикографическая работа началась у арабов, что, несомненно, в первую очередь объяснялось стремлением закрепить литературную норму священного языка Корана (см. § 4, 4.4). Уникальным явлением арабской лексикографии является «Словарь тюркских языков», который создал Махмуд ибн ал-Хусейн ибн Мухаммед, родившийся (около 1029 – 1038) в Кашгаре, и потому известный как Махмуд Кашгарский. По имеющимся данным, ученый закончил работу над словарем в 1083 г. Единственный список, дошедший до нашего времени, датируется 1266 г., он хранится в Национальной библиотеке Стамбула. Труд Махмуда Кашгарского представляет собой не только двуязычный тюркскоарабский словарь, но и грамматическое пособие по изучению тюркских языков. Словарь содержит богатые сведения по этнографии, истории, географии, фольклору тюркских народов. Как само по себе обращение к тюркским языкам (а не к арабскому), так и столь широкий подход к материалу вытекает из лингвистических представлений ученого. Махмуд Кашгарский не разделяет исламскую догму об особом месте арабского языка среди других языков. «Автор ставит тюркский в один ранг с арабским и сравнивает эти два языка с двумя скакунами, равными в беге» (Кононов, Нигмашов 1981: 133). Социальными предпосылками интереса к тюркским языкам являются распространение ислама среди тюркоязычного населения, усиление тюркских племен и переход верховной власти в некоторых государствах к выходцам из тюркской среды. По мнению Махмуда Кашгарского, чтобы сблизиться с тюрками, образованным людям необходимо знать их язык, нравы и обычаи. Существенным также является положение ученого о том, что наличие тех или иных слов или выражений обусловлено укладом жизни, родом занятий, особенностями среды обитания и др., это объясняет внимание ученого к экстралингвистическим факторам. О предшественниках Махмуда Кашгарского, о традициях, которым следует автор словаря, практически ничего не известно. В науке выдвигаются разные предположения по этим вопросам, но вполне возможно, что Махмуд Кашгарский был первым, кто исследовал тюркские языки и диалекты в свете достижений арабского языкознания. При этом следует подчеркнуть, что он проявил глубокое понимание специфических грамматических и фонетических черт тюркских языков по сравнению с арабским языком. Например, он указывает на такую отличительную черту тюркских языков, как агглютинация, и на внутреннюю флексию как присущую арабскому языку, им описано явление сингармонизма, свойственное тюркским языкам, а также рассмотрены явления метатезы, редукции и ассимиляции в тюркских словах. Махмуд Кашгарский установил фонетические и морфологические различия внутри тюркских языков и диалектов и на этом основании дал их классификацию, разделив на две группы. Современные тюркологи отмечают, что, осуществляя сопоставительный анализ, Махмуд Кашгарский сделал много верных и тонких наблюдений. Он выявил регулярные и нерегулярные фонетические и морфологические различия, выделил продуктивные и непродуктивные аффиксы, описал формообразование некоторых частей речи, особенно удачно формообразование глаголов. Из словарных статей видно, что Махмуд Кашгарский осознавал факты многозначности слов и омонимии, рассматривал лексическую сочетаемость как существенный фактор для реализации определенных оттенков значения. В ряде случаев автор словаря дает этимологические справки, правда, как считают тюркологи, в основном они носят характер народной этимологии. Тюркско-арабский словарь Махмуда Кашгарского построен в соответствии с арабской лексикографической традицией: учитывается структурно-алфавитный принцип, лексика разделена на части речи – имя и глагол. Однако в содержательном отношении словарь Махмуда Кашгарского не имеет аналогов в арабской науке, как, возможно, и ни в ка96 кой другой традиции. Труд Махмуда Кашгарского представляет исключительную научную ценность и для современной науки, способствует пониманию особенностей тюркских языков того периода и дает много сведений об истории и быте тюркских народов. Сам ученый говорил так: «Я написал книгу, которая не имеет себе равной. Я изложил корни с их причинами и выяснил правила, чтобы мой труд служил образцом. При каждой группе я даю основание, на котором строится слово, ибо мудрость вырастает из простых истин». 5.3. Первый индийский словарь средневековья, дошедший до нашего времени, был составлен в V в. буддистом Амарасимхой и носит название «Амаракоша». Принципы построения этого словаря в определенной мере соответствуют тем, которые использовал в древности Яске. Вместе с тем следует отметить, что структура словаря в том виде, как она представлена в сочинении Амарасимха, становится традиционной в индийской лексикографии на многие века. Если и допускались какие-нибудь изменения в структуре более поздних словарей, то они были незначительными. Поэтому, рассматривая особенности словаря «Амаракоша», можно представить, как строились любые индийские словари. Отметим несколько таких особенностей. Словарь делился на две части, одна из них представляла собой тематически упорядоченный список синонимов, а вторая – упорядоченный по формальным признакам список многозначных слов и их толкование. Глаголы в лексикон не включались. Словарь составлялся в метрической форме, так как предназначался для заучивания. Наиболее употребительные слова не толковались, а другие объяснялись так же, как в европейских словарях. «Индийские лексиконы имеют целью дать классификацию мира, отражающуюся в лексической системе языка <...>. Ближайший аналог индийских словарей – идеографические словари современных языков» (Парибок 1981: 174). Словарь «Амаракоша» состоит из трех книг: 1) книга о небе и прочем, 2) книга о земле и прочем, 3) сборная книга. Каждая книга делится на главы, например, в первой книге две главы: «Небеса» и «Преисподняя». Главы объединяются на том основании, что включенные в них слова обозначают области, где не живет человек. Например, в первой главе «приводятся существительные, описывающие, с точки зрения традиционной индийской космографии, горний мир» (там же: 173). Такой словарь, естественно, интересен не только своим материалом, объемом каждой тематической группы, но и порядком их расположения, отражающим, надо полагать, в определенной мере аксиологический взгляд средневекового человека на мир. Так, в первую главу включаются тематические группы синонимов в следующем порядке: небо; боги; различные классы богов; демоны; Будда; последний (исторический) Будда; имена и эпитеты важнейших богов индуистского пантеона; названия их атрибутов; смысловые сферы, объединяемые понятиями «пространство» и «время», т.е. стороны света, единицы измерения пространства и времени; названия месяцев; названия небесных и метеорологических явлений; созвездия; планеты; «свет»; «день»; «ночь»; названия важнейших областей знаний и искусств (поскольку все они имеют божественное происхождение); искусствоведческие термины и слова, обозначающие психические состояния («радость», «гнев») и свойства характера (там же). Не менее интересна и вторая глава, в которую включается не только то, что связано с понятием ада и его разновидностей, но и все, что объединяется понятиями «нижний», «подземный», «водный». Представляется, что нетрудно заметить определенную смысловую целостность каждой из глав и книги в целом. В связи с этим, думается, что подобные словари чрезвычайно интересны для современных исследователей, занимающихся проблемой языковой картины мира. 5.4. В Армении первые глоссарии небольших объемов, толкующие греческие, древнееврейские, сирийские, персидские слова, появляются уже в V – VII вв., после VII в. создаются словари с алфавитным расположением слов. С Χ в. начинается бурный расцвет армянской лексикографии и до XV в. создаются самые разные словари: к произведениям отдельных авторов или к отдельным произведениям; толкующие трудные для понимания 97 слова, встречающиеся у поэтов, ораторов, грамматиков, в диалектах и в разговорной речи («Слова творческие»); двуязычные и трехъязычные словари (греко-армянский, арабо-армянский, монголо-армянский, арабо-персидско-армянский); терминологические словари философского и медицинского характера; словари синонимов; риторические словники, содержащие словосочетания и изречения, выписанные из книг и предназначенные для обогащения лексики и усовершенствования языка (Джаукян 1981: 47–49). Лексикографическая работа в Армении осуществлялась наряду с изучением многих других проблем языка. 5.5. Иначе было в средневековом Иране, где развитие лингвистической мысли главным образом было сосредоточено на составлении толковых словарей, которые стали появляться в IX в. одновременно с началом развития литературы на новоперсидском языке. Более того, интересно, что первые опыты грамматического осмысления языка (XIV в.) возникли именно в связи со словарной работой. С.И. Баевский, систематизировавший сведения о средневековых персидских словарях, выделил среди них несколько типов: толковые словари персидского языка; двуязычные словари; толковые словари к отдельным литературным произведениям или к отдельным авторам; терминологические словари (Баевский 1981: 115). Персидская лексикографическая литература огромна (многие памятники дошли до нашего времени), только толковых словарей, по известным науке сведениям, было создано более двухсот. И этому существуют свои объективные объяснения. В иранском средневековье большая часть литературы (не только художественной, но и научной, дидактической, богословской) представляла собой стихотворные тексты. Поэтическая традиция складывалась таким образом, что распространился усложненный стиль, наполненный мистической символикой, метафорами и цветистыми описаниями, что побуждало к созданию пособий, помогающих понять смысл текстов. Кроме этого, необходимо учесть, что новоперсидскому языку была присуща чрезвычайно развитая синонимия. Предполагается, что можно назвать два источника ее образования. Во-первых, арабский язык, который оказал исключительное влияние на формирование новоперсидского языка, в том числе за счет вхождения в него арабской лексики, а во-вторых, местные диалекты. Дело в том, что поэзия, особенно бурно развивавшаяся в X – XII вв., создавалась на огромной территории и, естественно, испытывала на себе в той или иной мере влияние местной лексики. О словарях IX в. известно из косвенных источников или по цитатам из более поздних словарей. Самым же ранним памятником, дошедшим до нашего времени, является «Лугат-и-фурс» – «Словарь персидского языка», составленный в Азербайджане поэтом XI в. Асади Туси. Именно в этом словаре, как считают ученые, были заложены главные принципы составления толкового словаря, которым следовали до XIV в. в основном в Иране и Средней Азии. Асади Туси ввел «разделение лексического материала на главы; алфавитный принцип, определяющий как выделение глав, так и порядок их следования; иллюстрирование толкования документированными стихотворными примерами» (Баевский 1981: 117). Алфавитный принцип Асади Туси использовал непривычным для нас образом: при построении словаря он взял за основу последнюю букву толкуемых слов. Это воспроизводило структурный принцип сборников стихов («диванов»), в которых стихотворения внутри разделов следовали в алфавитном порядке конечных букв рифм. Начиная с XIV в. вплоть до XIX в. центром персидской лексикографии становится Индия, в которой в силу исторических обстоятельств в XII–XIV вв. персидский язык стал официальным литературным языком на значительной территории. В ряде словарей персидского языка, созданных в Индии, строго придерживались принципов, изложенных Асади Туси. Однако с середины XIVв. персидские лексикографы начинают строить словник, руководствуясь первой буквой толкуемых слов, а внутри глав заголовки словарных статей следуют по разделам в алфавитном порядке последних букв. Новый принцип был принят 98 всеми последующими лексикографами. Для персидских словарей XV – XVI вв. было характерно значительное увеличение объема по сравнению с первыми словарями (примерно в десять раз) и расширение состава лексики: включались иноязычные слова, диалектизмы, разговорная лексика, фразеология. Первый опыт построения алфавитного словаря с учетом первой и второй буквы слова (по европейскому типу) относится к началу XV в. Такой принцип используется в первой части словаря «Инструмент ученых» (1419 г.), содержащей толкования простых слов. Утвердился данный принцип лишь с середины XVII в. Алфавитный принцип построения был основным в практике составления персидских словарей, но известно и отступление от него. Так, «Словарь Фахр-и Кавваса», относящийся к XIV в., построен по тематическому принципу, чем напоминает известные древние и средневековые идеографические словари. Словарь включал пять разделов: «1) то, что на небе, 2) земля, 3) растения, 4) животные, 5) то, что сделано человеком» (Баевский 1981: 120), каждая из тематических групп делится на главы также по темам. Например, в первом разделе содержатся главы об именах богов, об ангелах, о небе, о звездах и под. Однако в персидской лексикографии повторение опыта этого словаря неизвестно, здесь получили распространения иные систематизации слов. С начала XV в. толкуемую лексику группируют с учетом того, какому языку принадлежит слово (арабскому, персидскому и т.д.), или с учетом структуры толкуемых единиц, разделяя их, например, на простые слова и словосочетания (или выражения); иногда за пределы глав выносят в виде приложений фразеологизмы, метафорические выражения. С.И. Баевский в 1974 г. подготовил к изданию, прокомментировал и опубликовал факсимиле рукописи Бадр-ад-Дина Ибрахима «Словарь говорящий и мир изучающий». Ученый считает, что среди словарей XV в. данный труд выделяется своим новаторским подходом к классификации слов и оригинальностью строения. Словарь состоит их семи частей, три из них представляют собой по сути отдельные словарики, в которых обособленно толкуются арабские, тюркские и греческие заимствования. В остальные включена персидская лексика, разделенная на простые и сложные слова, особую часть составляют инфинитивы. Кроме того, словарь содержит пять самостоятельных приложений, в которых приводятся метафоры и поэтические термины, сложные слова, образованные из персидских и арабских слов, слова, содержащие одну из характерных арабских букв и др. В этом словаре демонстрируется также особая методика описания произношения слов, которая впоследствии получила широкое распространение в других лексикографических работах. Составление двуязычных словарей стимулировалось особенностями контактов персов с другими народами. Так, завоевание Ирана арабами в VII в. и утверждение арабского языка в качестве официального языка религии, управления, науки и литературы поставили перед необходимостью создания арабско-персидских словарей. Иначе складывалась ситуация в Малой Азии, где персидский язык на протяжении нескольких столетий имел самое широкое распространение (наряду с арабским), был языком придворного общества и языком поэзии, хотя сама территория с конца XI в. находилась под властью сельджуков. И только с XV в., когда сложился османско-турецкий литературный язык (окончательно на рубеже XV – XVI вв.), стали создаваться персидско-турецкие словари, цель которых была помочь тюркоязычному населению в чтении и понимании богатой персидской поэзии. Даже такие краткие сведения, приведенные о персидской лексикографии, свидетельствуют о ее серьезном развитии в эпоху средневековья и о самостоятельности в решении многих вопросов словарной практики. Персидская лексикография, особенно в раннюю пору становления, испытала влияние со стороны арабской лексикографии. Вместе с тем каждая из лексикографических традиций сохранила свои специфические черты, присущие им с самого начала словарной работы. Материалом для арабских словарей служили Коран и поэзия, для персидских толковых словарей основной базой была прежде всего поэзия, а сами словари стали своего рода учебниками литературного мастерства и сокровищницей поэтического новоперсидского языка. 99 5.6. Лексикография средневекового Китая следует древнекитайской традиции в создании словарей рифм. Причем важно отметить, что на протяжении нескольких веков составители ограничивались возобновлением старых списков рифм даже тогда, когда они уже не соответствовали действительному произношению, как, например, в XI – XII вв. С.Е. Яхонтов называет только одну книгу, в которой автор обращается к живому произношению своей эпохи. Однако это не было специальным лингвистическим исследованием. В этой книге, написанной Шао Юн (1011 – 1077), мистической по содержанию, «категории звуков <...> служат целям гадания, связываются с названиями стихий и небесных тел» (Яхонтов 1981: 229), но сама классификация звуков, сокращение количества традиционных рифм наглядно демонстрируют, что старая система рифм себя изжила. С XIII в. появляются словари рифм, в которых почти наполовину уменьшается их количество по сравнению с традиционным составом, но и они не отражают реального произношения китайского языка данного столетия, а фиксируют стандартные рифмы классической поэзии. «Однако в XIV в. появляются словари, совершенно порывающие с традицией и опирающиеся исключительно на живое произношение северного диалекта <...>. И тогда снова после очень долгого перерыва фонетика перестала быть преимущественно книжной наукой и обратилась к слышимой речи» (там же: 234). В этом же веке создается словарь рифм, отражающий господствовавший в то время северный диалект. Словари нового типа появляются в XV в. Это были фонетические словари, рассчитанные на обычного человека, который хотел бы выяснить, как пишется то или иное слово. Такие словари содержали небольшое количество иероглифов, но достаточное для записи разговорных и диалектных слов. Первый практический словарь («Обзор рифм, легкий для понимания») был создан в 1442 г. Лань Мао, вслед за ним появились и другие словари, отражающие особенности как северного, так и южного диалектов. К XVII в. относится создание словарей, в которых иероглифы расположены по смысловым частям, т.е. по так называемым ключам. Эти словари также продолжали древнюю традицию, но так как количество ключей со временем уменьшалось, то, например, по сравнению со словарем «Шо вэнь», где было 540 ключей, в средневековых словарях зафиксировано 214 ключей, которые, кстати, до сих пор приняты в Китае и Японии. Таким образом, несмотря на появившиеся в период средневековья новые лексикографические решения, в целом словарная практика в Китае не порывала со своими древними традициями. Китайская лексикография оказала влияние на развитие вьетнамской и японской лексикографии. Вопросы и задания 1. В чем вы усматриваете ценность византийской лексикографии и какие трудности испытывают современные ученые, исследуя эту область науки? 2. Охарактеризуйте первые словари, созданные в западноевропейских государствах. 3. Назовите основные отличительные черты словаря Махмуда Кашгарского. Какими социальными условиями и теоретическими представлениями автора можно объяснить создание данного словаря? Считаете ли вы этот словарь уникальным? Почему? 4. Считаете ли вы, что индийский словарь «Амаракоша» интересен для современных исследователей, занимающихся проблемой языковой картины мира? Почему? Чем? Какие еще подобные словари вам известны? 5. Какие факторы определили огромный спрос на словари в средневековом Иране? 6*. Кем были заложены основные принципы структуры толкового словаря новоперсидского языка и что они собой представляют? 7*. В какой мере основные принципы новоперсидского толкового словаря, заложенные в XI в., нашли отражение в словарях XIV в. и что нового в словарях этого и последующих периодов можно отметить? 8*. С какими словарями других языков обнаруживает сходство «Словарь Фахр-и Кавваса»? Перечислите их и охарактеризуйте. 100 9. Какие способы группировки лексики используются в новоперсидских словарях? В словарях других народов? 10. Можно ли говорить о различных факторах, стимулирующих создание двуязычных словарей? Вспомните такие словари, созданные на разных территориях, и охарактеризуйте причины их создания. 11. Какие изменения в китайской лексикографии в типах словарей наблюдаются в период средневековья по сравнению с древностью? § 6. Средневековая грамматика 6.1. Время раннего средневековья, особенно после падения Рима, характеризуется общей дестабилизацией прежних форм жизни и становлением новых государств, распространением, как на Западе, или укреплением, как в Византии, христианства. В таких условиях важной задачей является развитие грамотности и просвещения, что могло способствовать стабилизации норм языка, консолидации культурно-религиозных ареалов. Естественно, главная роль принадлежит в выполнении этих задач школе. Как известно, эпоха античного языкознания в области исследования структуры языка завершилась созданием нормативных описательных грамматик, которые стали существовать в виде самостоятельных работ. Систематическое изложение всей совокупности знаний, добытой трудами многих поколений античных ученых, было представлено в грамматиках Доната и Присциана, книги которых стали основными в обучении грамоте на Западе. Грамматика Дионисия Фракийского также не утрачивает актуальности и в качестве образцового учебника получает распространение в Восточном христианском ареале, прежде всего в Византии. В период раннего средневековья грамматика относится к дисциплинам, обязательным для освоения в школах. Так, известный «учитель Запада» – Боэций (около 480 – 524) – ввел программу образования, которая включала две части: trivium и quadrivium, составившие вместе семь «свободных искусств» (artes liberales). Trivium включал грамматику, диалектику (логику) и риторику. Quadrivium арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Все предметы были подчинены изучению теологии. Западная христианская церковь в качестве канонического языка приняла, как известно, латинский, поэтому во всех католических западноевропейских странах обучение осуществлялось на латинском языке, прежде всего по Донату. Однако следует заметить, что отношение духовенства к латинской классике было далеко не однозначным. Это объясняется известным еще со времени Римской империи противостоянием христианства и язычества. Но поскольку церковные книги и документы писались на латинском языке, постольку знание его было обязательным. Однако духовные чины, наиболее радикально настроенные по отношению к античности, порой довольно резко выступали против использования в обучении не только литературы древности, но и грамматик той эпохи. Говоря о латинском языке этого периода, нельзя забывать о том, что уже в последние годы Империи, тем более в начальный период средневековья латынь претерпела существенные изменения. Язык церковных сочинений (отчасти, чтобы быть ближе простым людям) приводится в соответствие с новыми нормами, развившимися в период раннего средневековья. По некоторым свидетельствам, это заметно, например, в переводе Библии, сделанном в IV в. монахом Иеронимом и сохранившем немало разговорно-латинских форм. С распространением католицизма «тенденция вытеснения классических образцов христианскими превращается в открытую нетерпимость к старой классической образованности» (Алисова, Репина, Таривердиева 1982: 79). Позже во Франции была сделана попытка приблизить латинский язык к классическим образцам (VIII в.), но она привела лишь к закреплению определенных норм на фоне наметившегося разрыва письменного и разговорного языка. Таким образом, латинский язык уже в раннем средневековье оказывается чужим даже среди романского населения. 101 В Византии до распада Римской империи имел хождение как греческий язык, так и латинский, который использовали в дипломатии, судопроизводстве, армии. Однако после распада Империи по мере возвышения Византии и расхождения формирующихся христианских догматов византийцы стремятся отстраниться от латинского языка. При византийском императоре Ираклии, правившем в 610 – 641 гг., официальным языком был объявлен греческий язык. С этих пор латинский язык стал преподаваться только юристам. Общее же образование осуществлялось на греческом языке, а основным учебником была грамматика Дионисия Фракийского. Исследователи отмечают, что высшее образование в Византии, как и в Западной Европе, включало освоение «семи свободных искусств (наук)»: грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку (Бабишин 1973: 13). Не надо думать, что греческий язык византийской эпохи представлял собой чистый язык классики. За время своего существования он подвергся значительным изменениям по сравнению с классическим языком. «Спецификой языковой ситуации в Византии было <...> сохранение в письменной речи сначала исключительно, а затем в меньшей степени норм литературного языка аттического периода или эллинистической литературной койне. Наряду с этой формой литературного языка продолжал развиваться устный разговорный язык (основа новогреческого языка), с трудом завоевавший более высокие сферы языкового общения» (Славятинская 1996: 11). Перед византийскими филологами в период утверждения своей государственности и православия стояла важная задача нормализации языка. Проводником нормализаторской деятельности прежде всего была школа, где в течение трех лет обучали элементарным навыкам чтения и письма, учили создавать правильные собственные тексты, истолковывать чужую речь. Большое внимание уделялось грамматическому разбору, при этом в качестве материала привлекались как античные, так и христианские тексты. «Любопытной разновидностью учебного разбора текста была схедография, в которой элементарный грамматический анализ обогащался сведениями, касающимися этимологии (словопроизводства), синонимики, тематически подобранной лексики, орфографии, а также энциклопедическими элементами» (Гаврилов 1985: 131). Античные грамматики, возможно, в силу того, что их стали использовать теперь на первой ступени в овладении грамотой, подвергались значительному сокращению материала и доведению его до самого необходимого объема сведений. Кроме того, изменение статуса грамматики, утрата ею исследовательской сферы в период раннего средневековья, переход в область школьного обучения поставили перед необходимостью создания сопутствующих комментариев и усовершенствования методики обучения. В западноевропейских странах такие комментарии были вызваны также существенным различием канонических и народных языков. В Византии их необходимость была обусловлена постепенным, но все усиливающимся расхождением позднеантичного языка с византийским. Грамматическое комментирование текстов получило широкое распространение в средние века. В ряде случаев это были небольшие пояснения, как, например, в Византии, когда делались вставки на народном языке, хотя имелись и более обширные комментарии. Иногда эти комментарии разрастались до нескольких страниц, как, например, Даремские глоссы к Присциану (XII в.), известные в Англии. Все чаще, чтобы сделать более доходчивым учебный материал, начинают создаваться грамматики в вопросно-ответной форме – грамматики-диалоги. Известно, что при этом вносились изменения в формулировки грамматических понятий по сравнению с теми, которые были даны у античных авторов. Например, исследователи, занимавшиеся трудами Алкуина (753 – 804) – известного английского философа, поэта и педагога, отмечают в его диалогах целый ряд таких уточнений. Подобные грамматики-диалоги были очень популярны в Византии, уже в XI в. они не воспринимались как новость и закрепились особенно в обработках Мосхопула, Мануила Хрисолора, Димитрия Халко[ко]идила и др. (Гаврилов 1985: 135). 102 Прагматическая направленность византийских грамматистов на обучение нормам традиционного литературного языка обострила внимание к орфографии и орфоэпии, что вызвало к жизни значительное количество орфографических сводов, хотя далеко не всегда должным образом упорядоченных. Задачам обучения было подчинено и внимание к другим разделам языка: морфологии, синтаксиса, лексики. Составители морфологии, например Иоанн Харак (VI в.) и Георгий Хировоск ( IX в.), в качестве образца принимали позднеантичные «Каноны» Феодосия Александрийского, сопровождая их значительными комментариями. Первым византийским синтаксистом считается Михаил Синкелла (VIII – IX в.), вопросов синтаксиса касался и Григорий Коринфский, известный также как Пардос (около 1070 – 1156). Но, по-видимому, о серьезных достижениях византийских грамматистов, по сравнению с античными, говорить не приходится, хотя материалы, содержащиеся в их трудах, представляют огромный интерес для греческого языкознания. Знаменательное явление западноевропейской средневековой лингвистики представляют собой переводы канонических текстов и грамматик на родной язык. Интересна в этом отношении работа английского аббата Эльфрика (955 – 1020), который написал первую латинскую грамматику на древнеанглийском языке. Побудительные мотивы этого труда были, в принципе, теми же, о которых говорил Эльфрик, когда переводил «Книгу Бытия», «Пятикнижие» и сочинения отцов церкви: переводы «предназначаются для простых людей, которые знают только язык своих предков» и «не употребляют слов малознакомых, но лишь слова из обиходного языка» (цит. по: Клейнер 1985: 69). В предисловии Эльфрик пишет, что он переводил отрывки из Присциана, но, как показывают исследования, его грамматика содержит и множество заимствований из Доната. Вместе с тем книга Эльфрика интересна не только тем, что в ней искусно излагались учения римских авторов и что она помогала овладеть латинским языком человеку, делающему первые шаги в освоении грамоты, но и тем, что в ней содержались собственные рассуждения ученого, уточнения грамматических понятий, перевод латинских терминов на английский язык, иллюстрации из родного языка. В книге Эльфрика «находим достаточно оригинальных рассуждений, позволяющих считать ее самостоятельным, хотя и компилятивным научным сочинением» (там же: 74). Таким образом, в течение раннего средневековья вплоть до начала периода позднего средневековья основные усилия грамматиков были направлены на укрепление и поддержание языковых норм и грамматической культуры. Одновременно с этим шло постепенное освоение грамматического канона и, надо полагать, подспудно готовилась его интерпретация по отношению к родным языкам. Особо следует подчеркнуть значение византийской филологии для понимания процесса преемственности лингвистических традиций. Для истории языкознания византийский период важен прежде всего тем, что «содержит материал, позволяющий наблюдать неповторимые обстоятельства, в которых многие эллинские достижения были в различном объеме переданы окружающим народам и превратились в явление глобальное» (Гаврилов 1985: 156). Если же сравнивать византийское языкознание со средневековым Западом, то надо сказать, что преимуществ не наблюдается ни в той, ни в другой традиции, каждая из них имеет свои достоинства и слабости. 6.2. В эпоху позднего средневековья, как и в раннесредневековый период, теоретические проблемы, важные для развития магистральной линии лингвистики, по-прежнему остаются частью богословско-философских размышлений. Но есть и существенное отличие от предшествующего периода. Оно связано с утверждением логических идей, которые стали проникать в сугубо лингвистические работы в виде комментариев к античным грамматикам. И наконец, в этот период были созданы университеты, сыгравшие выдающуюся роль в развитии науки. Поэтому чтобы понять, каким образом произошло формирование нового подхода к грамматике, отличного от того, который был характерен для раннего средневековья, необходимо рассмотреть все три составляющие, которые в конце концов приведут к зарождению новой модели грамматики. 103 Вначале обратимся к проблемам языка, которые рассматриваются богословами. В Западной Европе еще с XI в. начала развиваться схоластика, которая стремилась дать теоретическое обоснование религиозному мировоззрению, именно в схоластике было провозглашено, что философия должна быть служанкой богословия. В рамках схоластики получила развитие дискуссия о природе общих идей, или общих понятий (универсалий), начало которой было положено в трудах отцов церкви, писавших об основных христианских догматах – о сущности Троицы и акте Творения. У восточной религиозной мысли, несмотря на все ее богатство, не было своей схоластики, православное богословие «никогда не вступало в союз с философией с целью построения «научного синтеза» <...>. Церковь всегда вполне свободно пользуется философией и другими науками с апологетическими целями, но она никогда не защищает эти относительные и изменчивые истины, как защищает непреложную истину своих догматов» (Лосский 1991 а: 162). В греческой патристике, легшей в основу православия, утверждалось, что сущность Бога превыше идеи: «Он – Бог свободный и Личный, Который все творит Своей волей и Своей премудростью; идеи всех вещей содержатся в этой Его воле и премудрости, а не в самой Божественной сущности. Следовательно, греческие отцы равно отказались как вводить умозрительный мир во внутреннее бытие Бога, так и отделять его от мира чувственного» (Лосский 1991 б: 286). Иначе говоря, согласно учению Восточной Церкви, идеи не являются вечными причинами сотворенных Богом вещей. В своих истоках схоластический спор об универсалиях восходит к учению св. Августина (354 – 430) об идеях, которые содержатся в самом бытии Божием, в Его сущности до сотворенных Им вещей. Эти взгляды претерпели множество интерпретаций, развивались, приобретали наслоения различных философских и теологических идей. Существенными для развития схоластики стали изучение трудов Аристотеля, особенно после того, как был переведен весь «Органон» (XII в.), и знакомство с трудами арабоязычных мыслителей, переведенными на латинский язык. Отметим, что материалистические идеи Аристотеля соответствовали духу времени. В эпоху становления городов появился интерес к развитию прикладных и естественных наук. Рационалистическая струя философии Аристотеля противоречила тем канонам церкви, которые основывались на учении св. Августина и были созвучны идеям Платона. Вначале церковные власти пытались ввести запрет на изучение трудов Аристотеля, что, однако, не принесло успеха. Единственным выходом было приспособить учение античного мыслителя к нуждам церкви. Так и случилось: «христианское вероучение нашло себе опору в Аристотеле. Стагирит оказался в известном смысле канонизированным» (Попов, Стяжкин 1974: 136). Важнейшая роль в этом принадлежит высшему авторитету католичества Фоме Аквинскому (1225 – 1274), который осмыслил учение Аристотеля с христианских позиций, объяснил материалистические элементы, привлекая идеи Творения и Божьей сущности, и в целом закрепил идеологию ортодоксального католицизма. Между тем важно и другое: по сути «канонизация» Аристотеля еще в большей мере, чем раньше, способствовала распространению его идей. Для лингвистики это означало сближение логики и грамматики и возникновение новых теоретических проблем. Вместе с тем увлечение теориями Аристотеля не вело к забвению учения Платона, которое было давно освоено теологами. Особую актуальность в споре об универсалиях приобретает мысль Платона о существовании «идей» как отдельных сущностей. Противостояние различных течений внутри схоластики было обусловлено, помимо прочего, и тем, какому из античных философов отдавали предпочтение теологи. Вопрос о природе общих идей, или понятий, который стоял в центре схоластики, дискутировался в течение пяти столетий. Если рассматривать его в аспекте лингвистических интересов, то можно сказать, что по сути это был вопрос о природе «родов» и «видов» (абстрактных понятий), об их отношении к единичным (конкретным) вещам, к человеческой мысли и, соответственно, к именам. В решении данного вопроса определилось 104 два направления: реализм и номинализм, каждое из них имело множество оттенков в различных учениях, описывать которые здесь вряд ли уместно, поэтому отметим только самое существенное. Реалисты утверждали, что общие понятия («роды» и «виды») существуют реально и представляют собой духовные сущности (идеи) в Божественном разуме. Но одни из них считали, что общие понятия существуют до вещей и вне их, а другие полагали, что общие понятия проявляются в единичных вещах. Соответственно, всем словам, обозначающим не только конкретные предметы, но и общие понятия, отвечают реально существующие вещи. Таким образом, была провозглашена реальность абстрактных понятий: «реальностями оказались и справедливость вообще, и качество вообще, и количество вообще» (Попов, Стяжкин 1974: 147). Другими словами, реально существует все, чему есть имя, слово. Рациональное зерно в рассуждениях реалистов есть, оно состоит прежде всего в том, что было обращено внимание на природу абстрактных (общих) понятий, но попытка вывести их непосредственно из чувственной реальности наивна. Например, когда Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) утверждал, что «человеческий род реален независимо от слагающих его индивидуумов и «до них»» (Реферовская 1985: 252), тогда он, конечно, ошибался. Но он был прав, когда утверждал, что человеческий род (человечество) – это реальность, отличная от реальности отдельных индивидуумов. Номинализм в крайнем своем проявлении был обоснован Иоанном Росцеллином (1050 – 1112), который считал, что действительным существованием обладают лишь единичные вещи, а общие понятия – это только слова, вне языка они не соответствуют ничему реальному. Имена вещей существуют только как «колебания голоса» (Новоселов 1983: 440), т.е. общим понятиям в целом отказано в онтологической сущности. Таким образом, если обратиться к приведенному выше примеру, то, с точки зрения Росцеллина, надо признать, что весь мир полон индивидуумов и кроме них ничего в мире нет, а человечество – это только слово, которое не обладает реальностью. Росцеллин был подвергнут критике как реалистами, так и умеренными номиналистами, или концептуалистами. Среди последних прежде всего следует назвать Пьера Абеляра (1079 – 1142), который признавал, что единичные вещи реальны, но не считал, что общие понятия являются только словами. Абеляр выдвигает свою идею общих понятий, или универсалий. Суть ее состоит в следующем: ни вещи, ни слова не универсальны, универсально высказывание (предложение, выражение, речь), в предложении нельзя одну вещь приписывать другой, а можно только сообщить нечто общее. По Абеляру, свойство универсалии «заключено в концептах, под которыми понимаются не слова <...>, а смысловые значения слов, относящиеся к множествам вещей. Но в таком случает уже нельзя изображать концепты лишь как чисто субъективные конструкции ума. Значения слов, заключающие в себе универсальность, имеют своей основой соответствующие свойства индивидуальных предметов» (Попов, Стяжкин 1974: 156; выделено мною. – Т.С.). Заметим, что, обращаясь к вопросу о природе универсалий, Абеляр нередко высказывался не совсем ясно и точно, поэтому впоследствии подвергался различным истолкованиям, не все устраивало в учении Абеляра и католическую идеологию. Но его теория концептов, обнажившая наличие «мыслимого» (значения) в его отношении к миру действительному, оказалась жизнеспособной и внесла существенный вклад в развитие логико-философского подхода к языку. «Ангельский доктор» Фома Аквинский, со свойственной ему способностью соединять несоединимое, дал ответ на вопрос о природе универсалий, вполне устраивающий католическую церковь. Фома Аквинский примирил положения реалистов и номиналистов и выделил три разновидности общего, est triplex universale: 1) находящиеся в Божественном разуме и существующие до единичных вещей, 2) существующие как общее в самих единичных вещах, 3) существующие в разуме человека как следствие обобщения. Однако стройная, с точки зрения католической церкви, теория Фомы Аквинского не разрешила вопрос о природе универсалий. 105 Таким образом, даже это краткое изложение показывает, что в споре реалистов и номиналистов затрагивалась фундаментальная проблема соотношения действительности – мышления – языка. Существенно, что это побудило к размышлению о значении и употреблении слова, о роли слов в предложении и об отношении предложения к мысли, об истинности и ложности предложения, о специфике значений, выражаемых отдельными частями речи, и др. Оценивая спор о природе универсалий с точки зрения тех результатов, которые получила лингвистика, следует признать, что открылась широкая область лингвистических исследований – семантика слова и предложения. 6.3. В эпоху позднего средневековья происходят существенные изменения в интеллектуальной жизни общества. В XII – XIIΙ вв. возникают новые центры культуры и образования – университеты. В отличие от бывших ранее школ, где учитель учит, «стоит» над учеником, университет – совершенно новая обитель учености: «свободная корпорация учителей и учеников, магистров и студентов» (Рабинович 1991: 36), вырабатывающая вполне самостоятельно, хотя и под присмотром церкви, собственные правила и уставы. Дух социального демократизма сочетался в университете с жесткой регламентацией обучения, направленного «на овладение мастерством учить, в ходе которого из ученика сделан, выпестован учитель, способный уча учиться – docende discere. Раздельно, конечно: учить и учиться. Учить Смыслу и учиться Смыслу же» (там же: 40). Учителя и ученики погружены в текст, их прежде всего интересуют слова, а не вещи, они обращаются со словами как вещами ради постижения сокровенного смысла – так формируется определенный тип средневековой культуры и средневекового ученого, принимавшего превыше всего Священное Писание, стремившегося к постижению его смысла, ибо только так могут быть постигнуты тайны бытия. Существенно, что в университетах, помимо семи artes liberales, начали изучать теологию, право и медицину. Движущей пружиной механизма средневековой учености стала логика (или диалектика). Пьер Абеляр, цитируя Августина, подчеркивал, что логика – «дисциплина дисциплин, она учит учить, она учит учиться, в ней рассудок обнаруживает себя и открывает, что он такое, чего хочет, что видит. Она одна знает знание и не только хочет, но и может делать знающим» (цит. по: Рабинович 1991: 31). Обучение мастерству рассуждать – вполне осознанный метод средневековой учености. С созданием университетов возобновляется интерес к латинским авторам, хотя отбор их своеобразен. Некоторые античные писатели (например, Ливий, Лукреций) оставались неизвестными, другим текстам («Germania» Тацита, стихам Катулла) почти не уделялось внимания. Однако почитали и часто цитировали Вергилия, Овидия, Марциала, Сенеку, Теренция, Плиния Старшего и др., риторику изучали по Цицерону. Составлялись антологии античных авторов, создавались краткие глоссы, комментарии к древним текстам. В университеты съезжались студенты из разных стран Европы. Определенное уставами университетов деление на группы по национальной принадлежности (немцы, французы, норманны и др.) во главе со своим управляющим не мешало интернациональному единству ученого сословия, владеющего единым международным языком – латинским. Вместе с тем именно в это время было ясно осознано, что узус средневекового латинского языка как средства живого общения в культурном мире Европы существенно отличается от норм классической латыни, особенно в произношении и словоупотреблении, меньше – в грамматике. Есть мнение, что именно осознание этих различий повлекло широкое комментирование античных грамматик (Ольховиков 1975: 168). Таким образом, университеты стали центрами средневековой научной жизни, из которых распространялись по всей Европе интеллектуальные достижения (как бы мы ни оценивали их сегодня), родившиеся в их стенах, что консолидировало ученый мир, объединенный, помимо прочего, и общим языком общения, на котором писались трактаты, охватывающие самые различные проблемы. 106 Лингвистические традиции любой страны отражают в своей истории как общие тенденции времени, так и специфические для данной страны особенности. Бывают и такие лингвистические традиции, которые какими-то чертами вовсе не вписываются в свое время. К таким исключительным явлениям можно отнести лингвистическое наследие средневековой Исландии, в которой вся языковедческая литература XII – XIII вв. написана на родном, а не на латинском языке. Корни этого феномена лежат в истории Исландии и в особенностях ее христианизации (1000 г.), которая произошла совсем не так, как в других западноевропейских странах. Суть этих особенностей состояла «не столько в том, что новый культ был принят в Исландии добровольно в результате компромисса на альтинге между язычниками и христианами и поэтому язычество не было искоренено, сколько в том, что в Исландии тогда и не было силы, которая могла бы его искоренить, не было ничего похожего на государственный аппарат, т.е. не было государства» (Стеблин-Каменский 1970: 202). Поэтому христианство не нарушило связи с язычеством, а родной язык не рассматривался христианскими священниками как «неправильный». К середине XIII в. относится грамматический трактат, написанный Олавом Тордарсоном (1212 – 1259). Трактат представляет собой переложение грамматик Присциана и Доната, но интересен он прежде всего тем, что в нем содержится «первое сравнительно полное описание исландского языка» (Кузьменко 1985 б: 95). Олав пытается обнаружить в исландском языке все категории, которые есть в латинском и греческом, начинает с описания букв, дает сведения о руническом алфавите (предполагают, что здесь им используются сведения из более раннего трактата), затем описывает части речи, причем обозначает их исландскими терминами. Ученые считают, что это было сделано впервые в исландской грамматике. По-видимому, грамматика в Исландии «считалась частью скальдической поэтики» (там же: 96), поэтому неудивительно, что во второй части Олав описывал основные приемы поэзии скальдов, т.е. вторая часть не являлась собственно грамматической, но в ней сделано немало лингвистических наблюдений, в том числе даны сравнения некоторых звуков исландского языка с датским и немецким. В целом трактат Олава Тордарсона не отличался особой самостоятельностью, однако он, безусловно, интересен уже тем, что был написан по-исландски, предвосхитив собой пока еще далекое будущее становления национальных грамматик. 6.4. Западноевропейская лингвистическая мысль с XII – XIII вв. испытывает существенное влияние со стороны диалектики (логики), авторитет которой возрос благодаря освоению работ Аристотеля. Отметим также, что грамматика, занимавшая ранее главенствующее положение среди семи свободных наук, в университетах уступает приоритет логике. Теперь сама грамматика, как и любые другие науки, нуждается в логических методах обоснования. Простое описание языковых фактов на фоне строгой логики, по-видимому, перестает удовлетворять ученых. Они стремятся использовать логические методы доказательства при изложении грамматических понятий, что меняет привычный облик грамматики и по сути прокладывает путь к новой, объяснительной, грамматике. Осуществлялось это прежде всего в рамках все тех же комментариев к латинским грамматикам, которые были известны и в более раннюю эпоху. Исследователи этого периода в развитии грамматической мысли говорят, что они еще далеки от полного его описания, поскольку многие грамматические тексты до сих пор не изучены и даже мало изданы. Первая из достаточно хорошо изученных попыток дать в новом свете полный и систематизированный комментарий к Присциану была сделана Петром Гелийским (XII в.), преподававшим в Парижском университете. В своих комментариях ученый систематизировал взгляды предшественников, в соответствии с новыми веяниями дополнил или заменил логическими определениями ряд положений Присциана, при этом, с одной стороны, он стремился не растворить грамматику в логике, с другой – отобрать те аспекты логики, которые важны для грамматики. Исследователи отмечают, что «многие его определения скорее явно индуктивны, чем логически дедуктивны; в об107 щем он принял основные определения Присциана» (Грошева 1985: 224). И все же работа Петра Гелийского во многом интересна, в том числе и как свидетельство начального этапа в изменении взгляда на грамматику. Это видно из данного им определения грамматики, в котором ученый характеризует ее одновременно с двух сторон – как искусство и как науку. Искусство грамматики он видит в том, что «ее самые существенные принципы будут следствием человеческого выбора, а не безличной необходимости» (там же: 225), как это наблюдается в естественных науках. Рассматривая грамматику как науку, Петр Гелийский исходит из того, что грамматика основана на строгих правилах. Именно с данным пониманием (как утверждал еще в середине XX в. исследователь его творчества – Р. Хант) связано то, что средневековый ученый стремился обосновать закономерности в употреблении языковых явлений. Сама по себе эта двойственность в характеристике грамматики говорит о том, что лингвистическая мысль находится лишь на пути к новой грамматической проблематике. Вместе с тем комментарии Петра Гелийского в немалой степени способствовали формированию в XIII – XIV вв. так называемой концепции философской грамматики, отраженной в теории языка более позднего времени как концепция всеобщей, или универсальной, грамматики (Ольховиков 1985: 103). В ряде работ XII в. большое внимание уделяется синтаксису, где логический анализ получает наиболее удачную реализацию. Изучается, конечно, синтаксис латинского языка, так как латинский язык к этому времени уже воспринимается как идеальный (универсальный) язык. Наметившийся крен в сторону изучения синтаксиса привел к еще более тесной связи грамматики с логикой. Здесь стоит учесть, что одним из основных предметов логики являются высказывания, их истинность или ложность. Вспомним хотя бы определение, данное логике в анонимном трактате «De intellectibus», вышедшем из школы Абеляра: логика – наука о речах, то есть о выражении мыслей в словах, она делится на три части – учение о словах, не связанных между собой, учение о предложениях и учение о силлогизмах (Попов, Стяжкин 1974: 153). Следовательно, такое понимание логики, с одной стороны, и использование логических методов в грамматике, с другой, приводят к образованию сферы общих интересов – к постановке семиотических (семантических) проблем языка. Примечательно, что логический анализ языка был воспринят многими «как инструмент для разрешения многочисленных «запутанных» философских проблем, в том числе проблемы универсалий» (Ольховиков 1975: 167), при обсуждении которой, как говорилось, теологи погрузились в сложные проблемы семантики. Таким образом, в центре лингвистической мысли периода позднего средневековья оказываются семантические проблемы. В решении вопросов логической семантики значительных успехов добился Петр Испанский (1210/20 – 1277), ставший под конец жизни папой Иоанном XXI. Петр Испанский решает несколько существенных проблем, и самой главной из них, возможно, является проблема значения. Для истолкования значения ученый использует три термина. Первый из них significatio – ‘значение’, которое он понимает как символизацию вещи посредством звукообразования, причем сигнификация – это постоянный для всех контекстов семантический компонент. Сигнификации противопоставлена суппозиция (suppositio), представленная несколькими разновидностями. Под этим термином скрывается не совсем ясное понятие: в одних случаях приводимые автором виды суппозиции и примеры трудно однозначно интерпретировать, в других – речь может идти о синтаксической функции слова или о семантической возможности использования слова в частных значениях. Например, в предложении Сократ – человек слово человек стоит в персональной суппозиции, потому что, будучи сказуемым, оно охватывает всех, кто может быть назван этим словом, а в предложении «Человек» состоит из семи букв слово человек называет само себя и относится к материальной суппозиции и т.п. Третий термин, который вводит ученый, – апелляция (appellatio), им обозначается отношение слова к реально существующему объекту, т.е., говоря современным языком, речь идет о референции. 108 Петр Испанский выдвигает идею взаимосвязи слов в речевых конструкциях и дифференцирует контекстуальные явления, выделяя сужение, расширение и распределение объемов термина. Например, использование прилагательного белый сужает объем термина человек. Расширение термина человек можно проиллюстрировать предложением Человек может летать. Процедура распределения термина обычно достигается с помощью добавления к нему квантора «всякий», как говорят современные исследователи, – квантора всеобщности, например, Всякий человек – животное (Попов, Стяжкин 1974: 192). Интересным является обращение ученого к структуре слова: он выделяет в словах главное значение, которое реализуется в корнях, и сопутствующее значение, которое передается аффиксами. Однако отметим, что, как и другие ученые его времени, Петр Испанский еще не умел правильно выделять корень и аффиксы. Но здесь все же важнее то, что он верно определил смысловую нагрузку этих морфем в слове. Ученый делает попытку, правда, не достаточно четкую, разграничения логического и грамматического определения предложений. По-видимому, благодаря своему многогранному пониманию значения Петр Испанский обратил внимание на то, что грамматически тождественные конструкции могут иметь различную интерпретацию в речевом общении, т.е. обратился к понятию речевого смысла. Исследователи отмечают, что «поскольку труд Петра Испанского преследовал ограниченную цель, которая касалась формализации латыни для нужд логики и диалектики, автор сосредоточил свое внимание на довольно скудном наборе форм и конструкций латинского языка» (Грошева 1985: 240). Однако нельзя не признать, что ученому удалось выделить широкий спектр проблем, многие из которых до сих пор решаются в логической семантике. Концепция Петра Испанского нашла последователей среди ученых, которые стремились к описанию сопряженных категорий языка и мышления. В целом же к такому описанию шли многие ученые, идея, как говорится, витала в воздухе. Так, современник Петра Испанского Роджер Бэкон (около 1214 – 1292), профессор Оксфордского университета, писал, что словесными выражениями управляют правила, которые содержатся в структуре интеллекта. Именно эти правила являются основным объектом изучения для логиков и грамматиков (Ольховиков 1985: 112). Р. Бэкон подчеркивает, что данные правила универсальны, они применимы ко всем языкам, так как логические формы мышления едины для всех. Именно они проявляют себя в грамматике. 6.5. Создание теоретической универсальной грамматики принадлежит грамматической школе модистов. Школа модистов формируется во второй половине XIII – начале XIV в. в Парижском университете. В качестве исходного положения модисты принимают идею о том, что грамматика должна быть единой для всех языков. Поэтому в основание своей теоретической грамматики они положили универсальные принципы, т.е. модусы значения (отсюда и название школы). Модусы значения – это звуковые корреляты свойств вещей, или иначе, – способы выражения идей, которые являются результатом осознания предметов внешнего мира. Так, одна и та же «вещь» может иметь различные свойства, соответственно эта «вещь» может быть задумана и выражена различными модусами. Например, страдаю, страдание, страдающий соответствует одной и той же «вещи» (Ольшанский 1985: 107), которая выражена различными модусами. Свойства вещи, лежащие в основе модуса значения, могут реально принадлежать вещи или вовсе не принадлежать ей. Однако, с точки зрения модистов, устанавливать особенности свойств вещей не дело грамматики. Для грамматиста утверждения типа категорическая шапка и черная шапка ничем не отличаются (там же: 108). Определять правильность/неправильность высказывания – дело логики, а не грамматики. Таким образом, модисты разделяют задачи грамматики и логики: с помощью логики достигается истина и знание, а с помощью грамматики – возможность выразить и передать словами знание. Обратим внимание на общетеоретическое представление модистов о 109 языке, для них язык – это лишь способ словесного выражения мыслей. Грамматика изучает свойства вещей абстрактно, главное ее понятие – модусы значения, которые можно интерпретировать еще как грамматические категории. Модистов не интересует слово в его реальном значении, их интересует слово как носитель частеречной принадлежности, т.е. как предмет грамматики. При этом подчеркнем, что сами грамматические категории, определяемые посредством модуса значения, рассматриваются только как означаемое, безотносительно к означающему. Очерчивая область грамматики, модисты считали, что «грамматическому изучению языка предшествуют исследование форм бытия вещи, изучаемых метафизикой, и исследование способов понимания этих форм, изучаемых логикой» (Даниленко 1988: 112; подчеркнуто мною. – Т.С.). Следовательно, грамматика включается в область спекулятивной (т.е. теоретической, не обращенной к опыту) философии. Отсюда вытекает несколько существенных отличительных ее черт. Во-первых, философская грамматика порывает связь с грамматикой, понимаемой как искусство (или техника), которая занимается изучением языковых фактов, употребленных в авторитетных текстах. Для философской грамматики тексты не являются источником знания, они могут быть подвергнуты сомнению и критике. Во-вторых, философская грамматика должна быть построена на единых универсальных принципах (модусах значения), т.е. грамматические рассуждения должны быть дедуктивными, а не индуктивными, как в грамматическом искусстве. Только так философская грамматика сможет объяснить устройство любого языка. В-третьих, философская грамматика обязана продемонстрировать методы исследования, которые позволяют выявлять логику самого языка. В этом случае можно считать грамматику наукой, тогда как, идя путем Присциана, мы получаем лишь «мнение», а не науку (Ольшанский 1985: 107). Задача грамматики состоит не в описании языковых фактов, а в их объяснении, в установлении универсальных законов языка. В-четвертых, модисты предлагают новую структуру грамматики. Если раньше в грамматику включались орфография, орфоэпия, просодия, то у модистов эти разделы были исключены. Модисты считали, что материализация модуса значения совершенно случайна. Например, случайно, а поэтому несущественно, проявляется ли какая-то грамматическая категория в виде артикля в греческом языке или в виде падежа в латинском (там же). Грамматика модистов состоит их трех частей: теоретической преамбулы, этимологии, т. е. учения о частях речи, и синтаксиса. В теоретической преамбуле рассматриваются понятие модуса значения и отличительные черты концепции философской грамматики. В этимологии описываются основные модусы значения, которые позволяют выделить восемь частей речи. В синтаксисе излагаются правила для актуализации свойств, перечисленных в этимологии. Синтаксис модистов главным образом касался связей слов на уровне всей фразы или на уровне отношений между словами. Теория модистов изложена в работах Симона Дакийского, Боэция Дакийского, Мартина Дакийского, Иоанна Дакийского и достигла своего апогея в трудах Фомы Эрфуртского. Современные исследователи считают модистов подлинными авторами первой ономасиологической модели языка: «соотнося философские категории бытия и мышления с содержательными структурами языка, они превращали эти категории в ономасиологические» (Даниленко 1988: 112). Таким образом, работы модистов представляют собой новый тип грамматической литературы в период средневековья – синтез философии и логики языка. Модисты попытались создать универсальную грамматику, пригодную для всех языков, поскольку, с их точки зрения, грамматические структуры непосредственно зависят от структуры реальности и законов мышления. Несмотря на очевидную слабость многих положений модистов, 110 следует признать их большое значение в развитии теории грамматики и в изложении общих принципов семантики. Основные идеи теории модистов получат развитие в лингвистике Нового времени. В период же средневековья им был нанесен мощный удар английским философом Уильямом Оккамом (1290 – 1349), последним значительным мыслителем позднего средневековья, многие идеи которого, правда, более связаны с эпохой Возрождения. У. Оккам предпринимает свое разделение области исследования между логиками и грамматиками. При этом заметим, что логику, грамматику и риторику он ставит в один ряд «словесных наук», которые считает практическими науками. Следовательно, с точки зрения Оккама, ни грамматика, ни логика не относятся к теоретическим, умозрительным, спекулятивным наукам. Назначение логики состоит в том, чтобы показывать, каким образом осуществляются те или иные выводы и каков должен быть вывод, если мы решились его сделать. Значит, логика рассматривает язык как явление универсальное. Грамматика же изучает особенности отдельных языков. Речь (язык) для У. Оккама существует в виде письма и в виде последовательности слов. «Это – искусственные знаки. И лишь мысли (которыми и занимается прежде всего логика. – Т.С.) являются естественными знаками вещей» (Попов, Стяжкин 1974: 178). Таким образом, в главном свойстве, которое приписано модистами грамматике, – в свойстве универсальности, Уильям Оккам ей отказывает. Вопросы и задания 1. Назовите основные задачи, ставшие актуальными в период раннего средневековья для лингвистов-практиков. 2*. В чем вы усматриваете черты сходства и различия в деятельности западноевропейских и византийских школьных учителей? 3. Как изменился статус грамматики в период средневековья по сравнению с античностью? Чем это объяснить и какие новые черты приобретает грамматическое описание? 4*. Что побудило Эльфика к переводу грамматики и в чем ценность данного лингвистического труда английского ученого? 5. Какие особенности по сравнению с восточным культурно-религиозным ареалом наблюдаются в развитии западноевропейской грамматической мысли в период позднего средневековья? 6*. Какие важные для лингвистики вопросы поднимались схоластами в их споре о природе универсалий? 7. В чем суть расхождения во взглядах реалистов и номиналистов на природу общих понятий (универсалий)? Попытайтесь оценить положения, выдвигаемые обеими дискутирующими сторонами, с точки зрения современной теории познания. 8*. Раскройте особенности организации университетов как новых центров культуры и образования, охарактеризуйте принятую в них систему образования. 9. В чем состоит специфика лингвистического наследия средневековой Исландии и какими обстоятельствами это обусловлено? 10. Чем обусловлено усиление логического аспекта в западноевропейских грамматиках позднего средневековья? 11*. Какой новый взгляд на грамматику высказывает Петр Гелийский и какие объективные причины, с вашей точки зрения, обусловили появление такого понимания грамматики? 12*. Какими факторами объясняется повышенный интерес к синтаксису в период позднего средневековья и как это сказалось на развитии грамматической мысли в целом? 13. Попытайтесь кратко сформулировать ответ на вопрос о том, что привело к выдвижению проблем семантики в центр лингвистической мысли периода позднего средневековья. 14*. Какие вопросы лингвистической семантики, поставленные и решаемые Петром Испанским, остаются актуальными в современном языкознании? Известно ли вам, как они решаются в настоящее время? 15*. Охарактеризуйте основные теоретические положения представителей школы модистов, соотнесите их с содержанием и структурой созданной ими грамматики и объясните, какие теоретические установки модистов реализовались на практике. 111 16. В чем вы видите сильные и слабые стороны учения модистов? 17. Как вы оцениваете критику У. Оккама в адрес теоретических положений модистов? § 7. Проблемы языка в эпоху Возрождения 7.1. Начало эпохи Возрождения ознаменовано социально-политической борьбой с феодальным устройством мира, зарождением капиталистических отношений, которые ведут к возникновению национальных государств и абсолютных монархий. В этот период происходят существенные изменения в средневековой идеологии, начинаются открытые выступления против официальной церкви, католических догматов и папского беспредела. Всей системе схоластических знаний начинает противостоять философская система гуманизма с ее возрождением классической древности и формированием собственных представлений о мире. Начинается эра великих географических открытий, представившая взору европейцев многообразие ранее неизвестных языков. Возрастает роль науки во всех сферах жизни. В эпоху Возрождения начинается книгопечатание, сыгравшее огромную роль в сохранении и накоплении текстовых материалов и в распространении образцов письменной речи. Все сказанное имеет самое непосредственное отношение к проблемам языка, которые возникают в последний период эпохи средневековья (см. общую характеристику в §1, 1.1. данного раздела). 7.2. Гуманизм зарождается в середине XIV в. в Италии, а затем распространяется по всей католической Европе. Основы нового мировоззрения заложил Франческо Петрарка (1304 – 1374), выступивший против пустой и болтливой, с его точки зрения, схоластики, «варварского» языка схоластических трактатов и мнимой мудрости университетов. Идеалом Петрарки стала античная культура, философия, мифология, поэзия, история. Его борьба за возрождение античности и классической латыни не только способствовала становлению новой философии, но и оказалась чрезвычайно важной в развитии филологии. Петрарка много внимания уделяет изучению античной литературы, разрабатывает текстологические методы исследования. С его точки зрения, текст должен быть объектом исторической и филологической критики, должен быть осмыслен в культурном контексте, а не использоваться в качестве источника авторитетных цитат. В инвективе «О своем и чужом невежестве» Петрарка резко выступает против культа Аристотеля, созданного схоластами. Он не может принять такую «античность», покоящуюся на одном имени, включенном к тому же в систему ненавистного ему догмата. Петрарка высоко оценивает Аристотеля, но при этом он подчеркивает многообразие и богатство классической древности, называя имена Пифагора, Демокрита, Сократа, Плотина, Порфирия, Апулея, Платона и др., среди которых, по мнению гуманиста, Аристотель занимает почетное, но строго ограниченное место. Именно к освоению этого огромного пласта культуры всем своим творчеством призывает Петрарка. С деятельностью гуманистов середины XIV – XV вв. связана смена языка культуры: «речь идет и о языке культуры в широком смысле, о стиле мышления, и о языке профессиональной философии и науки – «варварской» средневековой схоластической латыни» (Горфункель 1980: 32). В это время начинается переводческая работа гуманистов, делаются новые переводы как латинских, так и древнегреческих авторов, в том числе и Аристотеля. Переводя Аристотеля, гуманисты по сути заново воссоздавали текст, исправляя терминологию, искажавшую смысл, уточняя отдельные формулировки, тем самым Европа обретала подлинного Аристотеля. Языку схоластических трактатов противопоставлялось изящество возрожденной латинской речи. Новые переводы были встречены резко враждебно в кругу представителей старой схоластической традиции, которые увидели в этом посягательство не только на авторитет текста, известного ранее, но и на догматическую систему. Эпоха Возрождения значительно увеличила по сравнению с предыдущим периодом количество произведений античных авторов. Были переведены труды Цицерона, знако112 мившие с этико-политической проблематикой Рима и историко-философской традицией древности. Перевод «Жизнеописаний философов» Диогена Лаэртского радикально изменил характер историко-философских знаний, познакомил со многими древними авторами, неизвестными до этого времени В 1417 г. была открыта поэма Лукреция «О природе вещей». Трудно перечислить все имена: Марк Аврелий и Секст Эмпирик, сочинения Плутарха и диалоги Лукиана, в полном объеме творчество Платона и многое другое узнали европейцы благодаря деятельности гуманистов. «В XIV – XVI вв. изучение античного наследия заняло такое место в жизни Европы, которого оно не занимало ни до, ни после этого времени» (Миллер 1978: 7). Существенно также, что в это время, открыв своим современникам греческую и римскую классику, гуманисты сосредоточили внимание на художественной литературе, на поэзии, способствовали распространению поэтической теории древних и сами развивали вопросы поэтики. Это было важно в эпоху, когда складывалась европейская литература на основе национальных языков. Гуманисты не только переводили античных авторов, но и занимались текстологической работой, стремились установить объективную подлинность текста. Вместо ранее известных комментирования и истолкования текстов начинается их филологическая и историческая критика. Этот подход имел далеко идущие последствия не только для филологии. В конце концов объектом критики оказался и текст Священного Писания. К последнему неоднократно обращался Эразм Роттердамский (1466 – 1536), нидерландский мыслитель, ученый-филолог, философ и богослов. Ряд сочинений он посвящает толкованию христианского вероучения, отдельных мест Священного Писания. Эразм Роттердамский выступил против освященного веками и признанного католической церковью старого перевода Библии, сделанного Иеронимом. Обнаружив неточности по сравнению с оригиналом, Эразм сопровождает свое издание этого текста не только филологическими комментариями, но и идеологическими. Эразм перевел и издал много текстов как античных авторов, греческих и латинских, так и отцов церкви, которых гуманисты ценили за связь с античными философскими учениями, утраченную позже. О необходимости критического анализа христианских первоисточников писал приблизительно в одно время с Эразмом Роттердамским немецкий гуманист, филолог и философ Иоганн Рейхлин (1455 – 1522). К началу XVI в. гуманистическая философская мысль получает широкое распространение в европейской культуре, значительно потеснив традиционные центры схоластической науки. Во многих университетах начинают преподавать ученые-гуманисты, создаются кафедры греческого языка, начинается более широкое изучение богатого наследия античности. Со второй половины XVI в., в эпоху Реформации, католической реакции и религиозных войн, гуманизм становится «отраслью гуманитарного знания и утрачивает свое мировоззренческое значение <...>. Развитие гуманистической мысли происходит теперь вне непосредственной связи с «возрождением классической древности». Если античность и используется в гуманистической культуре <...>, то как часть общего культурного наследия, непременное условие образованности» (Горфункель 1980: 201– 202). Таким образом, эпоха гуманизма была и эпохой разрушения и эпохой созидания. Благодаря деятельности гуманистов не только значительно были поколеблены «Суммы» Фомы Аквинского и вся схоластическая традиция, но и была восстановлена подлинная связь миров, было возрождено великое наследие античности, сыгравшее огромную роль в развитии всех сфер человеческой деятельности не только в эпоху средневековья, но и в последующие века. 7.2. Важнейшим событием, начавшимся в период Возрождения, является процесс образования национальных языков, который сопровождался вытеснением латинского языка. Процесс этот длительный и в разных странах протекает по-своему, во многом находясь в зависимости от конкретно-исторических условий, в которых складываются национальные государства. Непросто обстояло дело и с латинским языком. Усилиями гуманистов возвращался язык благородной поэзии и изящной словесности древности, которым гума113 нисты восхищались и который отстаивали. Так что в XV – XVI вв. создается такая ситуация, когда в одно и то же время сосуществуют гуманистическая латынь, стремящаяся соответствовать классическим образцам, и народная латынь широкого узуса, продолжающая средневековую традицию. Но со временем латынь, ориентированная на классические образцы, претерпевает изменения. Существует мнение, что «с XVI в. слияние гуманистической и схоластической латыни приводит к образованию качественно нового латинского языка Возрождения» (Малявина 1985: 10). К этому следует добавить, что задолго до XV в. стали складываться в каждой стране свои языки на народной основе. Суммируя все сказанное, можно вообразить, насколько сложной была ситуация в период формирования национальных языков. Следует также учесть, что, помимо вытеснения латинского языка, должны были сложиться условия для образования единого языка, противостоящего диалектной раздробленности (это не означает, конечно, абсолютного исчезновения диалектов, которые, как известно, сохранились и в наше время). Этот процесс также имел свои особенности в каждой стране. Кроме того, шло создание и укрепление литературного языка на национальной основе, одно из назначений которого стабилизировать языковую ситуацию. Становление литературного языка – процесс достаточно длительный, требующий выработки критериев языковых норм, выбора наиболее приемлемых образцов с точки зрения определенных критериев и закрепления их во всех подсистемах языка и в письменной речи. Таким образом, совершенно ясно, что процесс образования национального языка, как и литературного языка, нельзя представить в виде одинаковой для всех народов линии развития, весь этот процесс в многоразличных формах растягивается на века, и каждая страна проходит свой достаточно специфический путь. В странах, где рано произошло упрочение национального государства, наблюдается ранняя и последовательная унификация национального языка, а там, где становление государства происходило медленно, дольше сохранялась присущая эпохе феодализма языковая раздробленность, многочисленные диалектные различия. В.М. Жирмунский отмечал, что во Франции и в Англии «вытеснение местного диалекта» шло более интенсивно, чем, например, в Германии или Италии, где процессы экономической и политической концентрации проходили медленнее (Жирмунский 1976: 398). Следует также учитывать то, что длительность складывания нации и национального языка не прямо связана со временем начала этих процессов. Например, в силу определенных экономических и географических причин первой страной, ставшей на путь капитализма, как раз была Италия, однако именно здесь наиболее прочно, по сравнению с другими странами Европы, латинский язык удерживал свои позиции, вплоть до XVI в., когда возникает термин «lingua italiana», заменивший название для местного языка – volgare (Алисова, Репина, Таривердиева 1982: 82). Правда, существовала латынь наряду с развивающимися народными романскими диалектами, первые памятники которых в виде отдельных строк относят к VIII – X вв., однако уже к концу XII в. появляется литература на вольгаре, а с XIII в. наблюдается расцвет сицилианской, болонской, тосканской лирической поэзии. Этот же век славен началом творчества Данте Алигьери (1265 – 1321), писавшего свои бессмертные творения на флорентийском диалекте итальянского языка. Этот диалект сыграл существенную роль в формировании литературного языка благодаря также творчеству Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо (1313 – 1375). Но в дальнейшем литературный язык складывается под воздействием разных диалектов, а уже в Новое время испытывает сильное влияние (особенно с развитием средств массовой информации) со стороны Рима как столицы государства. В Германии тенденции к образованию наддиалектной формы родного языка наблюдаются уже с XII – XIII вв., а в XIII – XIV вв. латинский язык начинает вытесняться из официально-деловой сферы общения. Постепенно ведущая роль переходит к литературно-письменной форме родного языка, который представлял собой смешанный в диа114 лектном отношении восточно-средненемецкий вариант. Данная литературно-письменная форма испытывает воздействие со стороны южно-немецкой литературной традиции. Закреплению немецкого языка способствовало распространение с середины XV в. книгопечатания. Но процесс складывания национального языка продолжается в течение XVI – XVII вв., а формирование норм современного литературного языка совершается уже за пределами рассматриваемого периода – в конце XVIII в. Из приведенных примеров очевидна постепенность процесса складывания национальных языков, а также сложные отношения, которые при этом возникают между разными языками, имеющими место на той или иной территории, и различными формами существования родного языка. Нельзя не отметить роль субъективного фактора в формировании национальных языков. Так, по-видимому, первым филологическим трудом в защиту родного языка был трактат Данте «О народном красноречии» (1304 – 1309). Данте намеренно пишет его на латинском языке, чтобы его слова дошли до самых непримиримых поборников латыни. Автор трактата отстаивает преимущество родного языка по сравнению с латынью, рассматривает различные диалекты и стремится показать, какими блистательными возможностями они обладают. Превосходство живого итальянского языка, которое усматривает автор трактата по сравнению с мертвой латынью, позволяет ему утверждать право родного языка быть языком художественной прозы и поэзии. Данте проводит мысль о необходимости создания единого итальянского литературного языка, который бы впитал в себя все лучшее, что есть в многочисленных итальянских диалектах. Интересным представляется осмысление причин, обусловливающих потребность в родном языке. Об этом пишет, например, Алессандро Читтолини в работе «В защиту народного языка» (1540). Он говорит, что технические ремесленные термины нельзя выразить по-латыни, а этой терминологией «самый последний ремесленник и крестьянин располагает в гораздо больших размерах, чем весь латинский словарь» (цит. по: Реформатский 1967: 512). Можно привести много примеров, свидетельствующих об отстаивании прав родного языка быть полноценным средством общения. Так, во Франции по мере становления монархии усиливается движение против той части образованного населения, которая попрежнему считала, что только на латинском языке можно достичь точности в изложении любых сведений. Большая заслуга в укреплении позиций родного языка принадлежит поэтам «Плеяды» и творчеству Франсуа Рабле. В 1549 г. Жоаким (Иоахим) Дю Белле (1522 – 1560) написал манифест «Плеяды» – трактат «Защита и прославление французского языка». В этом трактате звучит призыв к творческому использованию всех возможностей французского языка, которые оцениваются автором чрезвычайно высоко, призыв к дальнейшему развитию и обогащению родного языка. Это обращение было услышано не только писателями, но и учеными, богословами, а в 1539 г. появилось распоряжение короля Франции Франциска I, которое предписывало по всей территории государства пользоваться французским языком для оформления юридических документов. В целом можно сказать, что гуманисты, пробуждая интерес к родным языкам, раскрывая их ценность и подтверждая большие возможности родных языков собственным творчеством, внесли значительный вклад в становление национальных языков. Немалую роль в укреплении позиций формирующихся национальных языков, в усилении светского образования, в утрате католической церковью прежней власти сыграли деятели Реформации (XVI в.), провозгласившие право любого народа читать Священное Писание на родном языке. В связи с этим нельзя не отметить то большое значение, которое имел перевод на немецкий язык Библии, осуществленный Мартином Лютером (1483 – 1546). Мартин Лютер не только был первым идеологом Реформации, положившим начало расколу католичества, но и сыграл значительную роль в становлении норм немецкого языка. Важнейшим результатом жесточайшей борьбы, охватившей по сути всю Ев115 ропу в эпоху Реформации, стало утверждение в качестве языков богослужения родных языков, что в немалой мере вело к укреплению их положения. Этому же способствовало книгопечатание, изобретенное еще в XV в. Иоганном Гетенбергом (1394/99 (или 1406) – 1468) и получавшее все большее распространение. С развитием издательского дела стали разрабатываться проблемы орфографии. Во всех странах возникали стихийные движения издателей за создание единой орфографической нормы. Это движение нашло поддержку и среди теоретиков. Например, в XVI в. появляются трактаты Луи Мегре, в которых автор предлагает реформировать французскую орфографию, чтобы приблизить ее к произношению. Обсуждение проблем общенационального языка приводит к постановке новых вопросов: важно было сформулировать представление о социальном страте, который мог быть взят за идеал (Ольшанский 1985: 135). Все эти благоприятные факторы привели к тому, что в XVI в. начинается наиболее активная деятельность по нормализации национальных языков и по созданию их грамматик. Вначале, как правило, грамматики молодых языков создавались на латинском языке, например, такой была первая французская грамматика, которую написал в 1531 г. Жак Дюбуа (Сильвиус). Затем все чаще грамматики создаются на родном языке. Однако безотносительно к языку написания важно, что наступило время, когда четко была осознана необходимость грамматик родного языка. И хотя в качестве образца принимаются известные классические грамматики, все же создание грамматик было серьезным шагом вперед в области лингвистических исследований, который потребовал большого труда в осознании структуры и особенностей родного языка. За сто с небольшим лет лингвистика обогатилась грамматиками многих языков. Назовем лишь некоторые из них: в 1492 г. появляется грамматика испанского (каталонского) языка Антонио де Небриха (Лебриха), в 1499 г. – первая бретонская грамматика, в 1509 г. английская грамматика Дж. Колета и Дж. Лили, в 1534 г. – немецкая грамматика В. Икельзамера, в 1539 г. – венгерская грамматика Сильвестра Яноша Эрдеши, в 1568 г. – польская грамматика П. Статориуса-Стоенского, в 1571 г. – чешская грамматика Я. Благослава, в 1584 – словенская грамматика А. Бохорича, в 1604 г. – хорватская грамматика Б. Кашича и др. Создание грамматик сопровождалось обсуждением проблемы языковой нормы. Примечательным в этом отношении является «Диалог о языке», написанный в 1535 – 1536 гг. испанским ученым Хуаном де Вальдес. Автор обсуждает вопрос о необходимости создания правил хорошего слога, в качестве образца он предлагает взять речь образованных людей столицы и королевского дворца. Эта же идея, кстати, проводится во Франции в XVII в., например, с призывом отбирать слова, выражения и грамматические формы, которые бы соответствовали хорошему обычаю, выступал поэт и теоретик Франсуа Малерб (1555 – 1628). Следовательно, проблема нормы решается на основе критерия хорошего вкуса. Об этом же пишет один из создателей французского словаря Клод де Вожла (1585 – 1650). В 1647 г. он опубликовал «Ремарки (замечания) о французском языке», в которых писал, что его задача состоит в том, чтобы ознакомить читателей с хорошим обычаем в употреблении языка. Образцом такого употребления он считает королевский двор и аристократов. Интересно, что при сравнении выражений, взятых им за образец, с употреблениями вполне уважаемых авторов Вожла, находя между ними отличия в форме выражения, отдает предпочтение аристократическому языку. В середине XVII в. при выработке грамматических норм немецкого языка Ю. Шоттель ориентируется на верхненемецкий диалект, который он считает истинным немецким языком. С деятельностью Шоттеля связана борьба против засорения немецкого языка иностранными словами, прежде всего французскими. В 1677 г. в Веймаре создается общество, объединяющее людей разных сословий, которые ставили своей задачей борьбу за сохранение чистоты немецкого языка. 116 С XV в. начинается лексикографическая работа, появляются словари, в которых фиксируются новые языки, например, к 1477 г., когда Гергард фон Шурен создает немецко-латинский словарь, относят первые немецкие лексикографические пробы. Более полный немецко-латинский словарь был составлен в 1561 г. Йозуа Малером. В XVI в. появляются двуязычные словари в Англии – латинско-английский и английско-латинский. В развитии лексикографии большую роль сыграли Академии – специальные филологические центры, возникшие в Италии (1583), во Франции (1635). Одной из главных задач Академий было собрать лексический состав родных языков. Однако решалась это задача по-разному. Так, в итальянской Академии при отборе слов ориентировались на классический тосканский (флорентийский) язык, зафиксированный в трудах Данте, Петрарки, Боккаччо. Примечательно, что создатели итальянского словаря авторы дают некоторые пометы, отмечают просторечные и архаичные слова, иногда указывают греческие и латинские эквиваленты, приводят большой иллюстративный материал. Иначе решался вопрос об отборе материала во французской Академии. Авторы французского словаря ориентировались на речь высшего парижского общества и на язык лучших писателей и включали в словарь только такие слова, которые, с их точки зрения, соответствовали этому эталону. Поэтому часть французских слов в словарь не попала. Многолетний труд французских лексикографов завершился выходом в 1694 г. двухтомного словаря. Исследователи отмечают, что такой подход имел и отрицательную, и положительную стороны. Негативным следствием, которое было заложено в принципах создания словаря, является то, что ориентация на аристократическую речь приводила к вычурности и искусственности выражений. Позитивным следствием лексикографической деятельности Французской Академии «было то, что она стимулировала процесс выработки литературной нормы во Франции» (Алисова, Репина, Таривердиева 1982: 309). Таким образом, в эпоху Возрождения и Реформации происходит грандиозное событие – закладываются основы национальных языков Европы и литературных языков на национальной основе. Это стало стимулом лингвистических исследований, направленных на изучение особенностей родных языков, на описание всех уровней языка, на выработку норм литературного языка. В это время лингвистическая наука обогащается многочисленными новыми по материалу грамматиками и словарями новых языков. 7.3. В эпоху Возрождения в связи с расширением географического пространства значительно пополнились представления европейцев о языках, в связи с чем стали появляться описания вновь открытых языков. Большая заслуга в этом принадлежала миссионерам, как правило, монахам, которые создали многочисленные грамматики и словари, остававшиеся долгое время единственными источниками сведений о языках колонизированных народов. Знакомство с большим количеством языков привело к постановке вопросов о сходстве и различии языков и о причинах этого. Так зарождается проблематика о родстве языков, расцвет которой лежит в далеком от средневековья XIX в. Одним из первых, кто обратился к вопросу о родстве языков, был Данте Алигьери. В трактате «О народном красноречии» (1304 – 1309) он рассматривает известные ему итальянские диалекты, пытаясь на основе сопоставления слов разных диалектов обосновать, что эти диалекты происходят от одного и того же языка. Конечно, размышления Данте содержали, с современной точки зрения, много ошибочных представлений, хотя некоторые из его наблюдений признаются весьма тонкими и не утратившими силу до сих пор. Но самое главное, за что следует ценить эту работу, состоит в том, что она написана в то время, когда романские языки практически еще не изучались. В 1538 г. появился труд французского гуманиста Гвилельма Постеллуса (1510 – 1581) «О родстве языков», в котором автор излагал сведения об известных ему языках, выделяя среди них родственные, он насчитал всего двенадцать таких языков. В 1555 г. выходит труд швейцарского естествоиспытателя и библиографа Конрада Геснера (1516 – 1565) «О разных языках, как древних, так и тех, которые ныне использу117 ются разными народами на всей земле». Терминология, используемая автором в этом труде, конечно, не выдерживает критики, но им высказаны некоторые интересные замечания. Геснер делит все языки на «чистые», к которым относит древнееврейский, греческий и латинский, и «варварские» – все остальные языки. Среди последних выделяет «абсолютно варварские», т.е. не имеющие ничего общего с чистыми языками, и «испорченные», к которым относит, например, французский и испанский, считая их результатом вырождения латинского языка. Интересны наблюдения Геснера над германскими языками. Он указывает, что скандинавские языки составляют особую группу и имеют больше сходных черт с северо-немецкими диалектами, чем с южно-немецкими. Ученый пытается определить различные диалекты немецкого языка (швейцарский, швабский и др.) В конце XVI в. предпринимается первая попытка установить группы родственных языков. Она принадлежит Иосифу-Юстусу Скалигеру (1540 – 1609), который в 1599 г. написал «Рассуждение о европейских языках», опубликованное в 1610 г. Автор установил одиннадцать языков-«матерей» (matrices) и многочисленные диалекты (propagines). Проанализировав известные ему европейские языки, он выделил четыре большие группы: греческую, латинскую (вместе со всеми романскими), тевтонскую (германскую) и славянскую. Кроме этого, он выделил семь малых групп: эпиротскую (албанскую), ирландскую, кимрскую (бриттскую) вместе с бретонской, татарскую, финскую с лопарским, венгерскую и баскскую. Скалигер считал, что эти одиннадцать групп не связаны между собою узами родства, он даже не заметил вполне очевидного сходства между греческим и латинским словами Theos и Deus – ‘бог’. Но он, например, говорит о родстве всех языков, которые произошли от одного языка-«матери». Интересное наблюдение сделано Скалигером о разной степени родства языков внутри германской группы. Он выделяет, с одной стороны, Water-языки: язык-«мать» и нижненемецкое наречие, а с другой стороны, Wasser-языки – верхненемецкое наречие. Таким образом, им было по сути намечено различие, основанное на признаке передвижения согласных, которое будет развито в работах основоположников сравнительно-исторического языкознания Расмуса Раска и Якоба Гримма. В начале XVII в. Э. Гишар выделяет семью семитских языков, позже описание этой семьи встречаем у Иова Лудольфа (1624 – 1704). В этом же веке делает попытку сравнения славянских языков, во многом удачную, выходец из Хорватии, долго живший на Руси, – Юрий Крижанич (1617 – 1693). Систематизация языков с учетом их родства предпринималась знаменитым математиком, философом Нового времени Готфридом-Вильгельмом Лейбницем (1646–1716). Однако в данной классификации отражается уровень осмысления и систематизации родства языков, характерный для других работ рассматриваемого периода. Так, Лейбниц выделяет два семейства языков: 1) арамейские (семитские) и 2) кельто-скифские (яфетические). Второе семейство он разделяет на скифские языки (финские, тюркские, монгольские и славянские) и кельтские языки (европейские). Включение в одну и ту же группу ряда языков, на самом деле не состоящих в родстве (см., например, скифские языки), как и классификация в целом свидетельствуют о том, что время осмысления накопленного языкового материала еще не пришло. Вместе с тем важно отметить возросшую масштабность задач, поставленных Лейбницем. В частности, он писал о необходимости сравнивать все современные языки мира сначала между собой, а затем с их более ранними формами, в связи с этим он ставил вопрос о языке-предке (источнике) и языковых семьях. «Лейбниц подчеркивал важность установления границ между языками и фиксирования этих границ на географических картах – прием для того времени совершенно новый» (Амирова 1975: 260). Ученый высоко оценивал работу по созданию словарей и грамматик, считая ее важной предпосылкой в решении вопроса о классификации языков мира. Говоря об этом периоде в истории языкознания, нельзя не отметить, что многие факты можно оценить по достоинству лишь ретроспективно. Например, в XVI в. впервые итальянский путешественник Филиппо Сассети заметил сходство индийских слов с ита118 льянскими и латинскими и сообщил об этом в «Письмах из Индии», однако научных выводов из этих публикаций не было сделано, и лишь позже об этом вспомнят лингвисты. Важным явлением эпохи средневековья было накопление языкового материала не только по классическим языкам, чему много внимания уделяли гуманисты, но и по остальным древним языкам Европы. Например, в упомянутой выше работе Геснера впервые были представлены тексты древневерхненемецкого языка. В 1569 г. в работе Горопиуса Бекануса приводятся образцы готского языка – текст молитвы «Отче наш», Бонавент Вулканис в работе «О книгах и языке готов» публикует отрывки готского перевода Евангелия, рассказ о крымских готах, дает образцы скандинавских рун, выдержки из древневерхненемецких, древнеанглийских и древнеисландских письменных памятников (Жлуктенко, Яворская 1974: 117). Таким образом, в третьем периоде средневековья начинает проявляться большой интерес к различным языкам мира, классические языки утрачивают безграничный приоритет в лингвистических исследованиях, миру открывается множество языков, а вместе с этим рождается и новая лингвистическая проблематика. Вопросы и задания 1. Охарактеризуйте основные социально-политические и культурно-духовные черты эпохи Возрождения и объясните, каким образом изменения в жизни общества сказались на языковой ситуации средневековой Европы и на развитии лингвистической проблематики. 2. Выделите основные лингвистически значимые проблемы, поставленные первыми гуманистами, охарактеризуйте их и определите их роль в культурной жизни Европы и в развитии языкознания. 3. Чем обусловлена сложность языковой ситуации в Западной Европе конца периода Возрождения? 4. Какие явления способствуют формированию национального языка и какие осложнения возникают в различных государствах на этом пути? 5*. Приведите примеры трудов эпохи Возрождения, в которых отстаиваются права родного языка быть полноценным средством общения. Какими сдвигами, происшедшими в истории различных стран, они подготовлены и каково их значение, с вашей точки зрения? 6*. Какие факторы способствовали формированию проблем нормализации национальных языков и созданию национальных грамматик и каким образом данные проблемы получают практическое решение? 7*. Расскажите о путях поиска критериев нормы литературного языка в различных европейских странах. Какова роль лексикографической практики в становлении норм национального языка? Какие задачи ставили лексикографы разных стран и как их решали? 8. Какие события послужили толчком к сравнению различных языков мира и в трудах каких ученых предпринимались первые попытки сравнения языков? Оцените значение данных трудов для развития компаративистики. 9. Обобщая все сведения, определите, какие события, важные для лингвистической теории и практики, произошли к концу эпохи средневековья и каков вклад гуманистов в развитие лингвистической проблематики. § 8. Русская лингвистическая мысль 8.1. Многие проблемы исторического прошлого донационального периода еще требуют изучения, хотя учеными разных поколений сделано немало усилий по их осмыслению. В учебниках по истории лингвистических учений освещение этого периода, как правило, начинается с возникновения грамматик, т.е. с XV–XVI вв., иногда упоминается о наличии богатой древнерусской книжности. Невольно складывается впечатление, что никаких лингвистических проблем не существовало до названного периода. Интересно, что подобная ситуация обнаруживается и в истории русской философской мысли. Такая традиция сложилась, к сожалению, давно. М.Н. Громов, анализируя 119 данное состояние вопроса, пишет, что оно объясняется не скудостью древнерусской философской мысли, а ее своеобразием, ускользающим от слишком прямолинейных сравнений с иными формами философствования (западной, восточной, схоластической, возрожденческой, новоевропейской и пр.), отсутствием эффективной методологии в выявлении ее особенностей и европоцентрической направленностью исследователей. «Европоцентрическая концепция развития отечественной мысли пустила крепкие корни, господствовала в философских кругах длительное время и сохранила свою живучесть до сих пор, проявляя себя в различных формах» (Громов, Козлов 1990: 8). Представляется, что в определенной мере это объясняет и ситуацию, которая сложилась в истории лингвистических учений. Отметим, что авторы цитируемого текста высоко оценивают работы историков, филологов и искусствоведов, занимающихся этим периодом, с чем, безусловно, нельзя не согласиться. Однако, говоря о наличии определенного подобия, мы имеем в виду прежде всего ситуацию в лингвистической историографии: думается, многое из наработанного филологами и лингвистами не получило описания с точки зрения складывающейся лингвистической мысли донационального периода, требуется еще немало усилий, чтобы это было сделано. В предлагаемом ниже материале предпринята лишь попытка расширить круг сведений об этом периоде, свести воедино определенную информацию, которая сообщается, как правило, в разных дисциплинах, и поэтому не всегда осмысливается как часть лингвистической проблематики. Следует признаться, что и предпринятая попытка далека от полноты. 8.2. Прежде всего вряд ли стоит забывать о том, что первоначальное представление о слове у восточных славян, как и у других народов, складывается еще в период господства мифологического мышления. О жизни восточных славян дохристианского периода наука располагает сравнительно небольшим объемом информации. Однако благодаря усилиям многих ученых (А.Н. Афанасьева, Е.В. Аничкова, Н.М. Гальковского, В.И. Даля, Д.К. Зеленина и др. – в XIX в., Н.Н. Велецкого, В.В. Иванова, В.М. Мокиенко, Г.А. Носова, Б.А. Рыбакова, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского и др. – в XX в.) круг представлений о языческом мировоззрении значительно расширился, а реконструкция славянского язычества продолжается и в настоящее время. Возможно, наблюдаемая в науке последних лет активизация в изучении проблемы картины мира, в том числе и языковой картины мира, принесет дополнительные данные. Как известно, в дописьменный период у восточных славян господствует пантеистическое отношение к миру, одной из характерных черт которого является вера в магическую сущность слова. Следы этой веры сохранялись на протяжении многих веков и до сих пор известны, например, по дошедшим до нас заговорам, заклинаниям. «Само содержание заговоров заставляет допустить, что вера в его силу есть вера в слово» (Крушевский 1998: 44). Власть заклинателя над словом превращает слово в дело. Александр Блок, анализируя русские заговоры, писал: «Для того, чтобы вызвать силу, заставить природу действовать и двигаться, это действие и движение изображают символически. «Встану», «пойду», «умоюсь» – так часто начинаются заговоры и, очевидно, так делалось когда-то; с такими словами заклинатель входит в настроение, <...> но, очевидно, ему нет нужды воспроизводить эти действия, довольно простого слова; <...> первобытная душа не различает чисто словесных заговоров от обрядовых действий и заклинаний, как различаем мы» (Блок 1997: 21). Любопытно, что исследователи «Слова о полку Игореве» предполагают, что знаменитый плач Ярославны представляет собой типичный языческий заговор «в основной своей части (три абзаца из четырех)» (Сапунов 1962: 321). Магическое отношение к слову нашло отражение и в существовавшем в древности обычае скрывать от чужих людей настоящее имя, данное ребенку, называя его ложным именем. Мифологическому мышлению свойственно антропоморфное видение окружающего мира, которое закрепилось в различных словах и словосочетаниях, оцениваемых нами в настоящее время как языковые метафоры. 120 Выявление особенностей мифологического типа мышления – задача непростая, главнейшим его источником, как писал А.Н. Афанасьев, является сам язык. Помимо этого, в качестве материала исследования должны быть привлечены «и литературные памятники прежних веков, и современное слово, во всем разнообразии его местных, областных отличий», и фольклорные произведения (Афанасьев 1995: 13). После проникновения христианства на Русь и тем более после массового крещения начинается, с одной стороны, противостояние двух идеологий, а с другой – их синтез. Данный противоречивый процесс наблюдается и в последующие эпохи. Не учитывая всю сложность первоначального этапа формирования русской культуры, невозможно осмыслить ее особенности. Вспомним также, что, по свидетельству разных источников, которые вряд ли можно оспорить, восточные славяне, как и многие другие народы, обладали еще до принятия кириллицы особой письменностью в разных формах: в виде «черт и риз» и в виде стихийно складывающегося письма, появление которого невозможно представить без освоения фонетических особенностей родного языка. Ученые пишут и о том, что первое проникновение славянской письменности на Русь осуществлялось еще до ее христианизации, например, Г.Г. Литаврин настаивает «на отсутствии жестко детерминированной связи первого проникновения славянской письменности на Русь с распространением христианской веры», хотя и подчеркивает, что «организованное обучение славянской грамматике на Руси началось только после крещения» (Литаврин 2000: 312). На этой же точке зрения настаивает Б.А. Рыбаков. Кроме того, ученый подчеркивает, что славяне-земледельцы были знакомы с греческой мифологией и греческим языком еще в дохристианский период: «Одной из форм знакомства русских с греческим языком были торговые связи в промежуточных гаванях и в самом Царьграде, где русские «гостили» (т.е. торговали) по полугоду в год. Второй формой являлось непосредственное соседство уличей и тиверцев «иже приседяху к Дунаеви» с коренным греческим населением приморских городов» (Рыбаков 1995: 339). 8.3. Начиная с X в., можно говорить о новом периоде в развитии лингвистической мысли, связанном с распространением христианства и расцветом письменности на Руси. Нам немного известно о лингвистических взглядах восточных славян, но нельзя не отметить, что уже в «Повести временных лет» проявляется определенная осведомленность восточных славян о своем происхождении и родстве, предпринимается попытка объяснить название племен. Это стремление понять и объяснить имя нам хорошо известно из истории других народов. Напомним небольшой фрагмент из «Повести временных лет» (в переводе): «Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где ныне земли Венгерская и Болгарская. И от тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. <...> Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах; а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами; иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, которая впадает в Двину и именуется Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась «славянская» (За землю Русскую 1981: 27). Ученые, исследующие тексты памятников, пишут о том, что в них находят отражение самые первые лексикографические опыты. В памятниках Киевской Руси дается толкование малопонятных слов: либо внутри текста, либо между строк, либо по краям. Эти глоссы могли быть различными по объему (однословными и многословными), отличались они своим характером, например, приводились переводы, толкования, этимологические или сравнительно-сопоставительные рассуждения. Встречаются также примеры на разных языках, отнесенные к одному и тому же фрагменту текста, или приводятся синонимы и пояснения: «энваръ рэкомы просинэцъ, априлъ рэкомы бръзэнъ, маи рэкомыи травэнъ» 121 (Ковалик, Самийленко1985: 33). Подобные глоссы обычно предшествуют появлению словарей. Все сказанное выше вполне вписывается в общее направление развития языковедческих представлений, известных у других народов в изучаемые периоды развития лингвистики. Русская культура знает своих создателей письменности – это Стефан Пермский (около 1345 – 1396), миссионер-просветитель в землях коми, создатель азбуки для не имевшего письменности народа коми, переводчик на древнекоми ряда религиозных книг. Помимо родного языка Стефан знал греческий язык, изучил коми-пермяцкий и «книгы русскыа на пермьский язык преведе». В «Житии Стефана Пермского» его высокий духовный подвиг сравнивается с подвигом славянского первоучителя Кирилла Философа: коми хвалит и чтит Стефана «яко апостола, яко учителя, яко вожа, яко наставника, яко наказателя, яко проповедника», с которым «тмы избыхом» и «свет познахом». Стефан Пермский приобщил малый народ к развитой славянской и европейской культуре, став первым из известных нам просветителей, список которых пополнится в будущем. 8.4. Думается, что своеобразие в становлении лингвистической мысли в Древней Руси состоит в том, что она находит первоначальное выражение в практической деятельности, которая, несомненно, предполагает осмысление многих вопросов и сознательный выбор в принятии полезного решения. Кроме того, нельзя забывать о том, что в первоначальный период своего развития древнерусское государство имело тесные культурные связи с южными славянами, испытывая влияние с их стороны, воспринимая многие проблемы, волновавшие их, и в определенной мере развивая их. Первейшая из известных задач этого периода состояла в освоении кириллического алфавита и в развитии книжности, необходимой для утверждения нового мировоззрения. Это потребовало решения вопроса об образовании, причем не только о первоначальной грамоте, но и о высшем образовании, которое бы готовило людей к государственной службе во всех сферах. Необходимо также было подготовить людей, способных переводить книги и переписывать их, что требовало немалых знаний и умений. О наличии первоначального образования свидетельствует летопись, где под 1030 г. сообщается, что князь Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал «от старост и поповских детей 300 учити книгам»; запись в Лаврентьевской летописи (1037) содержит приказ князя Ярослава, повелевающего учить людей грамоте, что, как показала история, исполнялось очень исправно. «Древнерусское «книжное учение» – это название высшей школы, где преподавали науки, в характерном для того времени их византийском понимании» (Ковалик, Самийленко 1985: 29), т.е. обучали «семи свободным искусствам (наукам)» – грамматике, диалектике, риторике, арифметике, астрономии, геометрии и музыке. Уточним, что диалектика в то время понималась иначе, чем сейчас. Диалектика – это «наука о логически правильном, искусном построении речи, ведении публичного диалога, прений» (Словарь 1977: 243). Отметим, что образование на Руси нельзя полностью отождествлять с западной системой образования. Например, в восточнославянских краях не преподавались философия и богословие, «по крайней мере до конца XVI в., когда возникают на Украине и в Белоруссии первые коллегиумы, а затем Острожская и Киево-Могилевская академии. В XVII в. в Московской Руси начинается преподавание и вместе с ним конституирование теологии и философии как самостоятельных теоретических дисциплин» (Громов, Козлов 1990: 31–32). Позднее обучение таким наукам, как философия и богословие, утверждают цитируемые авторы, во многом объясняется ориентацией древнерусских деятелей на взгляды Иоанна Дамаскина, творчество которого было широко распространено на Руси и который был одним из наиболее авторитетных мыслителей для всего православного мира. Из определений философии, данных Иоанном Дамаскином, явствует, что она не рассматривается как «служанка богословия», напротив, богословие есть лишь малая часть философии – любомудрия. 122 В Киевской Руси было много высокообразованных людей: князь Ярослав, его сыновья Святослав и Всеволод, Владимир Мономах, киевский митрополит Иларион, Феодосий Печерский, Кирилл Туровский и др. К XI в. «в течение одного столетия Русь превратилась в одну из развитых цивилизованных стран Европы. Она располагала теперь собственным контингентом образованных людей не только в кругах духовенства, но и в светской среде» (Литаврин 2000: 325). Иногда в учебной литературе можно встретиться с мнением, что на Руси плохо знали иностранные языки, это вряд ли соответствует правде. Возрастающая мощь древнерусского государства, развивающиеся международные связи заставляют сомневаться в этом. Кроме того, мы располагаем историческими сведениями о греках-учителях, живших на Руси, о князе Ярославе Мудром, который сам переводил с греческого. О высокой образованности Всеволода Ярославича и знании им иностранных языков также повествуют летописи. Более того, представляется вполне убедительным высказывание А.В. Карташева о том, что «знание языков, при тогдашних широких сношениях с другими народами, требовалось не только честью русского княжеского звания, но было и в значительной степени прямой необходимостью. И среди князей, служилых и торговых людей были, несомненно, знавшие иностранные языки» (Карташов 1993: 258). Есть достоверные сведения о постоянных политических и торговых отношениях смоленских князей с прибалтийскими немцами и другими прибалтийскими народами. Известны торговые соглашения, написанные на латинском и немецких языках. Конечно, можно говорить об ограниченном количестве людей, знавших иностранные языки, но это не выходит за рамки состояния в образовании, характерного для любой европейской страны того времени. Вместе с тем есть подтверждения гораздо более высокого уровня общей грамотности в Древней Руси. Особенно это стало очевидным, когда 26 июля 1951 г. А.В. Арциховским были сделаны новгородские раскопки, которые дали ценнейший материал по истории русской письменности. К концу полевого сезона 1978 г. число берестяных грамот достигло 571. Находки относились к разновременным прослойкам, часть найденных берестяных писем-грамоток датируется XI – XII вв. Раскопки показали, что ученые столкнулись со своеобразным «архивом» частных писем, бесхитростным повествованием простых людей. Вскоре были найдены подобные берестяные грамоты и в других землях: в Витебске, Пскове, Старой Руси. Следовательно, грамотные люди не были редким исключением. Отметим, что согласно месяцеслову, 14 декабря – день Наума-грамотника, т.е. время, когда детей начинали учить грамоте. «Более удобного времени для овладения азами чтения и счета крестьянину не найти, к тому же сам покровитель этого дня народными «языковедами» напрямую связан с учением (Наум – от слова «ум»)» (Некрылова 1991: 41): Пророк Наум наставит на ум; Наум поставит на ум; Батюшка Наум, наведи меня на ум и др. Распространение грамотности сопровождалось созданием библиотек. Как известно, князь Ярослав собрал множество книгописцев, которые занимались переводами с греческого на славянский язык. Так было положено начало библиотеке при соборе Софии в Киеве, общее число книг в которой определялось в 500 томов. Дело, начатое Ярославом Мудрым, продолжалось и в последующие годы. В X – XIII вв. в обращении находилось около 140 тыс. книг нескольких сот названий (Сапунов 1978: 14; Глухов 1979: 33). В Новгороде хранительницей книг была новгородская София, существовала соборная библиотека в Полоцке. Библиотеки собирались в Киево-Печерском монастыре, в новгородском Юрьеве монастыре. Книжники монастырей составляли летописи, как правило, это было низшее духовенство (дьячки, пономари, поповские сыновья). Кроме того, по свидетельству Е.Ф. Карского, были писцы по профессии, не имевшие отношения к духовным званиям. Из-за сложной истории Древней Руси утратилось большинство памятников письменности. Например, согласно Предварительному списку славяно-русских рукописей XI– XIV вв., опубликованному в 1966 г., из 1 493 учтенных рукописей (среди них – 960 рус123 ских) за время от XI в. до монголо-татарского нашествия сохранилось 192 рукописи: 149 русских, 13 старославянских, 18 болгарских, 10 сербских и 2 не определенных (Муравьев, Сахаров 1984: 29). Не следует думать, что русская книжность – это свод книг, ограниченных сугубо нуждами богослужения. Напротив, русская книжность – это различная по форме и содержанию литература. Вспомним хотя бы библейские тексты, жития, труды отцов церкви, содержавшие, как известно, разнообразную информацию. В творениях отцов церкви, о чем уже шла речь, нашли отражение многие теоретические проблемы языка, следовательно, осваивая эти труды, человек вбирал в себя весь корпус сложных лингвофилософских размышлений. Поэтому говорить об отсутствии лингвистических знаний даже в первые века средневековья вряд ли можно, думается, именно они помогли в решении практических вопросов. К числу книг, ценных в философско-онтологическом плане, следует отнести Шестоднев, который написал Иоанн Экзарх Болгарский. Одним из древнейших списков этого памятника является сербский список 1263 г. Этот замечательный памятник староболгарской литературы получил широкое распространение на Руси. При написании Шестоднева Иоанн использовал труды Василия Великого, Севериана Гевальского, нередко он обращался к античным философам, используя имена Платона, Аристотеля, Парменида, Фалеса, Диогена, Демокрита и др. Обращается Иоанн и к авторитету Константина-Кирилла Философа. В своих рассуждениях Иоанн стремится соединить библейскую историю о сотворении мира с античными учениями о стихиях, приводит немало ценных естественнонаучных сведений по астрономии, географии, ботанике, зоологии, анатомии. Он отстаивает тезис о шарообразности Земли, правильно объясняет причину затмений, приливов и отливов, рассказывает о климатических поясах и т.д. Это произведение было включено в Великие Минеи Четии. «Как и большинство памятников Средневековья, «Шестоднев» Иоанна Экзарха отличается высокими эстетическими достоинствами, написан ярким, образным языком в торжественном строгом стиле. В нем звучит подлинный гимн Слову, его созидательной силе, весь мир уподобляется раскрытой книге, которую нужно учиться читать» (Громов, Козлов 1990: 61–62). Данный памятник, как и ряд других, свидетельствует не только о становлении определенной стилистической традиции православной книжности, воспринятой русскими писателями, но и о тесной связи, существовавшей в первоначальный период истории православного христианства, между болгарской и древнерусской культурами. Позже, как известно, часть болгарских и русских книжников будут совместно трудиться над новыми переводами богослужебной литературы (Афон, Константинополь). Оценивая вклад Византии и Болгарии в культурное развитие Руси, выдающийся русский византинист Геннадий Григорьевич Литаврин пишет, что «вклад Византии был решающим в крещении Руси и минимален – в передаче ей славянской грамоты, тогда как, наоборот, заслуги Болгарии были далеко не определяющими в утверждении на Руси христианства, но решающими – в распространении славянской грамоты» (Литаврин 2000: 316). Вместе с тем следует обратить внимание на высокую степень самостоятельности русских книжников. Так, тщательное исследование различных списков Юрьевского Евангелия позволило Л.П. Жуковской прийти к следующему выводу: «Состояние книжной культуры в начале XII в. на Руси было на таком высоком уровне, что древнерусские деятели культуры решались даже на самостоятельное перераспределение текстов богослужебных книг по известному им общему принципу и что, следовательно, древнерусская культура не шла пассивно в фарватере южнославянской письменности, но была в значительной мере самостоятельной даже в вопросах, относящихся к христианизации Руси, которые были связаны не только с общей славянской традицией, но и византийской, и даже шире – с восточносредиземноморским ареалом христианской культуры» (Жуковская 1976: 353). 124 Приобщение к культуре средневековья, к трудам отцов церкви каппадокийского кружка находит отражение в Изборнике 1073 г., созданном в киевской книжной мастерской, оригиналом для которого стал перевод, сделанный для болгарского царя Симеона с греческого протографа. Особо следует подчеркнуть, что в нем находим разъяснение ряда логико-философских терминов, толкование философско-богословских понятий (Троицы, св. Духа, воплотившегося Слова и др.), извлечения из экзегетической литературы, истории русской земли и др. Включен в Изборник и первый в русской письменности трактат по поэтике Георгия Хировоска «О тропах, или оборотах речи». Последнее позволяет утверждать, что поэтические тропы стали известны задолго до XVIII в. По свидетельству литературоведов, заметно влияние этого трактата на «Слово о полку Игореве», что лишний раз говорит о практическом освоении всего многообразия информации, которой располагал древнерусский человек. Нельзя забывать и об оригинальной литературе, созданной в эпоху Киевской Руси, первое место среди которой, безусловно, занимает «Слово о законе и благодати» Илариона, которое признается лучшим творением раннего средневековья не только в отечественной, но и в мировой литературе. «Слово» Илариона является ярким примером «эстетического способа философствования», ставшего важнейшим отличием отечественной культуры вплоть до Нового времени (Пилюгин 1985: 102). Уже с XII в. началось становление экзегетической литературы (Климент Смолятич, Кирилл Туровский), были заложены основы учительского красноречия. «Письменный литературный язык в XI – XVII веках постоянно входит в сочетания с переносимыми в него элементами устной разговорной речи. Происходит борьба и братание разных слоев языка и даже различных по своему строю языков <...>. Языку древнерусской литературы были доступны библейская образность и символика, витиеватость, простота и украшенность риторической византийской и болгарской прозы, русская народная лиричность, лаконизм летописного изложения, точность правового языка, кратчайшая энергия речей на вече» (Лихачев 1975: 7–8). С каждым веком число сохранившихся памятников увеличивается, благодаря чему мы узнаем, как расширяется жанровое своеобразие текстов, меняется проблематика, углубляется видение мира, появляются новые представления о мире и человеке. Таким образом, русской культуры вплоть до XV – XVI вв. свидетельствует о создании бесценных памятников книжности, о широком приобщении людей к грамоте, конечно, в различной степени в разные века, о восприятии общеславянской стилистической традиции и ее развитии, о значительной переводческой деятельности. Вся эта напряженная духовная деятельность требовала понимания и осмысления лингвистической проблематики. Однако лингвистические знания реализовались в практической деятельности, а не в теоретических разработках. Вместе с тем, представляется, что практическая направленность лингвистической мысли не может служить основанием для забвения этого периода в курсе истории лингвистических учений. Кроме того, по-видимому, еще много необходимо сделать, чтобы весь объем лингвистической проблематики был осмыслен. В данном же случае лишь пунктирно намечены некоторые вопросы, которые, с нашей точки зрения, не следует упускать из виду. Одним из них, непосредственно связанным с книжностью, является вопрос о языковой норме, возникающий уже в самое отдаленное время и развивающийся на протяжении веков. 8.5. Обучение грамоте, распространение книжного дела, переводческую деятельность трудно представить без знаний грамматики и без понятия о языковой норме. Независимо от того, складывается ли понятие о языковой норме стихийно или сознательно, оно, несомненно, представляет собой сложную лингвистическую проблему. О формировании и изменении представлений о книжной норме можно судить по тем особенностям, которые появились у русских писцов при переписывании, редактировании и исправлении южнославянских списков первоначального перевода. Напомним, что в это время еще сохранялись теснейшие связи южных и восточных славян. Когда начина125 лось книжное дело на Руси, в южных землях уже сложились две основные школы, различающиеся подходом к кирилло-мефодиевским переводам: Охридская школа книжности и Преславская школа. Охридские книжники старались сохранить переводы в первоначальном виде. Для преславских книжников было характерно стремление преобразовать первоначальные переводы, приспособить их к местным культурно-языковым условиям. В результате деятельности представителей этих двух школ «к концу X в. в южнославянской книжности достаточно четко обозначилось две проблемы: 1) исправлять или не исправлять первоначальные переводы первоучителей; 2) если исправлять, то в какой мере ориентироваться на структуру греческого оригинала» (Бобрик 1990: 63). Эти же проблемы возникли и на Руси. Рассматривая данный малоизученный вопрос и оговаривая предварительность своих рассуждений, М.А. Бобрик выделяет несколько периодов, в течение которых возникшие проблемы получали различное решение. Воспользуемся данной периодизацией, чтобы понять становление переводческой проблематики, а также чтобы уяснить связанные с ней особенности развития лингвистической мысли. В первоначальный период (XI – XIV вв.) переписывание текстов сопровождалось в той или иной мере переработкой их протографа. «Имеющаяся в рукописях правка отражает процесс усвоения южнославянских традиций, преодоление их и создание собственных книжных норм» (там же: 63). По свидетельству А.А. Алексеева и Б.А. Успенского, исправления могли быть мотивированы непонятностью отдельных частей текста или их двусмысленностью, ориентацией писца на привычные ему нормы живого произношения или на те правила орфографии и книжного произношения, которым он был обучен. Кроме того, степень свободы, которую проявлял писец, зависела от типа текста, например, четьи переводились с большей свободой, чем тексты служебного типа. Таким образом, в этот период при решении вопроса о норме, о правильности текста писцы ориентируются прежде всего на его понятность и доступность, которые достигаются в том числе и использованием всем известных, с точки зрения писца, грамматических правил. «Результатом конструктивной филологической работы русских книжников над инославянскими рукописями было формирование русской традиции канонических текстов и русского извода церковнославянского языка» (Бобрик 1990: 64). В XIV – XV вв. представление о норме, о правильности меняется. Связано это изменение с деятельностью общеславянских центров книжности, возникших в Афоне и Константинополе. Теперь проникновение местных элементов в текст рассматривается как его порча, поэтому предпринимаются новые редакции библейских и богослужебных книг в соответствии с греческими образцами. В названных центрах русские книжники усваивали новые принципы перевода, и отсюда исправленные списки попадали на Русь. В монастырях Москвы, Твери, Новгорода, в Троицко-Голенищеве (резиденции митрополита Киприана) создаются центры, где осваиваются и развиваются новые нормы. Следовательно, новое представление о правильности начинает связываться с верностью греческому оригиналу и с недопустимостью локальных элементов. Такое понимание привело к значительной архаизации языка, воспроизведению греческих конструкций в синтаксисе, росту лексических заимствований и словообразовательных калек. Вместе с тем, как писала Л.П. Жуковская, было преодолено разнообразие списков славянских библейских и богослужебных книг (Жуковская 1968: 238). Есть мнение, что данное представление о норме обусловлено «тенденцией к восстановлению единства славянской письменной культуры, к созданию панславянского книжного языка» (Бобрик 1990: 65). Между тем и в этот период не всюду следовали новым принципам. Так, в 1499 г. была завершена огромная работа по созданию полного свода Библии, в котором отдельные главы некоторых книг были переведены с латинской Вульгаты и с еврейских книг. Архиепископ новгородский Геннадий, под наблюдением которого выполнялась работа, понимал, что надо переводить с греческого, но в Новгороде не нашлось даже среди греков, живущих там, такого человека, который бы рискнул взяться за этот не126 легкий труд. Считается, что с латинского переводил доминиканский монах Вениамин, славянин по происхождению, хорошо знавший латынь. Затем переводы, в которых оказались латинские слова и словосочетания, были отредактированы книжниками Власом Игнатовым и Дмитрием Герасимовым, они же осуществили перевод предисловий и пояснительных статей во всех частях Библии (Верещагин 2000: 75). Геннадиевская Библия, несмотря на все трудности, которые возникли при ее составлении и переводе, была значительным явлением для своего времени. В XVI в. представление о норме вновь меняется. Связано это прежде всего с творчеством Максима Грека (около 1470 – 1556). Максим Грек рассматривал греческую Библию и богослужебные книги как средоточие абсолютного смысла, который при переводе на другие языки должен передаваться своими языковыми средствами. Однако он отмечает неудовлетворительность прежних переводов, сделанных в XIV – XV вв., и объясняет это плохим знанием греческого языка. Кроме того, успех перевода, с точки зрения Максима Грека, зависит от степени совершенства языковых средств славянской книжности. По его мнению, образцом для славянского книжного языка должна стать грамматическая система греческого языка. Таким образом, высказывается утверждение, что при переводе следует ориентироваться на греческий оригинал, а не на южнославянский перевод, к тому же признается, что образцом для славянского книжного языка должна стать греческая грамматика. В последнем положении мера следования греческому языку выражена неопределенно, что и нашло отражение в практической деятельности Максима Грека в разные ее периоды. В 20-х гг. XVI в., исправляя ряд книг, Максим Грек по сути продолжает традицию своих предшественников, создавая грецизированный вариант церковнославянского языка. Однако перевод Псалтыри, сделанный в 50-е гг. этого столетия, как и предисловие к нему, показывают, что представление о правильности, норме уточняется. В качестве критерия теперь принимаются точность в передаче смысла греческого варианта и понятность текста, а способом достижения этого должно стать следование нормам русской книжности. Поэтому Максим Грек в данном переводе отказывается от таких греческих и южнославянских элементов, которые воспринимаются как заимствования, тем самым он обращается к первоначальной русской традиционной книжности с ее принципом понятности сакрального текста. Вместе с тем ориентация на греческий оригинал связывает Максима Грека с принципами, провозглашенными в XIV – ΧV вв. (Бобрик 1990: 66–68). Идея Максима Грека о необходимости ориентироваться на греческий оригинал была в значительной мере реализована при создании Острожской Библии, которая была издана впервые печатным способом в 1580–1581 гг. Огромную работу по сверке Геннадиевской Библии с греческим текстом Септуагинты осуществили Иван Федоров (около 1510 – 1583) и его помощники, среди которых было достаточно знатоков греческого и славянского языков. Таким образом, в текстологическом отношении понятие о правильности связывается с ориентацией на греческий оригинал, а в языковом – с расширенным использованием южнославянизмов и грецизмов (там же: 70). Острожская Библия, созданная на территории Западной Руси, была принята в Москве и почти без исправлений перепечатана в 1663 г. (Верещагин 2000: 76–78). В XVII в. быстрыми темпами развивается книгопечатание в Московской Руси. Подготовка к изданию богослужебных книг велась по славянским рукописным текстам, причем не предполагалось никакой сверки с греческими оригиналами. Одновременно с этим складывался круг книжников, которые ориентировались на традицию филологической критики, заложенную Максимом Греком, и требовали сверки текстов с греческими оригиналами. Это противостояние осложняется многими факторами: усиливающимся расхождением во взглядах московских и юго-западных книжников, возникновением конфликта между никонианами и старообрядцами, неоднородностью филологических позиций внут127 ри названных идеологических группировок и др. Кроме того, следует отметить, что в это время круг вопросов, связанный с установлением правильности канонических текстов, вступает во взаимодействие с проблемами экзегетики и принципами грамматической нормализации, возникает непростой вопрос о выборе одного нормативного употребления из существующих вариантов церковнославянского языка (более книжного или менее книжного, нейтрального). Дальнейшего осмысления в аспекте истории лингвистической мысли требует проблема нормы, правильности не только богослужебных текстов, но и текстов деловой письменности. Например, А.А. Алексеев отмечает, «при ознакомлении с разными актами одного и того же типа – будь это духовные, купчие, рядные и т.п. грамоты, челобитные, следственные и судебные дела – бросается в глаза, что не только формуляр, но и нарративная часть документа в своей форме и языковом выражении, принадлежит к одному разряду канцелярской письменности, напоминает отношения между рукописными редакциями или даже списками одного и того же произведения, если отвлечься от различия в датах, именах, имущественных перечнях» (Алексеев 1987: 39). Об актуальности проблемы нормирования данных текстов пишут многие лингвисты, решение этого вопроса позволит прояснить мотивацию складывающихся языковых норм, пути выбора (стихийного или сознательного) тех или иных форм и др., а значит, может стать интересным и для лингвистической историографии. Таким образом, совершенно очевидно, что развитие русской книжности во все времена не могло осуществляться без постановки и решения различных лингвистических проблем, которые, естественно, в разные века с большей или меньшей выраженностью осложнялись определенными идеологическими установками. Вопрос о правильности канонических текстов, что наблюдается и в других странах средневековья, – это одновременно и богословская проблема, и лингвистическая проблема. И в этом отношении русские книжники находятся в том же положении, что и любые средневековые книжники, но решение этих вопросов в русской книжности, естественно, обнаруживает свою специфику и свою историю. 8.6. Истоки русской лексикографии, как у многих народов мира, восходят к элементарным глоссам, т.е. толкованиям значений слов непосредственно в текстах на свободных его местах (см. 8.3). Затем создаются глоссарии, которые представляют собой словарики к отдельным текстам, включающие перечень слов и их разъяснение, позже такие глоссарии разрастаются в словари различных типов. С XIII в. известны своеобразные справочные словари – ономастиконы, в которых преимущественно разъясняются имена собственные, встречающиеся в Библии, хотя здесь же дается толкование и некоторым нарицательным словам, употребляющимся в литературе, например, ад, олтарь, зело и др. К XIV в. относится сохранившийся в сборнике Чудова монастыря древнейший список, в котором толкуются славяно-русские слова книжной речи. Этим же веком ученые датируют древнейший из сохранившихся списков сборника «Пчела», который, как предполагают, был переведен на славянский язык с греческого в XII – XIII вв. В более поздних по времени списках «Пчела» представлена значительным количеством. «Пчела» представляет собой собрание афористических высказываний. Изречения, включенные в этот сборник, организованы по тематическому принципу и принадлежат или приписываются почитаемым авторитетам. На Руси были известны и другие подборки афоризмов: «Мудрость Менандра», «Параллели» Иоанна Дамаскина, «Разумения единострочные» Григория Богослова и др. Представляется, не будет натяжкой, если сказать, что все они первообразы более поздних словарей афоризмов. В начальный период словарное дело на Руси было теснейшим образом связано с текстологическим анализом. Это объясняется «активной переводческой деятельностью, частными и общими их (текстов. – Т.С.) переработками, правкой, а также и новыми редакциями тех или иных текстов» (История лексикографии 1998: 31). Кроме того, и переводы, 128 и собственные сочинения философско-богословского содержания ставили перед необходимостью вскрыть истинный, сокровенный, иносказательный смысл текста или понятия. Образцы такой работы находим уже в сочинениях книжников XII в. Например, библейские символические образы истолковываются в «Послании к Фоме» Климента Смолятича, толкование слов-символов и придание символического содержания известным словам встречаем в произведениях Кирилла Туровского. В «Сказании об иноческом чине» дается истолкование символов монашества: пояса, клобука, черной мантии и др. В «Слове на Фомину неделю» Кирилл Туровский пишет: «Весна убо есть красная вера Христова, яке крещениемь поражаеть человеческое пакы естьство; бурнии же ветри – грехотворнии помыслы». Подобные толкования содержатся во множестве и других памятников, их можно рассматривать как подготовительный этап в создании специальных словарей. В XV в. появляются словари символики, так называемые приточники (от слова притча), сборники слов с символическим значением, раскрывающие метафоры, иносказания, образы, содержащиеся в текстах Священного Писания. Первые иноязычные переводные словари или разговорники также относятся к XV в.: «Речи тонкословия греческого», словарные записи в сочинениях путешественников типа «Хожения за три моря» Афанасия Никитина, небольшие статьи иноязычных слов, например, «Се татарскыи языкъ». К XVI в. относится «Толкование языка половецкого» и др. В становлении русской лексикографии, как пишет Л.С. Ковтун, большую роль сыграло творчество Максима Грека. Главным его трудом в этой области было лексикографическое сочинение «Толкование именам по алфавиту». В «Толковании» объясняется около 300 преимущественно иностранных слов, например, Максим Грек приводит почти сорок имен, образованных от корня eu – ‘благо’, объясняя такие греческие слова, как Евлампий – ‘добросветел’, Евгений – ‘благороден’, Евстратий – ‘добр воин’ и др. (Ковтун 1975: 313 и далее). Многие объяснения, данные Максимом Греком различным словам, в том числе терминам, будут использованы в более поздних словарях. Таким образом, в XI–XVI вв. лексикография на Руси выступает исключительно как словарная практика. Однако нельзя не согласиться с мнением М.С. Оськиной, которая пишет, что для составления глоссариев и других жанров древних словарей (ономастиконов, приточников, разговорников и т.д.) представляется очевидной необходимость решения определенного круга теоретических проблем: поиска основных критериев выделения малоизвестных слов, требующих толкования (проблема отбора слов и формирования словника), оптимизации способов объяснения значений слов (проблема толкования), установления порядка расположения слов в словаре и т.п. (Оськина 1992: 5). В XVI – XVII вв. хотя и не появляется работ по теории лексикографии, но словарную работу можно считать особой отраслью языкознания. Это время характеризуется значительным ростом словарей или обновлением имевшихся ранее. Появляется своеобразный тип словаря – азбуковник. «Названием «азбуковник» стремились показать, что обширный словарный свод в их составе является основным разделом рукописной книги» (Ерофеева 1998: 4). В азбуковниках не только содержались значения слов, их грамматические характеристики, но и раскрывались различные понятия из области науки и искусства: «Азбуковник представлял собой смесь словаря иностранных и непонятных слов со своего рода реальной энциклопедией, куда вносились, обычно в азбучном порядке, разные любопытные сведения. Выросший интерес к книге в XVII в. сильно отразился на увеличении числа азбуковников и их объема. Среди разного материала в азбуковниках нередко помещались и списки употребительных синонимических выражений того времени, «произвольников» (по тогдашней терминологии), например, страсти и похоти, преступник и неклятвохранитель, недоумение и окаменение, климат и страна и т.д.» (Виноградов 1977: 211–212). В азбуковниках еще нет единых принципов толкования слов. Слова могут объясняться с помощью синонимов, может быть дана этимологическая справка, не всегда 129 верная, иногда указывается язык, из которого заимствовано слово, в ряде случаев объяснение слова разрастается в обширную энциклопедическую статью. Из публикаций Л.С. Ковтун нам стало известно о 6 списках ΧVΙ в. краткого азбуковника подготовительного типа и о 98 списках ΧVΙ – XVII вв., в которых представлены 7 типов азбуковника, генетически связанных между собой, азбуковник выборочного типа XVII в, а также алфавитные списки к библейским текстам (Ковтун 1989: 8–10). Многочисленные списки азбуковников были распространены даже в XVIII в. В конце XVI – начале XVII в. возросла необходимость в толковании церковнославянских слов посредством слов разговорного языка, прежде всего это проблема коснулась юго-запада Руси, где возникла более сложная языковая ситуация, чем в землях великороссов. В 1581 г. появился рукописный словарь, содержащий 1000 слов, в котором неизвестный автор объяснял церковнославянские слова «простой мовой» (Ковалик, Самийленко 1985: 47). В 1596 г. вышел аналогичный печатный словарь, содержащий 1061 слово, подготовленный Лаврентием Зизанием Тустановским (50/60-е гг. XVI в. – после 1634). Словарная статья состояла из церковнославянского слова и его разговорного диалектного эквивалента, например, свhдетель – свhдокъ, юноша – паробокъ и под. Выдающимся явлением южнославянской лексикографии является словарь Памвы Берынды (между 50–70 гг. XVI в. – 1632), вышедший в Киево-Печерской типографии в 1627 г. В словаре Памвы Берынды истолковано 6 982 слова. С.К. Булич (1904 г.) писал, что в этом словаре нередко удачно разграничиваются церковнославянские и народные украинские слова, хотя отмечал и определенные ошибки автора. В.В. Виноградов (1941 г.) говорил о несомненной связи этого словаря с азбуковниками, влияние которых проявилось, по мнению ученого, в энциклопедическом характере толкований слов. В.В. Нимчук (1961 г.) считает, что в словаре Памвы Берынды отразилась творческая переработка достижений Лаврентия Зизания, Максима Грека и ряда лексикографов Западной Европы и Византии. К XVII в. значительно увеличилось количество переводных словарей, двуязычных и многоязычных: создавались латино-славянские, греко-славяно-латинские, польско-русские словари. Самым значительным из словарей этого периода был латино-славянский словарь Епифания Славинского (ум. в 1675), созданный на базе лексикографического сочинения итальянца Амвросия Калепина (1435 – 1511). В начале XVIII в. составляются словари, предназначенные для оказания помощи в переводе с голландского языка (1717 г.), с немецкого языка (1734 г.) и др. Нередко толковые словарики сопровождали переводы научно-технической и публицистической литературы. В.В. Виноградов отмечал, что составление подобных словарей имело громадное значение для развития русского литературного языка: «Поиски русских соответствий иностранным словам приводили к более глубокому пониманию значений и оттенков русских слов. Устанавливались национальные русские формы для выражения понятий, выработанных западноевропейскими языками. При определении значений чужого слова точнее осознавались смысловые оттенки синонимов в составе самого русского литературного языка» (Виноградов 1977: 213). В отечественной лексикографии XVI – начала XVIII вв. наметились две основные лексикографические традиции, в соответствии с которыми строились словари: тематическая и алфавитная. По тематическому принципу строились текстовые глоссарии, разговорники, составленные с практическими целями, и многие переводные словари терминов, которыми особо богат XVIII в. «Алфавитная организация материала способствовала утрате связей с определенными текстами, осознанию самодовлеющей важности словарей и словарного дела. Наращивание словника через суммирование словников предыдущих словарей, постепенное расширение задач (вплоть до показа набора значений, представления соответствий в разных языках) готовили почву для появления особого типа лексикографического издания – толкового словаря» (Козырев, Черняк 2000: 17). Создание такого словаря все настоятельнее ощущалось в XVIII в. и стало главной задачей лексикографов этого 130 времени. Усилия ученых завершатся огромным успехом отечественной лексикографии, воплотившимся в «Словаре Академии Российской». 8.7. На всем протяжении средневековья грамматики, известные на Руси, строились в соответствии с античной грамматической традицией. Могли меняться задачи, содержательное наполнение грамматик, степень глубины проникновения в славянский язык, но следование античному канону сохранялось. Это проявлялось в структуре грамматики, в расположении материала, в толковании грамматических явлений, в терминологии. Как правило, грамматики включали 1) разделы орфографии и фонетики, 2) «этимологию», т.е. морфологию, сюда же входили сведения по словообразованию и лексике, 3) синтаксис, хотя в некоторых грамматиках этот раздел мог отсутствовать, и 4) просодию, составляющую учение об ударении и его обозначении на письме или учение о стихотворных размерах. Грамматика обычно предварялась предисловием, в котором высказывались определенные теоретические сведения, говорилось о задачах грамматики, давались методические указания учителю и др. Первым из сохранившихся грамматических трактатов на славянском языке является книга «О восьми частях слова», которая представляет собой перевод с греческой грамматики. В древнейших списках эта грамматика называется философской, потому что по античной (и византийской) традиции грамматика входила в состав философии (см. 8.4 данного параграфа). Вопрос о времени и месте создания памятника, как и об авторе, является дискуссионным с начала XIX в. Самое раннее его создание обозначалось концом IX – началом X в. и приписывалось Иоанну Экзарху Болгарскому, переводившему труды Иоанна Дамаскина (К.Ф. Калайдович – 1824 г.), указывалось также на сербское происхождение памятника (А. Горский, К. Невоструев – 1859 г.), сербское происхождение памятника и отнесенность его в началу XIV в. отстаивал И.В. Ягич (1895 г.). Есть предположение, что памятник создан в Македонии не ранее конца ΧI в. и не позже XIV в. (В.В. Нимчук 1980 г.). Нет однозначного решения в вопросе о датировании дошедших до нас восточнославянских списков. Одни ученые называют время их создания не позднее XΙV в. (В.В. Нимчук), другие относят к XV в. (Ф.М. Березин) или к XVI в. (Н.Б. Мечковская). Грамматический трактат начинается общими замечаниями о слове (речи), при этом отмечается, что слово содержится в душе, а его вторичное рождение осуществляется через уста. Далее излагается учение о восьми частях речи, причем все термины приводятся на славянском языке: имя, речь (глагол), место имени, причастие, наречие, предлог, союз, различие (греческий член, или артикль). В славянской грамматике к «различию» отнесены указательные местоимения, которые, по мысли автора, помогают определять род имен. И хотя это утверждение ошибочно, все-таки найденное соответствие действительно функционально близко греческому артиклю, что говорит о продуманности данного решения. В грамматике кратко характеризуются отдельные части речи, даются их грамматические признаки, например, для имени – род, число, падеж, кроме того, проводится различие между непроизводными и производными именами, а также дается начертание (изображение на письме тех имен, которые пишутся под титлами). Глагол определяется как часть речи, которой присуще лицо и время и которая говорит о действии, страсти или о том и другом в совокупности. При характеристике глагола называются времена, пять наклонений (повелительное, молитвенное, вопросительное, звательное, повествовательное), залог, два вида (имеются в виду непроизводные и производные слова: прииму – въсприиму), три лица. Причастие в традиции, идущей от античной александрийской школы, определяется как часть речи, которой свойственны признаки глагола и имени. Данный трактат сыграл огромную роль в развитии грамматической мысли восточных славян, в свое время он пользовался высоким авторитетом. Кстати, разногласия, возникшие между книжками, о чем рассказывалось выше, были, помимо прочего, связаны с теми грамматическими принципами, которые ими принимались. Одни из писцов считали 131 необходимым строго следовать анализируемому трактату, а другие в качестве образца принимали грамматику М. Смотрицкого, написанную позже и испытавшую влияние западных грамматик. Таким образом, данный трактат как наиболее старый (к тому же приписываемый тогда Иоанну Дамаскину) принимался за грамматический канон, являющийся частью православного учения. Подобная тесная связь книжного дела и грамматики не случайна. Например, в конце XIV – начале XV в. сербом Константином Костенецким было написано грамматическое сочинение, которое одновременно являлось и выражением его взглядов на книжное дело. Так, ученый, обнаружив непоследовательность в правописании сербских книг, высказал мнение, что они требуют исправления в соответствии с болгарскими источниками. Трактат Константина Костенецкого в основном посвящен орфографии, однако для нас он, помимо всего, интересен оценкой, данной восточнославянским языкам. Говоря о церковнославянском языке, автор пишет, что в его формировании принимало участие много языков – болгарский, сербский, хорватский, чешский, но подчеркивает, что особая роль принадлежала русскому (восточнославянскому) языку. Свое положение он стремится обосновать лексическими фактами, и хотя им высказано много ошибочных представлений, тем не менее они интересны как ранняя попытка осмысления словарного состава славянского языка. Высокая оценка, данная ученым восточнославянскому языку, скорее всего обусловлена признанием развитости и мастерства русского книжного дела. Об особом месте русского языка среди других славянских языков заявит в середине XVII в. хорват Юрий Крижанич (около 1617 – 1683) в своей уникальной по замыслу грамматике, которая вышла в 1666 г. Грамматика была написана в Тобольске, куда ученый был сослан по обвинению в униатской деятельности. Юрий Крижанич был одержим идеей объединения славян, а основой для такого объединения, с его точки зрения, мог быть только язык. По-видимому, он не верил, что можно возродить общий литературный язык времен Кирилла и Мефодия, и поэтому предпринял попытку создать славянский язык, которым бы могли пользоваться все славяне. Свой язык ученый назвал «русским», потому что считал русский язык древнейшим из всех славянских языков. Однако созданный Юрием Крижаничем язык был искусственным языком, правда, исследователями замечено в нем некоторое сходство с родным хорватским языком автора, но в целом этот язык не соответствовал какому-либо известному языку. Важно также, что при конструировании грамматики Юрий. Крижанич использовал опыт восточнославянских грамматик, хотя, поставив особые задачи, он во многом шел своим путем к их решению, например, он иначе, чем было тогда принято, излагал морфологию, начиная ее общим обзором частей речи и грамматических категорий. И все-таки его обращение при конструировании языка к восточнославянским грамматикам в определенной мере свидетельствует об их развитости к XVII в. С XV – XVI вв. на Руси начинают регулярно обращаться к грамматическим вопросам и к созданию грамматик. К началу XVI в. относится деятельность на Руси крупнейшего мыслителя своей эпохи Максима Грека (около 1470 – 1556), настоящее имя которого Михаил Триволис. Именно в Московской Руси он состоялся как писатель, мыслитель, публицист, здесь он получил высокое имя Философа: «Был же тот Максим весьма искусен эллинскому, римскому и славянскому научению, и от внешних знаний ничего же от него не утаилось, и к божественной философии неутолимую любовь имел» – так говорится в «Сказании о Максиме Греке». Свою основную деятельность Максим Грек видит в переводе греческих книг. Главным его трудом является перевод Толковой Псалтыри – одной из наиболее сложных и содержательных книг европейского средневековья. Помогали ему в этом русские переводчики, крупные дипломаты Дмитрий Герасимов и Власий. «Рукописное наследие Максима Грека велико – свыше трехсот пятидесяти оригинальных и переводных произведений (по 132 подсчетам А.И. Иванова, – 365) <...>. Еще далеко не завершена та кропотливая палеографическая, источниковедческая и текстологическая работа, которая позволит четко отделить подлинные произведения Грека от его переводов и приписываемых ему творений, определить время создания и обстоятельства, связанные с их возникновением» (Громов 1983: 48). В грамматических трактатах Максим Грек обосновывает серьезность филологической подготовки, без которой невозможно настоящее философствование: «Грамматика есть начало и конец всякому любомудрию». В «Беседах о пользе грамматики» ученый подчеркивает, что только овладевший наукой о языке правильно «логичествует» и понимает «тонкоречие», он объясняет античную и средневековую (византийскую) практику синтеза филологии и философии, которые изначально были «велики и премудри». Ученый пишет о том, что отсутствие хорошей филологической и философской подготовки мешает правильно понимать родной язык и не позволяет делать качественные переводы. С особой любовью Максим Грек пишет о «божественной эллинской речи», языке высокой культуры. Для русского человека такое представление было близко как тогда, так и позже. Достаточно хотя бы вспомнить слова А.С. Пушкина, который писал, что греческий язык открыл славянскому «свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени». В этом, безусловно, высокая и справедливая оценка той роли, которую сыграла Византия в культуре не только русского, но и других славянских языков, воспринявших ее наследие. И Максим Грек внес огромный вклад в совершенствование русской речи и русского мышления (см. 8.6 данного параграфа). В грамматике Максим Грек выделяет согласно традиции четыре части, излагает учение о восьми частях речи, выделяет шесть падежей имени (именительный, винительный, родительный, дательный, звательный и сказательный (такова, например, форма на земле). Максиму Греку приписываются многие грамматические трактаты, если это верно, то в круг его интересов попадают вопросы о правильном употреблении букв, о надстрочных знаках и правилах препинания, о классификации гласных и согласных по их положению в слове и по физиологическим особенностям, о грамматическом анализе слов на основании теории о восьми частях речи. Учитывая все это, нельзя упускать из виду главное в его творчестве – «союз слова и мудрости, единство любви к Логосу (филологии) и любви к Софии (философии)» (Громов 1983: 87), что по большому счету и явилось той первопричиной, которая породила своеобразие деятельности Максима Грека и обогатила представление отечественной лингвистической мысли о мышлении и языке. С начала XVI в. к греческому образцу грамматики добавился латинский образец. Заслуга в этом принадлежит известному переводчику, русскому дипломату Дмитрию (Толмачу) Герасимову, который, как говорилось, участвовал в создании Геннадиевской Библии. По свидетельству А. Горского, К. Невоструева, А.И. Соболевского, Дмитрий Герасимов перевел с латыни филологическое сочинение «О толкованиях Священного Писания Ветхого и Нового завета», а также ряд других сочинений. Д. Герасимов перевел на церковнославянский язык (великорусского извода) грамматику Доната (1522 г.). Подлинник перевода грамматики не сохранился, но он известен в двух более поздних списках, древнейший из которых – Казанский (1562 – 1563 гг.) – был найден и описан И.В. Ягичем. При переписывании, как считает И.В. Ягич, были допущены существенные ошибки, однако и в этом виде грамматика Д. Герасимова содержит много важных сведений. В ней даются определения частей речи, их характеристика и некоторая семантическая систематизация языковых форм. Д. Герасимов, ознакомившись с латинской терминологией, переводит ряд терминов в соответствии с их значением, например, plusquamperfectum он переводит как «минувшее пресвершенное». Автор грамматики проявил тонкое понимание славянского языка, например, он отмечал свойственную его 133 времени ступень чередования о//а, которая выражала повторяемость действий (ср.: ходить – хаживать). Из приводимых им примеров церковнославянского языка видно, что он различал глагольные виды, хотя речь, конечно, не идет об описании данного явления. В качестве особой группы имен ученый выделяет «прилагаемые», которые определяет как разновидность имен, обозначающих качество и количество. Грамматика Дмитрия Герасимова послужила источником для написания других грамматических трудов. Несколько иной характер по сравнению с предыдущими грамматиками имеет «Грамматика доброглаголиваго еллинословенскаго языка», изданная во Львове в 1591 г. Эта грамматика, как писали К. Студинский (1895 г.) и С.К. Булич (1904 г.), ориентирована на греческие грамматики эпохи европейского Возрождения, хотя, естественно, по своему содержанию она отражает античный канон грамматики как искусства. Особенностью этой работы является то, что она одновременно представляет греческую и славянскую грамматики. Данный труд чаще называют «Адельфотис» – по первому слову, написанному на титульном листе. Это слово в переводе с греческого обозначает ‘братство’ и указывает на то, что грамматика написана представителями Львовского православного братства, одного из наиболее активных братств юго-западных земель Руси. В самом заглавии данной грамматики («еллинославенский язык») отражается представление ее авторов «о внутреннем тождестве языка сакральных книг одной религии разных народов» (Мечковская 1984: 41). В предисловии к грамматике обнаруживается ее традиционное понимание, характерное для греческой (византийской) науки, в частности, в нем говорится о пользе знания грамматики, которая есть первый ключ, открывающий уму возможность понимать Писание, как и «всю лествицу» (диалектику, риторику, музыку, арифметику, геометрию и астрономию), по ступеням которой продвигается трудолюбивый ум, овладевая всеми семью науками, являющимися источником философии. Особенности замысла «Адельфотиса» отразились и в построении грамматики. Она состоит из двух частей: греческой, написанной Арсением Элассонским, будущим архиепископом Архангельского собора Московского Кремля, и славянской, которая принадлежит ученику Арсения. Таким образом, грамматика имеет своеобразный вид: на левых страницах напечатан греческий текст, а на правых – славянский. Правая часть представляет собой не простой перевод, а осмысление материала славянского языка, кстати, все приведенные здесь примеры – славянские. «Адельфотис» примечателен тем, что в нем «впервые представлены та терминология и те композиционно-стилистические особенности изложения, которые во многом определили облик ранних вост.-слав. грамматик (последовательность, в которой располагается содержание грамматики; дедуктивно-классификационный характер изложения; способы рубрикации и подачи языкового материала)» (Мечковская 1984: 42). Видным ученым и переводчиком рубежа веков был Лаврентий Зизаний Тустановский (50/60-е гг.XVI в. – после 1634). Его перу принадлежат переводы бесед Иоанна Златоуста, св. отца Андрея Кесарийского, Катехизис, над которыми он работал не только в Вильно, но и в Киеве, в Москве, им же создан второй, после Ивана Федорова, печатный букварь. Лаврентий Зизаний известен как автор первого словаря (Вильно, 1596 г.), в котором была собрана церковнославянская лексика, переведенная на «простый руский диялектъ» (см. 8.6. данного параграфа). Лаврентий Зизаний прославился также как создатель первой систематической грамматики церковнославянского языка. Грамматика написана в средневековой традиции в форме вопросов и ответов, она содержит все традиционные части, кроме синтаксиса. Исследователи грамматики Зизания отмечают влияние на нее не только греческих, но и латинских грамматик (Грамматика Зизания и Смотрицкого 2000: 31–32). Наиболее разработана Лаврентием Зизанием морфология, им сделано немало важных наблюдений, например, он различает неправильные (нерегулярные) и регулярные формы в морфологии, подробно описывает парадигмы именного склонения, выделяет та134 кие имена, которые стоят вне типов именного склонения (это были числительные). В целом же он стремится закрепить в качестве образцов архаичные грамматические формы, т.е. делает попытку нормировать морфологические явления (Мечковская 1984: 66–76). В авторском тексте, поясняя примеры, Лаврентий Зизаний использует «просту мову», на ней написаны также предисловие и «напутствия», которые предваряют основной текст грамматики и в которых говорится о пользе изучения грамматики, кратко сообщается о метре и ритме и об их особенностях (Грамматика Зизания и Смотрицкого 2000: 31–32). Хотя в авторском тексте используется «проста мова», все же анализируя языковой материала, автор использует только церковнославянские формы. Наличие в языке описания (метаязыке) «простой мовы» расценивается учеными поразному. Одни утверждают, что Лаврентий Зизаний стремится сблизить церковнославянский язык с живым языком (В.В. Нимчук – 1980), другие считают, что оснований для такого вывода нет, потому что «проста мова» используется только в авторском тексте, наличие отдельных примеров устно-разговорной речи минимально и не может быть серьезным аргументом в обосновании сближения языков, следовательно, грамматика описывает явления церковнославянского языка (Н.Б. Мечковская – 1984). То, что Лаврентий Зизаний обращается к живому языку, может объясняться, по-видимому, чисто методическими задачами – сделать изложение доступным. Кстати, сам автор определяет назначение своей грамматики так: «жебы мы добре мовили и писали», естественно, на церковнославянском языке. Самой знаменитой грамматикой рассматриваемого периода стала, несомненно, «Грамматика» Мелетия (Максима Герасимовича) Смотрицкого (70-е г. XVI в. – 1633), человека широко образованного, мятущегося и противоречивого. Грамматика вышла в 1619 г. и выдержала три издания, выпускалась много раз в сокращенном варианте в виде учебника, издавалась в других странах (в Бессарабии, Сербии), рукописные ее списки были сделаны в Болгарии, во второй половине XVIII в. она использовалась в качестве основного пособия по церковнославянскому языку у католиков-глаголитов. Грамматика М. Смотрицкого преследовала практические цели – сообщить правила церковнославянского языка, которые бы помогли в понимании и чтении текстов. Автор отказывается от характерного для того времени вопросно-ответного построения материала. Начинается книга изложением сведений о письменах (буквах и звуках), нередко с целью более яркого описания особенностей славянского языка дается сопоставление с греческим и латинским языками. В отдельных главках Смотрицкий излагает правила орфографии и чтения, понятие о слоге и знаках препинания. Затем следуют «этимология», т.е. морфология, и синтаксис, который он разделяет на простой и образный, последний понимается как совокупность синтаксических фигур, которые употребляют искусные писатели (Грамматика Зизания, Смотрицкого 2000: 450). Для М. Смотрицкого характерно стремление представить материал в системе, отразить всю полноту имеющихся в языке парадигм. Это было сильной стороной грамматики. Однако доведение этого принципа до крайности привело к тому, что в грамматику попало немало искусственных форм, которые соответствовали системным отношениям, но отсутствовали в реальном языке. Так, автор расширяет падежную парадигму двойственного числа имен, вводя различие между дательным и творительным падежами, которое отсутствовало в славянском языке; он искусственно образует элевое причастие на имперфектной долгой основе (читаалъ), объединяет в «препрошедшее» время стяженные формы имперфекта и обычные элевые причастия и др. Появление искусственных форм в определенной мере объясняется ориентацией М. Смотрицкого на западноевропейские образцы, в частности, он вводит особый разряд глагольных форм – «причастодетие» по аналогии с латинским герундием и, возможно, по аналогии с греческими отглагольными прилагательными. 135 И все же грамматика М. Смотрицкого – это высшее достижение в области грамматической мысли рассматриваемого периода. Впервые наиболее полно и систематично представлены особенности церковнославянского языка, ученый четко осознавал его отличие от народно-разговорных форм и стремился сохранить его чистоту. Смотрицкому удалось правильно определить соответствие между словоформами и грамматическими значениями, им исчерпывающе описаны именное склонение и образование степеней сравнения прилагательных, достаточно полно представлены и систематизированы разносклоняемые имена. Ученый большое внимание уделяет характеристике чередований согласных, наблюдаемых в различных формах прилагательных и глаголов. Безусловно новым является стремление Мелетия Смотрицкого увидеть даже в аномалиях определенную систему. Ученый впервые выделил деепричастие и положил начало его изучению, он отказался от «различия» (артикля, или члена) как несвойственного славянскому языку, ввел междометие. Подробное описание глагольных форм, их дифференциация в определенной мере способствовали в дальнейшем разработке глагольного вида. Синтаксис М.Смотрицкого – это синтаксис словосочетаний, в котором исследуются сочетаемостные возможности каждой части речи. Как известно, учение о предложении возникнет только в середине XVIII в. Вместе с тем важно подчеркнуть, что ученый рассматривает отношения между субъектом и предикатом, «сочинение» частей речи, союзы в сложных предложениях – все это лишний раз подчеркивает, как постепенно (подспудно) складываются отдельные направления лингвистических исследований. В изложении синтаксических особенностей различных частей речи заметно стремление М. Смотрицкого показать своеобразие церковнославянского языка по сравнению с греческим и латинским языками, для этих целей он нередко прибегает к сопоставлению конструкций разных языков. Ученым были замечены и описаны явления синтаксической синонимии, он стремился выявить экспрессивно-стилистические отличия между синтаксическими синонимами. Смотрицкому принадлежат многие термины, которыми мы пользуемся сейчас, несмотря на попытку М.В. Ломоносова изменить их. Так, мы употребляем термины слог, междометие, а не склад, междуметие, как предлагал Ломоносов. Думается, даже сказанного достаточно, чтобы понять то огромное значение, которое имела для развития лингвистической мысли в России грамматика Мелетия Смотрицкого, ставшая для многих русских людей, как и для великого мыслителя М.В. Ломоносова, «вратами учености». Не только богатство грамматических описаний важно в труде, созданном Мелетием Смотрицким, но и сознательное стремление к нормированию языка, к его глубокому системному описанию. Высокий теоретический уровень грамматики позволяет говорить о том, что труд Смотрицкого явился предвестником нового направления в лингвистических исследованиях, когда главным объектом изучения станет не старославянский, а русский язык и когда формирование национального языка поставит ученых перед необходимостью его кодификации. Примечательным явлением в истории языкознания стала «Грамматика словенская», написанная в 1647 г. на латинском языке Иваном Ужевичем, студентом Парижского университета. Это грамматика представляет собой первый в восточнославянской традиции опыт описания не церковного, а светского языка. По мнению А.И. Соболевского, это грамматика юго-западного языка XVII в., однако вопрос, какого именно языка (белорусского или украинского), вызывает споры. Н.Б. Мечковская считает, что по тексту грамматики это трудно определить из-за малого количества примеров, а В.В. Нимчук утверждает, что это украинская грамматика, примеры которой отражают юго-западный говор с приметами северных черт. Грамматика Ивана Ужевича предназначена для иностранцев, изучающих славянский язык. Она включает фонетико-орфографическую часть, морфологию и довольно подробный синтаксис, правда, автор при этом сосредоточивается на синтаксическом функционировании частей речи, предложение как таковое он не анализирует. Кроме того, в 136 грамматике описываются трудные случаи словоупотреблений, особое внимание обращается на те конструкции, которые мало похожи на латинские и французские. Интересным явлением в истории филологии является еще одна грамматика, написанная на латинском языке и знакомящая западноевропейских читателей с восточнославянскими языками. Речь идет о «Русской грамматике, в которой изложены не только главные основы русского языка, но также и некоторое руководство по славянской грамматике». Эта грамматика написана Генрихом Лудольфом (1655 – 1712), широко образованным человеком, полиглотом, выходцем из передового саксонского бюргерства, жившим несколько лет в Москве. Грамматика вышла в 1696 г., однако она не была по достоинству оценена в то время, а после выхода грамматики М.В. Ломоносова с легкой руки Ивана Давыдова ей и вовсе отказывают в самостоятельности, считая, что Г. Лудольф составил ее, сделав выписки из грамматики М. Смотрицкого. Решительно против такой оценки выступил С.К. Булич (1893; 1904), заявив, что Лудольф написал первую грамматику великорусского языка, но Булич охарактеризовал книгу Лудольфа лишь мельком. Достаточно осторожно о ней высказывался И.В. Ягич (1910), отмечая, что автор книги хорошо различал разговорный русский язык и литературный церковнославянский. Заслуга научного издания грамматики Лудольфа принадлежит известному ученому ΧΧ в. – Б.А. Ларину, который, тщательно изучив эту книгу и сопоставив ее с грамматикой Смотрицкого, приходит к выводу, что Лудольф через всю грамматику безошибочно проводит различие старославянского и русского языка. Это примечательно потому, что «еще 60 лет после его книги – до появления грамматики М. Ломоносова – у нас будет господствовать путаное и сбивчивое» изложение о славянском, мертвом языке, далеком от разговорного (Лудольф 1937: 24). Б.А. Ларин отмечает, что Лудольф привел русские союзы, наречия, впервые увидел в русском языке «взаимный залог», установил вместо шести времен (у Смотрицкого) три времени (настоящее, прошедшее и будущее), указал окончание прилагательных –аво–, а не –аго– (как в старославянском языке), избежал мнимых причастий будущего времени и др. (там же: 24–28). Важна и характеристика, данная Б.А. Лариным языку Московской Руси начала XVII в. Ученый, на основании материалов Лудольфа, отмечает пестроту языка той эпохи, его разнородность, наличие богатой синонимии и разных диалектных форм, которые, смешиваясь, скрещиваясь, отталкиваясь, сосуществовали в речи горожан. Все это, делает общий вывод Б.А. Ларин, вообще характерно для феодальной эпохи как результат поглощения племенных языков и объединительных тенденций, зарождающихся в больших торговых городах отдельных стран, а начало семантической дифференциации синонимов, т.е. развитие ими частных значений, – это свидетельство распада феодализма и образования национального языка (там же: 38–39). Таким образом, данная грамматика не только способствовала распространению сведений о русском языке в Западной Европе того времени, но и сыграла существенную роль в изучении русского языка той эпохи. Кроме того, грамматика Г. Лудольфа представляет несомненный интерес как для западноевропейской, так и для русской лингвистической историографий. В начале 1706 г. выходит «Руковедение въ грамматыку во славяноросийскую, или Московскою...» Ильи Федоровича Копиевича (1651 – 1714), которое, кстати, Б.А. Ларин помещает в приложении к публикации грамматики Лудольфа и отмечает его явную слабость по сравнению с издаваемой книгой (там же: 144). Эта грамматика, действительно представляя незначительный интерес с точки зрения истории грамматической мысли, «весьма показательна для языковой ситуации и общественно-языковой практики в Петровские времена» (Мечковская 1984: 54). Отметим эти показательные черты. Прежде всего стоит обратить внимание на название, в котором вполне определенно говорится о московской, т.е. русской, грамматике, а не славянский, поэтому неудивительно, что автор приводит примеры из разговорной русской речи. Во-вторых, грамматика имеет явно праг137 матическую направленность, а именно: диалоги, которые приводятся в качестве грамматического материала, содержательно сообщают о правилах «хорошего тона». Кроме того, данные диалоги И.Ф. Копиевич сопровождает переводами на латинский и немецкий языки, тем самым превращая грамматику еще и в разговорник для изучающих иностранный язык. В-третьих, в качестве адресата своего труда автор предусматривает не только русских, но и иностранцев, поэтому он начинает «Руковедение» обращением к читателям на латыни, приводит латинскую (польскую) транскрипцию кириллических букв, записывает латинскими буквами некоторые слова и фразы и дает их перевод. И наконец, грамматическое содержание работы И.Ф. Копиевича представляет собой краткое изложение грамматики Смотрицкого, которая, напомним, была грамматикой славянского языка. Таким образом, труд Копиевича содержит недифференцированный подход к русскому и церковнославянскому языкам. Это видно хотя бы из того, что автор считает возможным описывать факты разговорной речи с помощью положений, взятых из славянской грамматики. Книга Копиевича отличается нагромождением задач, что, естественно, затрудняет целенаправленное описание. Однако она примечательна тем, что, заявляя о «славяноросийской, московской» грамматике, свидетельствует о возникновении насущной потребности в создании грамматики формирующегося русского национального языка. Но данный вопрос находится уже за пределами рассматриваемого периода. Вопросы и задания 1. Чем обусловлены трудности в изучении донационального периода развития лингвистической мысли? 2. Какие факты свидетельствуют о высоком уровне грамотности в Киевской Руси? 3. Какие известные факты культурного развития Древней Руси могут служить основанием для утверждения положения о понимании и осмыслении лингвистической проблематики в данный исторический период? 4*. На основании каких данных ученые делают вывод о возникновении проблемы книжной нормы в ранний период развития книжности и в последующие века? 5*. Какие взгляды на кирилло-мефодиевские переводы сложились в рамках Охридской и Преславской школ и какие проблемы в связи с этим возникли вначале в южнославянской, а затем и в русской книжности? 6*. Охарактеризуйте, каким образом в разное время изменялись представления о переводческой практике, получившие отражение в рукописях различных эпох. Какие критерии использовали книжники разных веков при определении правильности канонических текстов? 7. Расскажите об истоках русской лексикографии и охарактеризуйте различные типы словарей. Назовите отличительные черты азбуковников. 8*. Какие словари, толкующие церковнославянские слова посредством слов разговорного языка, созданы в XVI – начале XVII в.? С чем связано большее распространение таких словарей в южных и юго-западных землях? 9. Какие исторические обстоятельства способствовали увеличению переводных словарей в XVII в. и каково их значение для развития русского литературного языка? 10. Какие две основные тенденции, связанные со структурой словаря, наметились в отечественной лексикографии XVI–XVII вв. и какова роль алфавитной организации материала в становлении лексикографической практики? 11. В каких чертах, характерных средневековым славянским грамматикам, проявилось следование античной грамматической традиции? 12. Дайте общую характеристику грамматического трактата «О восьми частях слова». Какие факторы обусловили высокий авторитет данной грамматики? 13*. Насколько верным вам представляется мнение Константина Костенецкого о роли восточнославянских языков в формировании церковнославянского языка, а также суждение Юрия Крижанича о происхождении русского языка? Какие исторические обстоятельства, с вашей точки зрения, могли привести ученых к данным выводам? 138 14. Охарактеризуйте основные направления филологической деятельности Максима Грека и Дмитрия Герасимова, определите роль их трудов в развитии лингвистической теории и практики. 15. Традиции какой грамматики отразились в «Адельфотисе» и в чем своеобразие данной грамматики? 16. Назовите основные направления филологической деятельности Лаврентия Зизания, укажите особенности созданной им грамматики. 17. Какие черты грамматики М. Смотрицкого позволяют считать ее высшим достижением в развитии лингвистической мысли XVI – начала XVII вв.? 18. Охарактеризуйте грамматики восточнославянских языков, написанные на латинском языке Иваном Ужевичем и Генрихом Лудольфом, укажите своеобразие каждой из них. 19. Каким образом грамматическое руководство И.Ф. Копиевича отражает основные черты, характерные для языковой ситуации и общественно-языковой практики Петровской эпохи? Выводы 1. Продумайте критерии периодизации эпохи средневековья, в соответствии с ними, суммируя все известные вам факты, сформулируйте в виде тезисов положения, характеризующие каждый из периодов, при этом учитывайте следующее: – особенности развития общества и духовно-культурной жизни; – ведущие идеологические установки, присущие каждому периоду, их влияние на развитие филологической мысли; – особенности развития философских проблем языка, свойственные каждому периоду средневековья; черты, позволяющие говорить о преемственности античной философской мысли и о новациях, порожденных духом средневекового времени; – конкретные, наиболее существенные лингвистические достижения, приоритетное развитие определенной филологической области знаний в каждый из периодов; – наличие/отсутствие новизны в области фонетических, лексических, лексикографических, грамматических исследований в средневековой лингвистической мысли по сравнению с античной наукой; конкретные факты, позволяющие сделать такие выводы. 2. В развитии лингвистической мысли каждого культурного ареала, каждой страны отражаются как общие тенденции времени, так и специфические черты культурного, исторического и духовного развития того или иного народа. Учитывая это, выделите специфические особенности, которые присущи определенному культурному ареалу или определенной стране и которые проявились в следующих областях практической и теоретической деятельности: – создание письменности; – фонетическое изучение языков; – формирование теоретических представлений о природе и сущности языка, о связи языка с жизнью народа, о знаковом характере языка, о его связи с мышлением; – исследование лексических особенностей языков; – грамматические учения. 3. Раскройте поступательное движение в развитии русской лингвистической мысли, выделите ключевые моменты, определяющие ее неотъемлемость от развития мирового языкознания, с одной стороны, и специфическое становление, с другой стороны. Библиография Аверинцев 1976: Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. Алексеев 1987: Алексеев А.А. Пути стабилизации языковой нормы в России XI– XV вв. // Вопросы языкознания, № 2, 1987. 139 Алисова, Репина, Таривердиева 1982: Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. М., 1982. Амирова 1975: Амирова Т.А. Формирование сравнительно-исторического языкознания // Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Афанасьев 1995: Афанасьев А.Н. Поэтическое воззрение славян на природу. Т.1. М., 1995. Ахвледиани 1981: Ахвледиани В.Г. Арабское языкознание средних веков // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. Бабишин 1973: Бабишин С.Д. Школа та освiта Давньої Русi (IX – пер. пол. XIII ст.). Київ, 1973. Баевский 1981: Баевский С.И. Средневековая персидская лексикография // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. Бердяев 1989: Бердяев Н.А. Философия свободы. М., 1989. Березин 1984: Березин Ф.М. История лингвистических учений: Учебник для филол. спец. вузов. М., 1984. Бернштейн 1984: Бернштейн С.Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984. Блок 1997: Блок А. Поэзия заговоров и заклинаний // 777 заговоров и заклинаний русского народа. М., 1997. Бобрик 1990: Бобрик М.А. Представления о правильности текста и языка в истории книжной справы в России (от XI до XVII в.) // Вопросы языкознания, 1990, № 4. Бодуэн 1963: Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963. Введение 1989: Введение в философию. В 2-х ч. / Под общей ред. И.Т. Фролова. Часть 1. М., 1989. Верещагин 2000: Верещагин Е.М. Библеистика для всех. М., 2000. Виноградов 1977: Виноградов В.В. Толковые словари русского языка (1941) // Лексикология и лексикография. Избранные труды. М., 1977. Габучан 1990: Габучан Г.М. Арабская языковедческая традиция // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Гаврилов 1985: Гаврилов А.К. Языкознание византийцев // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Герценберг, Саймиддинов 1981: Герценберг Л.Г., Саймиддинов Д. Лингвистическая мысль и языковедческая практика в Иране в домонгольское время // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л. 1981. Глухов 1979: Глухов А. Русь книжная. М., 1979. Горфункель 1980: Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. Грамматика Зизания и Смотрицкого 2000: Грамматика Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е.А. Кузьминовой; предислов. Е.А. Кузьминовой и М.Л. Ремневой. М., 2000. Григорий Нисский 1995: Св. Григорий Нисский. Об устроении человека / Перевод, прим. и послесловие В.М. Лурье. Под ред. А.Л. Верлинского. СПб., 1995. Громов 1983: Громов М.Н. Максим Грек. М., 1983. Громов, Козлов 1990: Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X – XVII веков. М., 1990. Грошева 1985: Грошева А.В. Грамматические учения западноевропейского средневековья // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Дамаскин 1992: Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.– Ростов-на-Дону, 1992. Даниленко 1988: Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в истории грамматики // Вопросы языкознания, 1988, № 3. 140 Джаукян 1981: Джаукян Г.Б. Языкознание в Армении в V – XVIII вв. // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л. 1981. Дионисий 1991: Св. Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Мистическое богословие. Киев 1991. Ерофеева 1998: История руских лингвистических учений: Методические и хрестоматийные материалы / Сост. Т.И. Ерофеева. Пермь, 1998. Жирмунский 1976: Жирмунский В. М. Проблема социальной дифференциации языка // Общее и германское языкознание. М., 1976. Жлуктенко, Яворская 1974: Жлуктенко Ю. О., Яворская Т.А. Вступ до германського мовознавства. Київ, 1974. Жуковская 1968: Жуковская Л.П. Типология рукописей древнеславянского полного апракоса XI – XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской письменности. М., 1968. Жуковская 1976: Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. За землю Русскую 1981: За землю Русскую: Памятники литературы Древней Руси XI – XV веков / Сост., вступ. статья, коммент. и подбор миниатюр Ю.К. Бегунова. М., 1981. Исаченко 1963: Исаченко А. К вопросу об ирландской миссии у панноских и моравских славян // Вопросы славянского языкознания. Вып. 7. М., 1963. История Европы 1988: История Европы. Т.1. Древняя Европа. М., 1988. История лексикографии 1998: История русской лексикографии. СПб., 1998. История 1980: История средних веков /Под ред. Н.Ф. Колесницкого. М., 1980. Истрин 1988: Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1988. Карсавин 1994: Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в их творениях). М., 1994. Карташов 1993: Карташов А.В. Собрание сочинений: В 2-х т. Т.1: Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Клейнер 1985: Клейнер Ю.А. Латинская грамматическая традиция в Англии VII – XI вв. (Беда, Алкуин, Эльфрик) // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Ковалик, Самийленко1985: Ковалик И.И., Самийленко С.П. Загальне мовознавство. Київ, 1985. Ковтун 1975: Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII в. Л., 1975. Ковтун 1989: Ковтун Л.С. Азбуковники XVI – XVII вв.: старшая разновидность. Л., 1989. Козырев, Черняк 2000: Козырев В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. СПб, 2000. Кондрашов 1979: Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979. Кононов, Нигмашов 1981: Кононов А.Н., Нигмашов Х.Г. // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. Крушевский 1998: Крушевский Н.В. Заговоры как вид русской народной поэзии // Крушевский Н.В. Избранные работы по языкознанию. М., 1998. Кузьменко 1985 а: Кузьменко Ю.К. Появление письменности в средневековой Европе // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Кузьменко 1985 б: Кузьменко Ю.К. Средневековые исландские грамматические трактаты // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Литаврин 2000: Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000. Лихачев 1975: Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1975. 141 Лосев 1980: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980. Лосский 1991 а: Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви // Мистическое богословие. Киев 1991. Лосский 1991 б: Лосский Вл. Догматическое богословие // Мистическое богословие. Киев 1991. Лудольф 1937: Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика. Оксфорд. 1696. / Переизд., перевод, вступ. ст. и примечания Б.А. Ларина. Л., 1937. Лурье 1995: Лурье В.М. Послесловие / Св. Григорий Нисский. Об устройстве человека. СПб., 1995. Малявина 1985: Малявина Л.А. У истоков языкознания Нового времени (Универсальная грамматика Ф. Санчеса «Минерва» 1587). М., 1985. Матвеенко 1999: Матвеенко В.А. Вечное против «мимошедшего». Преодоление грамматического времени // Логический анализ языка: Языки динамического мира. Дубна, 1999. Мечковская 1984: Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. Миллер 1978: Миллер Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Аристотель и античная литературная теория. М., 1978. Минин 1991: Минин П. Главные направления древнецерковной мистики // Мистическое богословие. Киев 1991. Муравьев, Сахаров 1984: Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984. Некрылова 1991: Круглый год. Русский земледельческий календарь / А.Ф. Некрылова. М., 1991. Немесий 1996: Немесий Эмесский. О природе человека / Перевод Ф.С. Владимирского. М., 1996. Новоселов 1983: Новоселов М.М. Номинализм // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. Обнорский 1948: Обнорский С.П. Культура русского языка. М., 1948. Ольховиков 1975: Ольховиков Б.А. Разработка грамматической теории в Европе //Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Ольховиков 1985: Ольховиков Б.А. Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания: Становление и эволюция грамматического описания в Европе. М., 1985. Орешкова 1980: Орешкова С.Ф. Арабы в VI – XI вв. // История средних веков. М., 1980. Оськина 1992: Оськина М.А. Толковые словари в русской национальной лексикографической традиции. Автореф. ... канд. дисс. Одесса, 1992. Парибок 1981: Парибок А.В. О методологических основаниях индийской лингвистики // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. Пилюгин 1985: Пилюгин Н.Б. Ценностно-эстетический аспект древнерусской культуры у Илариона (предисловие к публикации) // Культура как эстетическая проблема. М., 1985. Попов, Стяжкин 1974: Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. М., 1974. Рабинович 1991: Рабинович В. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991. Реферовская 1985: Реферовская Е.А. «Спор» реалистов и номиналистов // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Реформатский 1967: Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. 142 Рождественский 1975: Рождественский Ю.В. Теория языка в средние века //Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Сапунов 1962: Сапунов Б.В. Ярославна и древнерусское язычество // «Слово о полку Игореве» – памятник XII века. М.–Л., 1962. Сапунов 1978: Сапунов Б.В. Книга в России в X – XIII вв. М., 1978. Сарджвеладзе 1983: Сарджвеладзе З.А. У истоков грузинской лингвистической мысли // Вопросы языкознания, 1983, № 3. Славятинская 1996: Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. Часть 1. М., 1996. Словарь 1977: Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 4. М., 1977. Смирницкая 1990: Смирницкая О.А. Готское письмо // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Стеблин-Каменский 1970: Стеблин-Каменский М.И. Снорри Стурлусон и его «Эдда» // Младшая Эдда. Литературные памятники / Издание подготовли О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. Л., 1970. Супрун 1989: Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. Минск, 1989. Туманян 1990: Туманян Э.Г. Армянское письмо // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Флоровский 1992 а: Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV-го века. М., 1992. Флоровский 1992 б: Флоровский Г.В. Восточные Отцы V – VIII веков. М., 1992. Христианство 1994: Христианство: словарь / Под общ. ред. Л.Н. Митрохина. М., 1994. Эдельштейн 1985: Эдельштейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. Яхонтов 1981: Яхонтов С.Е. История языкознания в Китае (XI – XIX вв.) // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. 143