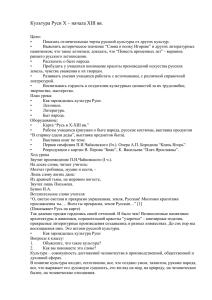УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛАССИКА Б. А. Ларин Лекции по истории
advertisement
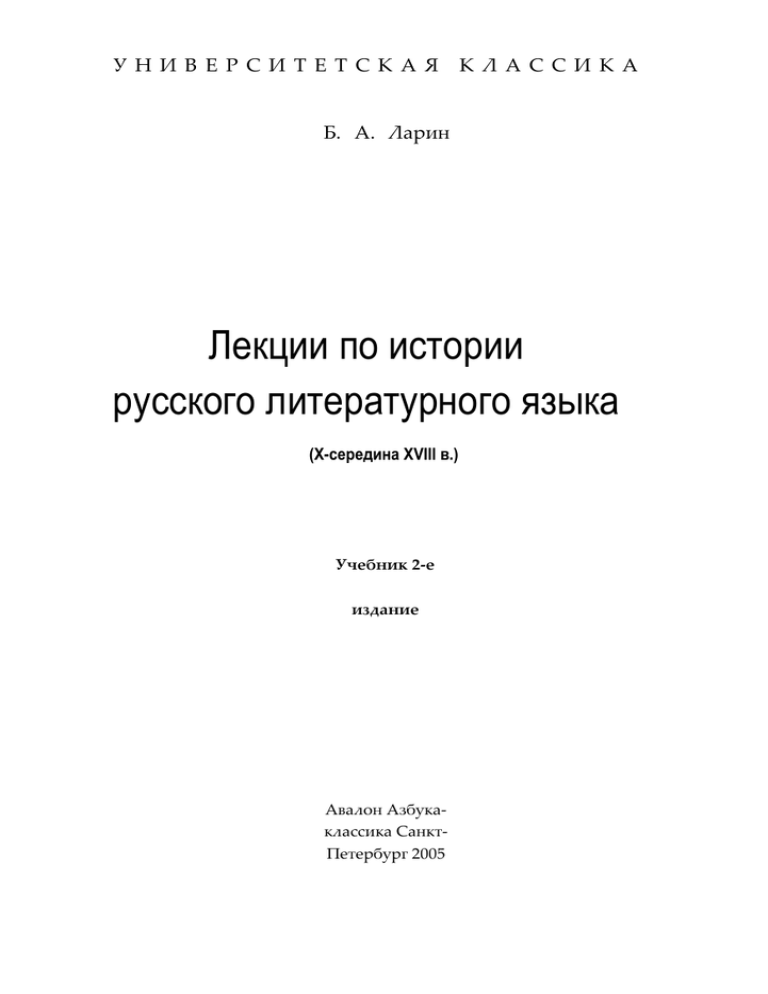
У Н И В ЕР СИ ТЕТ СК А Я
К ЛА ССИ К А
Б. А. Ларин
Лекции по истории
русского литературного языка
(Х-середина XVIII в.)
Учебник 2-е
издание
Авалон Азбукаклассика СанктПетербург 2005
ББК
81-923
Л 25
Ларин Б. А.
Л 25 Лекции по истории русского литературного языка (Х-середина
XVIII в.)- Учебник для филолог, специальностей ун-тов и пед.
ин-тов. Изд. 2-е, испр. — СПб., «Авалон», «Азбука-классика»,
2005. — 416 с.
5-94860-025-4 («Авалон») І5ВИ 5352-01483-5 («Азбука-классика»)
Лекции выдающегося филолога Б. А. Ларина включают
анализ таких памятников письменности как «Русская правда»,
«Слово о полку Игореве», в них говорится о развитии русского
языка в определенный период истории («Язык Московского
государства»), а также о языковом своеобразии основных
жанров литературы («Язык летописей», «Проповедническая
литература»). Автор рассматривает языковые процессы на
широком
историческом
фоне,
затрагивает
вопросы
исторические, историко-юридические, литературоведческие и
текстологические.
5-94860-025-4 («Авалон») 5-35201483-5 («Азбука-классика»)
© Издательство «Авалон», 2005
© Издательство «Азбука-классика, 2005
© Васильев М. К., оформление серии, 2005
От издательства
Выдающийся российский филолог Борис Александрович Ларин,
читая в свое время лекции по истории русского литературного языка,
предполагал издать их, но, к сожалению, осуществить эту работу ему
не удалось, и лекции были подготовлены к печати редакционной
коллегией, созданной в Межкафедральном словарном кабинете им.
проф. Б. А. Ларина на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.
Лекции были записаны многими учениками Б. А. Ларина, но в
основном А. И. Лебедевой и А. И. Молотковым, и редакторы использовали эти конспекты и стенограммы: за основу брался один из
вариантов и дополнялся материалами из других записей с тем,
чтобы, не нарушая внутреннего единства лекций, как можно полнее
изложить научные взгляды Б. А. Ларина.
Изданная книга имела следующие разделы и главы (после названия темы в скобках указано, кто подготовил ее к изданию).
I. Образование и начальный этап развития литературного языка в
эпоху Киевской Руси (ІХ-ХІ вв.).
1. Введение (проф. Б. Л. Богородский).
2.0происхождениирусскоголитературногоязыка(доц.М.И.Привалова, канд. филол. наук А. И. Корнев).
П. Типы литературного языка Киевской Руси (XI—XIII вв.).
1. Договоры русских с греками (проф. Е. М. Иссерлин).
2. «Русская правда» (канд. филол. наук Г. А. Качевская).
' 3. Древнерусские грамоты (доц. А. И. Лебедева).
4. Проповедническая литература (проф. Н. А. Мещерский).
5. Сочинения Владимира Мономаха (проф. Н. А. Мещерский).
6. «Слово о полку Игореве» (проф. Б. Л. Богородский).
7. «Моление» Даниила Заточника (проф. Е. М. Иссерлин).
8. Язык летописей (канд. филол. наук А. И. Корнев).
III. Типы литературного языка Московской Руси (ХІѴ-ХѴТІ вв.).
1. Язык Московского государства (доц. А. И. Лебедева).
2. Язык памятников, отражающих «второе южнославянское влияние» (канд. филол. наук А. И. Корнев, доц. О. С. Мжельская).
3. Литературный язык второй половины XVI в. (доц. О. С. Мжельская).
4. Деловая письменность Московского государства XV-XVII вв. как
источник для характеристики московского говора (доц. С С. Волков).
5. Посадская письменность XVII в. — первая фиксация русского
национального языка (канд. филол. наук И. Н. Шмелева).
6. Литературный язык второй половины XVII в. (канд. филол. наук
В. П. Фелицына).
IV. Русский литературный язык первой половины XVIII в.
1. Развитие литературного языка на национальной основе в Петровскую эпоху (доц. И. С. Воронова).
2. Значение трудов А. Д. Кантемира, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского в истории литературного языка (проф. Е. М. Иссерлин).
3. Роль М. В. Ломоносова в развитии русского литературного
языка (канд. филол. наук А. И. Корнев).
Глубокие по содержанию, оригинальные по мысли, лекции отражают самобытный талант их автора и широту его лингвистических
знаний. Они не потеряли своего научного значения и остаются
обязательным учебником для всех, кто изучает историю русского
литературного языка.
По нашей просьбе подготовку учебника к этому новому изданию
осуществила И. С. Лутовинова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета СанктПетербургского университета.
(^р
____________
ГЛАВА 1 ______________________
Образование и начальный этап развития
литературного языка в эпоху Киевской Руси (ІХ-ХІ вв.)
Введение
Курс истории русского литературного языка и предшествующий ему
курс исторической грамматики должны составлять единое целое.
Преподавание лингвистических дисциплин в вузах стоит перед
исключительными трудностями, так как необходимо создавать новые
концепции и вновь пересматривать материал.
Недостатки общей истории русского языка (исторической грамматики) следующие: наблюдения носили эмпирический характер,
фонетические и морфологические явления изучались изолированно,
не было даже попытки вскрыть внутренние законы развития языка,
увязать историю языка с историей общества; многие явления
оказывались областными, местными, а не общерусскими и т.д.
История русского литературного языка рассматривает особенности
языка в различные эпохи, в различных жанрах, «стилях» языка. Здесь
ставятся вопросы о связи литературного языка с историей социальноэкономических формаций, с историей общественной мысли,
идеологией и т. д.
Но одно в наблюдениях старой школы было верным — это определение элементов общерусского языка, утверждение связи между
отдельными диалектами русского языка, т.е. признание единства
русского языка. В этом направлении и должны идти дальнейшие
разыскания. Значительно труднее перейти от эмпирических наблюдений к истолкованию и объяснению фактов языка, к исследованию
и раскрытию причин смены древнерусского языка новой системой.
Если раньше многие исследователи стремились строго разграничить историю русского литературного языка, то теперь для нас ясно,
что не только не следует увлекаться выделением периодов, но больше
того: нельзя искать прямых соответствий между сменами социальноэкономических формаций и изменениями в языке. Однако не надо
думать (и это дело дальнейших исследований), что эти смены не
оставили никакого следа в языке, особенно в его словарном составе.
Радикальные перестройки языка проходили на протяжении
длительного времени, когда было несколько смен общественных
формаций.
Язык эпохи Киевской Руси разительно отличается по сг-оей системе от современного русского языка. Тогда существовали редуцированные, глухие гласные звуки (ъ, ь), что связано с иной, отличной
от нашей системой склонения, словообразования. Система склонения также не совпадает с нашей, ибо теперь основным принципом
классификации (распределения) имен по типам склонения является
принадлежность их к тому или иному грамматическому роду, а в
древнерусском языке имел значение конечный звук основы. Резко
отлична система спряжения глагола: в древнерусском языке не было
современной системы вида, но существовала сложная система соотносительных временных форм. Имеются отличия и в системе словообразования. Словообразование имен существительных характеризовалось преобладанием суффиксов, обозначающих конкретные
предметы, орудия, действия, при значительной ограниченности
количества суффиксов отвлеченного характера. Малочисленность
прилагательных (по сравнению с современным языком) тоже характеризует древнерусский язык старшей поры. В синтаксисе также
имелись свои особенности: меньше были развиты подчинительные
конструкции, преобладали сочинительные. Но резко отличается
древнерусский язык от современного своим лексическим составом.
Эти два этапа развития русского языка выделяются наиболее отчетливо, но нельзя ограничиться только их констатацией. «Новое
учение о языке» акад. Н. Я. Марра строило периодизацию, заглядывая в отдаленные времена, смело, хотя и фантастично. С точки
зрения этой теории, киевская эпоха представлялась чуть ли не вчерашним днем. Никто теперь не станет увлекаться подобными фантастическими построениями, но в то же время невозможно начинать
историю русского языка лишь с X в.
Сравнительно-исторический метод довольно уверенно реконструирует русский язык дописьменного периода на основе совпадений в родственных языках, отыскивает общий для них праязык.
Обращаясь к сравнительно-историческому методу, мы, однако,
должны отказаться от патриархальной праязыковой теории. Термин
«праязык» был создан в эпоху господства представления о генеалогической филиации языков, в эпоху наивного представления о
их биологическом единстве. Большинство исследователей сейчас
склонно к употреблению терминов «язык-основа», «основной язык»,
«основные элементы», считая реальностью не только общеславянскую, но и индоевропейскую общность.
Но вернемся к вопросу о периодизации. А нельзя ли между киевской и современной эпохой выделить еще какие-нибудь этапы в
развитии русского языка? Во времена акад. И. И. Срезневского и А. И.
Соболевского еще не были достаточно изучены письменные
памятники средневековья и не ставился вопрос о промежуточной
системе языка. Сейчас памятники исследованы значительно больше.
Можно считать, что между состоянием русского языка в киевскую
эпоху и русским языком ХѴІ-ХѴІІ вв. и первой половины XVIII в.
существуют значительные различия. В языке происходит постепенный распад старой системы, который завершается уже в ХІХ-ХХ вв.
Может быть, явится возможным установить даже четыре периода в
истории русского языка1. Периодизация явлений — это предпосылка
для вскрытия внутренних закономерностей развития русского языка.
Построение курса исторической грамматики, не учитывающее
периодизацию, было неправильным.
История русского литературного языка — самая молодая дисциплина в языковедении. Едва ли ошибусь, если скажу, что расщепление истории русского языка на две самостоятельные дисциплины
(историческая грамматика и история русского литературного, языка)
было обусловлено педагогической деятельностью акад. В. В. Виноградова и проф. Г. О. Винокура, много занимавшихся вопросами
языка письменных памятников и отдельных писателей. Но и в этом
курсе есть пока значительные недостатки. Критикуя программу по
истории русского литературного языка, Виноградов указывал на то,
что история литературного языка понималась как цепь характеристик языка крупнейших произведений древнерусской литературы и наиболее известных писателей нового времени. При этом
лингвисты старались показать индивидуальные особенности языка
памятника или писателя. Это в лучшем случае, а в худшем — весь
1
В курсе лекций Б. А. Ларина можно четко выделить эти периоды в истории русского
литературного языка: киевский период, московский период, период становления
национального языка (приблизительно со второй половины XVII в. до А. С. Пушкина) и
современный (от Пушкина до наших дней). Публикуемый курс лекций заканчивается
анализом роли М. В. Ломоносова в развитии русского литературного языка. Прим. ред.
курс иногда строился на заимствованиях у историков или историков
литературы. Второй недостаток курса заключался в стремлении
обнаружить классовые различия в языке.
Незыблемым, однако, остается положение о необходимости изучать историю языка в тесной связи с историей народа.
Литературный язык возникает у нас, как и у многих других европейских народов, в эпоху феодализма. В последние годы сложилось мнение, особенно в связи с изучением языка младописьменных
народов, что литературный язык формируется еще до создания
письменности. Постепенно термин «литературный» (письменный)
заменяется терминами «культурный», «общий», «койне». Язык, созданный для нужд всего общества, обычного права, трудовой практики, заклинаний, молитвенных обращений и особенно для фольклора, устной словесности, был поистине общенародным языком,
понятным всем членам родо-племенного союза (в этом убеждают нас
и современные этнографические наблюдения).
В феодальную эпоху, когда возникает письменность, общество
уже классово дифференцировано и письменность является в
основном привилегией господствующего класса. Нельзя объявлять
грамотность всеобщим достоянием народа в первые века письменности. Конечно, кое-кто из торговых и мастеровых людей мог быть
грамотен, но утверждать, что грамотность в Киевской Руси была чуть
ли не поголовной, неверно. Если озорные надписи на стенах
новгородского Софийского собора были сделаны действительно
строителями или, скорее, живописцами, то из этого еще не следует,
что литературный язык был достоянием всего народа1.
В раннефеодальную эпоху рядом с литературным языком существовал и продолжал развиваться в устном творчестве язык народа. И
кто бы ни создавал письменные литературные памятники, он
создавал их на основе общенародного языка. И этот язык послужил
предпосылкой для развития письменного языка.
Одна из задач курса истории русского литературного языка —
выяснение стилистического использования языковых средств, ибо
стилистика является предметом истории литературного языка, в
отличие от исторической грамматики. Здесь важно не увлечься со' Найденные при раскопках берестяные грамоты свидетельствуют о широком
распространении письма среди городского населения Новгорода в ХІ-ХІѴ вв. Прим. ред.
циальным моментом, но в то же время и не пренебрегать им. В каждом памятнике надо выделять и стилистические особенности, и
элементы общего языка. Основной недостаток существующих курсов
истории литературного языка — отсутствие предпосылок, которые
дали бы возможность определить путь развития литературного
языка в отвлечении от частностей.
История показывает, что развитие литературного языка постоянно связано с общим разговорным языком, хотя их взаимоотношения меняются даже в сравнительно короткие промежутки времени. Задача курса: установить взаимодействие типов литературного
языка с общенародным языком на различных этапах исторического
развития русского общества.
О происхождении русского
литературного языка
Противопоставление двух различных взглядов на происхождение
русского литературного языка известно нам с начала русской письменности. Сейчас установилась традиция противопоставлять две
теории происхождения русского литературного языка: «старую»
теорию акад. А. А. Шахматова и «новую» теорию акад. С. П. Обнорского. Это недопустимое упрощение истории вопроса. Считаю, что
можно говорить только о различных приемах аргументации, о ее
расширении и уточнении.
Ответ на вопрос о происхождении письменности у восточных
славян дает «Повесть временных лет». В летописи говорится о том,
что книги (грамота славянская) пришли к нам из Византии через
Болгарию. С начала научной разработки истории русского языка
акад. И. И. Срезневский и его ученики приняли это летописное сообщение и по-своему аргументировали данное положение. По существу, выводы Срезневского1, о которых Обнорский говорит в своих
«Очерках по истории русского литературного языка старшего
периода»2, совпадают с версией «Повести временных лет».
1
См.: Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. Спб., 1850, с. 93-99.
См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода. М,—Л., 1946, с. 4-5.
2
Аргументация Срезневского опиралась на данные сравнительной
грамматики славянских языков. Устанавливая отличия древнерусского языка от церковнославянского, Срезневский исходит из
признания приоритета церковнославянского языка как языка, уже
обработанного, установившегося, имевшего более чем вековую традицию. Дальнейшая история русского литературного языка представлялась ему как постепенное проникновение в церковнославянский язык элементов русского народного языка.
Акад. А. И. Соболевский по этому вопросу писал: «Русским литературным языком сделался церковнославянский язык русского
извода. (...) Церковнославянский язык был для Руси языком литературы в течение всего древнего периода русской истории, т.е. до конца
XVII в. (...) Русские переводчики и авторы, сами того не замечая,
постоянно подновляли церковнославянский язык, но эти подновления были относительно слабы, и в общем он оставался все тот же в
своих звуках, формах, словаре». И выше: «Само собою разумеется, в
первое время распространения у нас церковнославянских текстов
русской оригинальной литературы совсем не существовало, (...) и мы
едва ли ошибемся, если скажем, что даже к концу домонгольского
периода собственно русские труды совершенно терялись в массе
перенесенных из Болгарии текстов и по числу и по объему едва ли
были более 1/10 этих последних»1.
Акад. Н. К. Никольский в своей работе «Повесть временных лет»
как источник для истории начального периода русской письменности и культуры» убедительно доказал, что известная версия «Повести
временных лет» о возникновении письменности у восточных славян,
принадлежащая Сильвестру, была создана в начале XII в. (около 1116
г.) по указаниям и в интересах киевских князей из дома
Рюриковичей. Эта запись летописи — результат решительной переработки летописного свода Х-ХІ вв.2 Основываясь на мастерском
текстологическом исследовании Шахматова, который установил ряд
вставок, разрывов и несоответствий в летописи, Никольский занялся
вопросом о том, какими идеологическими причинами определялась
эта переработка летописного текста.
1
Соболевский А. И. Русский литературный язык. — В кн.: Труды I съезда преподавателей
русского языка в военно-учебных заведениях. Спб., 1904, с. 364, 365.
' См.: Никольский Н. К. «Повесть временных лет» как источник для истории начального
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании,
вып. 1. Л., 1930, с. 102-104.
Уже Шахматов обратил внимание на то, что переработка «Повести временных лет» в своей основе имеет защиту так называемой
норманской теории происхождения русского государства1. У Силь-
вестра была определенная задача — доказать, что основы русской
государственности созданы Рюриком («варягами»), выходцем из
скандинавских стран, и что русская церковь — наследница Византии.
Эта легенда о призвании варягов понадобилась в XII в. для
укрепления власти киевских князей, которая начала колебаться из-за
возрастающей феодальной раздробленности.
Никольскому удалось убедительно доказать, что, кроме этой
версии о начале «книжного писания» на Руси, была и другая точка
зрения, другое толкование вопроса. В основном тексте летописи
говорится о крещении Руси князем Владимиром. Крещение Руси
представляется как насильственный акт, осуществленный сверху.
Однако в других частях летописи сообщается, что восточные славяне
получили христианскую веру от апостола Андрея, как моравские
славяне — от апостола Павла. Таким образом, по этой версии,
христианство начало проникать к восточным славянам чуть ли не в
первые века нашей эры. Но если оставить это известие в стороне как
мало правдоподобное, то мы имеем более достоверные свидетельства
о крещении княгини Ольги в 955 г., рассказ о гибели варяговхристиан, наконец, свидетельство трех договоров Руси с греками (911,
944, 971), которые указывают, что часть русских при заключении этих
договоров
принимали
присягу
в
христианском
храме.
Следовательно, в летописи имеются указания и на иное, чем
официальное утверждение Сильвестра, происхождение христианства
у восточных славян.
В своей работе Никольский приводит запись, которую он относит
к XI в.:
«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русский
языкъ ни откуду же прия вѣры сеа святыя, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ... А грамота русскаа
явилася богомъ дана въ Корсуни русину, — отъ нея же научися
философ Константинъ, и оттуду сложивъ и написавъ книгы
1
См.: Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов. — «Изв. АН. ОРЯС», 1904, т. 9, кн. 4, с.
284-365.
русскымъ языкомъ».
По этому свидетельству, князь Владимир придал христианству на
Руси только форму, устав («наряд») византийский. Грамота русская
ни от какого народа не была заимствована.
Однако положение о «самобытности» происхождения русского
литературного языка столь же мало помогает решению вопроса, как
и летописное («богом данная грамота»). Значительно больше сделано
для выяснения вопроса Никольским, который говорит, что в
древнейшую пору, в эпоху антов, восточные славяне находились в
тесном общении с западными славянами. По его мнению, связи с
Болгарией и влияние Византии начинаются только с конца Х-нача-ла
XI в. Широта культурных связей восточных славян с западными
славянами, со Скандинавией, с Кавказом, с Закавказьем и со Средней
Азией объясняет высокий уровень развития культуры: ремесел и
промыслов, архитектуры и военного дела, устного народного
творчества и древнерусской литературы и т.п. Термин «самобытность» можно принять лишь в одном значении — «независимость
древнейшего периода в истории культуры Руси от византийскоболгарского влияния». Но нельзя упрощенно представлять развитие
русской культуры в полной изолированности ее от внешнего мира.
Период Х-XI вв. — период христианизации Киевской Руси. Христианство стало обязательной, принудительно введенной религией.
Язык господствовавшей церкви — церковнославянский язык. Этого
никто не мог отрицать. Известно, что Болгария в X в. переживала
расцвет культуры, имела богатую литературу, в основном переводную с греческого. Не считаю нужным опровергать несостоятельную
версию о русском происхождении церковнославянского языка.
Предки болгар и сербов, ранее всего христианизированные, ранее
других и создали церковнославянскую письменность.
Никольский вскрыл и объяснил противоречия в летописи. Отражение вражды между западной (римской) и восточной (византийской) церковью содержится в поздних частях летописи, так как
разделение церквей произошло в 1054 г., следовательно, до второй
половины XI в. еще не могло быть враждебного отношения к западной церкви. Значит, византийская версия крещения Руси и происхождения русской письменности более позднего происхождения,
чем другие показания летописи по этому вопросу.
Христианизация наложила своеобразный отпечаток на старую
культуру Руси ѴІІІ-Х вв. Культура раннего периода резко отличалась
от культуры Руси конца Х-начала XI в. В научной литературе этот
период освещался по-разному.
Шахматов выдвинул теорию создания русского литературного
языка на основе церковнославянского (по происхождению древнеболгарского) языка. Однако с ранних лет увлекавшийся русской
историей, он всегда был больше историком, чем собственно лингвистом. Занятия историей позволили ему создать концепцию, согласно которой русский язык как часть культуры русского народа
должен рассматриваться на всей территории, занимаемой русским
народом, и во всем богатстве его письменных памятников.
Как все лингвисты прошлого века, Шахматов исследовал языки и
других славянских народов, что обогатило его построения многочисленными сравнительными материалами. Шахматов последовательно развивает идеи Срезневского. Как и Срезневский, он поддерживает основное положение сравнительного индоевропейского
языкознания о происхождении русского языка из единого праславянского языка. Однако во времена написания «Мыслей об истории
русского языка» Срезневского — в середине XIX в. — история
русского языка была изучена еще очень слабо: материалы не позволяли отчетливо различить, например, системы древнерусского и
старославянского языков, что в известной мере давало аргументы в
пользу праязыковой теории. Во времена Шахматова состояние науки
изменилось, зато догмат праязыка был аргументирован фактами
сравнительной грамматики индоевропейских языков еще сильнее.
Шахматов, развивая это положение, отводил любые данные, которые
противоречили праязыковой теории. Это привело лишь к тому, что в
его теории накопилось много скрытых противоречий, что
чрезвычайно показательно для состояния исторического языкознания в начале XX в.
Рассмотрим подробнее учение Шахматова о происхождении русского литературного языка. В нем ярко отразилась противоречивость
его воззрений. С одной стороны, Шахматов требует обращаться к
диалектным фактам, не ограничиваясь исследованием только письменных памятников; с другой стороны, никто так резко, как Шахматов, не противопоставляет древнерусский письменный язык языку
народному. Это противоречие объективно отражает то положение,
что русский литературный язык в древнейшую пору не представлял
собой монолитного единства. Правда, Шахматов никогда не говорит
об этом прямо, но такой вывод следует из всех его исследований. Чи-
тая теперь его работы, мы видим, что именно Шахматов больше чем
кто-нибудь другой подготовил следующие положения:
1) литературный язык феодальной верхушки Киева и народный
язык не одно и то же, а резко различные системы («древнеболгарский
язык был усвоен образованными слоями Киева уже в X веке» 1);
2) единство русского языка надо объяснять не существованием
праязыка, а громадным влиянием Киева как стольного города, т.е.
образованием государственного единства («Киев был центром общерусского племенного союза: смешанное население его, постоянный
приток иноземных элементов и в особенности близкое соседство с
Переяславщиной, где слышалось уже совершенно иное наречие (северское, отразившееся в современном южновеликорусском), — все
это содействовало образованию здесь языка, который стал бы общерусским, если бы Киев сохранил свое общерусское значение» 2);
3) письменный язык сначала развивается обособленно от народного языка, вне связи с живой речью широкой народной среды.
О начале письменности в Киевском государстве Шахматов говорит ясно и определенно: «...родоначальником письменного русского
языка следует признать церковнославянский, который, вместе с духовенством и священными книгами, был перенесен к нам из Болгарии. Но под инославянской оболочкой рано начал пробиваться
живой язык народа»3. Вся история русского литературного языка
представляется ему в виде борьбы народного языка с чуждым старославянским, как медленный процесс проникновения народных
русских элементов в состав старославянского. По его мнению, в современном русском языке старославянский слой очень велик, он
составляет чуть ли не 50% лексики, некоторую часть грамматических
форм, словообразовательных элементов и т.д.4
Однако надо обратить внимание на то, что об этом «импортном»
характере языка Шахматов говорит только для объяснения происхождения церковно-книжных жанров древнерусской литературы.
Когда же речь заходит о таких чуждых церковной литературе жанрах, как, например, судебник, известный под названием «Русской
1
Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка, ч. 1. Исторический процесс
образования русских племен и наречий. Пг., 1916, с. 81-82.
2
Шахматов А. А. Русский язык [в статье «Россия»]. — В кн.: Энциклопедический словарь
Брокгауза и Эфрона, т. 55. Спб., 1899, с. 580.
5
Там же, с. 579-580.
4
См.: Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941, с. 90.
правды», его мнение меняется. Впрочем, церковная литература
признается им истоком всей остальной письменности.
Шахматов убежден в огромном влиянии церкви в феодальную
эпоху: на церковном языке, по его мнению, не только писали, но и
говорили правящие слои Киевской Руси. Более того, он утверждает,
что письменный церковнославянский язык имел огромное влияние и
на язык народный («язык Киева в обоих его видах — язык городских
классов и язык духовенства — переходил отсюда в другие центры
Древней Руси, а из этих центров он различными путями просачивался и в деревенскую среду, в самую толщу народных масс»1).
Это положение он мотивирует наличием в народном языке таких
слов, как плащь, овощь, праща, виноградъ, сладкий, плѣнъ,
шлѣмъ, которые по фонетическим признакам являются старославянскими. Светский характер этих слов указывает на, возможно, еще
дохристианское проникновение их в русский язык. Важно и то, что
влияние церковнославянского языка на народный Шахматов
объясняет не только тем, что он был государственным, официальным
языком, но и древнейшими связями Руси с византийско-бол-гарской
культурой. Заимствование таких слов, как пардус, парус, уксус,
кровать, палаты и даже терем, коромысло, баня — слов бытовой
семантики, — подтверждает теорию Шахматова о древнейших,
дохристианских языковых связях Киевской Руси с Византией. Не все
указанные Шахматовым слова можно признать греческими
заимствованиями киевской эпохи (например, коромысло, баня, терем). Но даже если и сократить список предполагаемых заимствований, то все же его идея о древнейших связях Руси с Византией в
своей основе была верна. Последующие исторические и археологические исследования полностью подтверждают это положение.
С принятием христианства усиливается влияние староболгарского языка на народный. Шахматов считает, что такие слова в народном языке, как враг, вред, срам (страм), благой, средство, нрав,
храм, главный, время и даже преже, допреже, союз аще, усвоены
из церковнославянского языка уже с XI в. Следуя за акад. В. Ф. Миллером, Шахматов отмечает, что народная словесность Х-ХІ вв. содержит немало древнеболгарских и византийских элементов. Он полагал, например, что былина о Святославе, воспевающая его поход в
1
Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка, с. 82-83.
Болгарию (отраженная в «Повести временных лет»), создана не русскими, а болгарскими певцами. Он ссылается на славянизмы в былинах, записанных в XIX в. А. Ф. Гильфердингом, П. Н. Рыбниковым и
др. Но присутствию их в былинах можно найти и другое объяснение.
Если в XIX в. допустимо было гадать, относить или нет славянизмы
былин к Х-ХІ вв., то теперь это уже невозможно. Исследования текстов былин по записям XIX, XVIII и даже XVII вв. показали, что их
язык и текст резко меняются (вопреки старому мнению о традиционной окаменелости былинных текстов); меняются из века в век их
лексика, фразеология, грамматика (в зависимости от времени записи, от принадлежности сказителя к определенной диалектной среде
и т. д.). Трудно допустить, что славянизмы в былинах восходят прямо
к XI в. Следует учесть и медленность распространения христианства в
народе. Скорее всего там, где Шахматов склонен был видеть факты XI
в., мы имеем дело с явлениями более поздними, например XVI в.
В целом мнение Шахматова сейчас неприемлемо, но нельзя также
начисто отрицать возможность древнего проникновения некоторых
элементов церковнославянского языка в народную речь и поэзию.
Например, в русских диалектах не сохранилось сором (на украинской территории оно широко представлено), а слова срам, власть,
время прочно вошли в народный язык. Конечно, слово власть следует объяснить «прививкой» сверху, но рядом существует семантически обособленное волость, так же как наряду с исконным веред
диалекты знают проникшее из литературного языка вред. Итак, положительным моментом является разграничение Шахматовым языка
социальных верхов Киева и народного языка, признание раннего
воздействия церковно-книжного языка на народные диалекты.
Новым в воззрениях Шахматова было утверждение влияния
разговорного языка Киева на литературный язык той эпохи. Укажу
также, что положение Шахматова об образовании «киевского койне»
(общей речи) предполагает как свою предпосылку мысль о наличии
различных языковых групп, о многообразии древнерусских
«сельских» диалектов.
На ранних этапах своих исследований вопрос о «киевском койне»
Шахматов решает довольно примитивно. Он считает, что население
Киева в домонгольский период было в основном великорусским1
(вслед за историком М. П. Погодиным). Теория Погодина быяа
1
См.: Шахматов А. А. К вопросу об образовании русских наречий. — «Русский
филологический вестник», 1894, № 3.
развенчана уже во второй половине XIX в. Общепризнанным стало
утверждение того, что население Киева в XI в. составляли предки
украинцев, вернее предки всех восточных славян. В 1916 г. Шахматов
писал: «По лингвистической своей основе язык Киева был языком
южнорусского племени полян»1. Позднее он заявляет еще резче:
искать в Х-ХІ вв. великорусов на берегах Днепра невозможно; там
было скопление различных племен, но не предков великорусов2.
«Киевское койне» Шахматов противопоставляет этнической пестроте населения и социальной дифференциации диалектов Киевской Руси. Но ему чужда мысль о том, что социальные верхи Киева
имели в своем языке какие-либо народные элементы. Их литературный и разговорный язык — это язык церковнославянский, далекий от
народного. В своих исследованиях Шахматов почти игнорирует
жанровые различия языка киевской эпохи. Но это лишь в общих
формулировках, при переходе к частным вопросам он несколько
меняет мнение.
Шахматов признает церковнославянский (древнеболгарский)
язык государственным языком, указывая на то, что договоры Руси с
греками содержат множество старославянизмов. Это говорилось и до
него. Но следует помнить, что договоры писались до принятия
христианства, когда общая грамотность была еще слаба, и очень может быть, что они писались болгарами.
В классическом исследовании языка двинских и новгородских
грамот Шахматов показал его близость к современным новгородским
и архангельским диалектам3. Правда, это более поздние памятники.
Но в «Слове о полку Игореве» и «Русской правде» иное соотношение
русского языка с церковнославянским. («Слово о полку Игореве» в
первоначальном виде Шахматов считает поэмой, которая позднее
была передана средствами литературного языка, что сделано не
совсем удачно4.)
Итак, язык Киевской Руси, по мнению Шахматова, складывался
из четырех элементов: а) церковнославянский книжный ЯЗЫК;
1
Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка, с. 80.
2
См.: Шахматов А. А. Краткий очерк истории малорусского (украинского) языка. — В кн.
«Украинский народ в его прошлом и настоящем, т. 2. Пг, 1916, с. 688.
См.: Шахматов А. А. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв. Спб., 1866;
его же. Исследование о языке двинских грамот XIV в., ч. 1-2. Спб., 1903.
3
4
См.: Шахматов А.А. Федор Евгеньевич Корш (некролог).— «Изв. АН», 1915, №5.
б) язык былинной поэзии, впитавший элементы болгарского языка;
в) общий язык Киева («киевское койне») — результат скрещивания
племенных диалектов и г) язык крестьян, который Шахматов отождествлял с диалектами различных этнических групп.
Дальнейшее развитие литературного языка он представлял как
процесс постепенного проникновения в церковнославянский язык
элементов народной разговорной речи. С другой стороны, Шахматов
указывает, что после монголо-татарского нашествия, когда ведущие
культурные силы были сосредоточены на севере — в Новгороде,
Твери, Суздале, Москве, — начинается новый этап развития русского
литературного языка, характеризующийся стремлением сохранить
киевскую литературную традицию и усиливающимся воздействием
северных говоров. Киев теряет свое значение, центрами Руси
становятся вначале Новгород, Тверь, Ростов-Суздальский, а затем
Москва.
Преемственность культуры и языка Киева Шахматов понимал
иногда слишком упрощенно: язык Киева из новых, северных центров
распространяется в сельские местности. В первые века существования
Московского государства здесь, как и в Киеве, великокняжеский двор,
духовенство и боярство, владея книжным литературным языком,
стремятся сохранить его отличия от языка народа, борются с
проникновением в него элементов просторечия. С конца XIV в. и до
конца XVI в. в письменном языке наблюдается реставрация
церковнославянских элементов, и в то же время усиливается влияние
русской народной речи. Это явление, называемое обычно «вторым
южнославянским влиянием», объясняют тем, что поражение
Болгарии и Сербии в войне с Турцией привело к переселению в
Россию многочисленных представителей болгарского и сербского
духовенства и знати (например, митрополит Киприан, Пахомий
Лагофет, Максим Грек и др.). Но дело было, разумеется, не только и
не столько в появлении в Москве эмигрантов, хотя они и оказали
сильное влияние на развитие русской письменности. Борьба с
просторечием и воскрешение старых церковнославянских языковых
форм объясняется внутренними идеологическими причинами:
провозглашением русскими царями Москвы «третьим Римом»,
стремлением укрепить самодержавный строй для создания великой
всеславянской православной империи и пр. Результатом всего этого
явился еще больший отход языка книги от языка народных масс.
Дифференциация идет и дальше, теперь наряду с народными гово-
рами можно уже говорить об особенностях языка посадских людей,
т.е. о языке новой социальной группы.
Однако Шахматов, механически перенеся на Московское государство положение о языке Киева, т.е. свою теорию «стольного города»,
говорит о влиянии одной Москвы на формирование русского литературного языка. На самом же деле для этого периода характерны
расширение внутреннего рынка и международных связей Москвы,
создание русской нации, а вместе с ней и нового типа языка — национального языка.
По мнению Шахматова, только в XVIII в. был преодолен языковой
дуализм, резкий отрыв языка письменного от разговорного, языка
социальных верхов от народного. Большую роль в этом сыграло
упрочение культурных связей с Западной Европой, хотя степень
влияния западноевропейских языков Шахматов определяет
неправильно: благодаря культурным связям с Западной Европой
удалось сбросить гнет церкви и ее письменности, народные массы
России получили доступ к письменному литературному творчеству.
Что же касается заимствований из романо-германских языков, то это
влияние имело отчетливо классовый характер (чего не видел
Шахматов) и было недолговечным, поверхностным, захватив только
некоторые жанры литературы, связанным лишь с дворянским
обществом и дворянской литературой. Далее XVIII в. историческое
исследование Шахматова не простиралось. Он считал, что с этого
времени русский язык не изменился сколько-нибудь заметно: в этом
особенно проявился формалистический подход Шахматова.
Теория Шахматова господствовала вплоть до 1946 г. Из его школы
вышли два выдающихся современных лингвиста: С. П. Обнорский и
В. В. Виноградов. Обнорский в течение двадцати лет исподволь
пересматривал шахматовское учение. В 30-е годы им написаны
работы о языке договоров русских с греками, «Русской правды»,
«Слова о полку Игореве»1. В 1946 г. он объединил ряд своих исследований в книге «Очерки по истории русского литературного языка
старшего периода», где решительно опровергает положения Шахма1
См.: Обнорский С. П. «Русская правда» как памятник русского литературного языка. —
«Изв. АН СССР, 1934, № 10; его же. Язык договоров русских с греками. — В кн. Язык и
мышление, вып. 6-7. М.—Л., 1936; его же. «Слово о полку Игореве» как памятник русского
литературного языка. — «Русский язык в школе», 1939, №4.
това и Срезневского (впрочем, эту же точку зрения разделял и Со-
болевский) и доказывает, что русский литературный язык возник
совершенно самобытно, сложился и развился задолго до принятия
на Руси христианства1.
О развитии русского литературного языка можно судить по замечательным оригинальным произведениям, из которых в «Очерках
...» рассматриваются «Русская правда», «Поучение» Владимира
Мономаха, «Моление» Даниила Заточника и «Слово о полку Игореве». Все четыре части книги построены одинаково: в конце каждого
раздела дается общая характеристика языка памятника и отмечаются
основные особенности литературного языка старшей поры.
Обнорский не сразу пришел к таким выводам, которые произвели
коренной переворот в учении о происхождении русского литературного языка. Впервые он высказал свои мысли в 1934 г. в статье
«Русская правда» как памятник русского литературного языка», но
сформулировал их еще нечетко.
Нельзя сказать, что у Обнорского не было предшественников. В
русской лингвистической науке давно существовало два течения:
одни языковеды изучали различные славянские языки и рассматривали историю русского языка в тесной связи с другими славянскими языками, как единый процесс (слависты); другие изучали
русский язык вне связи с остальными славянскими языками (русисты). Представителями первого течения были И. И. Срезневский,
А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов и др. Вопрос о
происхождении русского литературного языка ими неразрывно
связывался с вопросом о старославянском языке и старославянской
письменности как общеславянской в эпоху средневековья.
Лингвисты-русисты, наоборот, стремились отчетливо противопоставить русский и старославянский языки и установить их различия и соотношения с самого появления русской литературы. Первым
русистом был М. В. Ломоносов. Хотя он и ставил задачу изучения
связей с другими славянскими языками (см. общую часть в его
«Российской грамматике»), но в практической части Грамматики он
ограничился чисто русским материалом. Ломоносов считал, что
«Русская правда» написана русским языком; он стремился противопоставить русский и церковнославянский языки, однако не давал
ответа на вопрос о том, в каких отношениях находились они в ранний
1
См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода, с. 197.
период1. Проф. М. Т. Каченовский также отмечал различие русских и
старославянских памятников, но и у него нет решения вопроса, лишь
констатируются различия языка разных памятников и жанров.
Впервые указал, что памятники необходимо различать по месту их
создания и диалектным особенностям, проф. М. А. Максимович.
Например, язык «Слова о полку Игореве» Максимович назвал
народным языком южной Руси (в этом отношении он является
предшественником Потебни). Он же впервые указал на яркие диалектные отличия «Слова о полку Игореве» от «Послания» Даниила
Заточника2.
В русской лингвистической науке неоднократно высказывалось
мнение, что XI в. нельзя считать началом нашей письменности, что
договоры Руси с греками писались на русском языке еще в X в., следовательно, письменность на Руси возникла до принятия христианства.
По мнению известного слависта акад. В. И. Ламанского, нет ничего
невероятного в том, что книги, которые показал Кириллу (Константину) в Крыму еще до изобретения им славянской азбуки некий «русин» (о чем сообщается в Паннонском житии Кирилла и Мефодия),
были русскими. Если в XI в. на Руси уже были свои крупные проповедники — выдающиеся ораторы, а также незаурядные писатели и
историки, то это не могло произойти чудом за два-три десятилетия3.
Письменность на Руси и своя собственная литература должны были
появиться, по крайней мере, за два века до принятия христианства.
Но памятники ранее XI в. не сохранились, очевидно, они погибли во
время монголо-татарского ига. Блестящая техника оформления
«Остромирова Евангелия», даже сами начертания букв этой рукописи, а также рукописей «Изборника» Святослава (1076), «Мстиславова
Евангелия» и других рукописей XI в. — все это говорит о том, что до
нас дошли не первые, а лишь относительно поздние памятники письменности. Акад. В. М. Истрин в исследовании о русском переводе
«Хроники Георгия Амартола» также пишет, что обработка русского
литературного языка началась задолго до принятия христианства4.
1
См.: Ломоносов М. В. Мнение о Шлецере. — В кн.: Билярский П. С. Материалы для
биографии Ломоносова. Спб., 1865, с. 704.
2
См.: Максимович М. А. Собр. соч., т. 3. Киев, 1880, с. 558.
!
См.: Ламанский В. И. Славянское житие святого Кирилла как религиозно-эпическое
произведение и как исторический источник. Пг, 1915, с. 166.
4
См.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. 2.
Пг., 1922, с. 246.
Таким образом, предшественниками Обнорского выдвинуты
положения: а) письменность на Руси восходит к дохристианской
эпохе; б) начало письменности было обусловлено необходимостью
переводов с греческого и других языков. Но это были не научные
выводы, основанные на анализе языка произведений русской литературы старшей поры, а лишь предположения и догадки. Обнорский в решении этих вопросов исходит из конкретного материала,
однако и он не считает свою теорию окончательной.
Путь, которым шел Обнорский, можно проследить, сравнивая его
работы 1934 и 1946 гг. Статья 1934 г. была посвящена исследованию
Синодального списка «Русской правды». Этот список привлекал к
себе пристальное внимание историков и лингвистов, как наиболее
древний (ок. 1282 г.). Ссылаясь на А. И. Соболевского и акад. Е. Ф.
Карского, которые посвятили языку «Русской правды» специальные
работы, Обнорский полностью присоединяется к их мнению о том,
что Синодальный список ближе всего к первоисточнику, что так
называемая пространная редакция «Русской правды» — древнейшая.
Историки же в то время располагали тремя дошедшими до нас
редакциями «Русской правды», хронологически следующими в
таком порядке: краткая, пространная, сокращенная. Дальнейшая
работа над текстами этого памятника не заставила историков
изменить свои взгляды; в конце концов к их мнению присоединились
и лингвисты.
О большей древности краткой редакции «Русской правды» свидетельствуют ее историко-юридическое содержание, краткость, наличие только двух списков, архаичность грамматического строя
языка. Это признает Обнорский в работе 1946 г. Но его предположение о хронологической близости пространной и краткой редакций
говорит о том, что и здесь сохранилась некоторая зависимость от
статьи 1934 г. Я не сомневаюсь, что и от этого тезиса скоро придется
отказаться.
«Русская правда» — памятник оригинальной литературы, судебник. В нем отражены нормы обычного права восточных славян,
относящиеся к эпохе, значительно более древней, чем время принятия христианства. Наличие в судебнике параллелей с правовыми
нормами других народов отнюдь не говорит о заимствовании, а является именно параллельным отражением аналогичной культурной
и социально-экономической стадии в развитии разных народов. В
пространной редакции отражен уже более поздний этап в развитии
права — законы вполне сложившегося феодального общества.
Содержание обеих редакций памятника указывает на существенные
различия между ними, но несовершенство наших историко-лингвистических знаний и методов исследования не позволяет обнаружить все глубокие различия в языке.
Формальный анализ языка произведен Обнорским детально,
мастерски, однако отдельные моменты вызывают сомнения. Своей
основной задачей при разработке каждого из четырех текстов Обнорский считает расчистку первообраза текста, скрытого под многочисленными наслоениями.
Попытки снять наслоения в языке древних памятников производились уже не раз. На основе изучения многих текстов было установлено хронологическое приурочение фонетических, морфологических и синтаксических изменений (например, написания пакы,
Микыфор — более ранние; паки, Микифор — более поздние; нозѣ,
руцѣ древнее, чем ногѣ, рукѣ). Однако письменность никогда не
отражает живой язык абсолютно точно, разрыв между письменным
и разговорным языком бывает иногда очень значительным, и часто
невозможно выяснить пределы их расхождений.
В реконструкции языка памятника помогает и филологическая
критика текста путем сопоставления отдельных списков. Но этот
путь возможен не всегда; например, «Слово о полку Игореве» дошло
до нас только в одном списке, да и тот погиб в 1812 г. «Поучение»
Владимира Мономаха также сохранилось лишь в одном списке (в
Лаврентьевской летописи). С «Русской правдой» дело обстоит лучше,
сохранилось много списков, группируемых в три редакции, однако
каждая переделка представляет собой почти что новый кодекс, здесь
нет единого текста.
Обнорский использовал для реконструкции текста все доступные
ему средства. Он, например, тщательно сопоставил некоторые
текстуальные совпадения двух редакций. Это хорошо. Однако Обнорский допускает и некоторые преувеличения. Так, все церковнославянские черты орфографии и языка памятника в обоих списках
краткой редакции он относит на счет поздних переписчиков. С этим
нельзя согласиться. Некоторые славянизмы были внесены из того
промежуточного списка, который был сделан в Киеве. Например,
основной синтаксической конструкцией «Русской правды» является
условное предложение с союзами оже, аже, аче, аще, или, а (встречаются также и бессоюзные условные конструкции). Обнорский
считает, что все случаи написания аще — искажения, внесенные
писцами. Однако доказательства этому нет, кроме одного случая с
аже, отмеченного в краткой и пространной редакциях. Обнорский
полагает, что текст первичного оригинала возник еще до влияния
церковнославянского языка на русский язык. Но как же можно допустить абсолютную чистоту русского языка при несомненном существовании сложных и очень древних культурных взаимоотношений
Руси с Византией и с Балканами? Этому соображению, по мнению
Обнорского, противопоставляется допущение, что «Русская правда»
возникла не в Киеве, а в Новгороде, поэтому никаких элементов византийского или болгарского влияния в ней и не может быть.
Углубляясь в историю русского языка более раннего периода, мы
должны или признать, что состав литературного языка дохристианской поры существенно отличался от состава литературного
языка Х-ХІ вв., или допустить более простое предположение, что в
деловых документах Х-ХІ вв. отразился общенародный русский язык
древней дохристианской поры (ѴІІІ-Х вв.). Такова точка зрения
Обнорского.
Существенным недостатком второй концепции является то, что
она снимает самую разработку вопроса о судьбах русского литературного языка древнейшего периода, языка эпохи племенных союзов. Кроме того, такая концепция сводит весь состав русского литературного языка к скудному языку деловой, юридической литературы. Сторонникам подобного взгляда приходится, как опасные
рифы, обходить вопросы, связанные с языком договоров русских с
греками, датированных X в. Именно отсюда и надо исходить при изучении начального периода истории русского литературного языка.
А Обнорский оставляет их в стороне, так как договоры написаны не
на русском языке, а, по мнению некоторых исследователей, на церковнославянском.
Я считаю упрощением вопроса говорить о чистой церковнославянской основе языка договоров. Так же несостоятельна и попытка
Обнорского объяснить все болгаризмы позднейшими наслоениями.
Некоторые историки литературы решают этот сложный вопрос
очень «радикально» (например, Истрин): они отрицают подлинность
договоров, считая их созданием позднего времени (эпохи Ярослава
Мудрого).
Для решения спорного вопроса об основе русского литературного
языка следует обратиться к истории русского общества, рассматривать историю языка в связи с историей народа.
Нам известно, как медленно, на протяжении длительного периода формируется общий национальный русский язык. Если ни Шахматов, ни Соболевский не видели типологической разницы между
русским национальным языком и языком народности киевского
периода, то мы не можем допустить этого. Единство восточных славян складывалось в Киевском государстве в процессе длительной
борьбы. При решении вопроса о происхождении русского литературного языка этого периода следует не упускать из виду того, что в
дофеодальную эпоху восточные славяне делились на целый ряд
родоплеменных союзов:
«Сущимъ от рода словѣньска и нарекошася поляне, а деревляне
от словѣнъ же... радимичи бо и вятичи от ляховъ. Бяста бо 2 брата
в лясѣх, — Радим, а другий Вятко, — и пришедъша сѣдоста
Радимъ на Сожю, и прозвашася радимичи, а Вятъко сѣде съ
родомъ своимъ по Оцѣ, от него же прозвашеся вятичи. И живяху
въ мирѣ поляне и деревляне, и сѣверъ, и радимичи, и вятичи, и
хрвате. Дулѣби живяху по Бугу, гдѣ ныне велыняне, а улучи и
тиверьци сѣдяху бо по Днѣстру... Имяху бо обычаи свои, и законъ
отецъ своихъ и преданья, кождо свои нравъ»1.
Только в условиях Киевской Руси, с прочным государственным
аппаратом и развитой культурой, начинается становление единого
(общерусского) языка на основе объединения старых родоплеменных
союзов и их диалектов. Нельзя сомневаться, что диалекты этих
племен были близкородственны между собой. Но нельзя и наивно
считать язык всей Киевской Руси единым.
Было бы неверно вовсе отрицать роль христианства и церкви в
развитии русской культуры. Культура раннего периода резко отличалась от культуры конца Х-ХІ вв. Надо помнить, что в средние
века в общий объем церковнославянской литературы входит не
только церковная письменность, но и вся философская и схоластическая научная литература. Церковные деятели оказали в свое
время положительное влияние на развитие культуры: их борьба с
кровной местью (пережитком родового строя), рабством, много-
женством, ростовщичеством имела положительное значение; развитие каменного строительства, архитектуры, фресковой (стенной)
' Цит. по кн.: Повесть временных лет. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц, ч. 1. Текст и
перевод. М. — Л., 1950, с. 14.
и станковой живописи, распространение книг, создание больших
библиотек — тоже в значительной степени дело церковников. Не
закрывая глаза на отрицательные явления и в то же время не преувеличивая положительной роли церкви, нужно отдать должное
тому прогрессивному, что церковь дала культуре русского народа в
Х-ХІІ вв. Широкие связи с южными странами, приезд оттуда ученыхцерковников, русское паломничество и т.д. — все это тоже имело
положительное значение.
Но абсолютно неверно предположение, что церковнославянский
язык был единственным литературным языком в Древней Руси. Еще
Соболевский противопоставлял «деловой» язык грамот языку церковных книг1. Затем Шахматов, а в недавнее время проф. Л. П. Якубинский достаточно отчетливо проводили положение: церковные
книги писались на церковнославянском языке, деловая литература —
на древнерусском. Но сложнее вопрос о такой литературе, которая не
относится ни к церковной, ни к деловой. Например, даже «Русская
правда» в древнейшей ее части — это деловой памятник, но в
позднем составе он уже осложнен элементами церковнославянского
языка. Еще интереснее вопрос о составе языка «Слова о полку
Игореве», летописей, произведений Владимира Мономаха,
«Послания» Даниила Заточника и т.д.
Если не противопоставлять два языка в Древней Руси — древнерусский и церковнославянский, тогда все просто. Но если различать
эти две основы, то приходится либо признать, что мы имеем дело со
смешанным характером языка в ряде наиболее важных и ценных
памятников, либо производить насилие над очевидными фактами,
что и допускали некоторые исследователи. Я утверждаю, что именно
русский язык сложного состава характерен для памятников ХІІ-ХІП
вв.2
' См.: Соболевский А. И. Русский литературный язык, с. 363-366.
Б. А. Ларин одним из первых стал возражать против концепции Обнорского, и это в ту
пору, когда большинство филологов безоговорочно ее принимало. Почти одновременно с
Лариным в Москве против теоретических положений Обнорского высказывался А. М.
Селищев, статья которого «О языке «Русской правды» в связи с вопросом о древнейшем типе
русского литературного языка» («Вопросы языкознания», 1957, № 4) появилась в печати
много позже. Проблема происхождения русского литературного языка была освещена В. В.
Виноградовым в исследовании «Основные проблемы изучения образования и развития
древнерусского
2
ГЛАВА 2
0^
Типы литературного
языка Киевской Руси (ХІХІІІ вв.)
Договоры русских с греками
Период ІХ-Х вв. — это время сложения государственных объединений в Приильменье и Поднепровье. К IX в. не восходит ни один из
письменных памятников. Здесь сведения восстанавливаются по
различным иноземным источникам. X в. уже отражен в письменных
памятниках, хотя и не в подлинниках, а в более поздних списках. Это
обязывает к осторожному анализу языка сохранившихся документов,
но не дает основания к скептическому пренебрежению этими
источниками.
Акад. И. И. Срезневский называет следующие памятники русского литературного языка X в.:
а) «Договор Олега с греками»;
б) «Договор Игоря с греками»;
в) «Обязательная грамота Святослава»;
г) «Поучение и Слово философа»;
д) «Символ веры»;
е) «Десятинная грамота князя Владимира»;
ж) «Сборник установлений князя Владимира»1.
литературного языка» (М., 1958). Трактовка вопроса Виноградовым во многом совпадает с
ранее высказанными Лариным положениями, отразившимися в его лекционном курсе.
Приходится пожалеть, что не состоялась тогда дискуссия по вопросу о происхождении
литературного языка, о полезности организации которой не раз говорил Ларин в те годы. Посвоему эту проблему решает Н. И. Толстой в статье «К вопросу о древнеславянском языке как
общем литературном языке южных и восточных славян» («Вопросы языкознания», 1961, № 4).
Прим. ред.
1
См.: Срезневский И. И. Славяно-русская палеография ХІ-ХІѴ вв. Спб., 1885, с. 95.
Кроме того, Срезневский указывал на распространение грамотности и книжности в Киевской Руси в X в., заключая, что до нас
дошли лишь единичные документы из большого рукописного наследия того времени. Имеется также ряд косвенных свидетельств о
наличии каких-то элементов письменности у восточных славян до
принятия христианства. Так, в сказании черноризца Храбра «О
письменехъ» говорится: «Прежде убо словѣне не имѣху книгъ, но
чрътами и рѣзами чьтѣху и гатааху погани суще»1 — «в древние
времена славяне не имели книг, пока они были язычниками, они читали и гадали по писанным и резным начертаниям».
Путешественники, географы и историки из западных стран, а
также арабские неоднократно говорят о существовании письменности у восточных славян: а) Дитмар Мерзебургский, германский
епископ в конце X в., упоминает о надписях на языческих статуях; б)
аль-Масуди, арабский географ, отмечает надписи на камнях; в) ИбнФодлан, описывая похоронный обряд, сообщает, что славяне ставили
на могильном холме столб из белого тополя, на котором писали имя
умершего и имя его князя; г) арабский писатель Ибн-Эль-Недимн в
«Каталоге книг» (987) говорит о славянских надписях на дереве и
приводит образец подобной надписи2; д) в конце XIX в. археологом В.
А. Городцовым были найдены глиняные сосуды и обломки с
письменными знаками типа рунических надписей; так, на
Алекановском сосуде (найден в окрестностях села Алеканово Муромской волости, Рязанского уезда) имеется 14 знаков. Причем сопоставление со скандинавскими рунами дало лишь два совпадения:
1-й знак = а, 13-й знак = ч3. Эти факты подтверждают, что у восточных
славян до принятия христианства уже существовали разнообразные
формы письма.
В житии св. Кирилла есть сообщение о том, что Кирилл (Константин) на пути к хазарам в 860 г. нашел в Корсуни евангелие и
псалтырь, писанные «русьскыми письмены», и что он «чловѣка обрѣт
глаголюще тою бесѣдою и бесѣдовавъ с нимъ в силу рѣчи приимъ
своей бесѣдѣ прикладаа различною писмена гласнаа и со-гласнаа...
1
Цит. по кн.: Срезневский И. И. Славяно-русская палеография ХІ-ХѴІ вв.
2
См.: Шницер Я. Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. Спб., 1903, с. 232.
3
См.: Городцов В. А. Заметка о глиняном сосуде с загадочными знаками. —
«Археологические известия и заметки», 1897, т. 5, № 12, с. 385. Сосуд хранится в Москве, в гос.
Историческом музее.
въскорѣ начав чести и сказати и мнози ся ему дивляху»1.
Но наиболее важным языковым источником X в. являются договоры русских с треками. Есть свидетельства византийских историков
о существовании договора 866-867 гг., но сам документ не дошел до
нас. Обоснование его существования дал проф. М. Д. Приселков, а
акад. Б. Д. Греков уже говорит о договоре без оговорок и сомнений2.
Сохранились тексты договоров от 907, 9113, 944 и 971 гг. Эти договоры
давно привлекали внимание историков и лингвистов.
Историк права И. Ф. Эверс доказал, что тексты 907 и 911 гг. являются не самостоятельными договорами, а частями одного договора.
Разделение договора на две части Эверс объясняет тем, что в 907 г.
еще шли предварительные переговоры о мире, а в 911 г. был заключен мир и составлен договор4. Это мнение держалось до 1914 г., т.е. до
того, как выступил акад. А. А. Шахматов со статьей о договорах с
греками5. (Следует указать, что Д. Мейчик в 1915 г. снова поддержал
взгляд Эверса6.)
Шахматов пришел к выводу, что извлечения из договора 911 г.
были сделаны Нестором и помещены под 907 г. по хронологическим
соображениям. Нестор предпринял попытку установить даты тех событий, которые были известны лишь по преданиям: 945 г. — смерть
Игоря, 912 г. — смерть Олега, 907 г. — поход Олега на Византию. О
походе Олега нет исторических свидетельств, но все же большинство
историков считает этот поход реальным фактом. Наиболее
убедительным надо признать один аргумент Шахматова: в тексте
договора 907 г. есть статьи, которые отсутствуют в договоре 911 г.,
однако второй текст договора содержит заглавия именно тех статей,
какие «перенесены Нестором» в 907 г.
Эта блестящая и остроумная гипотеза Шахматова разделяется
далеко не всеми. Большинство считает, что тексты 907 и 911 гг. представляют один договор, но в объяснении, как он был расчленен и
1
Цит. по кн.: Срезневский И. И. Славяно-русская палеография ХІ-ХІѴ вв., с. 49.
2
См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949, с. 119.
3
В некоторых исследованиях договор 911г. датируется 912 г.
4
См.: Эверс И. Ф. Древнейшее русское право. Спб., 1835.
5
См.: Шахматов А. А. Несколько замечаний о договорах с греками Олега и Игоря. — В кн.:
Записки Неофилологического об-ва. Пг, 1914.
6
См.: Мейчик Д. Русско-византийские договоры. — «Журнал Министерства народного
просвещения», 1915, сентябрь.
почему, не все согласны с Шахматовым. Высказываются следующие
соображения: так как известный нам текст «Повести временных лет»
есть результат ряда компиляций, то возможно, что уже в ранних
сводах были приведены извлечения из договора, а не полный его
текст. Возможно, что Нестор (или кто-либо другой), заметив повторения статей договора в своде, устранил дублирование цитат из
договора 911 г. Это текстологическое объяснение было бы проще и
убедительней. Впрочем, существенным основанием для сомнений в
правоте гипотезы Шахматова является разный характер языка договоров 907 и 911 гг.
Срезневский утверждал, что подлинники договоров написаны погречески, а потом уже переведены на болгарский язык. Его
аргументы таковы: наличие грецизмов, оставленных без перевода
(харатья, грамота и т.д.); кальки с греческого: глава — «раздел документа», златник — «золотая монета», проказа — «умерщвление»,
равно (неудачный перевод с греческого) — «список, копия» (равно
другаго съвѣщания — «копия прежнего договора»).
Другое пояснение: в греческом тексте могло быть ётаіроО —
«дружеского», которое по сходству произношения (то и другое
читалось еіёгй) переписчиками заменено словом ётёроО —
«другого». Отсюда и неправильный перевод равно другаго
съвѣщания (вместо «копия дружеского договора»). Путаница в
употреблении местоимений объясняется тем же смешением
переписчиками близких по звучанию слов: ѵрдѵ «вам, ваш» и гщгѵ
— «нам, наш» (то и другое читалось ітїп); йцеїс, — «вы» и гщеїс, —
«мы» (то и другое читалось ітїз).
Возможно, что некоторые искажения объясняются переводом в XI
в. текста договора на кириллицу с глаголических текстов. Так, со
всяком царем получилось вследствие неверного чтения с Иваном
царем (т.е. с Иоанном Цимисхием) в глаголической записи договора.
В части договора 907 г., пропущенной в тексте 911 г., особенно
драгоценны для историка русского языка следующие статьи:
«Да приходячи Русь слюбное (вместо слебное — «посольское»)
ем-лют, елико хотячи, а иже приходячи гости егда емлют
мѣсячину на 6 мѣсяць, хлѣбъ, вино и мясо и рыбы и овощемъ. И
да творят им мовь, елико хотят. Поидучи же Русь за ся, да емлють
у цесаря вашего браш» но и якори и ужа и парусы и елико им
надобе. И яшася греци. И рѣста цесаря и боярьство все: Аще
прийдуть Русь бес купли, да не взимают мѣсячины. Да запретить
князь сломъ своимъ приходящимъ Руси здѣ, да не творять
пакости в селѣх, в странѣ нашей же. Приходяще Русь да витают у
святого Мамы. И после(т) цесарьство наше и да испишут имена
их и тогда возмуть мѣсячинное свое первое от города Киева и
па(ки) ис Чернигова и ис Переаславля и прочий град(ы). И да
входят в град одними вороты со цесаревымъ мужемъ без оружьа
муж 50 и да творят куплю яко же имъ надобе, не платяче
(платити) мыта ни в чем же»1.
«Далее, русские послы должны получать по приезде (в Византию)
посольские дары, сколько захотят взять, а русские купцы должны
получать месячное содержание на шесть месяцев (хлеб, вино,
мясо, рыбу, плоды). И баню им надлежит топить столько раз,
сколько они захотят. А когда отправляются назад (на Русь),
должны получать у цесаря вашего пищу, якоря, снасти и паруса,
сколько им надо. И согласились греки; но оба цесаря и бояре
(византийские) потребовали, чтобы русские не брали месячного
содержания, если приедут без товаров, чтобы князь запретил
послам своим, когда онц сюда приходят, учинять грабежи в
стране Византийской. А жили бы русские в монастыре св. Мамы
— туда будут посланы цесарем чиновники, чтобы переписать
(всех приехавших) и после этого будут получать месячное
содержание: сперва те, кто приехал из Киева, потом — кто из
Чернигова, потом — из Переяславля и прочих городов. А в
стольный город (Византию) входить русским (всем) в одни ворота
без оружия с посланным от цесаря по 50 человек. И пусть
торгуют, как хотят, без уплаты пошлин».
Обратим
внимание
на
русские
формы
деепричастий
(приходячи, хотячи, поидучи, платяче), русское полногласие
(городъ, вороты, Переаславля, паволоки, паволочиты, узорочье),
русское одними, на характерную русскую лексику (мовь — 'баня';
слебное — 'посольское'; мѣсячина; гости — 'купцы'; ужа — 'снасти';
пакости — 'вред, грабежи'; надобе; за ся — 'назад, домой').
Славянизмы здесь встречаются те, какие были известны и
разговорному языку (ово-щемъ, градъ, брашно, витают).
Простота и ясность синтаксической структуры языка договора 907
г., так же как и приведенные словарные и грамматические элементы,
1
Цит. по кн.: Поли. собр. русских летописей. Изд. 2, т. 1, вып. 1. Л., 1926.
ясно указывают на запись изустного договора, а не на перевод
греческого
текста.
Проследим
формулировку
клятвенного
скрепления договора, которая опровергает факт позднего перевода
(в середине XI в.) и вместе с тем подтверждает сохранение в тексте
«Повести временных лет» выдержек из древнейших подлинных договорных записей X в.
В договоре 907 г. эта формула не приведена, а глухо упомянута:
«А Олга водивше на роту и мужь его по рускому закону, кляшася
оружьемъ своим, и Перуном богомъ своим, и Волосомъ скотьемъ
богомъ» — «а Олега и дружину его приводили к присяге по русскому
закону: они клялись оружием своим и Перуном — своим богом, и
Волосом — богом богатств». Во второй части договора 944 г. помещен
отрывок присяги: «Да не ущитятся щиты своими и да посѣчени
будуть мечи своими отстрѣлъ и от иного оружья своего». В заключение договора описан обряд: «(А не крещении Русь) полагають щиты
своя и мечѣ своѣ наги, обручѣ своѣ и (прочаа) оружья, да клянутся в
всемь яже суть написана на харатьи сей». А выше пояснено: «И да
заколенъ будеть своимъ оружьемъ [клятвопреступник]». Наконец, в
заключительной части договора 971 г. эта формула языческой
присяги русских князей и их дружины приведена полнее всего: «Да
имѣемъ клятву [проклятье] от бога, въ его же вѣруемъ в Перуна и въ
Волоса скотья бога и да будем колоти яко золото, и своимъ оружьемь да исѣчена будемъ».
Эти формулы и описания обряда не могли входить в состав греческого протокола и потому не должны рассматриваться как перевод
с греческого. Наибольшая полнота формулы в договоре 971 г.
заставляет нас высоко оценивать значение этого источника как памятника русского языка X в., напрасно отвергнутого акад. С. П. Обнорским в его исследовании о договорах с греками'.
Остановимся на истолковании «темного места» в клятвенной
формуле договора Святослава (971): «Да будем колоти (вар. золоти)
яко золото» — 'будем колоты (исколоты, проколоты), как золото', т. е.
как золотая пластинка (талисман, носимый на груди, как позже нательный крест), на которой пробивались, накалывались какие-либо
знаки, «знамена» вроде родового клейма Рюриковичей.
Акад. В. М. Истрин в статье «Договоры русских с греками X в.»
выдвинул гипотезу о позднем (в середине XI в.) переводе договоров с
греческого. Его гипотеза основана на ложном утверждении о «ди-
1
См.: Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками. — В кн.: Язык и мышление, вып.
6-7. М. — Л., 1936, с. 79-104.
кости» русских в X в., о полном пренебрежении их к письменным
документам, договорам, которые «русские варвары» будто бы так же
легко нарушали, забывали, как и заключали1. Истрин принимает
положение Шахматова о том, что тексты 907 и 911 гг. составляют
один договор.
В определении языка договоров в старых работах встречаются
расхождения: Срезневский определяет язык договоров расплывчатым термином «славянский язык», а Истрин (не лингвист) утверждает, что язык договоров есть язык русский, как и вообще язык всей
летописи, но, конечно, в том смысле, что это литературный язык того
времени, т.е. церковнославянский. От такого определения лингвист,
понятно, откажется. Однако всеми признается несовершенство
переводов.
Анализ договора 911 г. показывает, что здесь очень много «темных
мест». Именно на этом основании Истрин и строит свое предположение. По его мнению, договоры хранились в Византии и только
в XI в., при Ярославе Мудром, были извлечены из архивов, привезены
в Киев и переведены здесь русскими книжниками. Эта гипотеза
Истрина явно несостоятельна. Во-первых, русские в X в. уже имели
письменность и придавали большое значение договорам; во-вторых,
порядок заключения договоров в Византии был установлен еще в
ѴШ-ІХ вв. и строго соблюдался. (Договоры составлялись в двух
экземплярах: на греческом языке и на языке второй договаривавшейся стороны. Следовательно, Русь получала два документа:
греческий текст с подписью греческого императора и переводной.)
Язык договоров с греками далеко не однороден, не может быть отнесен к одному времени и существенно отличается от языка юридических памятников середины XI в., например «Правды Ярослава».
Обнорский в статье «Язык договоров русских с греками» также
считает, что договоры представляют собой перевод с греческого,
причем один из них (911 г.) сделан болгарином, другой (944 г.) —
русским книжником. Договоры 907 и 971 гг. Обнорский оставляет за
рамками своего исследования.
Методика и итоги исследования Обнорского никак не могут удовлетворить нас. Во-первых, он анализирует язык всех договоров
вместе, поэтому трудно судить о языковых различиях, теряется
хронологическая перспектива. Во-вторых, в целом ряде случаев Обнорский некритически следует традиции XIX в. (Шафарика, Микло1
См.: Истрин В. М. Договоры русских с греками X в. — «Изв. АН. ОРЯС», 1925, т. 29.
шича) в разграничении русских и церковнославянских элементов
памятников. Кроме того, он анализирует только лексику и синтаксис,
отказываясь от рассмотрения фонетики и почти не привлекая
морфологию. Непонятно, почему историк русского языка отдает
предпочтение именно лексике и синтаксису, если тексты — переводы. Наиболее важны тогда именно данные грамматики, словообразования, словарного фонда, а не синтаксиса и лексического состава.
Обнорский, возражая Истрину, говорит, что тексты внесены в летопись не по переводам XI в., а по переводам, современным их заключению. Язык договора 911г. архаичнее языка других договоров, а в
целом язык всех договоров архаичнее языка летописи, однако
Обнорский не сделал вывода о необходимости следующего из этих
наблюдений: нельзя говорить о едином языке договоров.
Мы познакомились с историей разработки вопроса о договорах
русских с греками. Теперь я изложу свое понимание этого вопроса.
Основы правильного анализа договоров созданы были филологами и историками в XIX в., и мы имеем только две специально
лингвистические работы, посвященные этим памятникам: это
исследование, написанное более ста лет назад Н. А. Лавровским,
учеником Срезневского, и статья С. П. Обнорского, написанная
сравнительно недавно1. Однако эти работы отнюдь не представляют
собой исчерпывающих исследований памятников. Лавровский
сделал очень много для объяснения самых трудных, «темных» мест в
тексте договоров. Путем восстановления греческого оригинала и
подыскивания параллелей в греческих документах, сохранившихся
от VII—XI вв., он обосновал положение о переводном характере договоров. Хотя и Истрин и вслед за ним Обнорский объявили, что
признание переводного характера документов является единственно
правильным и неоспоримым выводом из всего длительного изучения
памятников, я считаю, что это неверно. Неоспоримых, хотя и
частных, фактов, характеризующих эти документы в целом, гораздо
больше, чем одно, а само положение о переводном характере
договоров с греками нуждается сейчас в значительных поправках и не
может считаться неоспоримым.
Изучая историю текста договоров, исследователи, начиная с
Эверса, т. е. с 30-х годов XIX в., опирались на рассказ византийского
' См.: Лавровский Н. А. О византийских элементах в языке договоров русских с греками.
СПб., 1853; Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками.
писателя Менандра, относящийся к началу VI в., о том, как происходила процедура заключения договора греков с персами. Истрин
тоже исходит из этого сообщения, но скептически добавляет, что не
обязательно думать, будто в X в. договоры с русскими заключались
точь-в-точь по тому же ритуалу, в том же порядке, в каком
заключался договор с персами. Я думаю, что нет никакой нужды
обращаться для изучения дипломатической процедуры к такому
отдаленному памятнику, как сообщение Менандра, ибо в тексте летописи есть довольно подробные сообщения о том, как именно заключались договоры. Я приведу их, так как это имеет существенное
значение для всех моих дальнейших суждений и для тех поправок,
какие я хочу внести в установившееся понимание языка договоров.
Уже в тексте договора Олега (911) сказано:
«...Не точию просто словеснъ (словесы) и писанием и клятвою
твердою кленшеся оружьем своим... По первому убо слову да
умиримся с вами грекы', да любим друг друга от всеа душа и
изволениа... Но под-щимся елико по силе на сохранение прочих и
всегда лѣт с вами грекы исповеданием и написанием со клятвою
извещаемую
любовь
непре-вратну
и
непостыжму
(неподвижиму)».
Значит, договор заключается в порядке «исповедания и написания», т.е. сначала устная процедура, а потом ее запись. Здесь это
сказано глухо и кратко, а в последующем будет изложено весьма
подробно. В формуле ратификации договора Игоря (944), заключающей текст, сказано:
«...Послании же ели Игоремъ придоша к Игореви со слы
гречьскими и повѣдаша вся рѣчи цесаря Рамана. Игорь же призва
слы гречьския рече им: Глаголите, что вы казалъ цесарь (говорите,
что вам велел сказать цезарь) и рѣша ели цесареви: се посла ны
цесарь, радъ есть миру, хощеть мир имѣти со княземъ рускимъ и
любъве. Твои ели водили суть цесарѣ наши ротѣ и насъ послаша
1
По первому слову понималось до сих пор неверно — как утверждение первичности
договора 911 г., так понимают Шахматов и Обнорский. На самом деле по первому слову, как
это ясно из параллельных замечаний в тексте этого и других договоров, значит 'по ранее
заключенному договору' или 'в соответствии с прежде заключенным договором', иначе
говоря, это как раз указывает на то, что Договор 911 г. не был первым, а был одним из первых
договоров.
" Речь идет о клятвенной присяге, которая закрепляет договор, о его ратификации.
ротѣ водить тебе и мужь твоихъ»2.
Здесь же сообщается о соответствующей процедуре в Византии:
«Приела Романъ и Костянтинъ и Степанъ слы к Игореви постро-ити
мира первого. Игорь же глагола с ними о мирѣ. Посла Игорь мужѣ
своя к Роману. Роман же созва боляре и сановники. Приведо-ша
руския слы и велѣша глаголати и псати обоихъ рѣчи на харатьѣ». В
присутствии бояр император приказывает, чтобы послы предложили свои условия договора, а затем византийские дипломаты излагают свои требования, и все это было записано.
То же самое находим и в ратификационной формуле договора
Святослава (971); после изложения текста добавлено: «цесарь же радъ
бысть и повелѣ писцю писати вся рѣчи Святославлѣ на харатью. Нача
глаголати солъ вся рѣчи и нача писець писати». То есть для нас
совершенно ясно, что в основе своей договор представляет собой
протокол, запись изустных речей дипломатов той и другой стороны.
Византийские дипломаты говорили по-гречески. Значит, те статьи,
которые выражали претензии греков к русским, надо было перевести
с греческого на язык второй договаривающейся стороны (пока
ограничимся этой общей, не совсем ясной формулой). Что касается
речи послов киевских князей, то они, конечно, не могли быть
произнесены ни по-гречески, ни по-болгарски. Княжеские послы
говорили на том языке, на каком говорили в Киеве князья, бояре,
который понимал весь народ. Мы довольно уверенно можем сказать,
что это был русский язык, и речи русских послов записывались
дважды: в Константинополе писцами византийского императора и в
Киеве писцами киевских князей. О том, что в Киеве писцы были уже
в X в., свидетельствует текст договора 944 г., где есть статья,
предложенная Византией, в которой говорится, чтобы киевские
князья присылали (как это было заведено) списки своих послов и
купцов с каждой партией. Без этого византийский император
отказывался признавать их послами или купцами, явившимися с
честными намерениями. Следовательно, и до 944 г. в Киеве письмо
было хорошо известно и употреблялось в сношениях с Византией.
Если нет никаких сомнений в том, что записи речей дипломатов
Олега, Игоря и Святослава в Киеве были сделаны на русском языке,
то могут быть некоторые сомнения относительно точности передачи
речи русских послов в записях, составленных в Византии. При дворе
византийского императора, среди его переводчиков, чиновников для
внешних сношений не обязательно был русский переводчик или
чиновник, хорошо знавший русский язык. Но безусловно там были
переводчики на старославянский (древнеболгарский) язык, и более
того, значительная часть византийских дьяков, писцов, чиновников
хорошо знали древнеболгарский язык. В этом сомневаться не приходится, потому что сношения с Болгарией были очень интенсивные
и давние; нам хорошо известно, что при дворе византийского императора на высоких должностях находилось очень много южных
славян. Отсюда можно предположить, что если не все договоры, то во
всяком случае ранние, а значит, и первый известный нам договор 911
г. в Византии мог быть записан писцом, который хорошо знал
древнеболгарский язык, но совсем не знал или мало знал русский и
его отличия от болгарского. Следовательно, можно допустить, что
запись первого договора, сделанная в Византии, не совсем точно и
прямо отражала речь русских послов, а приближала ее к нормам
древнеболгарского литературного языка. С другой стороны, запись,
сделанная в Киеве, была несомненно точна.
Но можно ли предполагать, что язык киевских дипломатов был
чистым русским языком? Нельзя, потому что сношения русских с
южнославянскими народами были такие же древние, как сношения
Византии с Болгарией. Дипломатические, торговые и военные связи,
длившиеся много веков, не могли не отразиться в языке. Если в этом
языке, как показывают договоры, довольно много византийских
элементов, заимствованных из греческого дипломатического языка,
то тем более в нем должны быть заимствования из тогдашнего
болгарского литературного языка. Невозможно представить себе,
чтобы эти записи не имели ничего общего с древнеболгарским
языком, даже если они были сделаны в Киеве, и следовательно, точно
отражали язык русских дипломатов. Обе записи, вероятно, были
довольно близки, но, понятно, византийская имела облик, более
сходный с болгарскими документами, а киевская была ближе к общему тогдашнему русскому языку.
Обнорский поставил задачей своего исследования ответ на два
вопроса, заданных Истриным в его работе 1925 г.: на каком языке
написаны договоры? когда они были написаны — в X или XI в.? Нас
не может удовлетворить такая постановка вопроса о языке договоров
с греками. Здесь дело не только в том, чтобы помочь историкам более
уверенно пользоваться этими документами, не сомневаться в их
подлинности, но и в том, что договоры с греками, как правильно
указал еще Срезневский, являются важнейшими памятниками
русского литературного языка X в., притом первыми, какие нам известны и с которых надо начинать историю литературного языка.
Кроме того, это памятники, достаточно богатые по своему языковому
и историко-культурному содержанию. Следовательно, все это ставит
перед нами гораздо более важную задачу, чем та, которую решал
Обнорский: связать изучение договоров с греками с вопросом о
происхождении и первом этапе развития русского литературного
языка, с жизнью Руси в X в. и ее взаимоотношениями с другими народами, прежде всего с Болгарией и Византией.
Не случайно, конечно, Обнорский уклоняется от постановки таких
широких вопросов и не случайно, как я говорил, он не включил эту
свою раннюю работу в книгу, посвященную древнейшему этапу
развития русского литературного языка. Можно думать (хотя об этом
нигде прямо не сказано), что важнейшим соображением, которое
побудило его обойти вопрос о договорах с греками, является именно
то, что он полностью принял положение об их переводном
характере.
Как явствует из процедуры переговоров, документы были переводными только в некоторой их части, а не целиком, именно в той
части, где передаются условия, выставленные византийцами; в той же
части, где излагаются требования русских, это не перевод, а запись
речей наших послов. Но если даже допустить (как это предполагает
без достаточных оснований Истрин), что подлинные записи
договоров погибли и что только в XI в. были привезены из Греции
тексты на греческом языке (т. е. греческий перевод речей русских
послов и греческий текст речей византийских послов) и переведены
на русский, даже при этом предположении (неверном) невозможно
было бы исключить договоры из рассмотрения вопроса о происхождении русского литературного языка только потому, что они
переводные. Перевод и теперь, и на ранних этапах развития литературного языка побуждал, конечно, к некоторым (хотя всегда немногочисленным) насилиям над обычным типом литературного языка.
Только очень талантливый переводчик переводит так, что кажется,
будто это написано самим автором, а не является переводом. Переводчики посредственные или плохие всегда переводят так, что вы
сразу чувствуете, что это какой-то искусственный, не свой язык. Это
происходит оттого, что плохой переводчик рабски следует букве
чужого текста, переводя слово за слово, сочиняя кальки для передачи
слов, связанных с неизвестными нам понятиями, представлениями,
предметами, вводя иноязычные слова. Однако, несмотря на эти
отклонения от норм литературного языка, все же в основе своей
всякий перевод содержит существующие традиционные материалы
словаря и основные типы грамматической системы своего языка, а в
силу этого переводы могут и должны быть использованы при изучении истории языка. Но, говоря о переводах, нельзя упускать из
виду и их особые свойства, которые представляют исключительную
ценность для лингвиста. Почти всякий перевод заставляет переводчика создавать новые слова или обороты в тех случаях, когда в чужом
языке встречаются своеобразные, идиоматические выражения, не
находящие прямых соответствий в языке переводчика, или когда в
языке оригинала есть слова, которым нет никакого соответствия в
языке переводчика. Но при этом любой переводчик не создает чегото абсолютно нового, неслыханного и небывалого в его языке. Образуя какие-то новые обороты или новые слова, он целиком следует
основным законам своего языка, воспроизводит основные типы
словообразования, исходит из обычных, хорошо известных синтаксических конструкций. Таким образом, перевод, с одной стороны,
часто значительно обогащает литературный язык новыми словами и
оборотами, которые потом входят в широкий обиход, а с другой
стороны — всегда выделяет актуальные типы словообразований и
наиболее привычные типы построения фразы в данном языке. Поэтому изучение древних переводов приобретает еще более важное
значение для истории языка, чем изучение современных переводов
для понимания строя современного языка. Здесь мы легко определяем, что является для современного языка живым, а что архаическим, отжившим. Когда же речь идет об изучении языка памятника
далекого прошлого, различить то, что было тогда живым, производительным, от того, что было уже омертвевшим, чрезвычайно трудно, а иногда даже, как полагали некоторые лингвисты, невозможно. Я
не считаю, что это невозможно, но, действительно, чрезвычайно
трудно. И здесь язык переводов представляет объективные данные
для того, чтобы судить, какие модели, какие образцы, какие типы
склонений, спряжений, словообразований, построений фразы были
Живыми.
Итак, язык договоров с греками — не только в их оригинальной
части, но и в той части, которая является несомненным переводом с
греческого — представляет для историка русского языка первостепенный интерес, и с изучения именно этих текстов надо начинать
историю русского литературного языка. Более древних памятников
мы пока не знаем; остальное, что сохранилось от X в., — это уже
специфическая церковная литература, тоже не лишенная некоторого
интереса, но по сравнению с договорами она должна быть отодвинута на второй план. Таков «Символ веры», переведенный для
Владимира в Корсуни, и «Церковный устав», тоже написанный в
эпоху Владимира. Понятно, что договоры, затрагивающие широкий
круг вопросов, связанных с военным делом, торговлей, с внутренним
социальным бытом двух стран, представляют неизмеримо больший
интерес. Поставив себе такую задачу, мы иначе будем обращаться с
материалом, чем обращался Обнорский (основной метод
Обнорского — всячески упрощать себе поставленную задачу и после
сложной операции упрощения давать как можно более простой
категоричный ответ).
Начнем с того, что договоры датированы в летописи 907, 911, 944 и
971 гг. Еще Шахматовым доказано, что договоры 907 и 911 гг.
представляют части одного целого. Поэтому Обнорский говорит уже
только о трех договорах. Но он и на этом не останавливается. Договор
Святослава 971 г. очень короток, поэтому Обнорский отбрасывает и
его; остаются два договора — еще проще. Всем ясно, что «краткость»
— это неубедительный довод. Если бы в договоре было строчки две,
можно было бы обойти его, но это целая страница в издании
летописи (31 строка, не считая 8 вводящих строк). Исследуя два
оставшихся договора, Обнорский стоит перед вопросом: на каком же
языке они написаны — на древнеболгарском или древнерусском? Раз
в этом споре пока не найдено приемлемого для всех решения, то
Обнорский предлагает «суд Соломона»: один — болгарский, другой
— русский, т.е. договор 911 г. болгарский, а 944 г. русский. Таковы
выводы, а в ходе исследования он показывает, что в обоих договорах
язык однороден, без существенных различий. Те же единичные
факты, на которые он пытается опереться, чтобы подчеркнуть
различие языка этих договоров, допускают другой вывод. У
Обнорского истолкование этих фактов несостоятельно, факты
приведены неудачно. Договор 911 г. написан, по его мнению, на
древнеболгарском языке, но этому мешают статьи, помещенные под
907 г. Если Обнорский признал (вслед за Шахматовым и Ис-триным)
договоры частями одного целого, то это обязывает его договор 911 г.
рассматривать вместе с отрывками, помещенными под 907 г., потому
что они пропущены в тексте 911 г. Но Обнорский не делает этого.
Обходя статьи, которые записаны под 907 г., он считает их просто
более свободной передачей текста договора, сделанной летописцем.
Почему? Потому что там встречаются формы, разрушающие все
построение Обнорского, например, деепричастия на -чи —
приходячи, хотячи, поидучи, которых в дальнейших статьях нет.
Для признания языка договора болгарским это является камнем
преткновения — в болгарском деепричастных форм нет и никогда не
могло быть. Они могли быть только русскими. В статьях,
помещенных под 907 г., есть еще несколько русских конструкций и
такие полногласные формы, как городъ, городомъ, вороты. Подобных явно русских форм в тексте 911 г. нет, значит, Обнорскому
удобно не рассматривать эти статьи, решая вопрос о языке договора
911 г. Но это вольное или невольное злоупотребление.
Мы можем и должны изучать договоры 907-911 гг. вместе, как
единое целое, и тогда мы увидим, что в тексте есть много таких явных
русизмов, которые могли оказаться в договоре только в том случае,
если он был не переводом, а записью речи русских послов, как оно и
было для большей части этого текста, ибо там больше статей,
исходящих от русской стороны, больше претензий русских, чем
греческих. Но даже исключив статьи 907 г., Обнорский не мог не
видеть русизмов в тексте договора 911 г. Однако он находит им такое
простейшее объяснение: это позднейшие искажения текста договора
в летописи при переписке или редакторские изменения первичного
текста, в котором русизмов якобы не могло быть. Почему? Потому
что Обнорский уверовал в то, что это перевод с греческого от начала
до конца. А так как его выводы необоснованны и должны быть
решительно отклонены (за это говорит все описание процедуры
заключения договора), значит, мы должны считать, что язык
договора 911г., так же как язык договора 944 г., не является ни чисто
русским, ни древнеболгарским, а является языком со множеством
элементов древнеболгарского, хотя должен быть признан в своей
основе русским языком. Такое объяснение я считаю правильным, и
оно относится не только к договору 944 г., как говорит Обнорский, а
ко всем сохранившимся договорам — 911, 944 и 971 гг. В основе этот
язык русский; в тех статьях, которые записаны с речей русских
послов, он чисто русский, а там, где дан перевод речей греческих
послов, в нем больше болгаризмов, потому что переводчик, не нахо-
дя в русском языке сложившихся форм, выражений, необходимых
оборотов, прибегал к известным ему древнеболгарским словам.
Возможно и такое объяснение, что в руках летописца была не только
запись русских статей договора, сделанная в Киеве, но и перевод
византийских статей, сделанный в Византии писцом-болгарином.
Объяснение неоднородности языка договоров надо искать не в
том, что первоначальный текст подвергался значительным изменениям, редакционной переработке под пером летописца или переписчика текста летописи, а в том, что эти договоры представляют
собой механическое соединение записей речей русских послов и
перевода записей речей греческих дипломатов, который не всегда,
может быть, был сделан на Руси.
Рассмотрим теперь подробнее взаимоотношение текстов трех договоров. Это проиллюстрирует те положения, которые я до сих пор
высказывал. Кроме того, это позволит ответить еще на один важный
вопрос — можно ли считать, что на протяжении X в. русский язык
очень изменился (Обнорский утверждает, что разница между языком
договоров 911 и 944 гг. объясняется хронологически, что в тексте 911г.
язык еще имел очень архаический облик, а в тексте 944 г. он уже
близок к языку XI в. Такое предположение о существенном
изменении языка на протяжении 30 лет маловероятно.)
Для изучения вопроса о том, как, в каком направлении развивался русский язык на протяжении X в. (или совсем не изменялся и не
развивался?), чрезвычайно благоприятным является то обстоятельство, что значительная часть договора 911 г. повторяется в договоре
944 г., причем не только содержание, но и форма. Однако уже наперед можно сказать, что полного тождества текстов, полных текстуальных совпадений имеется относительно мало, а значительно
чаще те же самые положения, те же самые юридические требования
и установления в тексте 944 г. излагались в несколько иной форме по
сравнению с тем, что было в 911 г. Это касается не только давно
установившихся и хорошо выработанных формул начала и конца
договора; совпадения, и даже текстуальные, имеются также и в срединных частях, там, где выражается особое для каждого документа
содержание. Между этими двумя договорами и последним, 971 г.,
совпадений очень немного, и они как раз относятся только к формулам, что объясняется историческими условиями заключения договоров. Договоры 911 и 944 гг. завершили удачные походы русских на
Византию. Византия, которая платила огромные контрибуции, шла
на уступки, оговаривала в договорах самые жизненные, важные для
ее дальнейшего государственного и экономического существования
условия. Договор 971 г. заключен после неудачного похода Святослава, когда он был почти разбит. Договор этот содержит только обязательства русских по отношению к византийцам и никаких обязательств византийцев по отношению к русским, кроме разве одного —
прекратить войну. Это резкое различие ситуаций, изменение
соотношения сил и объясняет отсутствие больших совпадений в договорах, в отличие от близости двух первых договоров.
Рассмотрим ряд совпадений в договорах. Начнем с текста 907 г. —
части первого сохранившегося договора.
907 г.
«Аще прийдуть Русь бес купли, да не взимают мѣсячины. Да
запретить князь сломъ своимъ, приходящимъ Руси здѣ, да не
творять пакости в селѣх в странѣ нашей. Приходяще Русь да
витают у святого Мамы и после(ть) цесарьство наше и да испишут
имена их и тогда возьмуть мѣсячинное свое, первое от города
Киева и па (вар. паки) ис Чернигова и ис Переаславля и прочий
гради. И да входят в град одними вороты со цесаревымъ мужемъ
без оружьа: муж 40 и да творят куплю яко же им надобе. Не
платити мыта ни в чем же... Да приходячи Русь слюбное (вар.
хлебное1) емлют. Елико хотячи... поидучи домовь в Русь за ся, да
емлют у цесаря вашего брашной якори и ужа и парусы елико
надобе».
944 г.
«Аще придуть Русь бес купли да не взимають мѣсячна (вар.
мѣсячины), да запрѣтить князь сломъ своимъ и приходящимъ
Руси еде да не творять бещинья в селѣхъ ни в странѣ нашей. И
приходящимъ имъ да витають у святого Мамы. Да послеть
цесарство ваше (вар. наше) да испи-шеть (вар. испишють) имяна
ваша (вар. их). Тогда возьмуть мѣсячное (вар. мѣсячину) свое. Съли
слебное, а гостье мѣсячное. Первое от города Киева, паки из
Чернигова ис Переяславля (и ис прочих городов). Да входять в
городъ одинѣми вороты со цесаревымъ мужемъ безь оружья,
мужь 40 и да творять куплю, яко же имъ надобѣ, и паки да
исходять 40 мужь цесарства вашего (вар. нашего), да хранить я... И
отходящей Руси отсюда въеимають от нас еже надобѣ брашно на
путь, и еже надобѣ лодьямъ яко же уставлено есть преже (вар.
первое)».
Слово пакости («пакости в селѣх») русское, оно широко известно
во всех восточнославянских языках и в ряде западнославянских —
польском, чешском. Совершенно ясно, что это не болгарское слово. А
1
Надо читать слебное.
в тексте 944 г. оно заменено словом бещинья («бещинья в селѣхъ»),
явно заимствованным из болгарского литературного языка того
времени. Следовательно, в варианте 907 г. мы имеем первоначальный
русский текст, а для договора 944 г. характерен язык с элементами
церковнославянского (древнеболгарского) языка.
В тексте 907 г. приходяще Русь да витают — чрезвычайно важная для нас древнерусская конструкция, деепричастие в качестве
второго сказуемого. А в тексте 944 г. мы имеем уже оборот «дательный самостоятельный», чисто книжный и, по мнению многих исследователей, нерусский. Происхождение этого оборота остается до
сих пор неясным; одно известно: в русских народных говорах его нет,
нет и в других славянских языках. Его считают специфическим
образованием старославянского и древнерусского книжных языков (и
приходящимъ имъ да витають).
В договоре 944 г. после слов тогда возьмуть мѣсячное вставлено
пояснение съли слебное, а гостье мѣсячное, которого нет в соответствующем месте текста 907 г., хотя в другом месте первого договора мы читаем: Да приходячи Русь слюбное (слебное) емлют. В
договоре 944 г. это приведено как примечание, а в договоре 911 г.
изложено подробно. Значит, договор 907-911 гг. был хорошо известен, его помнили наизусть, и поэтому не было надобности повторять подробно то, что раньше было обстоятельно изложено.
В тексте договора 907-911 гг. написано и прочий гради, а в договоре 944 г. — и ис прочих городов; в договоре 907-911 гг. и да входят в град, в договоре 944 г. — да входять в городъ. Какой же текст
считать более древним? Можно ли видеть в тексте договора 907 г., где
град стоит вместо городъ, позднейшую поправку, как понимает это
Обнорский? Я думаю, что здесь как раз видно, что переводчик
договора 944 г. гораздо меньше зависел от своих болгарских учителей, гораздо шире и свободнее пользовался русскими формами,
русскими словами, русскими особенностями произнесения тех же
самых слов, какие известны болгарскому языку, тогда как переводчик
договора 907-911 гг. более следовал образцам, выработанным в
Болгарии для перевода греческого документа, и поэтому чаще сочетал болгаризмы с русскими конструкциями.
Дальше текст один, кроме различий полногласия и неполногласия в слове город. Но показательно, что в договоре 907-911 гг. после
фразы И да входят в град одними вороты следует не платите
мыта ни в чем же, т. е. русские купцы, приезжая в Византию, не
платят никаких таможенных сборов. Этой статьи в договоре 944 г.
уже нет, а вместо нее приписано: и паки да исходить 40 мужь
цесарства вашего, да хранить я. Это расхождение в тексте отражает
изменившуюся ситуацию. Во-первых, в 944 г. уже не так много
привилегий могут получать русские купцы, полное освобождение от
таможенных сборов также не допускается: они должны платить
наряду с другими купцами. С другой стороны, если раньше купцов
пропускали внутрь города, только обыскивая, чтобы не было оружия,
то теперь сорок купцов проходят в сопровождении сорока вооруженных воинов. Это показательное изменение. Хотя оно не связано с
языком, но заслуживает нашего внимания.
Наконец, под 907 г. есть еще одна статья о снабжении русских при
возвращении их домой, и ее текст выражен драгоценным для нас
оборотом. Сказано так: Поидучи Русь за ся — чрезвычайно краткая
формула, вся целиком русская. Выражение за ся (за себя) означает
'назад, домой' (назад от себя). Для позднейших переписчиков это
выражение было не вполне приемлемо, и потому один из них
добавил слово домовь.
В тексте 907 г. также читаем: «Да емлют у цесаря вашего браш-но
и якори и ужа и парусы елико надобе». Мы ожидали бы видеть
русскую форму борошно, а здесь брашно употреблено в значении
'пища', может быть, потому, что тогда не было обобщенного термина
с таким значением и употреблялась болгарская форма. (В современных украинских говорах борошно употребляется в значении
'мука'.) В русском изложении статьи мы находим два греческих слова:
якори и парусы, потому что в то время не было соответствующих
своих слов, так как в речном судоходстве не было нужды в якоре, а
паруса были другого вида, чем на морских судах. В договоре 944 г. это
место читается так: «И отходящей Руси отсюда въсимають от нас еже
надобѣ брашно на путь, и еже надобѣ лодьямъ яко же уставлено есть
преже» — 'уезжающие русские послы и купцы получают сколько
нужно пищи на дорогу и что нужно для кораблей, как это
установлено прежде' (ссылка на договор 911 г.).
Второе сопоставление. Центральная, важнейшая статья в договоре
911 г., которая названа во второй части законом русским, касается
убийства иноплеменника, т. е. убийства грека, совершенного заезжим
русином в Византии, или убийства русина, совершенного заезжим
греком на Руси. В договоре 911г. мы имеем три части. Одна часть —
общая — выражена неясной и несколько расплывчатой формулой.
Из этого я заключаю, что эта формула перенесена в него из того
предыдущего договора, который Приселков относит к 868 г., т.е. из
договора, заключенного почти на полвека раньше1. Дальше идет
часть, гораздо более четко и ясно сформулированная, об убийстве
(она повторяется в договоре 944 г., а первая часть больше не
повторяется). Третья часть этого раздела, где речь идет об увечьях,
побоях, драках, тоже повторяется позже. Вторая и третья части повторяются только в последующих договорах, но и в «Русской правде»,
хотя и в несколько иной форме. В первой части договора 911г.
читаем:
«А о главах иже ся ключит проказа урядимъ(ся) сице. Да елико
явѣ будеть оказании явлеными, да имѣют вѣрное (т. е. вирное) о
тацѣх явлении, а ему ж начнуть не яти вѣры, да кленется часть та
иже ищеть неятью вѣры. Да егда кленеться по вѣре своей и будеть
казнь, якоже явиться согрешенье».
Ясно, что отражен русский закон, но в формулировке, которая,
по-видимому, принадлежит византийским дипломатам. А дальше
эта скрытая формулировка раскрывается в совершенно четкой и
чисто русской форме, за немногими исключениями. Так что можно
думать, что мы имеем запись этой же статьи так, как ее излагали
русские послы, а не так, как записано в греческом тексте. Во второй
части читаем:
«Аще кто убьет или хрестьанина русин или хрестьянинъ русина,
да умрет, идѣже аще сотворит убийство. Аще ли убежит
сотворивыи убийство, да аще есть домовитъ (вар. имовитъ) да
часть его, сирѣчь ижа его будеть, по закону да возмет ближний
убьенаго. А и жена убившаго да имѣет1 толицем же пребудеть по
закону. Аще ли есть неимовит сотворивыи убой, и убежавъ да
держиться тяжи, дондеже обрящеться, и да умреть». — «Если
убьет византийца русский или русского византиец, он должен
умереть там, где совершил убийство. Если ему удастся скрыться,
то та часть имущества, которая принадлежит ему, по закону
должна быть отдана ближним убитого».
' См.: Приселков М. Д. Киевское государство II половины X в. по византийским
источникам. — «Уч. зап. ЛГУ», 1941, № 73, вып. 8.
Сопоставим эту статью с тем, что записано в договоре 944 г. От
первого положения насчет виры осталось только начало (аще ключится проказа), дальнейшее все отброшено. Вместо этого в договоре
944 г. добавлено, что греки не могут быть подсудны никому, кроме
цесаря византийского. Статья выглядит так:
«Аще ключится проказа никака (вар. нѣкака) от грекъ сущихъ
подъ властью цесарства нашего, да не имать власти казнити я, но
повелѣньемъ цесарства нашего, да приметь яко же будеть
створилъ».
Вторая часть в договоре 944 г.:
«Аще убьеть хрестьянинъ русина или русинъ хрестьянина, и да
дер-жимъ будет створивыи убийство от ближних убьенаго, да
убьють и. Аще ли ускочить створивыи убой и убѣжить, аще
будеть имовитъ, да возьмуть имѣнье его ближьнии убьенаго. Аще
ли неимовитъ и ускочить же, да ищють его, дондеже обрящется.
Аще ли обрящется (вар. обрящуть его) да убьенъ будеть».
В договоре 944 г. сказано, что имущество убийцы переходит к
ближним убитого, а в договоре 911 г. — если убийца «имовит», то все,
что ему принадлежит, по закону возьмут ближние убитого. Это
указывает на то, что у русских в начале X в. еще не было частной
собственности, а существовала коллективная собственность. Завершается вторая статья рассмотрением случая, когда убийца несостоятельный человек и скроется. В этом случае, когда бы его ни
нашли, вина на нем остается, и он должен быть казнен за убийство.
Наконец, третья и последняя статья этого раздела:
911 г.
«Аще ли ударит мечем или убьет кацѣм любо сосудомъ, за то
ударение или бьенье да вдасть литръ 5 сребра по закону рускому.
Аще ли не имовит тако сотворивыи, да вдасть елико может, да
соимет (с) себе и ты самыа порты, в них же ходит. Да о процѣ да
ротѣ ходит своею вѣрою, яко никако же иному помощи ему, да
пребывает тяжа отоле не взыскаема».
1
Ф. Миклошич исправляет: а иже убившаго иметь (см.: МікІозісЬ Рг. Повесть
временных лет. СЬгопіка ЫевІогіБ. ѴішіоЪопа [ѴѴіеп), 1860,5. 17.
944 г.
«Ци аще ударить мечемъ или копьемъ или кацѣмъ любо
оружьемъ (вар. кацѣм инымъ сосудомъ) русинъ грьчина или
грьчинъ русина, да того дѣля грѣха заплатить сребра литръ 5 по
закону рускому. Аще ли есть неимовитъ, да како можеть, в только
же проданъ будеть. Яко да и порты, в нихъ же ходять, да и то с
него снята, а о процѣ да на роту ходить по своей вѣрѣ, яко не
имѣя ничтоже, ти тако пущенъ будеть».
«Русская правда»
«Аще ли кто кого ударить батогомъ, любо жердью, любо пястью,
или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривнѣ. Аще сего не
постигнуть, то платити ему, то ту конець»'.
Это любопытная статья. Она не совсем так изложена в договоре
944 г., как в договоре 911 г. Прежде всего стоит подчеркнуть установление по закону рускому. Иначе говоря, в 911 г. греки хорошо
знают, что на Руси существуют на этот случай свои законы. Русский
закон здесь излагается так, как мы его находим в «Русской правде»,
только в несколько другой формулировке (это лишнее подтверждение того, что «Русская правда» имела долгую историю). И то, что
текст договора 911 г. не совпадает с текстом «Русской правды», как
нельзя лучше доказывает наивность предположения, будто в «Русской правде» мы имеем патриархальный кодекс в чистом виде. Из
сопоставления договоров 911 и 944 гг. ясно, что формулировка русского закона до записи в «Русской правде» существенно менялась.
Наиболее значительные различия содержатся в последней фразе
третьей части. По договору 911 г., тот, кто не в силах был заплатить
пять литров серебра, отдав все, что имел, вплоть до своих одежд,
должен был поклясться, что никто не может оказать ему помощь в
уплате штрафа. Это опять-таки указание на коллективное имущество
или на дикую виру (круговую поруку). А в договоре 944 г. в этом же
случае виновный клянется только в том, что никакого другого
имущества у него нет. Здесь речь идет о частной собственности.
Если уж упоминать о «Русской правде», то надо добавить, что там
дано объяснение, почему налагался такой большой штраф за побои.
Об этом прямо сказано в статье 4: «Аще утнеть мечемъ, а не вынемъ,
1
Цит. по кн.: Правда Русская, т. 1. Тексты. М., 1940, с. 70.
его, любо рукоятью, то 12 гривнѣ за обиду». Идея платы «за обиду»
характеризует «Русскую правду» и целиком отсутствует в договорах
начала X в.
Следующая статья, представляющая большой историко-культурный интерес, — о краже.
911г.
«О сем. Аще украдеть что Русин любо у хрестьянина, или пакы
хрес-тьянинъ у Русина и ятъ будеть в том часѣ тать егда татбу
сътворит от погубившего что любо. Аще приготовиться тать
творяи' и убьен будеть. Да не взищеть смерть его ни от хрестьанъ
ни от Руси, но паче убо да возьмет свое иже (Ипат. будеть)
погубил. Аще дасть руцѣ свои украдыи, да ят будеть тѣм же у него
же будеть украдено и связанъ будеть и отдасть тое, еже смѣ
створити, и створить триичи».
944 г.
«Аще ли кто покусится от Руси взяти что от людии цесарства
вашего, иже то створить, покажненъ будеть вельми. Аще ли взялъ
будеть, да заплатить сугубо. И аще створить, Грьчинъ Русину да
прииметь ту же казнь, якоже приялъ есть и онъ. Аще ли
ключится украсти Русину от Грекъ что или Грьчину от Руси,
достойно есть да възворотити не то-чью едино, но и цѣну его. Аще
украденное обрящеться продаємо, да вдасть цѣну его сугубо и то
показненъ будеть по закону гречьскому и по уставу и по закону
Рускому».
В договоре Олега речь шла не о штрафах, а о смертной казни за
кражу. Но если виновный сдается (поднимает руки), тогда его не
обязательно убивать: он будет связан и должен покрыть в тройном
размере убыток пострадавшему. Как видим, интересы законодателя в
911 и 944 гг. существенно различались.
Следующий отрывок, который совпадает в обоих договорах, —
это формулировка так называемого берегового права. В нем оговариваются обязанности греков и русских по отношению к купцам,
потерпевшим кораблекрушение. В договоре 911 г. это место подробно изложено, и возможно впервые в договорах с греками.
1
Миклошич исправляет: аще противиться татьбу творяи.
911г.
«Аще вывержена будет лодьа вѣтром великим на землю чюжю, и обрящуться тамо иже от нас Руси. Аще кто идеть снабдѣти лодию с рухлом своимъ (и) отослати паки на землю хрестьанскую, да проводимъ
ю сквозѣ страшно мѣсто, дондеже приидет в бестрашное мѣсто. Аще
ли таковая лодьа ли от буря (или) боронениа земнаго боронима не
можеть возборонитися1 в своа си мѣста, спотружаемся гребцем тоа
лодьа мы Русь, допроводим с куплею их поздорову. Ти аще
ключиться близъ земля грецкаа. Аще ли ключиться такоже проказа
лодьи Руской да проводимъ ю в Рускую землю, да продают рухло тоя
лодьи. И аще что можеть продати от лодьа, волочим (вм.
возворотим?) мы Русь, да егда ходим в Грекы или с куплею или въ
солбу ко цесареви вашему, да пустимъ с честью проданное рухло
лодьи их. Аще лучится кому от лодьи убеену быти от нас Руси или
что взято любо, да повинни будуть створшии прежереченную
епитемьею». — «Если выброшена будет бурным ветром или бурей
ладья (судно) на землю чужую и там окажется кто-нибудь из нас
русских и если кто пойдет помогать или оберегать это судно с его
грузом, то надо отправить его обратно в землю византийскую. Мы
должны проводить это судно через все опасные места, пока не
прибудет оно в безопасное место. Если же судно не может быть
спасено ни от бури, ни от земного нападения, мы должны помочь
гребцам этой ладьи и проводить их вместе с их товарами в целости и
невредимости. Так делать, если случится возле земли греческой. Но
если случится возле земли русской с судном русским, то надо
отправить его в землю русскую. Если можно распродать имущество,
оставшееся после кораблекрушения, то мы, русские, когда в другой
раз направимся в Византию или с куплей (т. е. торговать), или в
посольство к вашему царю, мы должны будем возвратить деньги за
проданные товары. А если случится, что кто-нибудь на этом судне будет убит или что-нибудь из имущества этого судна будет похищено,
то виновные будут наказаны, как указано выше (т.е. как указано за
убийство или кражу)».
944 г.
«Аще обрящють Русь кубару Гречьску въвержену на коемъ любо
мѣстѣ, да не приобидять ея. Аще ли от нея возьметь кто что, ли
человѣка поработить или убьеть, да будеть повиненъ закону Руску и
Гречьску». — «Если найдут русские кубару греческую, выброшенную
на берег в каком-нибудь месте, то пусть не учиняют никакого
1
Миклошич исправляет возвратитися, а я думаю, что лучше возворотитися.
насилия, не обидят ее команду. А если кто-нибудь возьмет с нее
товары, или человека захватит в рабство, или убьет, то он будет
отвечать по закону русскому и греческому».
В договоре 944 г. все изложено чрезвычайно кратко. Это ясно указывает на то, что дипломаты, составившие второй договор, хорошо
знали текст предыдущего договора, помнили его, и он был одинаково
хорошо известен и в Киеве, и в Византии. Не было нужды повторять
его полностью, поэтому в договоре 944 г. раздел о береговом праве в
несколько раз короче. В текстах обоих договоров совпадает только
слово вывержена — 'выброшена на берег'.
Последние слова в договоре 944 г. да будеть повиненъ закону
Руску и Гречьску совпадают с концом статьи о краже. А в договоре
911г. вместо ссылки на русский закон читаем: Да повинни будуть
створшии прежереченною епитемьею, из чего можно заключить,
что русский закон (предшествующий «Русской правде») в 944 г. уже
был признан греками наряду с греческим законом.
Никто не сомневается в преемственной связи договоров в этой
части, хотя, конечно, совпадения (а еще более предыдущие, где соприкосновение двух текстов было больше) чрезвычайно мешают
теории Обнорского (по его мнению, один договор написан первоначально в Болгарии, а другой — русским писцом в Киеве). В данном
случае особенно мешает слово вывержена, ибо оно не принадлежит
к широкоупотребительному составу словаря. Это редко встречаемое
слово, и притом, по признанию самого Обнорского, префикс вы-
является точным показателем его русского происхождения. Вслед за
другими исследователями Обнорский считает, что приставка выспецифически русская, а приставка из— славянская. Во второй части
этого утверждения позволительно усомниться, первая же является
почти неоспоримой, ибо южнославянские языки приставки вы- не
знают, она известна только западнославянским и восточнославянским
языкам. Значит, для решения вопроса о принадлежности текста
договора болгарским или русским переводчикам наличие глагола с
приставкой вы- имеет важное значение. И вот как раз в этой части
текста мы имеем указание на то, что договор 911г. не мог быть
переведен или составлен болгарином.
Еще одно сопоставление, и последнее, — это формула присяги,
клятвенного закрепления договора. Здесь встречается наиболее
развернутая повторенная несколько раз формула. В самом начале
текста 944 г. мы имеем такую оговорку:
«И иже помыслить от страны Руския разрушити таку любовь... да
приймуть месть от бога вседержителя осуженья на погибель въ
весь вѣкъ в будущий, и елико ихъ есть не хрещено, да не имуть
помощи отъ бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и
да посѣчени будуть мечи своими, от стрѣлъ и отъ иного оружья
своего».
И несколько ниже, в том же договоре:
«А иже преступить се от страны нашея, ли князь, ли инъ кто, ли
кре.
щенъ или некрещенъ, да не имуть помощи от бога и да будеть
рабъ
въ
;
весь вѣкъ в будущий и да заколенъ будеть своим оружьемъ».
И, наконец, третий раз, в самом конце договора, опять почти та
же формула:
«Аще ли же кто от князь или от людии Руских, ли хрестьянъ, или
не хрестьянъ преступить ее, еже есть писано на харатьи сей,
будеть до-стоинъ своимъ оружьемъ умрети. И да будеть клятъ от
бога и от Перуна, яко преступи свою клятву».
<
Как видим, с небольшими фразеологическими вариациями в договоре 944 г. трижды повторяется одна и та же клятвенная присяга. В
договоре Святослава (971) эта формула встречается только раз:
«Аще ли о тѣхъ самѣхъ прежереченыхъ (вар. не) съхранимъ азъ
же, и со мною, и подо мною, да имѣемъ клятву от бога, въ его же
вѣруемъ — в Перуна и въ Волоса скотья бога, и да будемъ колоти
(вар. золоти) яко золото и своимъ оружьемь да исѣчени будемъ».
Так же, как при сопоставлении раздела о береговом праве, мы
здесь видим, что третий договор подразумевает связь с предыдущим
договором не только по юридическому содержанию текста, но и
текстуальную.
Все проведенные нами сопоставления приводят к выводу, что
недопустимо отрывать исследование языка договора, скажем, 971 г.
от текстов двух остальных, что нельзя противопоставлять договоры
911 и 944 гг. как написанные в разной среде и на разных языках. Вернемся к обсуждению вопроса о болгарском происхождении текста
договора 911 г. Сколько-нибудь вероятной и правдоподобной эта
теория была бы только в том случае, если бы текст 911 г. был целиком
выдержан, и в грамматическом, и в словарном отношении, в строе
старославянского языка или если бы там были всего одна-две мелочи
(какой-нибудь
союз,
какое-либо
изменение
конструкции),
нарушающие нормы старославянского языка, что еще можно было
бы, хотя и не с полной достоверностью, считать позднейшим изменением текста под рукой редактора летописи или даже переписчика.
Но в тексте 911 г. много русизмов, причем отчетливых, неоспоримых.
Кроме того, элементы языка именно русского содержатся в таких
частях договора, которые не могли быть изменены позднейшими
редакторами или переписчиками.
Уже в первых строках, во вводной формуле мы встречаем выражение положити ряд — 'заключить договор'. Во всех трех договорах
есть соответствующая этому византийско-болгарская формула
построити мира, по-видимому выработанная задолго до 911 г. в
сношениях болгар с византийцами. Положити ряд является специфически русской формулой, и употребить ее мог только русский
дипломат. Если в этих текстах видеть непосредственную запись устных речей послов, то такое выражение не могло появиться в записи
переводчика-болгарина при византийском дворе, он бы довольствовался хорошо ему известной формулой построити мира.
Русскую же формулу находим в статье об убийстве, в летописи
читаем: «Иже ся ключит проказа, урядимъ(ся) сице. Да елико явѣ
будеть показании явлеными, да имѣют вѣрное»1. Далее встречаем
вывержена; отослати (слово, неизвестное старославянскому и широко известное в русских памятниках); спотружаемся (Миклошич
приводит только один случай употребления сходного старославянского глагола сопотруждатися); допроводим; поздорову; рухло (в
смысле 'груз, товар' — русское слово, в старославянском рухо); купля
(неизвестное старославянскому).
К этому надо добавить большое количество полногласных форм:
возборонити, боронения, боронима, полоняникъ, полонени, полоненыхъ, сторону. В той части договора, которая помещена под
907 г. и которую надо рассматривать вместе с текстом 911 г. (а не
отбрасывать, как это сделал Обнорский), мы имеем, во-первых, деепричастия: приходячи, хотячи, поидучи; затем русские слова:
ужа — 'снасти', домовь, пакости; и наконец, полногласные формы:
1
Предлагаю читать вирное.
городомъ, городъ, Волосомъ, одними вороты. Изобилие русских
элементов в лексике, фразеологии, фонетике не позволяет признать
болгарское происхождение этого договора. Никак нельзя было бы
объяснить наличие такого большого количества русизмов, если принять (как это и делает Обнорский) текст этого договора не за запись
речи, а за перевод с греческого, и притом перевод, сделанный болгарином. Если бы это был перевод с текста, сделанный по архивным
документам не русским, а болгарином, то ни один из этих русизмов
не был бы мыслим. В силу этого я считаю, что противоположение по
языку договоров 911 и 944 гг. совершенно несостоятельно. Все три
договора (911, 944 и 971) надо рассматривать как документы, отражающие состояние русского языка в X в., конечно, не в его полном
объеме, а в одном только типе языка юридического, дипломатического, правового, или, как шире стали его называть, языка делового.
Но вместе с тем нельзя не видеть, что язык договоров неоднороден. Он меняется с течением времени, и представляет большой интерес определить в какой-то мере направление этих изменений. Но
раньше я должен остановиться еще на двух-трех мелочах. Характеризуя договор 944 г. как отличающийся от договора 911г. большим
числом русских элементов, Обнорский указывает на частицы ти и ци
в тексте 944 г., но частица ти встречается (правда, один раз) и в
договоре 911г. Значит, нельзя считать, что это специфическая языковая черта текста 944 г. Если одна и та же частица встречается в
обоих договорах, то она не может быть использована для противопоставления одного другому. А Обнорский как раз считает, что эти
частицы сразу выдают русское происхождение составителей договора. Добавим, что частица ци широко употребляется в «Повести
временных лет», Переяславльской летописи, «Поучениях» Кирилла
Туровского, «Вопрошаниях» Кирика, Новгородской I летописи и в
документах московской эпохи.
Частица ти еще шире известна в старой русской письменности,
причем в двух различных значениях — и как союзная, и как под^твердительная частица1. Следовательно, отпадает и этот аргумент о
русской основе языка только договора 944 г.
1
Частицы ти и ци употребляются как соединительные или усилительные. Они.
переводятся как «же» или «и». Во всяком случае, это неоспоримые частицы, которые
употребляются чаще в союзной чем в какой-нибудь другой функции; их-можно даже назвать
союзами.
Указывая на старославянские элементы в языке договора 911 г.,
Обнорский отмечает слово паки как показатель языковой принадлежности документа. Однако мне представляется, что давно упрочившееся воззрение, будто паки — славянизм, неверно. Основано
было это сомнительное утверждение, вероятно, на том, что паки
широко встречается в церковнославянских текстах. Но надо посмотреть на это слово с другой стороны: имеет ли оно какие-нибудь
связи с живыми славянскими языками, которые помогли бы нам
решить вопрос о его древнейшем употреблении, до введения у нас
церковнославянской письменности. Мы знаем в русских говорах
целый ряд слов, производных от этого корня: пакать — 'повторять,
часто наведываться, угождать' (эти три значения я даю в исторической последовательности), пакша — 'левая рука', опачина (волжское) — 'рулевое, заднее кормовое весло', наконец пакость. Кроме
того, в польском известны глаголы орас/ус, ораколѵас — 'повторять',
прилагательное орасгпу — 'превратный, противоположный', наречия орак, паорак, паѵгерак и союзы рак, ракіі. Наконец, в чешском
языке — союз рак, существительное орасіпа — 'руль', прилагательное ораспу — 'противоположный' и т. д. Целое гнездо производных
от этого корня слов, распространенных и в восточнославянских, и в
западнославянских языках, исключает уверенность в том, что это
болгаризм, который может служить критерием для опознания болгарского происхождения какого-нибудь текста, памятника.
Наконец, еще одно частное замечание, которое, на мой взгляд,
подтверждает положение о том, что текст договора представляет
собой не перевод с документа, а запись изустной речи. Все крупные
главы выделяются, кроме заголовка, словами о семъ (о семъ, о
главах; о семъ, об убийствах; о семъ, о краже и т.д.). В позднейших
юридических документах, начиная с «Русской правды», во всех
судебных уставах ХѴ-ХѴІ вв. заголовки уже без формулы о семъ. Я
думаю, что эти два вводящих словечка соответствуют в устном
изложении юридического документа тому, что графически передается крупной заглавной буквой, абзацем, а в старое время выделялось разными рисунками, виньетками, заставками (рисунки
выделительного назначения легко показывают членение текста на
большие разделы). Но в устной речи средством выражения этого
членения была пауза, а также формула о семъ, позволявшая слушателю понять, что предыдущий раздел окончился и начинается
новый.
Остановлюсь еще на одной мелочи, которая тоже имеет, на мой
взгляд, довольно существенное значение. В договоре 944 г. перечис*
ляются члены мирной делегации, послы, причем послы разделены
на две категории: главный посол князя Игоря и обчии спи. По поводу этого термина у юристов имеется много всяких соображений и
сомнений. Для нас важно, что есть такое разделение и что обчии ели
являются послами не только княжеского дома, княжеской династии,
но и бояр из дружины князя, и бояр земских, т. е. землевладельцев из
племенных старейшин. В этом списке имена чрезвычай* но пестрые
по составу, непривычные и малопонятные. Часть этих имен,
возможно, славянские: Передслава, Улеб — 'Глеб', а, возможно, и
Прастѣнъ; часть скандинавские: Сфандр (Зѵаппеісѵг), Турдув
(Тпигёг), Руальдъ (Нгоаісіг), Алданъ Колъ Клеков (Нашіапг Коііг
Кіаккі); часть имен эстонского происхождения: Искусеви (Ізкшеші),
Каницар (Капігаг), Апубьксарь (РиЬрпкзаг), что указывает на прибалтийских бояр; есть упоминание о Ятвяге, что ведет нас к литовскому боярству. Но я обращу внимание на одно имя, которое до сих
пор не заинтересовало исследователей — Сфирка. Для объяснения
этого слова я привлекаю двоякое написание имени Прастѣнъ, ко-
торое встречается еще в виде Фрастѣнъ. Следовательно, можно понимать Сфирка и Сфирков как передачу имени Спирка и
Спирков. Кроме этого чисто технического довода о том, что русские
имена здесь передаются с колебанием п—ф, в пользу данного
предположения говорит указанное Грековым совпадение
приведенного перечня имен с перечнем новгородских погостов,
упоминаемых в одном из договоров XII в. В перечне погостов в
составе владений новгородского князя Святослава Ольговича
упоминаются Тудоров погост, Чудин погост, Ивань погост, Спирков
погост. Как видите, Спирка был крупным бояриномземлевладельцем, имевшим свои поместья в Новгородской земле.
Греков считает, что либо погосты названы по имени своих
владельцев, либо имена владельцев произошли от названий их
владений, примеров чему много.
Я не могу не обратить внимания в связи с этим и на второе имя. В
конце списка послов стоит Синко Борич (в Лаврентьевском списке)
или Синоко Биричь (в Радзивилловском и Академическом списках).
Уже историк Приселков обратил на это внимание и сказал, что
биричь здесь — указание на должность глашатая, который ездил по
площадям и объявлял волю князя, а в Киевской Руси — один из
дружинников князя, имевший, по-видимому, полномочия судебного
порядка и, судя хотя бы по наличию здесь этого упоминания, один
из дьяков, т.е. из помощников князя в его дипломатических
сношениях1. А Синко, вероятно, то же имя, что теперь Сенька.
Одно из чтений подкрепляет другое. Это показывает, что в составе
посольства были представители различных племенных групп —
эстонцы, литовцы, русские, варяги. Мы имеем здесь древнейшую запись середины X в. тех русских имен, которые подчас наивно считаем
заимствованными из греческого после крещения Руси, а правильнее
считать их славянскими именами дохристианского периода. Имя
Сенька надо связывать не с латинским именем Семён, а, вероятно, со
словом синий, как и имена Синерог, Синец, Синько и др.2, потому
что названия цветов имели когда-то символическое значение. Слово
биричь известно и за пределами Руси. Миклошич приводит его в договоре русских с Любеком (1206); правда, он приводит и чеш. Ьігіс3.
Значит, можно считать, что этот термин, хотя и не специфически
русский, однако и не общий для старославянского и русского языков.
Возможно, что последнее в ряду имен членов дипломатической миссии Игоря в Византию — имя того русского дьяка (по современной
терминологии, секретаря посольства), который вел запись. Поэтому
не исключено, что Синько Биричь и является автором первоначальной записи договора 944 г. Но если бы даже допустить, что запись
сделали какие-то другие люди, надо запомнить, что в составе делегации был биричь, т. е. служилый человек из дружины князя.
Какие же заключения мы можем теперь сделать из подробного
рассмотрения данных о языке договоров с греками? Прежде всего
надо считать достоверным, что все три договора являются важнейшими памятниками русского литературного языка X в. и что они
включены в летопись не в середине XI в., как думал Истрин, а в какието более ранние летописные своды в X в., из которых попали в
«Повесть временных лет».
Что же можно считать подлинным в дошедших до нас текстах
договоров в составе «Повести временных лет»? Некоторые ошибки
копиистов, переписывавших летопись, совершенно очевидны. Ска1
См.: Приселков М. Д. Киевское государство II половины X в. по византийским
источникам, с. 341.
2
См.: Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Спб., 1903, с. 354.
См.: МіісІ05ІсЬ Рг. Ьехісоп раіаеозіоѵепісо-дгаесо-іаііпшті. ѴіпсІоЪопа [\Ѵіеп], 1862-1865,
5. 22.
3
жем, во фразе отпусти слы одарив скорое и чалядью (944 г.) слова
скорое вместо скорою и чалядью вместо челядью ошибочны; здесь
стоял творительный падеж от слова скора — 'мех', а понято было
копиистами как прилагательное в форме среднего рода, быть может,
потому, что в XIV в., когда Лаврентий переписывал летопись, слово
скора на северо-востоке не употреблялось. Ясны и другие искажения
текста договоров — Борич вместо Биричь или лядех вместо олядех.
Но эти искажения легко устраняются при сопоставлении списков;
ошибки одного переписчика исправляются точным текстом в других
списках. Механические ошибки легко устраняются даже тогда, когда
все три списка содержат ошибки; они обычно совершенно очевидны.
Следовательно, очистить текст договора от позднейших искажений
не стоит большого труда.
Гораздо сложнее вопрос о редакторских заменах. Шахматов убедительно показал, что договор 911г. одним из редакторов летописи
разбит на две части — часть текста перенесена под 907 г., остальной
текст сохранен под 911 г. Шахматов показал и то, что, желая устранить противоречия, которые образовались при таком искусственном
разделении договора, редактор одного из летописных сводов сделал
некоторые изменения в тексте. Из имен трех византийских-цесарей
он оставил только два, потому что ему было хорошо известно, что
царь Константин в 911 г. не мог быть участником договора. Эти
редакторские изменения, наличие которых можно считать
доказанным, конечно, несколько мешают нам относиться с полным
доверием к сохранившемуся в летописи тексту и делать на его основе
какие-нибудь окончательные выводы. Но надо оговориться, что
редакторские исправления касались главным образом фактического
содержания договоров — редакторы опускали то, что их не
устраивало. Значительных вставок в текстах договоров не
обнаружено. Неполнота текстов в ряде мест очевидна, но вставок
словосочетаний, фраз пока никто не нашел, и вероятнее всего, что их
и не было. Если так, мы все же можем полагаться на тексты этих
договоров, хотя и неполные, как на документы X в.
Каков же был состав литературного языка? Я уже указывал, что по
текстам договоров нельзя характеризовать русский язык X в. в целом,
так как это деловой язык, т. е. только одна из разновидностей
литературного языка. Однако деловой язык всегда был ближе к живому разговорному языку, чем другие разновидности литературного
языка. Мы это наблюдаем во всей позднейшей истории русского
языка, в памятниках ХИ-ХѴІІІ вв. и, если хотите, до нашего времени,
хотя не в той мере, как раньше. Следовательно, даже то неполное
представление о начальном этапе развития русского литературного
языка, какое можно себе составить по этим договорам, имеет важное
значение для решения вопроса о происхождении литературного
языка, потому что несомненно, как это всегда и везде было, что в
основе каждого литературного языка лежит общеразговорный язык
дописьменной эпохи. И если в деловом языке мы имеем более
органическую связь с разговорным языком, то можно думать, что
здесь отражен более древний тип общего языка, чем в позднейших
памятниках.
До сих пор никто, кроме Срезневского, не начинал истории русского литературного языка с X в. Обычно древнейшим памятником,
на базе которого характеризовали начало русского литературного
языка, считали «Русскую правду». Правильно ли сделал Обнорский,
не включив в свою книгу вопрос о договорах с греками и начав
историю русского литературного языка именно с «Русской правды»?
Нет, неправильно. Если даже согласиться с теорией Ис-трина, что
договоры с греками были литературными упражнениями
переводчиков XI в., а не записью устных речей в X в., все равно язык
переводов как характерный для начального этапа развития
литературного языка должен быть пристально изучен. И в этом
отношении Обнорский напрасно не последовал за Истриным, посвятившим основные свои работы анализу древнейших переводов в
русской литературе. Но я считаю, что в договорах с греками мы
имеем переводы только в некоторых частях. Переводом можно считать формулы договоров, т.е. вводные и заключительные части их, и
статьи, содержащие условия греков. А центральные части представляют собой постатейную запись посольских речей той и другой
стороны. Значит, здесь переводными можно считать те статьи,
которые предложены византийцами.
Итак, сомнение в необходимости начинать именно с этих памятников историю русского литературного языка должно быть совершенно отброшено. Однако многие думают, что «Русская правда»
есть только поздняя запись очень древнего обычного права. Ряд исследователей истории права считали, что в «Русской правде» отражено обычное право VIII—IX вв. Надо сказать, что эта точка зрения,
пользовавшаяся широким признанием и в дореволюционное время,
теперь окончательно отвергнута: «Русской правде» посвящены три
капитальные исследования — Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова и С. В.
Юшкова1. Авторы этих работ, идя разными путями, пришли во
многих случаях к одним и тем же выводам. Греков изучал «Русскую
Правду» как социолог и историк, Тихомиров исследовал ее как
филолог, археограф и историк, и наконец, Юшков говорит о ней как
юрист, историк права. В книге Юшкова надо считать почти неопровержимыми всю аргументацию, весь ход исследования (в вопросе об
отношении текста «Русской правды» к обычному праву, конечно,
решающим является голос специалиста по истории права, а не
лингвиста, филолога и даже не социолога).
Юшков утверждает следующее: а) те памятники, которые объединяются под заголовком «Русская правда», прошли восемь этапов
длительного, постепенного сложения, постепенной выработки
окончательно установленного текста; б) «Русская правда» является
отнюдь не первым кодексом законов Киевской Руси. Как и Греков, он
с полным доверием относится к упоминаниям в договорах с греками
«русского закона» и на основе этих упоминаний считает, что запись и
систематическое изложение обычного права производились на
протяжении X в. несколько раз. Так как о русском законе как уже
сложившемся упоминает договор 944 г., то, следовательно, можно
приурочить первые своды законов, по крайней мере, к IX в., тем
более, что начало письменности на Руси пока нет оснований отнести
к более ранней эпохе, чем IX в. На протяжении X в., как думает
Юшков, обработка русского обычного права производилась
неоднократно: возможно, впервые при Ольге и вполне достоверно
при Владимире, в конце X в.
Таким образом, «Русская правда» даже в древнейшем виде, так
называемая «Правда Ярослава» (ее относят к 30-м годам XI в.), была
не первым сводом законов. Более того, она является не записью
обычного права, а только отражает старое обычное право, причем
чаще не положительным, а отрицательным образом, т.е. содержание
«Правды Ярослава» — это новые законы, отменяющие старое
обычное право.
Эту древнейшую часть «Русской правды» Юшков приурочивает
ко второму этапу ее истории, после свода Владимира. Дальше он намечает еще ряд этапов. К третьему этапу он относит «Правду Ярос1
См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949; Тихомиров М. Н. Исследование о «Русской
правде». М. — Л., 1941; Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение.
М., 1950.
лавичей», которую датирует 1072 г. Четвертый этап — объединение
древнейшего свода с «Правдой Ярославичей»; при этом некоторые
статьи пропущены, некоторые дополнены, и таким образом сложилась «Краткая правда». Пятый этап — обработка первой части
«Пространной правды», известной под названием «Суд Ярославля
Владимирича — Правда Русская»; это древнейшая начальная часть
«Пространной правды». Шестой этап — составление «Устава» князя
Владимира Мономаха (ок. 1113 г.), ставшего второй частью «Пространной правды». Седьмой этап — переработка и объединение
«Суда Ярославля...» и «Устава» Мономаха, в результате чего возникла
так называемая пространная редакция «Русской правды»; к этому
этапу относит Юшков и объединение «Русской правды» с
переводным «Судным законом» болгарского происхождения. Наконец, восьмой этап — составление третьей, сокращенной редакции
«Русской правды» — Юшков относит уже к XV в. Эта последняя
переработка сделана в Московском государстве для приближения
«Русской правды» к новым юридическим нормам.
Когда история текста «Русской правды» выяснена так детально и
обстоятельно, то уже нельзя говорить о том, что «Русская правда» —
это запись обычного права еще родо-племенной эпохи (скажем, VIII
в. или более ранних веков). Теперь ясно, что «Русская правда» (даже в
первой, краткой редакции) отражает во всех своих частях состояние
общества и юридические нормы XI в. или, может быть, в некоторой
части конца X в. Значит, нельзя считать, что «Русская правда» дает
нам возможность судить о состоянии русского языка в эпоху, более
раннюю, чем время заключения договоров с греками. «Русская
правда» должна занять свое законное место среди памятников
русского языка ХІ-ХѴ вв. От X в. мы имеем только договоры с
греками; остальные памятники письменности, возводимые к X в.,
важны скорее для изучения церковнославянского языка, а не
русского.
Каков же был русский литературный язык X в.? Рассматривая договоры с греками, мы видели, что самый ранний договор 907-911 гг.
содержит ряд совершенно отчетливых и неоспоримых русизмов, которые позволяют говорить о живой народной основе русского литературного языка X в., о чрезвычайной близости народного языка к
слагавшемуся в то время культурному языку ведущих общественных
групп, который уже, несомненно, достаточно сформировался и
нормализовался в X в.
Но можно ли говорить о каком-то чисто русском типе этого
древнейшего вида литературного языка? Нет, во всех трех договорах
наряду с русскими есть много элементов старославянских. Можно ли
предположить, что некоторая часть синтаксических построений и
грамматических форм старославянского происхождения была
внесена в эти договоры позже? Можно. А можно ли предположить,
что какие-то русизмы внесены в текст договоров позже? Нет. Однако
Обнорский сделал именно такое заключение, он утверждал, что
договор 911 г. был переведен болгарином, а договор 944 г. — русским.
Однако в обоих договорах есть и русские, и старославянские
элементы. Наличие русских элементов в договоре 911 г. Обнорский
объясняет тем, что позднейшие редакторы летописи заменили
старославянские формы слов и оборотов русскими, а в тексте 944 г. те
же редакторы заменили ряд русских форм и слов старославянскими.
Все это произвольные и ничем не оправданные допущения. У нас
нет оснований не доверять сохранности текстов договоров. В неко-
торых частностях текст мог подвергнуться позднейшей правке, но
при этом для ХІ-ХІѴ вв. можно предполагать только исправления в
сторону сближения с нормами старославянского языка, а не наоборот.
Почему? Потому что культурные, политические, религиозные
связи Киевской Руси с Болгарией и Византией с конца X до начала
XIII в. возрастают, а не ослабевают. Так как никто пока не оспаривает
того, что широкое распространение христианства относится к концу
X в., совершенно ясно, что только с этого момента в Киевскую Русь
стало приезжать все больше греческих и болгарских церковников, все
больше привозиться греческих и болгарских книг. Усиление
византийского и болгарского влияния и относится именно к XI в.,
может быть к началу XII в. Но затем оно быстро ослабевает. Следовательно, некоторые изменения в сторону старославянского языка
могли произойти только в XI в. и не позже начала XII в., т. е. именно
тогда, когда в основном и составлялся летописный свод, известный
под названием «Повести временных лет».
Какие же основания, какие доводы могли быть приведены в
пользу предположения о том, что кто-то в XI в. переделывал текст
старославянского облика на русский? Если прочесть целиком
«Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» Обнорского, то увидим, что при исследовании памятников XI и
XII вв. («Русской правды», «Поучения» Владимира Мономаха, «Слова
о полку Игореве», «Моления» Даниила Заточника) он постоянно
говорит о переделках, заменах в текстах этих памятников в сторону
старославянского языка. О том, насколько оправданны его реконструкции, я буду говорить потом, но важно, что позднее переработка
старых текстов всегда имела одно направление — славянизацию,
замену старых русских форм старославянскими, внедрявшимися в
XI—XII вв. очень широко. Значит, предположение о том, что договор
911г. был написан на болгарском языке, а потом каким-то летописцем переведен на русский, абсолютно неправдоподобно. А договор
971 г., который Обнорский отказывается рассматривать ввиду его
краткости, ясно показывает значительно возросшее влияние старославянского языка, по крайней мере, старославянской дипломатической терминологии и фразеологии, в последней четверти X в. В
этом договоре древнерусских элементов гораздо меньше, чем в
договорах 911 и 944 гг. Таким образом, рост влияния на старый рус-
ский культурный язык со стороны старославянского очевиден даже
из сопоставления языка трех договоров.
Связи с Болгарией и Византией завязываются у нас не с момента
принятия христианства, а, как известно из исследований историков и
археологов, по крайней мере с VIII—IX вв. Эти связи были достаточно
интенсивны в самом начале нашей эры и на протяжении всего
первого тысячелетия. Значит, невозможно представлять себе
развитие общелитературного русского языка на всех этапах без
воздействия со стороны Болгарии и Византии. Поэтому нет никакой
необходимости предполагать, что, скажем, древнейший договор 907911 гг. подвергся в значительной мере поздней славянизации, ибо
несомненно, что в X в. число болгарских и византийских элементов в
общерусском культурном языке было уже довольно велико.
Как я говорил вначале, акад. Н. К. Никольский начал разработку
вопросов о древних связях восточнославянских племен с западнославянскими и о древней основе общего языка, который почти не
имел элементов византийско-болгарских, но зато имел много элементов западнославянских и романо-германских1. Однако по этому
пути исследования пока ушли недалеко, вот почему освещать этот
этап, который нужно относить к VIII, VII вв., а может быть, к VI в.,
' См.: Никольский Н. К. «Повесть временных лет» как источник для истории
Начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем
русском летописании, вып. 1. Л., 1930.
но не к ХІ-Х вв., пока очень трудно. Можно сказать уверенно, что с X в.
русский литературный язык, только что сложившийся как литературный (потому что письменность началась не ранее IX в.), отражает уже позднейшие культурные связи с балканскими государствами — Болгарией и Византией, а не древнейшие — с западными
славянами1.
«Русская правда»
«Русскую правду» открыл крупнейший ученый и передовой общественный деятель первой половины XVIII в. В. Н. Татищев2. В 1738 г.
он обнаружил древнейший, точно датированный список этого
памятника, так называемый Синодальный список. Так как теперь
найдено уже свыше ста списков «Русской правды», то мы не можем
не признать случайностью то, что первым был найден именно древ-
нейший список. Но эта случайность сказалась на ходе разработки
памятника в течение XVIII и почти всего XIX в. Этот древнейший
список самым усердным образом изучался многими историками,
юристами и, сразу скажем, слишком немногими лингвистами. Впервые Синодальный список был издан литографическим способом (т.е.
путем полной копировки всех начертаний памятника) акад. И. И.
Срезневским, имя которого всем хорошо известно, — это
крупнейший исследователь истории русского языка. Второй раз Синодальный список был издан уже фототипическим способом акад. Е.
Ф. Карским только в 1930 г.3
Для лингвистов «Русская правда» до самого недавнего времени
представлялась единым и целостным памятником, и древнейший
Синодальный список признавали близким к архетипу, т. е. к первоначальному рукописному тексту. Историки уже давно ушли далеко
вперед в детальном изучении состава того памятника, который носит
название «Русская правда», и они проследили, как я уже упоминал,
далеко не простую историю этого текста. Они установили, что здесь
перед нами не один памятник, а ряд памятников, созданных в разное
1
См.: Корнеева-Патрулан М. И. К изучению состава и языка договоров русских с греками.
— «Уч. зап. МГУ», 1952, вып. 150. Прим. ред.
2
5
См.: Татищев В. Н. Русская Правда. Предъизвещение и примечания Татищева. Спб., 1786.
См.: Карский Е. Ф. «Русская правда» по древнейшему списку. Л., 1930.
время и имевших разную литературную судьбу. Несколько
юридических сводов разного состава включали то одни, то другие
части того, что мы привыкли называть «Русской правдой». Если вы
прочтете работу акад. С. П. Обнорского «Русская правда» как источник русского литературного языка», опубликованную в 1934 г., то
увидите, что еще не так давно крупнейший русский лингвист
продолжал рассматривать «Русскую правду» как единый памятник и
при этом Синодальный список — как лучший из всех существующих,
позволяющий нам очень просто восстановить исходный текст. Но
уже в книге «Очерки по истории русского литературного языка
старшего периода» (1946) в результате тщательного изучения работ
историков он меняет свою концепцию.
Для того чтобы более ясно представить место вопроса в истории
литературного языка, я должен сначала изложить, хотя бы коротко,
итоги исторических и историко-правовых исследований «Русской
правды», а потом уже заключить это характеристикой языка «Русской правды».
Историки уже в начале XIX в. пришли к выводу, что есть две очень
различные редакции «Русской правды»: краткая и пространная,
причем «Краткая правда» древнее, чем «Пространная правда». При
решении этого вопроса основывались на том, что смысл законов,
изложенных в «Краткой правде», соответствовал более древнему
облику общественного строя, юридических и экономических
отношений, чем содержание законов, изложенных в «Пространной
правде». В дальнейшем, когда были найдены и изучены другие списки, большинство исследователей пришло к выводу о существовании
не двух, а трех редакций «Русской правды». Кроме краткой и
пространной они выделили еще сокращенную редакцию. О месте и
времени создания этой третьей редакции также шли длительные
споры. Мне представляется, что только после появления исследования проф. С. В. Юшкова1 можно считать этот вопрос окончательно
решенным.
Еще сравнительно недавно крупнейший советский историк акад.
М. Н. Тихомиров утверждал, что сокращенная редакция древнее, чем
пространная, и что ее нужно поместить между краткой и пространной2. Однако Юшков доказал, что рассуждения Тихомирова
опирались на недостаточно тщательное изучение текста «Русской
' См.: Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. М., 1950.
правды» и в известной мере были обусловлены тем, что Тихомирову
был неизвестен один из списков сокращенной редакции, сохранивший до нас наиболее полный и верный текст. Юшков доказал, что
сокращенная редакция возникла значительно позже пространной и
является последней.
Первую, краткую редакцию относят ко второй половине XI в. или,
скажем, так (дальше нам понадобится расширить хронологические
рамки) — к ХІ-началу XII в. Пространная редакция датируется ХПначалом XIII в. И наконец, третья, сокращенная редакция, как считает
Юшков, отражает уже социальную базу не Киевской Руси, а
Московской централизованной Руси и является результатом
значительного изменения правовых воззрений и общественных отношений. Возникла она в ХІѴ-не позже начала XV в.
Вместе с тем историки давно установили, что необходимо выделять, кроме трех письменных редакций «Русской правды», еще и
«Русскую правду» предшествующей эпохи, когда она передавалась
изустно; будем называть ее «Патриархальной правдой». Первоначально она была, возможно, еще более краткой, чем известная краткая редакция. Вот это положение никогда не учитывалось лингвистами, не учел его и Обнорский. Если в статье 1934 г., посвященной
«Русской правде», он еще предполагал существование неписанных
источников «Русской правды», то в исследовании 1946 г. Обнорский
уже не говорит о более древнем источнике, чем записанная краткая
редакция. Отсюда неопределенность приурочения лингвистических
данных: до сих пор удовлетворительно не истолкован совершенно
очевидный разрыв между той формой «Краткой правды», в какой
она скопирована в XV в., и той, какую надлежит реконструировать
для начальной записи XI в., и для изустных преданий ІХ-Х вв.
Немало споров было и по вопросу о месте возникновения «Русской правды», и по вопросу о том, имел ли этот свод законов официальное значение, исходил ли он от верховной власти Киевского
государства или Московской Руси или был частным сборником актов.
Здесь мнения историков долго расходились. Меньшинство
признавало «Русскую правду» частным собранием законодательных
положений. Но постепенно накопилось достаточно аргументов в
пользу первого положения, и сейчас окончательно принято, что
1
См.: Тихомиров М. Н. Исследование о «Русской правде». М.—Л., 1941, с. 191.
«Русская правда» во всех трех существующих редакциях представляет
собой официальный законодательный кодекс, а не случайно
сделанную частным лицом запись каких-то судебных установлений.
Однако лингвисты и тут отстают. В работе Обнорского (1946) речь
идет о том, что судебник сохранял свое практическое значение кодекса законов с XI до XVII в. Это показывает, что четкому выделению
отдельных этапов в развитии и квалификации русских законов, какое
дали историки, в нашей лингвистической традиции противостоит
наивный, устаревший взгляд на «Русскую правду» как единый
памятник.
Каждая из трех основных редакций «Русской правды», как теперь
доказано, тоже не является вполне целостным и самостоятельным
памятником. Для нас особенно важно и интересно знать, каков состав
первых двух редакций — краткой и пространной, так как они
относятся к эпохе Киевской Руси, когда памятники деловой литературы, делового русского языка были очень малочисленны. Для
характеристики языка XI—XIII вв. «Русская правда» всегда стояла и
будет стоять на первом месте как исключительный по значению источник, тогда как для XIV и начала XV в., времени возникновения
сокращенной редакции, мы имеем уже огромное количество всяких
деловых документов, и «Русская правда», с точки зрения языка, не
может привлекать к себе большого внимания.
Краткая редакция, как это впервые высказано было еще И. Ф.
Эверсом в 30-х годах XIX в., представляет собой соединение двух
древних памятников: «Законодательного свода» Ярослава Мудрого,
который относят к 30-м годам XI в., и «Правды Ярослави-чей»,
которую относят к 70-м годам XI в.1 Кроме этих больших для своего
времени сводов сюда вошли еще два маленьких памятника, тоже
приуроченные ко второй половине XI или к самому началу XII в., —
это «Покон вирный», т. е. устав о вознаграждении судебных чинов
Киевской Руси, и «Устав мостником». Кстати, чтобы к этому не
возвращаться, я укажу, что большинство историков неточно и
несколько наивно понимают мост в нашем современном смысле
('мост через реку'), тогда как мост в древнерусском языке означал и
пол в доме, и мостовую, так как она покрывалась бревнами, а позже
досками, и мост через реку. Я должен об этом сейчас упомянуть,
потому что на наивном понимании слова мост построено
1
См.: Эверс И. Ф. Древнейшее русское право в историческом развитии. Спб., !835, с. 300-309,
358-367.
утверждение Тихомирова, что краткая редакция «Русской правды»
возникла в Новгороде, ибо, дескать, в Новгороде было много мостов,
а в других городах Древней Руси больших мостов или не было, или
они не имели существенного значения. Во-первых, историки уже
доказали, что в Киеве в XI в. был построен мост через Днепр,
технически более сложный, чем новгородские мосты через Волхов.
Но весьма существенным я считаю указание, что мост в этом памятнике надо понимать не только как 'переезд через реку', но и как
'всякое сооружение для укрепления дороги', т.е. и мостовую, ибо
улицы в больших городах мостили везде (об этом свидетельствуют
данные археологии, раскопок древних городов, где найдены остатки
мостовых XI в. и более раннего времени). Так вот, последний раздел
краткой редакции «Русской правды» посвящен вопросу об оплате
мастеровых, которые делают мосты.
Итак, краткая редакция состоит из четырех различных памятников, возникших в разное время и имеющих различное значение. Совершенно ясно, что «Устав мостником» и «Покон вирный» абсолют*
но не совпадают по содержанию с предыдущими двумя частями. Но
даже «Законодательный свод» Ярослава Мудрого и «Правда Ярославичей», в которых видели единое целое, по своему содержанию
совершенно независимы и отражают два разных, хотя и близких,
этапа в истории права и всего русского общества. Краткая редакция
не есть простое, механическое соединение четырех памятников, а
редакционная переработка их со многими сокращениями, заменами
первоначального текста. На это указывает и то, что некоторые статьи
явно усечены, сформулированы неполно, и то, что пространная
редакция, которая пользовалась в известной мере тоже «Правдой
Ярослава» и «Правдой Ярославичей» в их первоначальном виде,
содержит иногда большее количество статей, а некоторые из них в
более развернутом виде, что и позволяет считать так называемую
«Краткую правду» не соединением копий нескольких памятников, а
переработкой ряда памятников в один новый. Следовательно, приходится датировать краткую редакцию XI в.-началом XII в., потому
что «Правда Ярослава», по общему мнению, возникла в первой половине XI в., скорее всего в 30-х годах, «Правда Ярославичей» — в 70-х
годах, а остальные два текста — или в конце XI, или в начале XII в.
Значит, общая датировка четырех памятников должна быть более
широкой.
Несколько слов еще я должен сказать (потому что это встречается
в специальной литературе и имеет значение) по вопросу о том,
почему «Краткая правда», сохранившаяся только в двух списках,
найдена в составе Новгородской I летописи. В ней под 1016 г. сказано,
что Ярослав Мудрый после победы с помощью новгородцев над
другими князьями отпустил их домой с большими наградами и
дальше прибавлено: «И давъ имъ правду, и уставъ списавъ, тако
рекши имъ: «По сей грамотѣ ходите, якооюе списах вамъ, такоже
дерьжите»1. И вот историки, начиная с Татищева, долго принимали с
полным доверием эту фразу из Новгородской I летописи, которая
предшествует тексту «Краткой правды», и утверждали, что весь
памятник в целом и всю краткую редакцию «Русской правды» составил Ярослав для новгородцев в награду за помощь, которую они
оказали ему в борьбе за киевский престол. Но очень скоро стало ясно,
что этой фразе верить нельзя, ибо Ярослав в 1016 г., если даже мог
дать какую-то «Русскую правду» новгородцам, то только ее первую
часть, потому что она в тексте «Краткой правды» отделена от второй
указанием на то, что после Ярослава собрались его сыновья и
установили новое положение, которое именуется «Правдой Ярославичей». Значит, в крайнем случае, можно было бы доверять указаниям Новгородской I летописи только по отношению к первому
разделу краткой редакции, так называемой «Правде Ярослава».
Но акад. А. А. Шахматов (а за ним последовало и большинство
историков) в результате тщательного исследования пришел к выводу,
что даже «Правды Ярослава» не было в древнем составе Новгородской I летописи2. Шахматов основывал это утверждение на том,
что древнейший, лучший список Новгородской I летописи (тоже
Синодальный, потому что тот и другой хранились в Синодальной
библиотеке в Москве) не содержит «Русской правды». Отсюда Шахматов совершенно неоспоримо заключил, что текст «Русской правды» в Новгородскую I летопись попал не раньше конца XIII или XIV
в., а может быть, и позже, потому что известные нам списки, в
которых этот текст имеется, относятся к XV в. Да и более внимательное чтение всей Новгородской I летописи ясно указывает, что
здесь не могла быть помещена «Русская правда». В награду за по195 ^ИТ' П° КН,: Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М.—Л.,
2
См.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. спб., 1908.
мощь в борьбе за киевский престол Ярослав мог дать новгородцам
грамоту о привилегиях Новгороду по сравнению с другими городами
Древней Руси, о некоторой свободе новгородцев по отноше нию к
верховной власти киевского князя, своего рода конституцию,
ограничивавшую власть киевского князя над Новгородом. Могла
быть помещена, и, вероятно, была помещена, «Грамота Ярослава о
вольностях новгородских», а отнюдь не «Русская правда», которая не
упоминает о новгородцах, не оговаривает никаких вольностей для
них, а содержит указание на отношения между феодалами и
смердами, единые во всей Киевской Руси.
Следовательно, опровергается утверждение, что «Правда Ярослава» возникла в 1016 г., т. е. в самом начале XI в. Исторические разыскания привели к выводу, что Ярослав мог создать такой кодекс
только в 30-х годах, после ряда мятежей и восстаний, которые побудили к более четкой и суровой формулировке законов о наказаниях
порабощенного населения и смердов за нарушение прав и привилегий феодалов.
Пространная редакция не могла возникнуть в XI в., ибо здесь совершенно ясна значительная дистанция, которая отделяет социальные отношения, отраженные в «Краткой правде», от тех, какие нашли выражение в «Пространной правде». В «Краткой правде» еще
зафиксировано и признано существование кровной родовой мести,
пережитков родо-племенного быта дофеодальной Руси. В ней защищаются привилегии князя и близких к нему людей, его мужей, т.
е. членов княжеского совета, старших дружинников, крупнейших
феодалов и младших дружинников, младших слуг князя. В «Поконеу
вирном» мы тоже имеем установление прав членов княжеской дружины, творивших его правосудие в далеких от княжеского центра
волостях. «Устав мостником», состоящий из двух частей, присоединенный к «Русской правде» позже всего, не характеризует ее и не
имеет значения при решении вопроса о взаимоотношении разных
редакций.
В «Пространной правде», в отличие от краткой редакции, подробно и обстоятельно изложены законодательные установления,
охраняющие права боярства, а не князя и его двора. Привилегии
княжеского двора распространяются на боярство. (Боярство типично
для периода более развитого феодализма, это его характерное
отличие от строя предыдущей эпохи.) «Пространная правда» тоже
состоит из нескольких частей. То, что я сказал о распространении
княжеских привилегий на бояр, относится к первой части
«Пространной правды», которая, в свою очередь, делится на две: на
«Правду Ярослава» и «Правду Ярославичей». За этими двумя частями, близкими, но иначе изложенными, чем в «Краткой правде», в
«Пространной правде» следует «Устав» Владимира Мономаха, не
имеющий уже ничего общего с «Краткой правдой». «Устав» Мономаха, составляющий основную часть пространной редакции «Русской правды», защищает права феодалов на закрепощение рабочей
силы и отражает переход хозяйства феодальной Руси на все более
расширяемое землепользование, когда основой благосостояния
становится сельское хозяйство, тогда как для более древнего этапа
характерно было обогащение в результате военных походов, путем
дани, насильственно отымаемой у порабощенных или завоеванных
племен. Закрепощение холопов, смердов, превращение рабов и холопов в крепостных и попытки умножить способы закрепощения
свободных смердов отражают новый этап в развитии хозяйства и
общества Киевской Руси. Это уже XII—XIII вв. «Устав» Владимира
Мономаха относится к середине XII в., а окончательная обработка
«Пространной правды» была завершена в самом конце XII в. или
даже в первой половине XIII в.
Сокращенная редакция (скажу и о ней несколько слов) была последним этапом в истории текста «Русской правды». В ней отразились новые социальные и правовые установления и институты (как
говорят юристы) XIV или начала XV в. Однако и филологи, и
историки обратили внимание на то, что в сокращенной редакции
пропущены все те статьи, которые характеризуют ранний феодализм. По мнению Юшкова, «Сокращенная Правда потому понятнее
для нас, нежели Краткая или Пространная, что она переработана на
основе более поздних институтов и норм, и притом институтов и
норм более близкого нам московского права»1.
В тексте «Сокращенной правды» уже не встречаются огнищанинъ, смердъ, закупъ, рядовичь, кормилецъ, кормилица, ремесленникъ и ремесленница, потому что этих социальных категорий
на Московской Руси не было. Естественно, что составитель «Сокращенной правды», стремясь переработать на основе современного ему
строя, быта и судебной практики нормы «Пространной правды»,
исключил все статьи, в которых встречались устаревшие понятия. Он
1
Юшков С. В. Русская Правда, с. 69.
изъял также статьи о дикой вире, бывшей таким же древним
установлением, как кровная месть, о верви, которой уже не было на
Московской Руси, и т.д. Составление сокращенной редакции «Русской правды» показывает, считает Юшков, что «Русская правда» не
была отброшена сразу же после распада Киевского государства, а
долгое время существовала, причем делались попытки ее переработать на основе новых норм судебного процесса и обычного права.
В сокращенной редакции пропущены статьи о преступлениях
против телесной неприкосновенности феодала — явление совершенно новое, характеризующее иную социальную формацию. На-
казание за преступления против телесной неприкосновенности, как
выражаются юристы (мы бы просто сказали: наказание за побои,
неуважительное, невежливое обращение, толчки, удары и пр.), в
древнем нашем праве, в «Русской правде» первой и второй редакций,
предусматривалось как за величайшее оскорбление, наносимое чести
феодала, причем оценка этих преступлений иногда не сразу нам
понятна. Скажем, за то, что феодалу вырвут ус, наказание было
установлено гораздо более суровое, чем за глубокую рану на ноге, в
результате которой человек начинает хромать или вовсе может
потерять ногу. С точки зрения русского феодала, боярина, который
отпускал огромную бороду, это было обоснованно, потому что
волосы на голове или лице считались показателем социального
положения (стрижка бород при Петре I была страшным бедствием
для бояр). Поражение руки феодала тоже сурово каралось, потому
что рука нужна была ему, чтобы бить (кулаком, мечом, палкой,
жезлом, булавой). А нога была не очень нужна, ибо феодал представлял себя в обществе лишь на коне; повреждение ноги поэтому
рассматривалось как наименее оскорбительное и серьезное увечье. В
московскую эпоху взгляды резко изменились, теперь наказание
устанавливается «смотря по увечью», т. е. по характеру увечья и по
социальному положению человека. Тут уже карается и увечье, нанесенное крестьянину, потому что крестьянин — рабочая сила и
лишить феодала рабочей силы — это значит нанести ему большой
ущерб.
Последнее немаловажное отличие, которое заставляет противопоставить «Сокращенную правду» двум первым редакциям, заключается в следующем. В период раннего феодализма в судебном
процессе применялись ордалии (термин из истории права) — суд
божий в поле, а также испытание водой и железом, — т. е. когда судье не были ясны обстоятельства дела, не было бесспорных доказательств виновности обвиняемого или его правоты, то прибегали к
ордалиям, к суду божьему. Истец, т. е. пострадавший, кто возбудил
процесс, и обвиняемый выходили биться в поле, причем законом
допускалась замена — если истец или обвиняемый глубокий старик,
он мог вместо себя поставить молодого бойца. Другой вид ордалии,
когда обвиняемого бросали в воду: если утонет — значит виноват,
если выплывет — прав. Испытание железом заключалось в том, что
обвиняемого заставляли брать руками раскаленное железо: если
выдержит — значит прав, если не выдержит, признается — виноват.
Эти ордалии были постепенно забыты и отброшены, для
московского общества они уже не характерны. Юшков пишет: «С
развитием товарных, денежных отношений и ростом классовых
противоречий возникает следственный процесс — сыск или розыск.
Ордалии начинают уступать другим видам судебных доказательств:
показаниям свидетелей, письменным доказательствам, а в сыске —
повальному обыску и пытке»1. Пытка — последняя форма, в которой
сохранялись пережитки древних ордалий.
Я думаю, уже ясно, что выводы Тихомирова, построенные на
недостаточном изучении текста и случайных наблюдениях, о древности «Сокращенной правды» несостоятельны. Юшков этот вопрос
решает абсолютно правильно.
Теперь принято считать древнейшей «Пространную правду». Не
привилегии, данные новгородцам после победы Ярослава, были
причиной создания краткой редакции, а желание покончить с
обычным правом и ввести новые законы для защиты князя и его
Дружины. Юшков пишет об этом так: «По мере того, как возникает
феодальное право, находящееся в противоречии с существовавшим
обычным правом варварского дофеодального государства, возникает
совершенно настоятельная необходимость его обнародовать, чтобы
сделать известными его основные положения массам»2. Это очень
важное положение исторической науки заставляет нас совершенно
пересмотреть взгляды, которые укоренились у лингвистов по
отношению к «Русской правде».
И раньше, когда этот источник не привлекался для разрешения
спора о путях создания русского литературного языка, а особенно
теперь, когда споры стали разрешаться в зависимости от того или
' Юшков С. В. Русская Правда, с. 83. 2 Юшков
С. В. Русская Правда, с. 270.
другого понимания происхождения или состава «Русской правды»,
лингвисты постоянно повторяли такой аргумент: «Русская правда»
представляет собой не что иное, как запись существовавшего на
протяжении ряда веков изустного обычного права восточных славян.
Если так, то эта запись древнейшего обычного права является
памятником, возникшим на много веков раньше начала письменности. Следовательно, в нем надо искать те основы общего литературного языка, которые сложились еще до распространения письменности среди восточных славян. Если такое понимание считать
правильным, тогда «Русскую правду» нужно относить даже к более
раннему времени, чем договоры с греками, т. е. к VIII—IX вв. или еще
раньше, ибо договоры с греками совершенно ясно свидетельствуют о
существовании письменности, о существовании литературного языка
в собственном смысле слова. Тогда договоры с греками являлись бы
позднейшим, вторым этапом в развитии литературного " языка по
отношению к «Русской правде». Но длительные исследования
историков доказали, что «Русская правда» есть не запись обычного
права, а новое законодательство, как раз вызванное тем, что надо
было преодолеть, сломать традиции обычного права. Следовательно,
если обычное изустное право древнейшего периода в «Русской
правде» и отразилось, то не в виде записи, а в каких-то упоминаниях,
намеках, может быть даже в некоторых формулах. Это новый кодекс
законов княжеской власти, сменившей власть родо-племенных
старейшин, их советов или старшин рода или племени. А если так,
значит, прямое использование фактов «Русской правды» при
изучении истории русского языка законно только с XI в., а никак не
ранее (я имею в виду и дальнейшую судьбу памятника).
То, что историкам было ясно 100 лет назад, лингвистам стало понятно только недавно. Еще раз обратимся к работе Обнорского, где
сказано, что «изучение языка краткой редакции «Русской правды»
может иметь и более специальное значение в разрешении общего
вопроса о соотношении по происхождению краткой и пространной
редакций памятника. Этот вопрос, как известно, является еще неразрешенным»1. Для Обнорского в 1946 г. этот вопрос был не разрешен, но для русских историков был решен давным-давно.
1
Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода.
М.—Л., 1946, с. 13.
Однако, несмотря на отставание лингвистических исследований
от исторических, гармония, наконец, восстановлена. Если в работе
1934 г. Обнорский доказывал, что древнейшей является пространная
редакция «Русской правды» и что Синодальный список почти отражает архетип, то позднее, в 1946 г., он, подводя итог своим исследованиям, уже говорит, что языковые данные свидетельствуют о том,
что краткая редакция старше пространной и отражает древнейший
облик русского литературного языка, с чем мы вполне соглашаемся.
Некоторые расхождения в частных вопросах между историками и
лингвистами все же остаются. Акад. А. И. Соболевский и Е. Ф. Кар-
1
См.: Соболевский А. И. Две редакции «Русской правды». М., 1916, с. 17-22; Карский Е. Ф.
«Русская правда» по древнейшему списку; с. 20-22.
ский, так же как С. П. Обнорский в 1934 г., категорически высказывались за старшинство пространной редакции «Русской правды» по
языку1. У Карского аргументация главным образом основывалась на
фонетических наблюдениях, т.е., в сущности, наблюдениях над
орфографией Синодального списка «Русской правды», а такие аргументы большой силы не могут иметь. Соболевский высказывал соображения более существенные, но также, с точки зрения историков,
наивные. Он говорил, что бедность состава краткой редакции, ограниченность круга вопросов, а с другой стороны, мелочные указания
на возмездие за самые ничтожные, по его мнению, преступления
(как, скажем, повреждение лодки, кража козы, овцы или даже утки),
указывают на то, что краткая редакция была извлечением из полной,
сделанным где-то в далекой глухой провинции Киевской Руси
судейским чиновником, который разбирал самые мелкие делишки.
Он извлек из большого княжеского свода пустяковые статьи, из-за
мелких упустив главные, потому что в его практике главные не были
нужны. Историки этот вывод осмеяли и опровергли окончательно.
Во-первых, не может быть и речи о происхождении краткой
редакции из пространной; взаимоотношение текстов совсем не таково. А во-вторых, то, что казалось Соболевскому мелким, пустяками,
имело огромное значение для установления совершенно нового
института — неприкосновенности собственности феодала. С этого
началась частная собственность, которая потом в весьма модифицированном виде стала основой буржуазного строя. Сперва были
права и привилегии, и эти права описывались в «Русской правде» в
большом и малом, до мелочей. После определения наказания за
убийство самого феодала или близких ему людей указывалось, что
даже похищение курицы, гуся или утки сурово наказуется, ибо все,
что принадлежит феодалу, абсолютно неприкосновенно. Дело не в
ущербе — возмездие превышало чуть ли не в сотни раз стоимость
украденного или поврежденного, — а в желании огнем и мечом внедрить в сознание масс ужас перед собственностью феодала. Так что
провинциальный дьяк тут не при чем.
В решении вопроса о месте сложения «Русской правды» нет единого мнения. Во-первых, потому, что каждая редакция, каждый свод
имеет свою географию, но Обнорский и Тихомиров, упрощая вопрос
в целом (Обнорский очень упрощает, Тихомиров до некоторой
степени),
категорически
высказываются
за
новгородское
происхождение «Русской правды». Тут жива еще старая традиция,
связывающая «Русскую правду» с Новгородом на основе плохо
понятой Новгородской I летописи. Приводятся еще аргументы, как
будто более серьезные и солидные, исходящие из содержания
«Краткой правды». Скажем, Тихомиров оперирует таким доводом. В
«Краткой правде» речь идет о бортничестве, т.е. о лесном пчеловодстве, о разведении пчелиных роев. Так вот, якобы бортничество
характерно лишь для севера России, так как на севере много лесов, а
на юге больше степей. Это ничего не стоящий аргумент, потому что в
целом ряде южных по происхождению памятников мы имеем указания на широкое распространение бортничества в окрестностях
Киева. Наличие больших лесов и сейчас на Украине, а тем более в XI
в., заставляет признать этот довод абсолютно не состоятельным.
Тихомиров приводит еще лингвистический аргумент, говоря, что такие слова, как видокъ — 'свидетель'; изводъ; мьзда; скотъ — 'деньги'; миръ — 'община', якобы специфически новгородские. На это
Юшков совершенно резонно отвечает, что мы имеем ряд областных
словарей северных русских диалектов, но совершенно нет словарей
диалектов для юга, для Восточной России, нет словарей украинских,
белорусских диалектов. Следовательно, прикрепление к определенному месту того или другого слова сейчас не может быть признано
сколько-нибудь правдоподобным, вероятным. Однако Юшков —
юрист, а если бы он был лингвистом, то сказал бы больше, именно,
что слова мьзда, скотъ, миръ встречаются довольно широко, а не в
одном только памятнике, и связывать их именно с Новгородом у нас
нет оснований. Что касается слова видокъ, то оно известно для
Древней Руси только в «Русской правде», но структура его общерусская и относить его к Новгороду не следует. Такое слово могло
быть образовано в любом месте России, в любом диалекте. Если бы
это касалось какого-нибудь специфического элемента, тогда другое
дело, но кому придет в голову, что корень вид- или суффикс -ок
специфически новгородские?
В своей работе 1934 г. Обнорский приводил такой аргумент: северный характер «Русской правды» (правда, речь шла не о краткой, а
о полной редакции) неоспоримо доказывается тем, что в ее тексте нет
никаких элементов византийских, нет греческих заимствований, зато
есть очень много северных, скандинавских. Он приводит слова
германского происхождения из «Русской правды»: вира, мытникъ,
тиунъ, гридникъ, гридь, тынъ, метельникъ и др. Нужно сказать,
что из этого списка, довольно большого, лишь два слова могут быть
признаны несомненно заимствованиями — гридь и тиунъ; их
скандинавское происхождение установлено очень давно и не может
быть оспорено. Что касается всех остальных, то утверждение
Обнорского абсолютно лишено серьезных оснований. Скажем,
мытникъ — русское слово по образованию: суффикс -ник и корень
мыт-. Слову мыто, правда, есть параллель в германских языках, но
это параллель в плане сравнительной грамматики индоевропейских
языков, каких существует не одна сотня. Элементы общесловарного
фонда в каждом языке имеют свой облик (то же мыто звучит в
германских языках муто). Это нормальное соответствие, без какихлибо признаков заимствования. Слово мыто известно не только в
русском языке, но и в других славянских языках, поэтому признать
его скандинавизмом или германизмом невозможно. Разберем другие
слова из списка Обнорского.
Слово голважня как обозначение штуки каменной соли совершенно ясно связано с русским корнем голов- и происходит, вероятно, из голововажня, причем голово — 'голова', а важня — 'вес',
значит, голважня — 'весовая голова соли'. Слово русское, которое
через новгородскую торговлю распространилось в немецких поздних
источниках (оно найдено в германских языках в форме §аЬѵеі). Это
только свидетельствует о том, что голважня — русский термин,
пришедший на Запад и принятый немцами, но никак не может свидетельствовать о том, что это термин германский по происхождению.
Да и звука ж ни в одном из германских языков нет.
Слово вира сопоставляли весьма неудачно с нем. ѴѴегдеЫ —
Деньги защиты' (обозначение штрафа за преступление). Но в германских языках это слово появляется значительно позже — с XIII в., а
у нас оно отмечено уже в XI в. Если бы слово было германским
заимствованием, оно бы звучало как вера. Сопоставляли вира и с
герм. Ѵег — 'порука', но морфологический и звуковой состав слова
говорят о его славянском происхождении, да и семантика немецкого
слова далека от славянской. Здесь мы имеем определенное подобие, а
вовсе не тождество, как это предполагал Обнорский. Но главное, что
вира — корневое слово древнейшего образования. Я считаю, что его
невозможно отделять от слова вѣра. В этом и вместо ѣ сказался или
древнейший украинский диалект, или новгородский диалект. Как
могло слово вѣра обозначать возмездие за убийство? Мне
представляется, что ответ на этот вопрос не очень сложный. Убийство
в древнейшем дофеодальном праве рассматривалось именно как
религиозное преступление, как нарушение прав рода в целом.
Следовательно, выделение убийства как тягчайшего из преступлений
и привело к обозначению возмездия за него словом вира. Но кроме
того, надо сказать, что слово вѣра, судя по соответствиям в других
индоевропейских языках (например, в арийских), ставшее у нас
обобщением религиозных воззрений, в древности, очевидно, имело
другое значение. В санскрите этому соответствует ѵаігат, что значит
'вражда, борьба'. Так что можно еще более просто объяснить древнее
слово вира, если допустить, что когда-то и у славян оно обозначало
не веру в нашем смысле, а именно войну, вражду, раздор.
Слово метельникъ в перечне Обнорского фигурирует среди заимствований потому, что Карский (а до него норманисты-истори-ки)
сопоставляет его с нем. Мапіеі — 'плащ! Выходит, что это слово
обозначает плащника, дружинника в плаще. Соотношение между
основной частью слова и суффиксом объяснялось так: в знак того, что
князь передавал свои полномочия судам, он давал одному из членов
дружины свой плащ; видя плащ князя на дружиннике, ему
повиновались, иначе ему не стали бы служить. Если такое объяснение и является более или менее состоятельным, то оно все-таки не
позволяет признать метельникъ германским заимствованием,
поскольку, во-первых, здесь мы имеем усложнение суффикса -ник;
во-вторых, ап по фонетическим законам должно было дать о > и;
отсюда сопоставление с герм. Мапіеі оказывается совершенно несостоятельным. Из того, что мы не можем объяснить происхождение
слова, не следует, что оно является заимствованием.
Тынъ так же, как мыто, имеет германские соответствия, но нет
данных для того, чтобы признать его заимствованием. Это слово дало
современное немецкое гаип, но русское т общеевропейское, а ц —
типично немецкое. Во всяком случае, если бы даже мыто и тынъ
были бы заимствованиями, то необязательно скандинавскими.
Совсем несостоятельно и признание слова орудие — 'дело, занятие' скандинавизмом, ибо много других синонимов выражают это
понятие. По-видимому, отвлеченное понятие с таким значением
вырабатывалось очень медленно и оформилось гораздо позже — в
ХѴІ-ХѴІІ вв., а для XI в. предполагать у слова орудие отвлеченное и
чрезвычайно обобщенное значение 'занятие' невозможно.
Итак, все аргументы, какие приводились в пользу новгородского
происхождения «Русской правды» — и археографические, и юридические, и лингвистические, — не внушают доверия и не могут быть
признаны серьезными, основательными. Поэтому я думаю, что
положения, к которым пришел юрист Юшков на основе анализа
правового, социального, экономического, точнее исторического,
содержания «Русской правды», надо принять как верные. Вот как он
об этом пишет: «Поскольку Русская Правда отразила правовое развитие всех русских земель всего Русского государства, она с самого
момента своего возникновения до начала кодификации в Новгороде
и Пскове, Московском великом княжении и Литовском государстве
имела общерусское значение. Больше того, когда появились
памятники кодификации в этих государствах, то они были созданы
на основе принципов Русской Правды»1.
Другое дело, что отдельные поздние редакции текста можно связывать с Новгородом. Например, Юшков признает третью — пятую
редакции новгородскими; вторую он считает ростово-суздальской, а
последнюю, сокращенную — московской. Выработка первоначального свода велась в разных местах, что вполне правдоподобно и
верно, так как об этом есть данные в отдельных списках. Но если
говорить не об отдельных списках, а о памятнике в целом, то его надо
связывать с Киевом, потому что язык его основной и важнейшей
части как раз не имеет резко выраженных специфических
особенностей, кроме тех, которые вносили в эти списки отдельные
писцы или редакторы.
' Юшков С. В. Русская Правда, с. 374.
Таким образом, в языке «Русской правды» надо видеть наиболее
обобщенный тип языка Древней Руси, это лучший источник для наших суждений о едином и общем языке всей Киевской Руси. Если
сравнить язык «Русской правды» с языком договоров с греками X в.,
то окажется, что при аналогичном содержании во многих местах
договоры с греками и «Русская правда» весьма существенно различаются. Договоры с греками изобилуют книжной фразеологией,
формулами, заимствованными у византийцев; там гораздо шире
слой церковнославянизмов, т.е. древнеболгарского литературного
языка. Можно говорить о смешанном характере языка договоров с
греками, где основную, определяющую роль играют русские эле-
менты, но широко применены и использованы и византийско-болгарские элементы языка. В «Русской правде» чуждых церковнославянизмов гораздо меньше, византийско-болгарское влияние там
почти не сказывается.
Обнорский, пытаясь абсолютно исключить нерусские элементы
из языка «Русской правды», поступает довольно примитивно. Он
просто объявляет, что все наличные в памятнике нерусские элементы
— позднейшего происхождения, что их внесли переписчики или
редакторы.
Я приведу примеры церковнославянизмов, встречающихся в
краткой редакции «Русской правды» (в пространной их гораздо
больше). Здесь имеются, скажем, болгарские формы ясти вместо
ѣсти (этот глагол встречается дважды и оба раза в болгарской форме); разбои вместо розбои (встречается один раз); въ среду и предъ
(неполногласная болгарская форма); говѣние; совокупити; наряду с
оже, аже, аче в 25 случаях употреблен аще — 'если'. Обнорский считает, что все аще вторичного происхождения, они потом вставлены, а
первоначально было аже и оже. Сам он предпочитает форму оже и
везде ее восстанавливает (получился дикий, на наш слух, текст, в
котором очень много неудачных реконструкций). Такой прием недопустим, и аргументация эта ни на чем не основана. Аще характерно для всех договоров с греками, «Повести временных лет» и других
известных нам документов. Следовательно, можно заключить, что
этот союз, хотя и нерусский по происхождению, очень давно вошел в
русский литературный язык и стал обычным, принятым. Ничего
удивительного, что в «Русской правде» союзом аще (чередуясь с аже
и оже) начинается большинство условных предложений.
При малом объеме «Русской правды» даже небольшое число
явных церковнославянизмов достаточно показательно и говорит о
том, что хотя и много сделано для освобождения от болгарского
влияния в русском литературном языке (с первого договора Олега до
«Русской правды»), но полного очищения от каких-либо элементов,
усвоенных из старославянского языка, отметить нельзя. В X в., а еще
больше в XI в., старославянский язык был богатейшим, разработанным литературным языком и никому не могли казаться отдельные славянизмы в нашем языке чуждыми элементами и не могло быть сознательной борьбы с ними. Такое предположение наивно
и неисторично, и его надо отвергнуть.
Существенно другое, что нерусских элементов в «Русской правде»
намного меньше, чем в договорах с греками. Значит, движение в
сторону сближения языка делового, языка документов, законов, с
разговорной повседневной речью всего народа шло на протяжении
Х-ХІ вв. очень интенсивно. И это лучшее подтверждение того положения, что в любом обществе при самой острой классовой борьбе и
классовом антагонизме язык не мог быть классовым. Наоборот, все
усилия, даже господствующих классов, были направлены на то,
чтобы сделать язык более близким, понятным, доступным широчайшим народным массам. История законодательных текстов, от
договоров с греками до «Русской правды», прекрасно подтверждает
это положение.
Итак, «Русская правда» — памятник оригинальной литературы, в
ней отражены нормы обычного права восточных славян, относящиеся к эпохе, значительно более древней, чем время принятия христианства. Наличие в судебнике параллелей с правовыми нормами
других народов отнюдь не говорит о заимствовании, а является отражением одной культурной и социально-экономической стадии в
развитии разных народов. Пространная редакция характеризует уже
более поздний этап в развитии права — законы вполне сложившегося феодального общества. Того, что когда-то называли поэтичностью, а мы назовем теперь метонимичной символикой языка, в
пространной редакции меньше, чем в краткой.
Я уже коротко говорил об истории разработки «Русской правды»
и объяснил, какое исключительное значение имеет этот памятник
Для лингвистов, юристов, социологов. Теперь я начну более подробно рассматривать языковой состав «Русской правды».
Мне уже приходилось отмечать, что в ранних исследованиях
внимание уделялось преимущественно грамматической стороне, и
даже не всей грамматической системе, а главным образом явлениям
фонетическим и морфологическим. Я указывал, что такие наблюдения почти не имеют значения для характеристики «Русской
правды», ибо они несомненны только для орфографии списков и не.
характеризуют язык памятника в целом. Работа Карского о Синодальном списке и представляет собой развернутую характеристику
орфографии списка, который казался ему наиболее совершенным и
ценным. Стоит в связи с этим привести суждение о Синодальном
списке юриста Юшкова, одного из лучших знатоков «Русской прав-
ды», так как именно Юшкову принадлежит первое (1935) издание
«Русской правды» по всем спискам. Правда, теперь есть новое издание, в котором учтено еще больше списков, чем было известно
Юшкову. Но филологический уровень издания Юшкова нисколько
не уступает, а в некоторых случаях даже выше уровня издания Академии наук1. И вот этот знаток всего рукописного наследия, связанного с «Русской правдой», подробно характеризует Синодальный
список. Синодальный список уникален; несходный с другими, он дает
целый ряд исключительных, только в нем существующих чтений.
Большое число вариантов Синодального списка есть результат
небрежности, невнимательности переписчиков.
Большие расхождения Синодального списка с другими объясняются тем, что рукопись, служившая оригиналом для переписчика,
была чрезвычайно древней, ветхой (так говорит и сам копиист
Синодального списка). Это в известной мере оправдывает его
многочисленные ошибки: нельзя было прочесть ряд слов, потому что
буквы были едва видны. Но целиком виной переписчика Синодального списка надо считать то, что он перепутал листы. Поэтому в
Синодальном списке статьи идут в хаотическом беспорядке, в отличие от других списков той же редакции. О том, что листы были
перепутаны, дружно говорят все исследователи. Из этого ясно, что
для реконструкции текста «Русской правды» Синодальный список не
может иметь большого значения. И только формальное, поверхностное исследование, каким занимались лингвисты до самого последнего времени, позволяло им так высоко оценивать значение
этого списка.
1
См.: Правда Русская, т. 1-2. М., 1940-1947.
Важнейшим достоинством «Русской правды» является то, что ее
язык дает богатейший словарный материал. В отличие от всей переводной литературы, лексика здесь традиционна, это старый народный словарь. В переводной литературе переводчики, хотя и стремились к широкому использованию русских слов, однако постоянно
вынуждены были прибегать к искусственному словообразованию, к
созданию неологизмов; рабски следуя подлиннику, они внесли в
текст очень много калек (заменяли сложные слова иноязычного
оригинала новыми образованиями, построенными из тех же или
параллельных элементов) и заимствованных слов, не переводя, а
переписывая оригинал. Зависимость от других языков — болгар-
ского, греческого, латинского — в оригинальной литературе не так
заметна. Но оригинальной литературы, столь же древней, как «Русская правда», мы не имеем, да и в позднейшие века она чрезвычайно
немногочисленна. Наконец, даже те произведения оригинальной
литературы, которые сохранились, содержат лексику куда более
смешанную, в ней гораздо больше старославянских элементов. Поэтому словарное богатство «Русской правды», произведения оригинального, народного, представляет, конечно, исключительный
интерес для историка языка. Словарный и фразеологический состав
«Русской правды» не совпадают с языком других памятников той же
поры. Прежде чем производить анализ текста, необходимо
разобраться в своеобразной символике «Русской правды», а также в
специальной юридической и социальной терминологии, которая
имеет параллели и соответствия в других сводах законов позднего
времени, в грамотах, но не встречается в памятниках художественной
литературы, летописях и церковных книгах киевского периода.
До последнего времени лексическим составом «Русской правды»
занимались в основном юристы и историки, а не лингвисты. В работах лингвистов мы встречаем только немногочисленные замечания
этимологического порядка, попытки выделить нерусские по происхождению слова с целью отнести «Русскую правду» к тому или
другому месту. Даже топонимика «Русской правды» интересовала
только специалистов по исторической географии или по истории
феодальных княжеств, а не лингвистов. Вот я и начну обзор лексического состава «Русской правды» с нескольких замечаний о ее
топонимике. Напомню, что топонимика — это совокупность географических названий какой-либо местности или страны. Историки
изучали топонимику главным образом для определения родины
«Русской правды» и пришли к безотрадному, с их точки зрения,
результату: по данным топонимики нельзя с уверенностью отнести
судебник ни к какой части Киевской Руси, так как в составе «Русской
правды» есть немало указаний и на новгородский север, и на земли
кривичей, на верхнее Приднепровье, и на южные земли Киева и
соседних с ним южных княжеств. Работа, о которой я сейчас говорю,
написана Н. П. Голубовской и называется «Географические данные в
«Русской правде». Результаты своих исследований Голу-бовская
обобщает так: «Если подвести итоги... то оказывается, что в «Русской
правде» имеется ряд статей, дающих указания на различные области
Древней Руси: Киевскую, Переяславскую, Новго-род-Северскую,
Волынскую, Ростовскую и Новгородскую. Обстоятельство это, как
мне кажется, весьма важно для решения вопроса, где, когда и каким
образом складывается текст «Русской правды»1.
Здесь заслуживает нашего внимания указание на то, что термины
русь, русский связаны с топонимикой киевской земли. Надо иметь в
виду, что в начале XX в. господствовала норманская теория, и русь
считали названием одного из шведских или скандинавских племен.
Русскими назывались якобы завоеватели Новгородской земли —
варяги, и они передали это название потом киевской земле и всей
стране, всему народу. И вот Голубовская (надо отдать ей честь) на
основе внимательного изучения упоминаний о Руси в «Русской
правде» приходит к выводу, что термин русь связан с топонимикой
киевской земли. В подтверждение она приводит названия рек: Рось,
Росола, Россошь, населенных мест: Росоха, Росоша, а также позднее
Сечь Росская (Запорожская Сечь).
В наше время скандинавская, или норманская, теория окончательно отвергнута и сопоставления Голубовской значительно расширены.
Теперь мы уже не сомневаемся, что Русь и Россия — термины отнюдь не заморские, не пришедшие к нам из Скандинавии, а местные,
причем распространились они не из Новгорода, а именно из киевской земли. В связи с этим русин, противопоставленный словенину,
трактуется теперь как термин не географический, а социальный. И
акад. Б. Д. Греков, и С. В. Юшков пришли к такому решению вопроса
о Руси и славянах: русью называли в эпоху «Русской правды», в XI в.,
городское население, словенами — сельское население. Юшков дает
свой исторический комментарий к этому противопоставлению
1
Голубовская Н. П. Географические данные в «Русской правде». Киев, 1913, с. 25.
Руси и славян: «Переход к феодальному обществу и к государству,
начальной стадией которого является варварское государство, связан
с разложением племенных отношений и с возникновением особой
народности. Эта народность эпохи возникновения феодализма
различается от народности, возникающей в эпоху возникновения
централизованного государства. Несомненно, в этой народности
эпохи возникновения феодального общества менее прочна экономическая общность (неоднородность общественно-экономического
развития), общность языка (наличие племенных наречий) и общность психического склада»1. Следовательно, это признаки не на-
родности раннего феодализма, но складывающихся наций другого,
гораздо более позднего периода развития общества.
«Но самое главное, — пишет дальше Юшков, — эта народность
образуется в данную эпоху в результате выделения отдельными племенами особых социальных групп, включающих в свой состав все те
элементы, которые выделяются в процессе разложения первобытнообщинного строя. Эти группы включают родо-племенную знать,
купцов и ремесленников, которым нечего делать в недрах общин,
земледельцев, потерявших по каким-либо причинам орудия производства и землю, а также беглых рабов. Эти социальные группы
оседают в городах, которые располагаются по основным торговым
путям (на Руси эти основные торговые пути шли по крупным рекам
— Днепру, Десне, Ловати, Волхову, Полоту и т.д.). Эти социальные
группы носят межплеменной характер. Язык этих групп начинает
различаться от племенных наречий. Он делается несравненно более
сложным по своему строению, с более обширным словарным
материалом. В городах, населенных элементами, принадлежащими к
этим социальным группам, возникает своя культура — духовная и
материальная, несравненно более высокая, нежели культура того или
иного племени»2. Вот эта новая социальная категория очень
сложного состава и именовалась, по его мнению, русью.
Большое внимание привлекало слово колбяги. Колбягам, так же
как варягам, приписывается здесь привилегированное положение по
отношению к славянам. Норманисты толковали этот термин всегда
как название одного из скандинавских племен, сравнивали его с
имеющимся в скандинавских сагах термином ку1пп$аг. Но надо
сказать, что фонетическое соотношение между ку1пп$аг и колбяги
1
ЮШКОВ С. В. Русская Правда, с. 242.
2
Юшков С. В. Русская Правда, с. 242-243.
весьма сомнительно. Из сканд. куШп^аг мы бы ожидали чего-нибудь
вроде чильпинги, а не колбяги (к дало бы ч, а і — п). Так что
сопоставление колбяги с куШпдаг надо признать несостоятельным.
Колбяги сопоставляли также с названием одного из степных половецких племен клобуки в «Повести временных лет». Клобуки или
черные клобуки, как теперь думают, — это современные каракалпаки. Эти клобуки к колбягам в «Русской правде» как будто немного
ближе. Однако и это сопоставление нельзя считать совершенно
бесспорным. И Голубовская находит ценные данные для нового
толкования термина колбяги. Она указывает, что в новгородских
источниках в перечне мест упоминаются село Колбяжье и посад
Колбячи. Теперь в местах, где старые источники помещают эти населенные пункты, живут финские народы. Голубовская высказывает
правдоподобную догадку о том, что колбяги — это название одного
из вымерших небольших финских народцев или племен.
Споры вызывало также название Дорогобуж ввиду того, что в
Древней Руси так называлось не одно поселение. Наиболее известен
Дорогобуж Смоленский, недалеко от Смоленска. Но есть еще
Дорогобуж Волынский. И вот Голубовская утверждает, что в «Русской правде» речь идет о Дорогобуже южном, Волынском. Таким
образом, если термин колбяги доказывает, что в «Русской правде»
отразились установления, относящиеся к Новгороду, то в ней же есть
и юридические положения, связанные с социальными отношениями
на юге, в Волынской земле.
Упоминается в «Русской правде» и Белгород, который находился в
24 верстах от Киева (теперь на его месте село Белгородка). Вышгород, названный в «Русской правде», находился недалеко от Киева
(этот населенный пункт существует до сих пор). Упоминается и село
Берестово, возле Киева, где происходили совещания Владимира
Мономаха (теперь Берестово один из районов Киева). В поздних
редакциях «Русской правды» есть немало других географических
названий, но это уже, пожалуй, не поможет решить вопрос о месте
происхождения древнейшей редакции памятника, потому я не буду
на них останавливаться. Укажу только, что среди советников князя
Ярослава встречается имя Никифора Киянина.
Если бы имело значение преобладание топонимических наименований, то надо было бы признать, что указаний на Киевскую
Русь в «Русской правде» гораздо больше, чем на северную Русь. Но
топонимика не решает вопроса о месте происхождения памятника,
для его решения найдено немало аргументов другого порядка.
Правильным надо считать то мнение, которое сейчас установилось в
среде историков: «Русская правда» не может быть ни по своему
происхождению, ни по своему назначению отнесена к одному городу
или области Киевской Руси, ибо она имела общерусское значение и
составлялась на основании свода и кодификации установлений,
имеющих значение и применение в разных русских землях. Об этом
же свидетельствует достаточно ясно и состав лексики.
Обнорский пришел к выводу, что будто бы лексика и некоторые
грамматические факты заставляют говорить о новгородском происхождении «Русской правды», а затем уже о киевских списках с
древнейшего оригинала. Но грамматические наблюдения не имеют
никакого значения, поскольку они связаны с весьма поздними списками, очень далекими от оригинала. А вот лексические наблюдения
истолкованы Обнорским односторонне и неправильно.
Я уже говорил, что решающим Обнорский считал отсутствие в
языке «Русской правды» элементов византийских и старославянских
и наличие там будто бы большого количества скандинавских
заимствований. Говорил я и о том, что большинство приведенных
Обнорским примеров скандинавского влияния ошибочно отнесено к
заимствованиям. Сомнительно и положение Обнорского о полном
отсутствии каких бы то ни было византийских или старославянских
элементов. В. О. Ключевский, отмечая в составе «Русской правды»
такие кальки с греческого, как брату(о)чадо, писал: «В самом языке
«Русской правды» можно найти некоторые указания на то, что она
вышла из среды, знакомой с терминологией византийского и
южнославянского права: так встречаем чуждое русскому языку слово
братучадо в значении двоюродного брата, представляющее
довольно механический перевод термина византийских кодексов
а6є\(р6яаіс,»1. Ни в каких других памятниках древнерусского языка
это слово не встречается. Обнорский возражает на это, утверждая,
что слово браточадо отмечено в говорах, но не указывает, в каких,
где. По словарям я не знаю такого слова в современных русских говорах или в говорах XIX в. Указание Ключевского на соответствие
этому термину в греческих источниках сложного слова абєЛлрблаїс,
как его первоисточника надо признать все же важным.
1
Ключевский В. О. Курс русской истории, ч. 1. М., 1908, с. 260.
Второй византийский термин, который обнаружил Ключевский в
тексте «Русской правды», — поклажа или поклажда. Этот термин
встречается также в других памятниках, и именно во второй форме (с
жд) он соответствует греческому \атаиг|хП- (Как и браточадо, поклажда — юридический термин греческого законодательства.)
Среди терминов, которые можно связывать скорее с югом, чем с
севером, надо назвать и слово челядь, встречающееся только в
древнейшей части краткой редакции, в «Правде Ярослава» (в даль-
нейших частях оно заменено термином холопи). Челядь обычно понимают как обозначение домочадцев и слуг. В живом употреблении,
независимо от традиции литературного языка, это слово сохранилось именно на юге, в украинских говорах: челядник — 'батрак'.
К южным элементам в языке «Русской правды» следует отнести и
такое слово, как промиловался в смысле 'ошибся' (приставка про- и
корень мил-). В современном украинском языке существует глагол со
значением 'ошибаться', но с приставкой по-: помилитися. В
северных диалектах этот корень не представлен. К южным диалектам
ведет нас и термин пакощами — 'назло'. Употребление этого слова
во множественном числе и наречия от такого типа слова, образованного формой творительного падежа множественного числа,
характеризует южные, а не северные говоры. Наконец, термин олекъ
— 'улей' также указывает больше на юг, чем на север.
Однако есть ряд слов, связанных по своему происхождению
именно с северными диалектами. Прежде всего стоит остановиться
на термине огнищанинъ. Он известен только в древнейшей части
краткой редакции, а в «Пространной правде» заменяется термином
княжь мужь. Такая замена не значит, что можно поставить знак
равенства между двумя терминами. Княжь мужь — это высокий чин
при дворе князя, член его дружины, причем один из старейших
членов дружины. Княжь мужь означает ту социальную категорию,
которая в дальнейшем будет называться боярин. Огнищане — категория гораздо более низкая. Об этом свидетельствует установление
наказания и те контексты, в которых это слово употребляется в
«Русской правде». Сначала: «Аще убьють огнищанина в обиду, то
платити за нь 80 гривен», а 80 гривен — это громадная ценность для
той эпохи. Такая сумма штрафа послужила поводом к предположению, что огнищанинъ — это какое-то высокое лицо, один из
близких князю людей. Но дальше из текста следует, что речь идет о
наказании за убийство любого человека из княжеского двора. Мы
читаєм: «Аже убьють огнищанина у клети, или у коня, или у говя-да,
или у коровье татьбы, то убити в пса место» — 'если кто-нибудь
поймает огнищанина на месте преступления, когда он собирался
обокрасть клеть (амбар) или украсть коня либо корову, то убить его,
как пса'. Какой же близкий князю человек станет воровать корову
или обкрадывать крестьянский амбар? Совершенно ясно, что дело
идет о дворовом. Таково теперь общее мнение историков.
Историк права Ф. И. Леонтович убедительно показал, что огнищанинъ в патриархальном обществе — старейшина общины1. Позже
этот термин мог быть перенесен на княжеского дружинника, феодала. Огнищане могли быть и в городе, и в деревне: в городе — дружинники князя, в деревне — крупный или мелкий собственник, наподобие позднейшего помещика и однодворца. В «Русской правде»
огнищанинъ — управляющий княжеским селом, т.е. имением. Это
второй этап развития слова, но еще не последний. Огнищанинъ —
предшественник дворового. В противоположность дружине, которая
состояла из феодалов, это отнюдь не привилегированное, а
зависимое и невысокое сословие. Каково же происхождение слова
огнищанинъ? Совершенно очевидно, даже для нелингвиста, что огнищанинъ связано со словом огнище, а огнище — со словом огнь
(как речище — река, городище — город и т.д.). Огнище обозначало
то же, что в северных говорах еще сегодня кое-где называется словом
печище. Огнище, печище — это обозначение в северной Руси той
социальной формации, которая заменила древний род или
патриархальную большую семью, «задругу» южных славян. Отсюда
огнищанинъ — член такой древней славянской общины. Первоначально огнищанинъ был тоже одним из княжеской дворни. Позже,
при образовании феодальной аристократии, этот слой оказался не
высшим, а вторым или третьим, во всяком случае, его социальный
вес снизился. Термин огнищанинъ связан с севером, на юге никаких
параллелей для понимания этого слова мы не находим.
Термин «символика языка» применительно к судебникам средних
веков возник еще в «романтическую» эпоху, когда считали, что
первоначальной стадией развития языка был язык поэтический. Мы
теперь знаем несостоятельность этих воззрений и находим иное
объяснение фактам. Своеобразие лексического употребления в
1
См.: Леонтович Ф. И. О значении верви по Русской Правде и Полицкому статуту
сравнительно с задругою юго-западных славян. — «Журнал Министерства народного
просвещения», 1867, апрель.
«Русской правде» и подобных памятниках определяет изустный
характер древнейших кодексов. Чтобы легче было запоминать и
передавать из поколения в поколение, необходимо было придать
нормам обычного права возможно более краткую, лаконичную'
форму. Это связано всегда с недомолвками. Для современников не
составляло никакого труда восполнить подразумевающееся, недоговоренное, так как этому помогала сама обстановка (примеры из
«Русской правды» будут приведены дальше). То, что говорят сами
вещи, обстановка, ситуация, всегда в какой-то мере предполагается в
нормах обычного права. Отсюда сложность, многозначность словосочетаний, несущих целый комплекс значений, который может
быть передан при переводе только длинным описанием. Если часто
нелегко понять чужую лаконичную речь сейчас, то как трудно
расшифровать смысл многозначных слов, относящихся к эпохе доклассового общества или к ранним этапам сложения феодального
общества. Пока еще сделано очень мало попыток разгадать полный
смысл этих условных формул древнего судебного языка.
В древних русских памятниках, например, привлекают к себе
внимание такие выражения: даться на ключ, неключимый раб,
рабство на ключ. Объяснение находим в следующем контексте: «А
се третье холопьство: тиуньство без ряду или привяжеть к собѣ ключь
без-д-ряду или с рядомъ, то како ся будеть рядилъ на томь же стоить
(тиун — управляющий имением', без ряда — 'без договора'; или
привяжеть к собѣ ключь без-д-ряду — 'кто привяжет ключ к себе',
т.е. примет в свое ведение хозяйство феодала, становится холопом,
если сделает это без договора, а если договорится, то остается
свободным человеком). Это пример символики «Русской правды».
Конечно, это не было литературным образом, это древняя черта
языка, характеризующая конкретное мышление. Язык еще не выработал такого слова, которое выразило бы сложные юридические отношения (возможность и условия порабощения) и они выражались
предметно: привязать к своему поясу хозяйский ключ. Выражения
даться на ключ и раб неключимый были бы непонятны, если бы
мы не знали предыдущей формулы: привязать к себе ключ.
Второй пример возьмем из статей, посвященных ответственности
за нанесение личного оскорбления: «Аже перст утнеть кии любо, 3
гривны продаже, а самому гривна кун» — 'если палец ранят, все
равно который, то 3 гривны'; «А хто порветь бороду, а выиметь
знамение, а будуть людие, то 12 гривне продажи» — 'но если повредят бороду и придут свидетели, покажут знаки (на потерпевшем), то
платить 12 гривен'. Первая формула оттеняет смысл последующего.
Последняя формула лаконичней. Историки утверждают, что именно
эта фраза и есть остаток древнего изустного кодекса. Я уже говорил о
том, почему за ранение руки, за отсечение пальца штраф только три
гривны, а за повреждение бороды в четыре раза больше. Вероятно, в
связи с этим вспоминается библейское сказание о Самсоне и Далиле,
отражающее веру в то, что в волосах человека заключается его сила.
Усы и борода — показатель рыцарской чести феодала. Поэтому если
кто посягнет на честь феодала, то должен платить за оскорбление 12
гривен, — гораздо больше, чем за легкое увечье.
Примеры из других юридических документов: вдернь, одерень,
одернити, дерноватый — 'продать или купить навсегда, окончательно'. Скрытую семантику этих слов разъяснил историк Н. П. Павлов-Сильванский1. Он приводит запись этнографом М. Н. Макаровым процедуры спора о земельной собственности: простолюдин,
оспаривая вопрос о границе луга, вывернул кусок дерна, положил на
голову и сказал, что если он не прав, тогда сама мать родная земля
прикроет его навеки2. Обычай клясться землей, положа дерн на
голову, был широко известен у разных народов. Следовательно, если
мы встречаем выражение продается вдернь или одерень, то это
значит 'продается под страшной клятвой на куске дерна'. Сила земли
или подтвердит правильность спора, или покарает лжеца. Затем это
верование языческих времен отмирает, но в языке остается формула,
хотя самый обряд совершался еще и в XIX в. (крестьянин держал в
одной руке икону, а в другой — кусок дерна). Как и в формуле даться
на ключ, первоначально здесь имелась вполне конкретная форма
клятвы, а затем это превратилось в условность судоговорения, в
формальную образность речи законодательного сборника.
Еще один пример. Часто в грамотах, описывающих сделки, мы
встречаем слово пополонокъ — 'придача, восполнение'. В разных
концах Киевской Руси, и в Новгороде, и на Двине, при продаже указывалось, что за землю будет уплачено столько-то кун и еще пополонокъ. Юристы обратили внимание на то, что в старших юридических документах пополонокъ употреблялся только при продаже
' См.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в удельной Руси. Спб 1910, с. 427-428.
См.: Макаров М. Н. Древние и новые божбы, клятвы и присяги русские.— «Труды ОИДР»,
1828, ч. 4, кн. 1.
2
земли, причем иногда он больше самой платежной суммы. Первоначально в качестве пополонка давались конь, корова, позже пополонок становился все меньше и меньше (курица, утка, голубь), затем
прибавляется за пополонокъ 5 алтын. Это отражает уже мертвый
обычай.
Пополонокъ — юридический свидетель перехода от меновой торговли (вещь за вещь) к денежной. И то, что за землю давали всегда
живой скот, указывает на древний период, когда скотоводство играло
основную роль в народном хозяйстве, имело большее значение, чем
земля. К этой поре относится обозначение денег словом скот (лат.
реоі8 — ресшііа). (Ср. в «Повести временных лет»: начаша скотъ
собирати; в поздних списках дань собирати.) Не может быть
сомнения в том, что в ХІ-ХІІ вв. пополонокъ имел не условный, а
вполне конкретный смысл, который с течением времени утрачивается, становится юридической формулой, почти ничего не значащей.
В первой же статье «Русской правды» встречаем такую фразу:
«Оже не будеть кто его мстя, то положити за голову 80 гривен». В современном языке существует термин «уголовное право». Иногда его
объясняют как метонимию, т.е. обозначение целого по части. Но
нельзя наши стилистические понятия переносить на толкование
древнего текста. За голову 80 гривен — тут надо говорить не о формальной метонимии. Голова в представлении человека того времени
была символом жизни. Следовательно, точнее можно перевести эту
фразу так: '80 гривен за жизнь убитого'. Позже в юридический язык
прочно вошло значение слова голова как 'убитый, улика совершенного убийства'. Ни в каком другом памятнике, кроме юридических
документов, мы не встретим такого значения.
У лингвистов есть греческий термин апаІ, Хєубрєіюі) — 'единственный раз читаемое слово'. И вот таких «единственный раз читаемых слов» в «Русской правде» много. Я приведу не все, но важнейшие из них: браточадо; бологоделъ — 'оказывающий благодеяние';
наимитъ, закупъ, рядовичь (типы наемных работников феодала);
иночимъ — 'отчим' (связано с корнями ино- и очим-); вервь (к этому мы вернемся); вирникъ; тылеснь (в более поздних списках тылесница); ссадная гривна — 'штраф в пользу судебного исполнителя'; вязебная гривна — 'плата тому, кто поймает холопа и свяжет
его'; говядо — древнее слово со значением 'стадо крупного рогатого
скота'. Разберем наиболее интересные термины.
Наставъ — речь идет о взимании ростовщиками лихвы, процентов побора. В «Русской правде» дан генезис ростовщичества, которое
покоилось на том, что высшей ценностью являлся скот и продукты
натурального хозяйства. И вот всякий приплод должен был быть
возвращен, а приплод иногда исчислялся произвольно. Если дают
коня или корову на несколько лет, то высчитывают, сколько жеребят
или телят можно получить за это время. По отношению к стоимости
коня и коровы это составляло много. Отсюда и при даче денежного
займа тоже взималось много. В той статье, где речь идет о наставе,
говорится о наставе меду, т.е. когда давался улей взаймы, проценты
взыскивались в виде меда. Жито въ присопъ, т. е. взыскивалось не
только то, что давалось, но высчитывалось, сколько хлеба могли
принести эти семена, и здесь рост был громадный. Купа —
обозначение денег, взятых взаймы, или каких-нибудь других материальных благ, полученных у феодала. Погребнути долгъ — 'отменить долг' объясняется из погребнути — 'похоронить'. Характерны
для «Русской правды» социальные термины: гридь, метельникъ,
огнищанинъ. Поконъ встречается в древнейшем списке, потом его
заменяет слово уставъ. Осуждение на потокъ — 'изгнание из своей
земли'. По-видимому, институт изгнания за преступление исчез в
эпоху позднего феодализма, и термин исчез. Мы знаем поток лишь
как обозначение стремительно текущего ручья, реки. Привлекает
внимание термин уборокъ — 'мера овса'. Он имеет параллели в
польском и чешском языках. Это один из многих следов связи лексики «Русской правды» с западнославянскими языками. (Указывают
еще термин борть, который, правда, известен во многих древних
источниках, но важно, что он также имеет параллели в западнославянских языках, в частности в чешском.)
Не буду перечислять всех терминов, достаточно и этих. Мне кажется, что они ясно показывают, насколько значителен в «Русской
правде» слой древнейшей русской народной лексики, исчезнувшей
потом в связи с отмиранием реалий, соответствующих этим словам.
Историки особенно пристальное внимание уделяли социальным
терминам, характерным для «Русской правды».
Общее положение о том, что язык «Русской правды» отличается
архаичностью, не может нас сейчас удовлетворить. Вопрос соответствий и несоответствий первой и второй редакций «Русской
правды» заставляет предположить, что в них, с одной стороны, есть
элементы, характерные для различных периодов истории русского
литературного языка, а с другой — какие-то крупицы изустного
обычного права. И нельзя не признать чрезвычайно важным изучение языка «Русской правды» для определения языковых особенностей некогда существовавшей изустной «Правды».
Принятое мнение об архаическом колорите языка «Русской
правды» опровергается, следует говорить об отражении в ней разных
периодов истории русского языка. Я попытаюсь показать бог гатство
состава лексики этого памятника. Часто древние пережитки
встречаются там, где их меньше всего можно было бы ожидать.
Если в «Пространной правде» находили больше архаизмов, то
только потому, что под архаизмами понимали редкие слова. Но глубокую архаику можно открыть и в самых заурядных, ничем не выделяющихся словах. Например, слово мужь имело сложную историю, различные, далекие друг от друга значения. Те, кто относит
«Русскую правду» к эпохе феодализма, под словом мужь понимают
феодала, человека из дружины или совета удельного князя. Возможно, в ХІІІ-ХІѴ вв. так и было. Те же, кто относит создание «Русской
правды» к дофеодальной эпохе, находят у слова мужь более древнее
значение. Исследования историков права привели к тому, что за
словом мужь было признано значение 'свободный человек, член
патриархальной общины1. Существование этого значения в XII в.
объясняли тем, что памятник сложен в Новгороде, а в Новгороде с
его относительным демократизмом дольше сохранялись пережитки
дофеодального строя. Если слово мужь в XII в. и не понималось как
'свободный человек', то, во всяком случае, оно имело значение
'полноправный член городской общины Новгорода'.
«Аже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо отьцю, ли
сыну, любо браточаду, ли братню сынова.» Здесь уже очевидно
отразилось различие мировоззрений — древнего и более позднего:
месть возлагается не на членов семьи, а на всех членов рода, большой
семьи,«задруги».
Слово видокъ в пространной редакции «Русской правды» заменено словом послухъ. Это объясняли тем, что пространная редакция
отражает византийскую терминологию, так как в византийском
законодательстве фигурирует послухъ — 'свидетель'. Но правильнее
другое объяснение: в замене слова видокъ словом послухъ нужно
видеть отражение большого сдвига в русских правовых понятиях
(видокъ — 'очевидец', послухъ — 'слышавший'). Прогресс в праве
заключался в том, что раньше мог давать показания только человек,
лично видевший преступление; теперь же стали допрашивать и тех,
кто что-то слышал об этом деле.
В «Краткой правде» встречается более детализированная терминология: гридь, ябедникъ, мечникъ — различные должности
членов княжеской дружины. Затем в позднейших редакциях и изводах слова ябедникъ и мечникъ из юридического обихода вышли;
сохранилось только слово гридь (скандинавского происхождения).
Исчезновение указанных слов происходит в связи с тем, что в ХІѴ-ХѴ
вв. почти бесследно стираются следы скандинавского влияния.
Однако отголоски слова гридь в народной среде на севере и западе (в
Белоруссии) сохранились до сих пор. Еще М.Т. Каченов-ский
отмечал, что в северо-западных говорах ему встретилось слово
грыдня — 'изба для сушки снопов, овин, рига'1. Гридня — 'помещение, изба для княжеской прислуги'; в измененном значении слово
сохранилось до XIX в. Можно согласиться, что это доказательство
справедливо, оно свидетельствует о северном происхождении «Русской правды».
Слово ябедникъ (у Цезаря ему соответствует атЬасіш), как думают, кельтского происхождения, обозначало 'слуга, оруженосец'. В
нашем памятнике ябедникъ — 'исполнитель служебных распоряжений князя' (наше 'судебный исполнитель').
Слово мечникъ (от мечь) тоже связано с княжеским судом — это
'дружинник, выполняющий судебный приговор князя, палач или
человек выезжающий на места и творящий там расправу'. Все эти
термины исчезают к XIV в. в силу того, что меняется структура
княжеского двора и хозяйства.
Термин изгои долгое время привлекал внимание и лингвистов, и
историков. Для лингвистов оставались загадкой и состав слова, и его
происхождение; историкам была неясна социально-экономическая
природа термина. Известный историк и филолог М. П. Погодин
нашел в рукописи XVI в., в «Церковном уставе князя Всеволода»
фразу: «Изгои трои: попов сын грамоте не умеет, холоп ис холопства
выкупится, купец одолжает, а се четвертое изгойство, и сего
приложим, аще князь осиротеет»2. Из этого текста следует, что изгои
— это социальная категория, появившаяся в результате какого-то
1
См.: Каченовский М.Т. Из рассуждения о «Русской правде». — «Уч. зап. Московского унта», 1835, сентябрь, № 3.
2
См.: Погодин М. П. Исследования, заметки и лекции о русской истории, т. 3. М., 1846, с.
408.
изменения в социальном положении, которое привело к исключению из общины: попов сын, не научившийся грамоте; холоп,
выкупившийся из холопства, кабальный человек, не могущий подняться по социальной лестнице; обанкротившийся купец и князь
осиротевший, т. е. потерявший со смертью отца право наследования
княжеского престола. Все эти группы людей составляют изгойство.
Материалы «Русской правды» показывают, что за убийство изгоя
князья требовали уплаты такого же выкупа, что и за убийство
дружинника (ябедника, мечника), т.е. лиц, близких к князю: «аще ли
будеть русин, или гридь, любо купець, любо тивун бояреск, любо
мечник любо изгои ли Словении, то 40 гривен положити за нь».
В Новгороде существовала улица, где жили только изгои. Было
высказано предположение, что термин изгои этнически обозначает
чудь (эстонцев). В настоящее время утвердилось мнение Грекова о
том, что необходимо четко различать изгоев в городе и в селе1.
Новгородские изгои — примерно та же социальная группа, которая
позже стала называться бобылями, вошла в состав посадских людей.
Это люди лично свободные, но не владеющие землей. Они энергично
участвовали в военных, завоевательных походах князей, иногда
служили защитой князя, но они же и оказывали влияние на
перевороты, на смену князей. Можно предполагать, что участие
изгоев в восстании в Новгороде и определило эту статью «Русской
правды», где изгои поставлены наравне с дружинниками.
Сельские изгои — это люди, не имевшие «ни кола, ни двора»,
деклассированные крестьяне. Они служили опорой монастырского
хозяйства, обрабатывали монастырскую землю. Так объясняют
историки отнюдь не бескорыстный интерес церкви к изгоям. Позже и
бояре стремятся захватить как можно больше изгоев.
Лингвисты до сих пор об этом слове говорили много фантастического. В первой половине XIX в., в пору увлечения санскритом,
индоевропеисты выводили это слово прямо из санскрита (гой =
санскр. §ауа — 'шествующий'), сравнивали еще и с латыш. іг§а;еі$ —
'выходец, переселенец'.
Со времени Срезневского к анализу слова привлекают материалы южнославянских языков. Если выделить корень гой
----------------------------------------------------------------------------------------------- '
живой, жизнь', то выходит, что изгой — 'человек вне жизни, кому не
' См.: Правда Русская, т. 2, с. 55-56.
житье на белом свете (изгнанник, отвергнутый своей общиной)'.
Если с морфологической стороны такой анализ слова допустим, то
объяснение его значения никуда не годится. Приставка из- едва ли
обозначала изгнание, осуждение. Раз эта социальная категория все
время деградировала, то нужно искать в исторической перспективе
не отрицательное, а положительное значение термина. Слово изгои
надо сопоставлять с гои — 'община; мир'1. Тогда изгой будет означать 'чужак, выходец из другой общины'. Становится понятным,
почему в Новгороде было много изгоев. Это объясняется разложением патриархальной общины и сложностью, разноплеменностью
населения Новгорода; изгои потом становились купцами, дружинниками.
Возможно, толкование слова изгои еще изменится. Но совершенно бесспорно то, что на протяжении раннефеодальной эпохи
история этой социальной категории прошла ряд этапов. И это отразилось и на значении слова: от выходца из патриархальной общины до шатающегося по свету бобыля.
Слово вира засвидетельствовано в различных славянских языках; в
«Пространной правде» оно стоит рядом с головничество как
обозначение штрафа в пользу князя сверх денежного вознаграждения родственникам убитого. Это новый этап в развитии значения
слова вира.
Не всегда правильно считать древнейшими элементами в «Русской правде» то, что является общим для краткой и пространной
редакций. Совершенно бесспорно доказано, что пространная и все
позднейшие редакции пользовались «Краткой правдой» и еще
какими-то другими источниками. Несомненно и то, что «Краткая
правда» не является первичной, хотя и представляет собой наиболее
древнюю из дошедших до нас редакций. «Пространная правда»
всеми понимается теперь как компиляция различных источников.
Раз так, то текст «Краткой правды», механически перенесенный в
«Пространную правду», надо оттуда исключить, и тогда только можно будет говорить о собственном лексическом составе языка «Пространной правды». При таком методе изучения лексики мы должны
будем сказать, что слово вира в пространной редакции имеет иное
значение, чем в краткой. Там оно значило 'денежная плата в пользу
пострадавших', а здесь — 'штраф в пользу князя сверх платы пострадавшим'; в связи с этим раздвоением виры и появляется новый
1
См.: Буслаев Ф. И. Новые свидетельства об изгойстве и изгоях. — В кн.: Архив историко-
юридических сведений, кн. 2. М., 1854.
термин головничество.
Мы имеем еще сочетание дикая вира. Проф. Л. П. Якубинский
впервые предложил толкование слова дикая как 'первобытная, дофеодальная'. Историки вполне поддерживают такое толкование.
Уплата дикой виры — отражение глубокой древности. О дикой вире
речь идет тогда, когда убийцы нет, когда община не хочет выдавать
убийцу феодалу, и князь в таком случае вынужден примириться,
иметь дело с общиной, а не с индивидуальным ответчиком. Дикая
вира сопровождалась всякими оговорками, законодатель точно
устанавливал, когда допускается уплата дикой виры.
Вира — 'плата за убийство'. В «Пространной правде» встречаются
и производные слова: вирникъ, вирное. Из этого историки делают
вывод о том, что когда-то слово вира означало выкуп, который платил убийца роду убитого, потом оно получило более широкое значение — 'подать, взимаемая князем'. Для раскрытия значения этого
слова следует обратиться к этимологии. Можно связать это слово с
санскр. ѵёга — 'тело, труп', ѵаігауе — 'биться, враждовать'. Но более
близкий этап в истории слова освещается сопоставлением с лат. ѵіг
— 'муж', литов. ѵугав — 'хозяин'. Виру необходимо связывать со
словом мужь, ибо первоначально она обозначала плату, взимаемую
за мужа, за взрослого члена общины (ср. в другую пору — за воина).
Вирникъ — 'княжеский прислужник, посылаемый князем за данью'.
Позднее рядом с термином вира появляется новый — обида —.
'плата, взимаемая за обиду, за нарушение феодальной чести, за
оскорбление'. Историк проф. М. Д. Приселков пришел к выводу, что
плату за обиду стали взимать лишь со времен Ярослава Мудрого1.
Позднее появляется слово продажа — 'штраф, дань за преступление,
взимаемая в пользу князя', которое вытесняет слово обида. Эту
продажу получал князь, а не человек, которого обидели, так как
князь считался полным хозяином своих людей. Смена терминов,
обозначающих виды наказания, показывает эволюцию текста
«Русской правды».
Челядь и вторичное образование челядинъ (с суффиксом единичности). Челядью в старших текстах называют рабов. После долгих
споров сейчас неоспоримо установлено, что в Древней Руси было
рабство. Рабами становились главным образом военнопленные; но
мы теперь знаем, что в рабство попадали и соотечественники за
1
См.: Приселков М. Д. Задачи и пути дальнейшего изучения «Русской правды». —
«Исторические записки», 1945, т. 16, с. 245.
долги, а также все поступавшие к феодалу в службу без договора. С
таким значением слово челядь выступает в начальный период
феодализма.
Позже, в пространной редакции «Русской правды», челядь вытесняется словом холопъ. Если вначале рабы не представляли большой ценности для феодала, они были нужны ему только для получения выкупа, то в дальнейшем, когда быстро повышается значение
земледелия, челядь получает все большее экономическое значение и
в связи с этим большие права. Тогда и появляется новый термин
холопъ.
Холопу противопоставляется слово смердъ. В московскую эпоху
оно превратилось в бранное слово. Некоторыми языковедами это
слово этимологически связывалось со смердеть. Но не смердъ произошло от смердеть, а, наоборот, от слова смердъ, вероятно, произошло смердеть, как проявление классовой вражды и ненависти.
Смердъ — слово не только русское, а тем более не только новгородское, оно встречается и в других славянских языках (ср. польск.
зтагсі, втегсіа). Иное толкование связывает слово смердъ с понятием
'смертный', что кажется более справедливым. В мордовском языке
встречаем слова тагі, ігшгі (тггуа) — 'человек, простой человек', повидимому значение 'человек из низшего сословия' появилось позже.
Следы широкого распространения термина смердъ мы встречаем в
топонимике. Из юридических и исторических источников это слово
исчезает рано, еще в домонгольский период. Сохранились и следы
самоназваний этих людей (свой миръ; вервь — 'община'; словене).
Вервь исчезло из употребления еще раньше, чем смердъ. Бесспорно
документировано слово вервь только в «Пространной правде», в
краткой редакции (по списку XV в.) оно устранено. Чем объясняется
такое явление? Статья 20 «Краткой правды» вполне соответствует
статье 3 «Пространной правды», расхождение заключается только в
словах вервь (пространная редакция) и вири (краткая редакция),
причем второй список дает чтение верней вместо вири, из чего заключаем, что в Академическом списке это слово подчищено и затем
неправильно восстановлено как вири вместо верви. Исчезновение
слова вервь в социальном плане не вызывает особого удивления, так
как община, которая обозначалась этим словом, к XIV в. распалась,
но сомнительна его этимология. Ряд лингвистов дореволюционной
эпохи слово вервь связывали с верёвкой. Карский объясняет это так:
веревкой мерили землю, а отсюда вервь — 'участок земли,
отмеренный веревкой'. А затем уж, возможно, и сама община стала
называться по этому участку земли вервью. В наших источниках
слово вервь имеет два значения: 'патриархальная община' и 'мера
земли'. Возможно, что 'мера земли' потом была перенесена на 'орудие измерения', а не наоборот, как полагал Карский. В московскую
эпоху употребление слова вервь в значении 'участок земли' широко
засвидетельствовано.
В статье 25 «Пространной правды», соответствующей статье 3
«Краткой правды», встречается слово тылѣснь («Аже кто кого ударить батогомь, любо чашею, любо рогомь, любо тылѣснию, то 12
гривенъ. Не терпя ли противу тому ударить мечемь, то вины ему в
томь нѣтуть»). На том основании, что это слово нигде, кроме «Русской правды», не встречается, Соболевский заявил, что перевести его
нельзя. Историки понимают под тылѣснию или тылесницею, как
читается в Троицком списке (а отсюда надо выводить и чтение
Мясниковского списка: десницею), либо тупую часть меча, либо
тыльную сторону кисти руки, пясти. В тексте речь идет об оскорблении чести без физического изъяна (дальше говорится о нанесении
удара острой стороной меча), а удар тупой стороной — это самое
большое оскорбление. (В старопольских юридических источниках
тылеснь, тылесница тоже значит 'тупая сторона меча'.)
В «Пространной правде» есть редкое слово колбягъ: «аже будеть
варягъ или колбягъ, то полная видока вывести и идета на роту». Об
этническом названии колбяги я уже говорил. Добавлю, что вполне
возможно сопоставить его с тюрке, кул-бег — 'конник'. В «Русской
правде» это слово значило 'наемная часть дружины'; жили такие
дружинники в княжеских замках, кремлях, были отделены от народа.
Для них в «Русской правде» устанавливаются изъятия из общих
судебных порядков. Слово колбягъ исчезло из языка.
Слово надраженъ означает вид увечья ('легко ранен'). Оно не
представляет затруднений в толковании, если сопоставить его со
старыми заразити — 'убить' и поразити — 'ударить'.
Изучение текста «Русской правды» дает возможность проследить
эволюцию социальной и юридической терминологии. Например, в
«Краткой правде» читаем: «Аще поиметь кто чюжь конь, любо
оружие, любо портъ, а познаеть въ своемь миру»1. В «Пространной
1
Сочетание свой миръ соответствует примерно: своя вервь, своя община.
правде» эта же статья изложена иначе: «... а после познаеть въ сво-емь
городѣ». То, что в древнейшем тексте обозначалось в своемь миру,
заменено в своемь городѣ.
Еще замена древней формулы новой: «Не будеть ли татя, то по следу
женуть» — 'если вор не обнаружен, не пойман, то идут по его следу'. В
позднейшей формуле, когда гонение по следу отмирает, формула
заменяется: «Аже будеть росечена земля или знамение... то по верви
искати татя», т. е. так или иначе, без всякого преследования по следу,
опросом через биричей и т.д. искать виновного.
Древняя формула при начале розыска вора а закличуть и на торгу, т.
е. бирич выезжает на базар и кричит во весь голос, что у такого-то кто-то
украл такой-то предмет. Позднейшая формула а заповесть на торгу, т. е.
просто сообщить на торгу, так как бирич, по-видимому, не всегда был.
Еще ряд фразеологических оборотов, характерных для старшего
извода «Русской правды». «Аже будеть во одиномь городе, то ити
истьцю... до третьяго свода». Тут все слова русские, но я уверен, что вы
ничего не поняли. Здесь каждое слово имеет свое, специфическое, а не
общее значение, является юридическим термином, а каждое
фразеологическое сочетание имеет особый, известный в наше время
только юристу или специалисту по истории языка, смысл. Но в XI в. эта
юридическая терминология, несомненно, была понятна всем.
Что значит сводъ? Примерно 'очная ставка', это был вид судебного
следствия. «Аже будеть во одиномь городе, то ити... истьцю до конця того
свода» значит 'пока следствие ведется в пределах одного округа, одной
общины (город — в смысле всей принадлежащей ему земли со всеми
населенными пунктами, которые к нему примыкают), то истец,
пострадавший, тот, кто ищет потерянное, пагубу свою, должен искать,
пока не найдет'. «Будеть ли свод по землям» — 'если следствие должно
выйти за пределы общины, то идти до третьей очной ставки'. «А что
будеть лице» — 'если будет найдено лице — поличное, подлинная
украденная вещь'. «А с лицем идти до конца своду» значит, что вещь
найдена, но тот, у кого она найдена сейчас, не украл ее, а купил.
Следовательно, надо найти вора, т. е. человека который не сможет указать,
у кого он купил эту вещь. Так вот третий, у кого вещь найдена, платит
первоначальному владельцу, истцу за украденную вещь деньгами, а вещь
остается дальше в следствии. Ее переносят, перевозят в другие места, по
указанию третьего свод-
ки
102
ного, к тому, от кого он ее достал. И так до самого конца, пока не найдут
вора, т.е. человека, который не сможет указать, у кого он купил эту вещь.
«А истцю ждати прока», т.е. конца следствия. Когда, наконец, найдут
вора, т. е. последнего в цепи сводов, то он должен заплатить, что взяли с
третьего лица по своду, с одного из промежуточных владельцев этой
вещи, да еще, кроме того, пропажу, т. е. штраф за преступление.
На этом примере мы ясно видим, как специальна фразеология
«Русской правды». Она отличается условностью значений, чрезвычайным
лаконизмом, хотя состоит из общеупотребительных слов, которые в свое
время, несомненно, были общепонятны и общедоступны. Народное
происхождение этой фразеологии очевидно. Скажем, в «Поконе вирном»
мы читаем: «Конѣ 4 поставити и сути им на рот елико возмогут зобати».
Речь идет о допустимых поборах с населения, которые производят
судебные чиновники при следствии или при исполнении судебного
решения. В данном случае они могут поставить четыре коня в один двор и
заставить крестьянина кормить их, сыпать для каждого коня столько,
сколько он может съесть. Здесь все слова народные. Зобати признается
северным диалектизмом, так как оно широко известно в новгородской
письменности (кормушка коня называется зобницей еще и сейчас в
новгородских и происшедших из новгородских диалектах).
Однако, хотя народная основа русской фразеологии «Русской правды»
совершенно очевидна, все же нельзя отрицать ее связь с книжным языком.
Но прежде чем отметить эти книжные элементы, я остановлюсь еще на
одном слове — отарица. Оно тоже больше нигде не встречается.
(Впрочем, нельзя сказать, что абсолютно нигде. В пандектах Никона, в
переводном византийском памятнике, излагающем церковный устав,
слово это встречается — этот единственный пример нашел Срезневский.)
Слово отарица встречается в «Русской правде» в очень трудном
контексте. Почти весь текст уже ясен, но в пространной редакции осталось
несколько мест, вызывающих весьма противоречивые и спорные
толкования. В таком тексте встречается и слово отарица. Разбирать
вопрос целиком я не буду, это были бы юридические рассуждения. Я
укажу только пределы расхождений в понимании этого слова. Речь там
идет о нарушении договора феодала со своим батраком или испольником
— арендатором земли из половины или из какой-нибудь доли. Говорится
об обиде, насилии, которое творит феодал, стремясь закрепостить
свободных земледельцев. Феодал, пользуясь только силой, нарушает свои
обязательства и чинит всяческие обиды зависимому от него земледельцу.
В «Русской правде» сказано так: «аже господин переобидить закупа, а
увидить купу его, или отарицю». Увидить — порча текста, это слово здесь
абсолютно не подходит (тем более, что в разных списках оно заменено), а
надо читать уведеть. Можно предполагать, что речь идет о какой-то
движимой собственности. Однако купа никакого другого толкования,
кроме 'данное взаем добро или деньги', не имело (отсюда закупъ). Но
если взаем дан рабочий скот, то текст мог бы означать 'если феодал
отнимет назад им же за труд предоставленного земледельцу коня или
корову, а также отарицу'. Срезневский попытался объяснить это слово как
'месячная плата'. Но никаких доказательств, кроме случайного указания,
что где-то в Белоруссии в одном из народных говоров встречается
отарица — 'оброк', он не приводит. Такое объяснение не вяжется с
составом слова. Если разложить его на приставку от- и корень -арица-, то
оно скорее всего должно пониматься как 'пахотная земля' или 'продукт
пахотной земли'. Тогда возможно было бы истолковать эту статью так:
если феодал отнимет у смерда то добро, или деньги, или средства производства, которые он ему дал, и отарицу — тот урожай, который смерд
получил, — то он подвергается такому-то возмездию.
Однако до сих пор слово отарица принимали за заимствование из
тюркских или монгольских языков на том только основании, что там есть
слово отар — 'земельный надел'. Во-первых, от отар до отарица очень
далеко; во-вторых, вполне возможно, что это наш древнейший термин,
который был потом заимствован кочевниками, так что можно говорить и
об обратном заимствовании. Одно несомненно, это термин чисто
народный, и притом характеризующий какие-то отношения еще
дофеодального периода, а потом эпохи раннего феодализма.
Мы рассмотрели архаический слой лексики «Русской правды» и
отметили, что неправильно видеть в повторяющейся лексике двух
редакций главный признак архаичности памятника. Критерий может
быть только историко-семантический. Перед лингвистами стоит до сих
пор никем не решенная задача — выделить ту архаическую часть «Русской
правды», которая находит некоторые соответствия в других ранних
источниках домонгольского периода и которая могла бы послужить
надежной основой для характеристики состава лексики этого периода.
К приведенным выше примерам я прибавлю еще несколько из других
древнейших памятников нашей письменности: рота — 'клятва, присяга',
вынезти (многократный вид был бы выньзати, ср. воньзати). Давно
отмечалось, что юридические термины, связанные с ранним
феодализмом, быстро отмирали: подъездной, ездовой (князя) —
'доверенный'; ссадная гривна — 'сбор, который взыскивается в пользу
князя при начале дела'; сметная гривна — 'сбор, взыскиваемый при
окончании дела' (ср. сметать — 'сбрасывать, снимать'). Термины
104
придворного княжеского обихода (тивунъ, гридь и др.) также редко
встречаются в других памятниках, кроме юридических.
Короткую историю в нашем литературном языке имеют термины
продажа — 'штраф, взимаемый в пользу князя'; вирникъ —
'уполномоченный по разбору уголовных дел'; видокъ — 'свидетель';
закупъ — 'крестьянин, за долги попавший в кабалу к помещику'. Дольше
сохраняются термины типа послухъ, но исчезают такие, как рядовичь,
закладень (то же, что закупъ) и др.
Гораздо более плодотворным надо признать изучение не тех слов,
которые совпадают в обеих редакциях, а тех, которые очевидно отличают
вторую редакцию от первой. Лингвисты пока не уделяли этому
достаточно внимания. Историки, добиваясь полного понимания текста,
тщательно сопоставляли разные редакции и искали подтверждения
своего мнения больше в расхождениях, чем в соответствиях. Например, в
ходе исторического исследования выяснилось, что термины бояринъ,
боярство известны только в пространной редакции «Русской правды».
Боярство выделяется из среды княжеской дружины лишь в позднюю пору
феодализма, при начале его разложения. Поэтому можно видеть и в этом
доказательство хронологической приуроченности «Пространной правды»
к более позднему времени. Термины бояринъ, боярство имели сложную
историю. Их употребление свидетельствует об упрочении этой
прослойки во времена создания «Пространной правды», ибо «Краткая
правда» этих слов еще не знает.
В более широком плане сопоставление текстов двух редакций
позволяет обнаружить существенное обогащение текста «Пространной
правды» словами и выражениями, отражающими новые социальноэкономические отношения. Сопоставим первый абзац в краткой и
пространной редакциях:
Краткая редакция
(Академический список)
Пространная редакция
(Троицкий список)'
«Убьеть мужь мужа, то мьстить
брату брата или сынови отца,
любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови. Аще
не будеть кто мьстя, то 40 гривень за голову».
«Аже убиеть мужь мужа, то
мьстити брату брата, любо отьцю, ли сыну, любо братучадо
(вар. браточаду), ли братню сынови. Аще ли не будеть кто его
мьстя, то положити за голову 80
гривенъ».
Начало в обоих текстах одинаковое. Но в краткой редакции первое
предложение бессоюзное, а в пространной — оба с союзами. Некоторые
исследователи пытались объяснить отсутствие союза порчей текста.
Теперь мы знаем, что бессоюзные конструкции были широко известны
древнерусскому языку. В «Краткой правде» в употреблении бессоюзного
условного предложения мы видим отражение разговорного языка и норм
устной речи. В «Пространной правде» первое предложение с союзом аже
ближе стоит к нормам литературной речи. Далее мы имеем различия в
написании брату-чаду, браточаду, братучадо. Это расхождение
показывает, что слово браточадъ в пору возникновения «Пространной
правды» было мертвым, не вполне отчетливо понимался его состав. И
потому после слова браточаду появилась вставка ли братню сынови,
которая раскрывает смысл слова. Этой вставки нет в «Краткой правде»,
так как во время ее составления слово было понятно. За время между
составлением краткой и пространной редакций исчезли представления,
характерные для эпохи патриархальной общины, забылись термины
родства того времени. Здесь же, в начале, мы видим изменение текста изза увеличения количества вставок:
«Аще будеть русинъ, любо
гридинъ, любо купчина, любо
ябетникъ, любо мечникъ аще
изъгой будеть, любо словенинъ,
то 40 гривенъ положити за нь».
«Аче будеть княжь мужь или
тиуна княжа; аще ли будеть
русинъ или гридь, любо купець,
любо тивунъ боярескъ, любо
мечникъ, любо изгои ли
словенинъ, то 40 гривенъ
положити за нь».
1
Я беру Троицкий список, ибо вполне разделяю точку зрения историков, что этот список
восходит к XIV столетию и стоит ближе к новой орфографии. К тому же он имеет меньше
всяких описок.
106
По юридическому содержанию эта часть статьи существенно
отличается от первой, что для историков имеет большое значение. В
первом отрывке речь шла о кровной родовой мести, и только в том
случае, если мстить было некому, взимался денежный штраф в пользу
общины. В продолжении же статьи говорится уже о денежной плате без
кровной мести, причем указываются социальные категории не
патриархальной общины, а феодального общества.
«Пространная правда» содержит ряд дополнений и вставок, отражающих новую социально-экономическую эпоху. Если в «Краткой
правде» мы имели во всех случаях одно денежное взыскание, кто бы ни
был убит (40 гривен), то в «Пространной правде» противопоставляются
два размера штрафа: 80 гривен за мужей, т. е. приближенных князя, и 40
гривен — за лиц низкого происхождения. Помимо этого, в пространной
редакции есть добавления, которые нужно относить к эпохе после
Ярослава. Например, добавление аще будеть княжь мужь, которое
следует за платити 80 гривенъ, и относят к этому первому штрафу: 80
гривен надо платить за княжа мужа. В перечне из «Правды Ярославичей»
есть добавление тивунъ боярескъ, которое характерно для конца XII —
начала XIII в. Изменилась и сама внешняя форма слова: уже не тиунъ, а
тивунъ — дальнейшее освоение чужого для Руси слова.
В статье 2 «Краткой правды» читаем: «Или будеть кровавъ или синь
надъраженъ, то не искати ему видока человѣку тому; аще не будеть на
немъ знамениа никотораго же, то ли приидеть видокъ, аще ли не можеть,
ту тому конець; оже ли себе не можеть мьсти-ти, то взяти ему за обиду 3
гривнѣ, а лѣтцю мъзда». Перевод будет звучать так: 'если окажется
окровавленным или в синяках, то ему не надо искать очевидца; если же
нет внешних следов, то надо привести свидетеля; если же не может
привести очевидца, то тут делу и конец; если он сам за себя мстить не
может, то взять ему 3 гривны за обиду да еще оплату лекаря'. Допустимо
думать, что здесь речь идет только о примирении поссорившихся главой
патриархального рода. В этом можно видеть традицию изустного
кодекса дофеодального периода. Но в той же краткой редакции в статье
30 читаем: «Аще же приидеть кровавъ мужь, любо синь, то не искати ему
послуха». Термин послухъ поздний, пришедший на смену термину
видокъ. Изменились и условия суда: теперь тяжбу можно вести только
тогда, когда есть следы, видимые доказательства покушения. Изменения в
условиях тяжбы, в правовых воззрениях, в языковых вариантах
свидетельствуют о том, что и краткую редакцию следует рассматривать
107
не как единое целое, а как свод, компиляцию ряда записей обычного
права.
Пространная редакция отражает другие отношения. Когда судит
князь, нет речи о примирении. Если пострадавший придет на княжеский
двор в синяках, то обидчик должен платить князю штраф — продажу.
Оскорбление,
нанесенное
кому-нибудь
из
княжеских
людей,
рассматривалось как оскорбление, нанесенное самому князю. (Юристы
видят в этом дальнейшее развитие правовых понятий.) Когда в судебной
практике возникают случаи ложных обвинений, вырабатываются
формулировки, усложняющие патриархальную тяжбу. Новые статьи
«Пространной правды» требуют представить свидетеля, который
повторил бы слово в слово показания пострадавшего.
Перейдем к дальнейшим толкованиям текста. Нововведением времен
«Пространной правды», как уже было упомянуто, является требование
кроме возмездия пострадавшему еще и второго взыскания (продажи) в
пользу князя. Новым является и различение убийства в сваде (ссоре) и
убийства без всякоя свады. Рядом с древней вирой появляются новые
термины продажа и сметная гривна.
Очень показательно различие значений слов разбой и разграбление
в краткой и пространной редакциях. Разбой в краткой редакции —
'поединок' (в вариантах имеем бой — 'стычка, драка, вооруженное
столкновение двух-трех лиц'). В пространной редакции разбой означает
уже 'вооруженное нападение без всякой предварительной ссоры'. В связи
с этим историки отмечают, что по «Краткой правде» наказуем только сам
факт нападения, независимо от того, с увечьями или без увечий
окончилось
столкновение;
в
«Пространной
правде»
уже
разграничивается ссора по вине зачинщика и беспричинная, ссора с
увечьями и без увечий.
Так же резко меняется значение наказания на потокъ и разграбление. В древней, краткой редакции потокъ — 'изгнание из
патриархальной общины, уход из общины' (от слова теку — 'иду'),
разграбление — 'уничтожение, срытие дома, землянки виновного лица'.
В новой, пространной редакции потокъ — 'ссылка, заточение', а
разграбление — 'расхищение всех богатств, стихийное нападение и
разграбление всего имущества учиняющей самосуд толпой' (не без
участия и княжеской дружины, поэтому часть имущества могла идти в
пользу князя). Некоторые историки под разграблением склонны
понимать даже конфискацию имущества в пользу князя, но это
толкование представляется мне неосновательным.
108
Рассмотрение существенных различий в аналогичных статьях краткой
и пространной редакций «Русской правды», а также многочисленных
добавлений в пространной редакции позволяет увидеть большое
различие между двумя эпохами, двумя общественными формациями,
нашедшими отражение в старших редакциях «Русской правды».
Сопоставление этих редакций дает богатый материал для истории
русского языка.
Коротко остановлюсь на доказательствах того положения, что
краткую редакцию нельзя рассматривать как целостный памятник.
Статья о вирных взысканиях, как доказал Тихомиров, является довольно
поздней вставкой, принадлежащей духовенству. На это указывает то, что
статья начинается с определения денежного взыскания, десятины
(древнее девятина), т.е. сбора в пользу церкви. Десятина, как считают
историки, оказывается не точно подсчитанной, она гораздо больше, чем
1/10, а составляет приблизительно 1/6 всего денежного взыскания.
Тихомиров установил, что вставка относится к позднему времени и
одному городу; возможно, что это дополнение сделано в Новгороде.
Есть и еще одна показательная в лингвистическом отношении черта.
В этой же статье единственный раз встречаем старославянское слово
овенъ, а везде в тексте употребляется русское овца. Это доказывает, что
статья 42 добавлена к краткой редакции «Русской правды»
(церковнославянская форма слова — явление позднее). Итак, хотя
«Краткая правда» отражает более древний текст, хотя в ней есть
элементы изустного кодекса, она из-за компилятивности своего состава
не может служить для характеристики языка древнейшей поры во всем
объеме. Тем более не может быть источником для характеристики
древнейшего русского языка пространная редакция.
Ключевский обратил внимание на то, что статьи, посвященные
наказанию за кражу ладьи, различаются только размерами штрафа: 30
рѣзанъ — в «Краткой правде», 60 кунъ — в «Пространной правде»1.
Ключевский отмечает, что 1 куна равна 2 резанам, т.е. штраф
увеличивается в четыре раза. Это мелочь, но очень показательно резкое
различие в ответственности за оскорбление и поругание чести феодала. В
«Пространной правде» (в Синодальном списке) в статье 25 читаем: «Аже
кто кого ударить батогомь, любо чашею, любо рогомь, любо тылѣснию,
См.: Ключевский В. О. Курс русской истории, ч. 1, с. 264-265.
то 12 гривнѣ», а в статье 31: «Или пьхнеть мужь мужа любо к собѣ, любо
от себе, любо по лицю ударить или жердью ударить, а видока два
выведуть, то 3 гривны продаже». Расхождение в плате за мелкое
1
109
оскорбление объясняется тем, что эти статьи «Пространной правды»
сложены в разное время. Статья 25 более поздняя, отражает обострение
социального антагонизма (напомню, что гривна в ту пору равнялась
стоимости одного жеребца). В статье 42 перечисляются сборы в пользу
вирника, здесь мы читаем: «А хлѣба по кольку могуть ясти и пшена»; это
патриархальная мера. В пространной редакции (Синодальный список)
уже точно установлен размер кормления (статья 9): «А хлѣбовъ 7 на
недѣлю, а пшена 7 убороковъ».
«Русская правда» сейчас большинством историков трактуется как
судебник, защищающий права феодала, и более всего те права, которые
связаны
с
его
хозяйственной
деятельностью,
поместьем,
землевладельческими интересами. Это не совсем полная, несколько
односторонняя характеристика, ибо в «Русской правде» (особенно в
«Пространной правде») есть немало статей, посвященных другим
вопросам. Тут мы опять должны сказать, что всегда, в любом изводе, в
любой редакции, в любом даже незначительном варианте «Русской
правды» мы встречаем и положения об убийстве и краже, и положения о
наследстве (как в договорах с греками), и немало положений,
охраняющих торговлю, интересы купца, но уже купца не зарубежного, а
своего. Статьи 48-52, а также 54 и 55 целиком посвящены охране прав
купца. Я приведу некоторые, чтобы составить более конкретное
представление об этой части наших древнейших законодательных
установлений.
«Аже кто купець купцю дасть в куплю куны или в гостбу, то купцу
пред послухи кун не имати, послуси ему не надобе, но ити ему самому
роте, оже ся почнеть запирати». — 'Если один купец даст другому денег
для закупки товаров или для заграничной торговли, то такой купец не
должен брать деньги при свидетелях, — свидетель ему не нужен. Но если
должник начнет отрекаться от долга, то он Должен приносить присягу'.
Следующая статья: «Иже кто поклажаи кладеть у кого любо, то ту
послуха нет, у кого того лежал товар, но оже начнеть большимь клепати,
тому ити роте, у кого лежало». — 'Если кто дает кому-нибудь свой товар
на хранение, то для этого свидетели не нужны, а если начнет ложно
присягать или ложно утверждать, что больше положил товара, то
присягу приносит тот, у кого лежал товар'. Эта статья особенно
интересна по синтаксической структуре.
Дальше сказано: «А толко еси у мене положил, зан(еже) ему бологодеял и хоронил товар того» — 'только этот товар ты мне отдавал на
110
хранение'. В эту формулу вставлены слова, которые произносит, давая
присягу, ложно обвиняемый купец. Затем снова с прямой речи переход к
изложению автора... Дальше идет ряд установлений о резах, т. е.
ростовщических процентах.
Приведу еще одну статью:
«Аже который купець, кде любо шед с чюжими кунами, истопиться,
любо рать возметь ли огнь, то не насилити ему, ни продати его; но
Како начнеть от лета платити, тако же платить, зане же пагуба от бога
есть, а не виноват есть; аже ли пропиеться, или провиється, а в безумьи чюжь товар испортить, то како любо тем, чий то товар, ждуть ли
ему, а своя им воля, продадять ли, а своя им воля». — 'Если какой-нибудь купец, отправившись торговать с чужими капиталами, потерпит
кораблекрушение или его войска чьи-нибудь захватят, или от огня (на
пожаре) пострадает, то нельзя ни «продавать» его, ни совершать над
ним насилия; он будет выплачивать понемногу, так как это несчастье,
эта пагуба от бога и купец здесь не виноват. Но если он сам пропьет,
или потеряет в драке, или в безумии чужой товар погубит, то тем,
кому этот товар принадлежит, — полная воля, что хотят, то с ним и
сделают'.
Эти статьи не соответствуют полностью статьям, содержащимся в
договорах с греками, как и статьям, помещенным в позднейших
документах, например в смоленском договоре 1229 г. Однако есть
аналогии в содержании, есть и некоторые частные аналогии словар-нофразеологического порядка.
Вы уже знаете, что язык «Русской правды» весьма близок к разговорному языку; в лексических, фразеологических и некоторых
грамматических элементах имеется немало соответствий, совпадений
даже с современными диалектами и менее всего он может быть сближен
с языком памятников церковной литературы. Однако нельзя полностью
отрицать наличие некоторых, хотя бы и не очень значительных,
элементов старославянского книжного языка. Я когда-то приводил уже
немногочисленные старославянизмы из «Краткой правды». Обратимся
теперь к пространной редакции, которая содержит ряд лексических
старославянизмов. Скажем, в начальной части, в заголовке «Правды
Ярослава» встречаются: со-вокупившеся — 'собравшись' — глагол, не
свойственный русской народной речи и несом- ненно происходящий из
старославянского языка; убиение — слово, повторяющееся много раз и в
договорах с греками, и в «Русской правде», и во многих позднейших
111
документах (ему соответствует русское убой или розбой); знамение —
'значок, или синяк, след удара'; болярин рядом с боярин — в одном из
списков Синодального извода; ближний — 'родственник' (в статье о
наследстве); иже вместо который; азъ — вместо я; овенъ рядом с
обычным в «Русской правде» овца.
Толкование слова вражда («Аже господин приобидит закупа, увидить
вражду и увередить цену»), которое встречается в одном месте «Русской
правды», вызывает споры и представляет, несомненно, большие
затруднения до сих пор. Так же ясно указывает на славянизм и
неполногласная форма ра. Выражение увидить вражду, не очень
понятное и трудное для историков и юристов, вызвало попытки обойти
это место, считать его какой-то порчей текста. Я думаю, что нет
надобности видеть здесь искажение. Так как единичные славянизмы
налицо в «Русской правде», то это можно считать еще одним
славянизмом. А статья имеет такое объяснение. Если под словом вражда
понимать 'повинность, наказание за преступление' (так же как слово
вира в законодательном языке сначала значило 'вражда', а потом —
'штраф за убийство'), то здесь мы имеем превращение общего слова в
юридический термин, обозначающий штраф за какое-то преступление,
может быть, залог, предупреждающий преступление.
Возможно, когда-нибудь удастся лучше объяснить это слово и
исправить «темное место», но все же нельзя изъять полностью славянизмы из текста «Русской правды». Славянизмы характеризуют (тоже в
небольшом числе) и язык договоров; славянизмы мы будем встречать и в
других документах, даже в несколько большем количестве. По крайней
мере, в деловом языке московской эпохи число славянизмов сильно
возрастет. Но и в грамотах ХІІ-ХІѴ вв. их будет больше, чем в «Русской
правде». Мне кажется, это позволяет утверждать, что никогда и не
существовало у нас делового языка чисто русского, абсолютно не
содержащего никакой примеси старославянского. И это нисколько не
мешает противопоставлять язык Деловой письменности языку других
жанров, как наиболее близкий к народному, разговорному языку.
Вторым, таким же постоянным и характерным для языка деловой
письменности киевской эпохи признаком является незначительность
местной диалектной окраски, областных языковых элементов. Правда,
никто не пытался отнести договоры с греками к какому-нибудь
определенному месту Киевской Руси, но именно потому, что их язык
признавали далеким от живого языка, считали переводами, сделанными
скорее на старославянский, чем на русский язык. Обнорский впервые
112
заявил, что только договор 944 г. является переводом на русский язык1. И
вот в силу того, что никто не видел в договорах русского языка, никогда не
возникало мысли о том, есть ли здесь областная окраска. Но раз мы
признали, что договоры с греками, если убрать оттуда несомненно
переводные статьи, отражали разговорную речь киевских послов, то
вполне законным явится вопрос: есть ли какая-нибудь местная, хотя бы
киевская, окраска в речи послов? И на этот вопрос придется ответить
отрицательно: почти нет такой окраски, она неуловима. Быть может, в
оригиналах, не дошедших до нас, особенности киевской речи и
чувствовались в фонетическом, грамматическом облике речи послов, но в
копиях все стерлось. Что касается фразеологии, устойчивой на
протяжении многих веков, то, кроме одного-двух случаев, мы не можем
указать ничего, что вело бы нас хотя бы к Киеву. Из этого можно сделать
заключение (хотя и на ограниченном материале), что язык Киева в X в.
представлял собой нечто целостное, единое и вместе с тем почти
совершенно свободное от каких бы то ни было местных диалектных
особенностей.
В отношении языка «Русской правды» подобный вопрос ставился не
раз. Обнорский последовательно держится взгляда, что древнейший
состав «Русской правды» по языку все-таки тяготеет к Новгороду. Это,
правда, плохо вяжется с общей его концепцией, что «Русская правда» —
памятник русского литературного языка старейшей поры. Если так, то
при чем здесь новгородская основа? Обнорский не замечает этого
противоречия и упорно стремится доказать, что здесь есть новгородские
элементы. Но в чем? Я уже приводил несостоятельное утверждение,
будто в «Русской правде» почти нет славянизмов, но много
скандинавизмов. В действительности скандинавизмов немного, всего дватри, и то они были широко известны, БО всяком случае в Приднепровье.
Например, особенно типичными для «Русской правды» казались тиунъ и
1
См.: Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками. — В кн.: Язык и мышление, вып.
6-7. М. — Л., 1936.
гридь. Однако тиунъ широко распространено в фольклоре Белоруссии и
в целом ряде документов эпохи средневековья, даже XVI в.; гридница
известно в народных говорах северо-запада. Поэтому не приходится
говорить, что в этих словах есть специфическая новгородская примета.
Точно так же я указывал на некоторые византийские элементы в «Русской
правде». Следовательно, определение места составления судебника по
заимствованным словам неубедительно.
113
Есть и другие соображения. Обнорский приводит единственный раз
встречающееся слово полоть со вторым полногласием и утверждает, что
второе полногласие — специфически северное явление1. Значит, здесь мы
опять имеем указание на новгородское происхождение «Русской
правды». Но нельзя забывать, что вопрос о происхождении второго
полногласия, о месте и времени его распространения остается до сих пор
спорным. И. В. Ягич, А. А. Шахматов и другие языковеды не согласились
считать второе полногласие фонетическим явлением. Во втором
полногласии они видят явление чисто грамматическое — результат
аналогии форм именительного и косвенных падежей в силу локализации
глухих в одном случае и полного исчезновения — в другом.
Не так давно вопрос о времени и месте распространения второго
полногласия подвергся пересмотру. Было показано, что второе
полногласие свойственно языку многих памятников не только
новгородских, но и относящихся к северо-западу Руси2. В современных
говорах второе полногласие оказывается более всего распространенным
на севере, но оно не чуждо и другим русским говорам. Наличие какогонибудь слова со вторым полногласием ничего не решает в вопросе о
происхождении «Русской правды». Вполне очевидно, что в киевскую
эпоху второе полногласие было более распространено, чем сейчас.
Обнорский указывает еще на чередование в написании ѣ и и в одних и
тех же слогах. Хотя в учебниках утвердилось прочное мнение, что
чередование ѣ и и характеризует новгородские памятники, здесь
приходится сразу оговорить, что, во-первых, чередование ѣ и и известно
' См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода, с. 15-16.
См.: Гринкова Н. П. О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах. —
«Труды Ин-та русского языка АН СССР», 1950, т. 2.
не только новгородским, но и галицким памятникам, следовательно,
могло быть присуще не только северным говорам, но и южным (оно
характеризует современный украинский литературный язык и все
южноукраинские говоры), а во-вторых, случаи употребления в
новгородских памятниках ѣ и и весьма неоднородны, да и в современных
говорах, происшедших из новгородских, судьба старого ѣ различна —
иногда это и, иногда узкое е. Шахматов утверждает, что чередование ѣ и
и в новгородских памятниках не фонетического порядка, и из него нельзя
заключить, что новгородцы вместо ѣ произносили и. Отсюда ясно, что
вопрос о чередовании ѣ и и в различных списках «Русской правды» еще
114
не решен, и эта черта не может быть принята в качестве доказательства
севернорусского происхождения судебника.
Обнорский указывает еще на несколько случаев «цоканья»: ти-вунець
вместо тивунечь, емцю вместо емчу, а слово кормиличичь исправлено
на кормиличиць. Уже эта подчистка в тексте как нельзя лучше говорит о
том, что «цоканье» могло быть внесено любым писцом. Но если бы даже
один-два случая «цоканья» были в древнейшем изводе «Русской правды»,
это тоже недостаточный аргумент для признания новгородского
происхождения памятника, ибо «цоканье» распространено не только в
новгородских, но и в псковских, смоленских говорах, вплоть до
Белоруссии. Таким образом, и эта черта, хотя она и указывает на север
Киевской Руси, но не указывает Новгород как место, где могла бы
сложиться «Русская правда».
Обнорский останавливается и на слове вѣверица как названии
денежной единицы. Так читается это слово в краткой редакции «Русской
правды»; в пространной редакции читается вѣкъша. Слово векша —
'белка' и сейчас широко известно на севере. Слово вѣверица почти
вымерло, но оно встречается в письменности не так редко, и не только в
«Русской правде», но и в «Повести временных лет», в рассказе о мести
Ольги древлянам и т.д. Так что вѣверица было известно и Киеву, и
южной Руси. Это слово оставило некоторые следы и в белорусских
говорах, имеет параллели в литовском ѵоѵегё и в латышском ѵаѵеге —
'белка'. Это совпадение с литовским и латышским показывает, что слово
вѣверица, по крайней мере для всего прибалтийского района, было
очень древним, являлось общим словом многих древних племенных
диалектов. А наличие его в языке Киевской Руси свидетельствует о том,
что оно распространилось далеко на юг и, по-видимому, в XI в. было
общерусским. Итак, ни один из доводов в пользу новгородского
происхождения «Русской правды» нельзя признать неоспоримым,
безукоризненным.
С другой стороны, надо указать, что текст «Русской правды», особенно
в пространной редакции, содержит синонимы, т. е. одно и то же понятие
выражается двумя или тремя словами. А наличие синонимов как нельзя
более отчетливо свидетельствует о том, что текст «Русской правды»
базируется на нескольких диалектах какого-то общего языка и суммирует
разные элементы старых племенных наречий.
Уже в древнем тексте слово миръ является синонимической параллелью слов городъ, вервь. Рядом со словом челядь встречаем
115
холопи, роби, робь; с этим же словом связан термин огнищанинъ,
который здесь имеет значение, уже далекое от первоначального. Наряду
с гридь употребляется дружина, рядом с людинъ — смердъ. Можно
думать, что рядовичь, въдачь, закупъ также являются синонимами
(такого мнения держатся Юшков, Греков и др.). Таким образом, наличие
синонимических параллельных обозначений также доказывает, что язык
«Русской правды» нельзя приурочить ни к какому месту и надо видеть в
нем отражение общего языка (койне), впитавшего в себя различные
древние племенные языки и наречия и послужившего основой для
формирования русского литературного языка.
Перейду теперь к обзору характерных для языка «Русской правды»
фразеологии и синтаксиса. Мне уже несколько раз приходилось
говорить, что в «Краткой правде» мы можем видеть остатки древнего
текста (лаконичность, недоговоренность, иносказательность речи).
Например, в статье «Убьеть мужь мужа, то мьстить брату брата»
употреблена бессоюзная подчинительная конструкция. Второе, что тоже
отмечалось, — это неполнота выражения, недостаток знаменательных
слов в юридических формулах, содержание которых может быть
передано адекватно лишь в пересказе: «Аще не будеть кто мьстя, то 40
гривенъ за голову» — 'если в роду убитого некому осуществить кровную
месть, то виновник может искупить свою вину, уплатив 40 гривен за
убитого').
В «Русской правде» специфически употребляются местоимения, что
вызывает большие затруднения у комментаторов. Так, во фразе взяти
ему за обиду 3 гривнѣ местоимение ему толкуется по-разному. Те, кто
видят в этой части традицию «Патриархальной правды», считают, что
местоимение ему относится к пострадавшему; а те, кто приписывают
создание статьи Ярославу, относят это ему к князю.
В выражении а въ усѣ 12 гривнѣ пропущен глагол. Такая конструкция была характерна для устной речи (удобна для заучивания
наизусть). Другой пример: или не пойдеть, то поручьника за 5 дний —
опять пропущен глагол в главном предложении. А пропуск глагола в
предложениях А въ княжи тивунѣ 80 гривенъ. А ко-нюхъ старый у
стада 80 гривенъ предельно сокращает фразу («Аже убьють конюхъ
старый у стада, то платити за нь 80 гривенъ»).
Наконец, подобно местоимениям в «Русской правде» выступают
указательные слова, которые были ясны лишь в ранний период, в
позднейших же списках требовали комментариев. Например: «Аже гдѣ
възьщеть на друзѣ проче» — 'а если потребует один у другого что-нибудь
116
другое'. Что подразумевается под словом проче, нам не совсем ясно.
Можно догадываться и восполнить это место так: 'все остальное, что
пропало вместе с украденным рабом или конем'. «Аще убьють
огнищанина в обиду, то платити за нь 80 гривенъ убийци, а людемъ не
надобе». Спрашивается: что не надобе? каким людям? Восполняем: 'не
надо платить виры остальным членам верви (родовой общины)'. Это
образец крайне сжатого, неразвернутого, так сказать, профессионального
языка «Русской правды».
Подведем окончательные итоги нашего обзора языка «Русской
правды». Следует считать наивным и неправильным на основе рассмотрения языка краткой или пространной редакции говорить об
особенностях языка древнейшего периода. Даже анализ двух первых
редакций (самых древних) позволяет говорить не о двух этапах «Русской
правды», а о трех: изустная «Патриархальная правда» (ІХ-Х вв.); «Правда
Ярослава» и «Правда Ярославичей» (XI в.); «Пространная правда» (XII в.).
Следовательно, для характеристики русского языка древнейшего
периода мы должны извлекать из обеих редакций частицы древнейшего
текста, а не произвольно выравнивать язык текстов.
Насущная задача лингвистов заключается в том, чтобы извлечь из
«Краткой правды», где их больше, и из «Пространной правды», где их
меньше, остатки древнейшего текста. Выделив эту древнейшую часть,
«Краткую правду» можно изучать как памятник XI в. А в это время — вне
всяких сомнений — воздействие церковнославянского языка на русский
язык проявилось уже вполне отчетливо. «Пространная правда» дает
богатейший материал для характеристики русского языка в жанре
законодательства ХП-начала XIII в. Необходимо внимательно и
пристально изучить синонимику «Русской правды», так как она ясно
показывает смену идеологии, смену социальных формаций, изменения в
языке: челядь, челяд-никъ — холопъ; за обиду — вира — продажа;
видокъ — послухъ; мужь — княжь мужь; огнищанинъ — бояринъ.
Односторонне решался до сих пор и вопрос о диалектных элементах
«Русской правды». Пытаясь доказать новгородское или киевское
происхождение памятника, исследователи искали в нем северные или
южные диалектные особенности. Я считаю несомненно северными
только слова: третьякъ — 'бычок по третьему году', волока, уборокъ,
зобати; южными: протори, тынъ, хоромъ, пакощи. Но это
разнообразие диалектных элементов лучше всего показывает, что
«Русская правда» возникла не в определенном году и не на какой-то
определенной территории. Ее нужно рассматривать как памятник,
117
имеющий длительную сложную историю, содержащий многообразные
языковые наслоения. Наиболее правомерно признать «Русскую правду»
общим достоянием всех восточных славян. Упрощать характеристику
языка этого богатого по своему лексическому фонду памятника
недопустимо.
Несомненно счастливым обстоятельством для русистов является то,
что древнейшим языковым памятником оказалась именно «Русская
правда», кодекс судебных норм. Это дает нам возможность отнести
сложение памятника к глубокой древности, к дописьменно-му периоду
(по составу, по юридическому содержанию он отражает некоторые
традиции обычного права дофеодальной поры)1.
Древнерусские грамоты
После «Русской правды» древнейшим памятником деловой письменности является «Грамота великого князя Мстислава Володимировича
и его сына Всеволода», составленная между 1128 и 1132 гг., но обычно ее
' См.: Валк С. Н. «Русская правда» в изданиях и изучениях ХѴІІІ-нач. XIX в. — В кн.:
Археографический ежегодник за 1958 г. М., 1960; его же. «Русская правда» в изданиях и
изучениях 20-40-х годов XIX в. — В кн.: Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960;
Василевская Е. Л. Профессор Селищев как лингвист и его статья о языке «Русской правды». —
«Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1958, т. 132, вып. 8; Черепнин Л. В. Общественнополитические отношения в Древней Руси и «Русская правда». — В кн.: Древнерусское
государство и его международное значение. М., 1965; Романов Б. А. Люди и нравы Древней
Руси. М. — Л., 1966. Прим. ред.
датируют 1130 г.1
В Мстиславовой грамоте мы видим те же характерные черты общерусского языка, что и в «Русской правде» и в договорах с греками. Но
здесь ясно выступают такая общерусская фонетическая черта, как
полногласие: серебра, серебрьно; русские формы склонения: буицѣ;
встречаются глаголы с окончанием в 3-м лице единственного и
множественного числа на -ть: состоить, отимаеть, характерные для
древнерусского языка; форма перфекта, причем в Мстиславовой грамоте
мы один раз имеем перфект без связки: азъ далъ и трижды со связкой:
повелѣлъ есмь, я далъ есмь, велѣлъ есмь; русская форма будущего
времени: почьнеть хотѣти; деепричастие: дьржа. Но наряду с этим есть
кое-какие элементы и старославянские. Скажем, в начале грамоты се азъ
Мьстиславъ оба слова — и указательное местоимение се, и личное
местоимение азъ — старославянские. Формула начала грамоты се азъ (по
118
происхождению
болгарская)
сохранится
в
русской
деловой
письменности вплоть до XVII в. Находим формы и старославянские:
донелѣ же ся миръ състоить; да судить ему богъ в день пришьствия
своего. Но рядом с этим в синтаксисе и лексике опять-таки преобладают
русские элементы, например, типично русские термины, формулы:
осеньнее полюдие — 'сбор дани, проводимый княжеской дружиной
осенью', при животѣ — 'пока жив', съ Данию, и съ вирами, и съ
продажами; буди за гвмь — 'обороняй, защищай'. Акад. С. П.
Обнорский, пожалуй, назвал бы славянизмом изоостанеть. Но
показания диалектов, многих памятников свидетельствуют о том, что
приставка из- столь же обычна в русском языке, как и вы-, и
противопоставлять якобы старославянское из- якобы русскому вынедопустимо2.
Если мы рассмотрим лексический состав грамоты «Данная Варлаама
Спасо-Хутынскому монастырю...» (1192)3, то здесь та же картина:
полногласные формы (городъ, корова); русская форма произношения
(наваженъ); русские слова божница — 'церковь' (это слово перешло из
русского языка в литовский и латышский), яовище; русским надо
1
См.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. М.—Л., 1949.
См.: Богданова В. А. Приставки вы- и из- в древнерусском языке. — В кн.: Вопросы
русского языкознания. К 80-летию проф. А. М. Лукьяненко. Саратов, 1961. Прим. ред.
2
3
См.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова, с. 161-162.
признать и слово вольмина, которое акад. И. И. Срезневский, считал
непонятным, ибо в диалектах именно с начальным в произносится слово,
известное больше в виде ольми-на — 'ольха'1.
В грамоте Варлаама считаются загадочными написания корь и лозь
(предполагается корье и лозье). Но и в том и в другом случае —
признавать ли это правильной собирательной формой, или считать
неточной записью — оба образования типично русские. Пожня, рьль —
'заливной луг' (известно в северных и западных говорах), нива (слово,
знакомое всем славянским языкам и обычное в нашей деловой
письменности в значении 'пахотная земля'), челядь, скотина, дѣвъка —
все это русская народная основа языка грамоты. Но есть в ней, как и в
любом другом документе, ряд неоспоримых церковнославянизмов:
союзы еже и аще, диаволъ, въ сь вѣкъ и въ будущий, наваженъ (с
русской заменой вместо наважденъ).
119
Новгородские грамоты, исследованные акад. А. А. Шахматовым2,
точно так же дают ясную картину широкого отражения живого языка, но
без четких особенностей новгородского говора. Исчерпывающее и самое
пристальное изучение текста новгородских грамот, начиная с конца XIII и
кончая XV в., которое провел Шахматов, позволило ему выделить совсем
незначительные признаки местного диалекта. Он указывает дважды
встречающееся написание осподаря (предполагается восподаря), в
других грамотах это слово начинается с г. Отсюда Шахматов заключает,
что в XIII в. здесь произносили спирантное Ь. Написание в
Лаврентьевской летописи слова повоет (вместо погост) опять-таки, по
его мнению, свидетельствует о том, что новгородский говор киевской
эпохи знал спирантное, протяжное Ь (эта особенность сейчас не
сохранилась, новгородский говор характеризуется взрывным г). Но,
возможно, надо признать наличие спирантного Ь только в нескольких
словах, пришедших с юга; повоет и восподарь могли прийти именно из
Киевской Руси, так как, по сообщению «Повести временных лет», в
Новгородской земле впервые установила деление на погосты киевская
княгиня Ольга.
В области морфологии Шахматов отмечает четыре случая глагольных
форм 3-го лица без окончания -ть: пойду, поиде, перейде, почне. Но
См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам, т. 1-3. Спб., 1890-1912.
1
2
См.: Шахматов А. А. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв. Спб., 1886.
рядом с этими формами имеются сотни форм с -ть. Можно признать,
что это было не городской, а крестьянской формой речи. Но на сотни
случаев правильных литературных форм в нескольких десятках грамот,
изученных
Шахматовым,
встретилось
только
четыре
случая
грамматических диалектизмов. В Лаврентьев-ской и Новгородской
летописях Шахматов отмечает всего по два-три случая, вот и все.
Следует заметить, что Шахматов без всяких колебаний считает аорист
нормальной древнерусской формой. В книге Обнорского утверждается,
что аорист и имперфект исчезли в русском языке еще до начала
письменности и в литературном языке старшей поры имеются лишь их
немногочисленные следы1. Здесь случайное обстоятельство — то, что в
«Русской правде» нет повода для употребления аориста, — ввело
исследователя в заблуждение. Как только такой повод появляется, так
аорист правильно используется в языке различных памятников старшей
120
поры и надо считать его нормальной формой общего древнерусского
языка. Шахматов приводит из новгородской грамоты такие случаи:
повелѣ, докончи, приехаша. Мы увидим потом, что и во многих других
грамотах форма аориста обычна.
Перфект встречается в грамоте и со связкой, и без связки. С одной
стороны, есме дали, докончалъ есмь, а с другой стороны что пошло,
что учинилось. Отсюда ясно, что и в Мстиславовой грамоте форму
перфекта без связки нельзя считать опиской, ошибкой, как иногда
склонны были думать, а надо признать нормальной формой — вопрос
только в том, какие синтаксические и фонетические условия требовали
связки, какие не требовали, — этот вопрос пока решается упрощенно,
неточно. В 3-м лице связка опускалась, в 1-м и 2-м сохранялась; правда,
это обобщение не совсем точно, я приводил случаи, когда глагол в 1-м
лице был без связки (язъ далъ).
Синтаксические обороты новгородских грамот те же, какие мы
встречаем в «Русской правде» и в договорах с греками. Мы имеем здесь не
только простое предложение, но и сложное, в том числе
сложноподчиненное: «А кто будеть купилъ села въ всей волости...» или
«А кто будеть закладень позоровалъ ко мнѣ». Так выражается обычно
условное придаточное предложение. Но так же оно выглядит и в
«Русской правде» (будет ли сталъ...). Характерен здесь не только союз а,
но и формула сказуемого: будеть купилъ, будеть позоровалъ — в
1
См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода. М.-Л., 1946.
древнерусском языке специфическая форма для выражения условного
наклонения.
Встречается в грамотах раздельное употребление возвратного
местоимения с формой глагола: что ся учинило; а што ся дѣяло;
подѣлило есмя ся. Отделение ся с постановкой его не впереди, а сзади
глагола свидетельствует о том, что неверно утверждение некоторых
историков языка, будто раздельное употребление частицы ся или
возвратного местоимения ся характеризует южнорусские памятники.
Мы.видим, что это черта именно общерусского языка древнейшей поры.
Употребление супина, отмеченное несколько раз в «Русской правде»,
встречается и в новгородских грамотах: «ездити на Озвадо звѣри гонитъ».
Наряду с этим новгородским грамотам свойственны старославянизмы:
приставка раз- (вместо роз-), окончание родительного падежа -аго
(вместо -ого).
121
Лексика новгородских грамот изобилует земледельческой терминологией. Скажем, для обозначения пахотной земли мы имеем целую
группу синонимов: орамая земля; деревня — 'пахотная земля';
оралище. Различаются участки пахотной земли: полоса; лоскуть;
наволокъ — 'заливная пашня на мысу'; рѣпище — 'место, где сеют репу,
или заливная пахотная земля'. Встречается в грамотах XV в. участокъ
для обозначения пахотной земли, но это позднейший термин,
древнейшими надо признать деревня, оралище. Сенокос обозначается
терминами пожня, кулига, наволокъ, закраина, при-теребъ — 'вновь
расчищенное сенокосное угодье'. Приусадебные возделанные земли в
грамотах ХІІІ-ХѴ вв. называются так же, как и сейчас: капустникъ,
огородъ, ягодникъ1.
Наконец, обратимся к «Договорной грамоте Смоленского князя
Мстислава Давидовича с Ригой» (1229)2. Язык договора должен был бы
отражать древний белорусский диалект. Тогда мы, наверное, отказались
Кроме Шахматова новгородские грамоты исследовали и другие ученые; см.: Боголюбова Н.
Д., Таубенберг Л. И. Наблюдения над языком новгородских грамот ХІІІ-ХІѴ вв. Рижского
госуд. городского архива. — «Уч. зап. Латв. ун-та», Рига, 1961, т. 43, вып. 7А; Бутович 3. И.
Словообразование имен существительных в новгородских грамотах ХІІІ-ХѴ вв. Автореферат
канд. дисс. Киев, 1954; Селиванов Г. А. Фразеология новгородских договорных грамот ХІІІ-ХІѴ
вв. Автореферат канд. дисс. Саратов, 1953; Смирнова Е. С. Морфологические заметки о
новгородских грамотах ХІІІ-ХІѴ вв., хранящихся в Рижском госуд. городском архиве. — «Уч.
зап. Латв. ун-та», 1961, т. 43, вып. 7А, и др. Прим. ред. См.: Напиерский К. Я. Русско-ливонские
акты. Спб., 1868, с. 420-442.
1
бы от утверждения о едином общем языке деловой письменности.
Однако смоленский договор поражает нас числом языковых совпадений
и параллелей и с «Русской правдой», и с договорами X в., и с
новгородскими грамотами, и с южными, украинскими грамотами
несколько более позднего времени. Прежде всего содержание грамоты
объясняет и обусловливает большое число языковых совпадений с
остальными памятниками этого рода. Смоленская грамота содержит
положения о наказаниях за убийство и кражу, указания об обеспечении
торговли, о возмещении долгов при банкротстве купца, вызванном
разными обстоятельствами, о бесчинствах, творимых купцами в чужой
стране и в дороге, о похищении челяди, холопов и т.д. Все та же тема,
которую мы знаем по договорам с греками, по «Русской правде». Не
случайно некоторые исследователи смоленскую грамоту 1229 г. называют
«Смоленской правдой», подчеркивая этим ее близость к «Русской
правде».
122
Я приведу две-три статьи из грамоты; если вы помните тексты договоров с греками и «Русской правды», то увидите, как много здесь
общего. «Аже будѣть свободьный человѣкъ убитъ 10 гривенъ серебра за
голъву». Изменились нормы штрафа по сравнению с «Русской правдой»:
там, смотря по положению, 40, 80, а здесь 10 гривен, но формула та же
самая, что была раньше. «Око. рука. нъга. или инъ что любо, по 5 гривьнъ
серьбра от всякого платити за окъ 5 серьбра. за руку 5 серьбра за нъгу 5
серьбра». Это напоминает статью в «Русской правде»: «Аще ли утнеть
руку, и отпадеть рука или усъхнеть, или нога, или око, или не утьнеть, тъ
полъ виры 20 гривенъ»1. Опять-таки изменился размер штрафа, но
формула осталась та же.
Смоленский договор до сих пор неполно изучен, недостаточно
показано его значение. Хотя этот договор относится к началу XIII в., до
сегодняшнего дня в Рижском архиве сохранились не только подлинный
документ, но и копии, с него снятые, позволяющие освободить текст
памятника от всех ошибок, какие допустили переписчики, а также от тех
исправлений, которые внесла господствовавшая в первой половине XIII в.
орфографическая школа. Следовательно, здесь мы имеем исключительно
благоприятные условия для того, чтобы представить отношение языка
договора к живому языку начала XIII в. А между тем до сих пор его
изучали только в плане падения глухих гласных и широкого чередования
написания о, е, ь, ъ в самом причудливом и неожиданном смешении, но
не исследована фразеология и лексика, весьма слабо выяснено
1
Правда Русская, т. 1. М. —Л., 1940, с. 124.
отношение синтаксической системы этого памятника к языку ранних и
поздних документов. Я, конечно, не могу выполнить все задачи, какие
только что наметил, но все-таки хочу остановиться именно на тех
элементах языка договора, которые меньше привлекали к себе
внимание1.
В смоленской грамоте широко представлены явления, которые уже
известны нам из памятников делового языка. Здесь основой (еще более,
может быть, очевидно, чем в старых памятниках) выступает именно
городская общеразговорная речь, такие специфические черты русского
языка, как полногласие, как ж и ч в соответствии с жд, шт, русское
окончание родительного падежа мягких основ (землѣ, волѣ), формы
перфекта и наряду с этим формы аориста, формы с русским вариантом
роз- (а не славянским раз-), перфект без связки (уздумалъ, прислал?»),
который был свойствен разговорной речи, плюсквамперфект тоже без
123
связки. Наличие в грамоте двух случаев употребления супина, мне
кажется, также является доказательством связи с живым языком.
Довольно четко употребляется двойственное число.
Сделаем несколько синтаксических наблюдений в дополнение к
общеизвестным. В этой грамоте преобладает условная связь, выраженная
союзом ажь, аже. Поэтому если реконструировать древнейший облик
языка «Русской правды», то в нем на основании смоленской грамоты надо
восстанавливать как основной тип именно аже. Союз аже употребляется
в смоленской грамоте не только в условном значении, но и в
своеобразном, неизвестном древнейшим памятникам значении —
'исключая тот случай, когда...': «Русину не вѣсти латиняна ко жельзу
горячему, аже самъ въсхочетѣ» — 'кроме того случая, когда он сам этого
хочет'. Это весьма ироническая, не Прямая, а завуалированная форма
ордалий: кто же сам захочет, чтобы его вели на испытание к
раскаленному железу? Развитие, усложнение значения союза аже, когда
он означает не 'если', а 'исключая тот случай, когда...' тоже является
одним из показателей его широкого употребления и большого значения
в образовании и построении сложноподчиненного предложения.
Привлекает внимание вопрос о категории лица, которая обычно
' За последнее время появились работы, посвященные разным сторонам языка памятника;
см.: Смоленские грамоты ХІІІ-ХІѴ вв. Подгот. к печати Т. А. Сумни-кова и В. В. Лопатин. Под
ред. Р. И. Аванесова. М., 1963. Прим. ред.
зависит от формы выражения прямого дополнения. Примеров дополнения в винительном падеже, совпадающем с родительным, для
отличия категории лица от категории вещи, мы имеем достаточно много:
«Прислалъ въ Ригу своего лучьшего попа Ерьмея и съ нимь умьна мужа
Пантелья».
Встречаем мы здесь и прямое дополнение, выраженное именительным падежом с инфинитивом: «Аже будѣте холъпъ убитъ, 1
гривна серьбра заплатити»; «Такова правда узяти русину».
Есть в этой грамоте один случай употребления местного падежа без
предлога. Обычно исследователи утверждали, что у нас местный без
предлога встречается только в Новгородской I летописи, всего четырепять раз, а больше нигде и никогда, и на этом основании считали его
вымершей категорией. Однако в смоленской грамоте читаем: «и
Смольньскь, и у Ризѣ и на Гочкомь березѣ». Так как записи, найденные в
Новгородской I летописи, в которых встречается подобная конструкция,
124
примерно совпадают по времени, то нет оснований отводить еще одно
свидетельство того, что эта категория в XIII в. еще не совсем вымерла.
Как и в других законодательных памятниках, чрезвычайно широко в
формулах
законов
употребляется
дательный
падеж
агенса,
производителя действия, с инфинитивом в качестве сказуемого: «тоть
дати ему на събѣ порука»; ему дати — 'он должен дать' — дополнение в
винительном падеже (дати — порука).
Немногочисленны, но все же отмечены здесь и довольно богатые по
средствам выражения подчинительной связи сложные периоды. Скажем,
«Того лета, коли Алъбрахтъ владыка ризкий умьрлъ»; коли — 'когда' —
временное придаточное предложение. Или: «утвь-рдили миръ что, былъ
немирно»; что — 'потому что' выражает причинную связь. Это
характерная для разговорного языка зачаточная стадия дифференциации
выражения разнообразного вида подчинительной связи. Можно указать
еще целевое значение союза аж. «Трудили ся дъбрии людие... аж бы
миро былъ и дъ вѣка»; здесь аже, правда, подкрепляется бы, но бы
правильнее связать с был. Так что ажь кроме условного имеет в этом
случае значение усиления целевого придаточного предложения.
Наконец, во фразеологии и лексике смоленского договора мы тоже
можем отметить, с одной стороны, ряд совпадений с языком старших
памятников делового языка, а с другой стороны — ряд своеобразных и
новых явлений. Так, «утвьрдили миръ, что былъ немирно промьжю
Смольньска и Ригы и готскымь берьгомь» приближается к формулировке
договора с греками («утвердити любовь межю греки и русью»). Но рядом
с этим такой оборот: «Которое орудие доконечано будѣть у Смольнескь
мьжю русию и мьжю лати-нескимъ языкомъ», где орудие — 'пакт,
мирный договор'. И позже: «Ся грамота утвьржена на всехо купьче
пьчатию, се орудие исправили умнии купчи». Оба случая употребления
слова орудие поясняют его специфическое значение, которое не
подтверждается другими памятниками. Следовательно, можно
заключить, что это была своеобразная фразеология смоленской
княжеской канцелярии.
К таким же своеобразиям надо отнести «Аже извинить ся лати-нинъ у
Смольнѣскѣ, не мьтати его у погрѣбъ (не сажать в тюрьму). Аже не
будѣтѣ порукы то у жельза усадить (заковать в цепи); таку правду възяти
русину у Ризѣ и на гочкъмъ березѣ» — 'какое судебное решение
надлежит получить'; «Русину не ставити на латинеско-го дѣтьского не
явивъше старость латинескому. Аже не слушаеть старосты, тоть можеть
на него дѣткого приставити. Тако латинескому на русина не ставити
125
бирица» (выражение, не имеющее широких параллелей) — 'не
предъявлять обвинений в превышении власти латинскому, т.е.
рижскому, судебному исполнителю, не предъявив раньше обвинения
старосте, т. е. более высокому судебному чину' (ставити —
специфическое выражение этого памятника).
Мы могли бы подвести такой итог этим наблюдениям: единая
традиция делового языка в лексике, фразеологии и синтаксическом
строе, установившаяся уже в X в., держится довольно прочно, во всяком
случае, в своих основных элементах, до половины XIII в.
А как дальше? Следует проследить развитие юридического языка,
основы которого были заложены еще в эпоху феодального распада, в
период обособления отдельных княжеств. Мы имеем возможность
сделать это ввиду того, что существуют две превосходные монографии
норвежского ученого X. Станга. Одна посвящена языку грамот Великого
княжества Литовского, а другая — исследованию языка полоцкой
канцелярии, полоцких князей1.
Но прежде чем говорить об итогах исследования Станга, следует
сказать несколько слов об языковой принадлежности этих грамот.
1
См.: Зіапд СЬг. Эіе ѵѵезІгиззізсЬе капгіеізргаспе сіез СгоззїїігзІепШтз Іліаиеп. Іп: 5кііпег
щ8ім аѵ Эеі №>г5ке Ѵісіепзкарз-Акасіеті і Озіо. II. НізІ.РіІс*. К1аз5е, 1935, ™>2; Ще а1іш55І5сЬе
Іігкипсіепзргаспе іег 5Ыі Роіогк. — Там же, 1938, № 9.
Грамоты Великого княжества Литовского, начиная с конца XIII в. и вплоть
до конца XVI в., долго служили предметом споров и раздоров среди
лингвистов. Большинство этих грамот1 было издано доцентом Киевского
университета В. А. Розовым2. Вслед за акад. А. Е. Крымским Розов считал,
что эти грамоты отражают средневековый период развития украинского
языка. Историки украинского языка до недавнего времени признавали и
памятники киевской поры, написанные на Киевщине, Волыни,
Черниговщине и т. д., украинскими, и грамоты Литовско-Русского
государства — тоже украинскими.
Как известно, теперь такая точка зрения признана ошибочной. Как
древние киевские памятники мы считаем общим достоянием всех трех
восточнославянских языков, отражением становления и русского, и
белорусского, и украинского языков, так и южнорусские средневековые
грамоты мы не можем считать достоянием только украинского языка.
Правда, большинство из них написано в южных городах (Киеве,
Каменец-Подольске, на Волыни, отчасти в Белоруссии и теперешней
Литве), но уже то, что некоторая их часть написана в городах, стоявших
на территории нынешней Белоруссии, было достаточным основанием
126
называть грамоты древнебелорусскими. Однако в этих грамотах ни
украинский, ни белорусский язык не отразился сколько-нибудь широко.
Можно в лексике и фразеологии выделить немногочисленные элементы
украинские и белорусские, но наряду с ними — и русские. Значит, и здесь
надо говорить о деловом языке Древней Руси, который культивировался
в канцеляриях Великого княжества Литовского и который сохранил
грамматическую основу делового языка киевской поры. В этом смысле
можно говорить об общерусской основе языка и этих документов. В лексике и фразеологии мы имеем наслоения, которые проявляются
особенно отчетливо только в ХѴІ-ХѴІІ вв., причем идут они и от живого
украинского, и от живого белорусского языков.
После этого необходимого общего замечания о грамотах Великого
княжества Литовского я перейду к рассмотрению итогов, к которым
пришел Станг. Иногда он даже чрезмерно не доверяет изданиям,
которыми пользуется; почти каждый взятый пример сопровождается
оговоркой «если можно верить...». Можно было бы питать к почтенным
1
Найдена еще одна полоцкая грамота; см.: Матвеев И. И. Неизвестная полоцкая грамота
XV в. — «Доклады и сообщения Ин-таязыкознания АН СССР», 1953, № 4. Прим. ред.
2
См.: Розов В. Южнорусские грамоты. Киев, 1917.
филологическим изданиям гораздо больше доверия, по крайней мере в
вопросах лексики и синтаксиса, а сомневаться — только в точности
фонетического облика. Считая методологически недопустимым
излишнее доверие к старым изданиям, Станг предпринял дальнее
путешествие и исследовал сіе ѵі$и все документы и копии. Он нашел
огромный материал для своих исследований в архивах Риги, Варшавы,
Львова, Кракова, наконец в Москве и Санкт-Петербурге. Исследовав все,
что сохранилось, на основании тщательного изучения многих сотен
источников он составил довольно обстоятельную характеристику
документов двух княжеств с XIII по XVII в. Ряд частных положений
вызывает сомнение, но в основном его характеристика очень точна и
полна. Меньше всего, к сожалению, Станг занимался вопросами
синтаксиса, но чрезвычайно обстоятельно остановился на вопросах
фонетики, морфологии и лексики. Некоторые результаты его
исследований я сейчас изложу.
В последней работе о полоцких грамотах Станг, подводя очень
коротко итог своим наблюдениям, отвечает на вопрос: какие же можно
указать отличия языка полоцких грамот от языка грамот Великого
княжества Литовского? Оказывается, этих отличий чрезвычайно мало.
127
В полоцких грамотах, в отличие от грамот Литовско-Русского государства, довольно широко проявляется «цоканье» — употребление ц
вместо ч или наоборот; чаще мы имеем как раз то, что надо было бы
назвать «чоканьем», например, купеч вместо купец, по-почькая,
немечькому, немчи, челованию, отчи, мець, доконцанъ, человании,
купчеви. Затем употребление ѣ вместо е свидетельствует об отсутствии
каких-либо различий в произнесении ѣ и е в говоре полоцких писцов и
полоцких горожан: весу, дѣле, правде, Дѣлѣ. Третья особенность
(которую Станг тоже считает фонетической) — наличие в сложном
перфекте связки 1-го лица множественного числа есме, тогда как
литовские грамоты знают есмы и есмо (есмы совпадает с украинским, а
есмо с польским, обычным и нормальным для того времени 1-м лицом
множественного числа). Форма есме в полоцких грамотах имеет
аналогии в русских грамотах — тверских, новгородских и т. д.
Отличие полоцких грамот, как и грамот литовско-русских, от
псковских заключается в том, что здесь отсутствуют чередование з/ж, с/ш,
сочетание жг, наконец, особое специфически псковское сочетание гл, кл
в перфекте (стреклъ вместо стрелъ и т. д. в глаголах на д, т). Таким
образом, оказывается, что только незначительные частности, как
«цоканье» или есме, отличают полоцкие грамоты, как, в свою очередь,
псковские отличаются только двумя-тремя мелочами фонетического
порядка (чередование шипящих со свистящими, гл, кл в перфекте и —
еще одна особенность — в творительном падеже женского рода
окончание -ую вместо -ою). Такими немногими, несущественными
чертами различались языки отдельных областей в ХІѴ-ХѴ вв.
Смоленские грамоты от всех других грамот имеют только одно
отличие: употребление формы местных падежей на -ске (у Смоленске) в
отличие от полоцкого -сцѣ или -ску (Полотьсцѣ, въску). Во всех основных
формах морфологии (в склонениях, в спряжениях) грамоты XIII, XIV и
частично XV вв., писавшиеся в разных областях, в разных княжествах —
Пскове, Новгороде, Полоцке, Смоленске — Литовско-Русского
государства, не имеют существенных различий. Гораздо больше таких
различий встречается в лексике.
Синтаксис не привлек внимания Станга, однако он все же отметил,
что основные, наиболее существенные признаки древнейшего
синтаксического строя русского делового языка во всех этих грамотах
повторяются. Так же, как и в «Русской правде» и смоленской грамоте,
выделяется категория лица: прислал к нам ратмана; далъ еси своего
человѣка. Это свидетельствует о том, что категория лица с развитием
128
языка значительно расширяется; во множественном числе: наших людей
отпускати; слугъ его бито и соромочѣно; вы бы естѣ, тѣхъ
хвалыпьников казнили. Категории лица противостоит категория
животных: продал конь; дайте мне конь. Но вместе с тем расширения
категории животных во множественном числе не происходит: послали
свое коне; кони покупят; кони у них пограбили. Это ограничение,
употребление во множественном числе более архаического винительного
падежа, совпадающего с именительным, с названиями животных
сохранилось в живых украинских, белорусских говорах до сих пор. С
другой стороны, в позднейших грамотах ХѴІ-ХѴІІ вв. уже встречаются
конструкции с родительным падежом вместо винительного для названий
животных: привелъ к нему одного коня; улюбил одного коня; от кого
ты того коня маешь).
Именительный падеж женского рода при инфинитиве в значении
дополнения широко представлен как в смоленской грамоте, так и в
«Русской правде», а также в позднейших деловых документах (северных,
западных, южных). В «Русской правде», как вы помните, было «аще
помостивше мостъ от дѣла взяти ногата». Преобладает употребление
именительного падежа при инфинитиве, но встречается также
именительный падеж женского рода прямого дополнения при
деепричастии. В смоленском договоре имеем аналогию этому: «дати от
двою капию въску вѣсцю (весовщику) куна смольнеская». Но не менее
широко распространена эта конструкция и в грамотах полоцких;
Обнорский назвал ее диалектной новгородской чертой. Но Станг
утверждает, что подобная конструкция широко известна не только в
великорусских, но и в украинских и белорусских средневековых текстах:
белка купити; правда дати; от бѣрковьска узяти ему долгая.
Наконец, в одной полоцкой грамоте 1300 г. (стоит отметить, что это
послание полоцкого епископа Якова в Ригу) встречается «Былъ есмь не
дома... а нынѣ есмь увѣдалъ любовь ваша правая» — именительный
падеж прямого дополнения употреблен при перфекте. Станг с
некоторым сомнением останавливается перед такой конструкцией и
говорит, что здесь, по-видимому, речь идет о другом явлении и что
нельзя это связывать с конструкцией «инфинитив плюс именительный
падеж». Однако современные говоры, в особенности северные, в которых
широко встречается эта конструкция не только при инфинитиве, но и
при перфекте и при деепричастии, подтверждают, что редкие случаи
употребления именительного падежа прямого дополнения не при
инфинитиве, а при других личных формах глагола являются древними и
129
должны рассматриваться вместе. Следует говорить о различении двух
видов дополнений, выражающихся винительным и именительным
падежами. В чем тут дело? Мы найдем ответ на этот вопрос, если выйдем
за пределы русского языка, ибо такие конструкции известны и
нынешним балтийским языкам, и западнофинским. Там совершенно
определенная
категория
дополнений
выражается
особым
неоформленным падежом, который аналогичен нашему именительному.
Это объект, обозначающий ту или иную категорию в общем, широком
объеме,
в
отличие
от
объекта
частичного
или
объекта
конкретизированного. Это обобщенный объект, подобный обобщенному
субъекту в безличных конструкциях. Он выражается особой формой
неоформленного падежа (у нас именительного).
Подобное различие двух видов дополнений требует привлечения
материалов языков разных структур; однако имеется лишь констатация
этого явления, без удовлетворительного объяснения.
Материал грамот запада, севера, юга и правильные выводы Станга,
показывающие, что это явление было свойственно не только русскому
языку, но и украинскому, и белорусскому, заставляют нас рассматривать
его как одно из совпадений русского синтаксиса с целым рядом
родственных и неродственных языков, восходящих к глубокой древности1.
Перейдем к наблюдениям над лексикой. Если грамматический строй
в своих основах с X в. чуть ли не до XVI в. оказывается в деловом языке
единым, с незначительными различиями даже в эпоху максимального
проявления феодального распада во всех областях культуры, то в лексике
мы такого единства, постоянства не наблюдаем.
В грамотах Великого княжества Литовского, написанных в большинстве на юге — в Киеве, в городах Подолии, Белоруссии, в Вильнюсе,
Минске, Гродно, — мы можем отметить немало лексических элементов,
совпадающих с лексикой наших древнейших юридических документов.
Скажем, в грамотах XIV, XV и даже XVI вв. встречаются такие слова, как
головщина — 'убийство', известное из «Русской правды», жеребий;
детский — 'судейский чиновник'; пакость; сябръ; животъ — 'жизнь';
купля; ловище; куны — 'деньги'; борть; вено; волость; тиунъ и др. Но
есть лексика и весьма специфическая, которая не имеет аналогий ни в
древнейшей традиции, ни в современных говорах. Скажем, в одной
грамоте, в статье об уголовных наказаниях рядом с древними терминами
головщина, крывда употреблены шкода и гвалтъ. Они пришли в
русский язык из польского, а польский заимствовал их из немецкого.
Имеем мы здесь и целый ряд слов, которые Станг без достаточных
' См.: Ларин Б. А. Об одной славяно-балто-финской изоглоссе. Л., 1963. Прим. ред.
130
Имеется в виду опубликованная позже статья Л. В. Матвеевой-Исаевой «О з^' имствованных
словах» («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1954, т. 92). Прим. ред.^і:
2
оснований называет полонизмами. Я бы назвал их общими элементами
лексики польской, украинской и белорусской, т. е. целой группы
славянских языков. Слова вымова, мовити ошибочно отнесены к
полонизмам, ибо исследования Л. В. Матвеевой-Исаевой доказали, что
эти слова могли возникнуть в украинском языке и оттуда были
заимствованы поляками2. Точно так же ошибочно Станг относит к
полонизмам слово гостинець — 'большая торговая дорога'. Оно связано
со словом гость — 'зарубежный купец', известным всем древнерусским
говорам. Если слово гостинець характеризует грамоты ЛитовскоРусского государства, то считать его полонизмом нельзя. Скорее можно
сказать, что оно образовалось на белорусской почве.
В «Русской правде» мы имели мостьникъ как обозначение человека,
строящего мосты или мостовые в городе. В литовских грамотах в словах
мостовничий, городничий наблюдается усложнение суффиксов.
Современные говоры не знают этих слов.
В термине комора пострыгальная — 'парикмахерская' слово комора по происхождению латинское, но пришло оно через Польшу.
Термин мураль — 'каменщик, возводящий стены' опять-таки пришел из
латыни через польский язык, а слово стирта — из литовского «Іігіа —
'большая укладка снопов или сена'. Через польский пришли такие
германизмы, как фольварокъ — двор, поместье', коштовати, мусѣти.
Наконец, отметим ряд полонизмов уже западноевропейского
происхождения: небожникъ — 'покойник', цнотливый — 'знатный,
достойный', цнота — 'честь', жадный — 'никакой', опострный —
'внимательный', ятка — 'лавка (мясная, хлебная)'.
Спорят о том, откуда слово отчизна, которое широко встречается в
литовских документах, известно в польском языке. В русский язык слово
это, очевидно, попадает через канцелярии Великого княжества
Литовского. Но является ли оно польским, не вполне достоверно.
Считают польским слово вбачити, но и это сомнительно; есть основания
считать его украинским. Так же нет каких-нибудь ясных
морфологических или фонетических признаков, которые бы заставили
считать полонизмом слово рачити — 'заботиться'; слово рачительный
есть и в русском языке. То же самое со словом лакомство. Землю
выехати — 'указать границы' мог быть древним термином и русским, и
польским.
Но несомненно специфическими являются те немногие слова,
которые происходят не из польского или западноевропейских языков, а
из литовского языка. Таких слов найдено мало. Стирта, дой-лидские
131
повинности, в других источниках тех же веков встречается
существительное дайлида (от литов. <1аі1і<іё — 'столяр') — 'столярские
повинности'; в литовском языке слово сіаііісіё употребляется для
обозначения искусства. Никакого славянского объяснения прилагательное дойлидский не имеет. Точно так же мезлёва — 'налог'
объясняется фактами литовского языка, где есть тёзгі — 'метать, бросать',
т. е. мезлева — 'налог, что насильственно наложен на порабощенное
население'. Слово дякло — 'подати', а также 'хлеб в зерне' не совсем
хорошо вяжется с литов. дйокіё, потому что фонетически из сійокіё мы
ожидали бы дукло. Но суффикс -кло ясно показывает литовское
происхождение слова. Может быть, суффикс -ло, а дяк-нужно
рассматривать как корень, но и тогда мы славянской аналогии не
получим.
Перейдем теперь к лексике полоцких грамот (Станг подготовил
материал и составил довольно подробный словарик). Здесь мы тоже
можем сказать, что лексическая основа полоцких грамот имеет широкие
связи со старшей лексикой — новгородской, киевской, но чтобы не
повторять того, что говорилось по поводу смоленской грамоты и
«Русской правды», я сразу остановлюсь на специфических отличиях
лексики полоцких грамот.
Слово берковескъ — 'большая мера веса, около 10 пудов' производят
(мне кажется, основательно) от названия города Бьёркё в Швеции1.
Другой этимологии нет, и эту можно признать удовлетворительной, ибо
в различных юридических документах мы встречаем обозначения веса по
месту торга.
Вѣсебное («А вѣсебное имати вѣсцю») — 'плата, которую получает
тот, кто взвешивает товар'. В «Русской правде» мы имеем вя-зебное —
'плата за связывание беглого холопа'. Тот судебный чин, который поймал
бежавшего и связал его, получал вязебное. Но слово вѣсебное не
встречается в других документах.
Вызетяли («вызетяли силою у него» — 'отсекли мечом') считают
словом загадочным. Однако в нем легко выделяются приставки вы- и з- и
корень тя-. Такая конструкция характерна для лексики полоцких грамот.
Волокида с суффиксом -да, позже с суффиксом -та. Суффикс -да нам
известен в таких словах, как правда, свобода, вражда.
Вагъ («Тотъ ваш ваг в насъ не заходит») — этот корень известен в
украинских, белорусских и южнорусских диалектах, но в грамотах
старшей поры он не встречался.
132
Выслобонити. Уже в смоленском договоре имеется прилагательное
свобон («Кто сю свободу далъ товаръ его свобонъ на въдѣ») в смысле
'свободен'. Здесь тот же корень слобо- (свобо-) и суффикс -н-. До сих пор
это неправильно толковали как описку, где пропущено де. Но
выслобонити показывает, что существовало именно прилагательное
1
См.: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1958, с. 24; та же
этимология у М. Фасмера.
свобон, слобон.
Встречается слово глича («Гличами поставы колют»), которое
показалось Стангу загадочным. Это слово существует и сейчас в
белорусском и украинском языках в форме глица — 'игла (деревянная,
костяная, железная)'. Русские купцы покупали у немецких торговцев
сукно в поставах, штуках; так как немцы часто обманывали, то для
проверки кололи поставы гличей.
Слово замешканье — 'промедление' известно в современных
украинском и польском языках.
Влостный — 'собственный'. Здесь ло сразу обнаруживает польское
происхождение слова.
Недбальство, посполитыи, розстропныи, жадный, коштовати и
уже известные из грамот Великого княжества Литовского слова члонокъ,
шкода.
Наконец, уже в самых поздних документах ХѴІ-ХѴІІ вв. встречаются
резкие полонизмы: цо ся дѣе или здровя давали — 'поздравляли' —
целые польские выражения; жедамы, можемы, пору-чамы — польские
формы 1-го лица множественного числа; якомъ... писалъ, послалем —
польская форма перфекта.
Подведем общий итог наблюдениям над лексикой полоцких грамот.
Чем древнее документы, тем ближе их лексика и фразеология к
общерусскому деловому языку киевской эпохи. Только в конце XV в. и
главным образом в ХѴІ-ХѴІІ вв. лексика грамот, написанных в разных
княжествах, весьма различается. В грамотах Великого княжества
Литовского, как и в грамотах полоцких, увеличивается удельный вес
полонизмов. В эту эпоху они уже не из области общего словаря
польского, украинского и белорусского языков, а типичные полонизмы,
которые не имеют параллелей и соответствий ни в русских, ни в
украинских, ни в белорусских документах. К полонизмам относятся
целые конструкции, формы, выражения. С другой стороны, в ХѴ-ХѴІІ вв.
язык грамот новгородских, псковских или московских приобретает все
133
более существенные отличия от традиции киевской эпохи, обогащаются
словарь, фразеология, но уже на иной лексической базе — северных
русских говоров или центральных говоров Московской Руси.
Таким образом, наблюдения над эволюцией языка грамот, договоров,
делового языка позволяют понять исторический процесс развития
русского литературного языка и образования около начала XVI в. двух
других литературных языков — украинского и белорусского.
В какой мере можно говорить о древненародной основе делового
языка? Я уже останавливался на этом вопросе и при характеристике
языка договоров с греками, и при исследовании языка «Русской правды»,
и в известной мере в этой лекции. Общенародные элементы
проявляются во всех жанрах и во всех видах литературного языка
древнейшей поры. Система и общая народная основа (а не отдельные
элементы) проявились в единстве грамматической системы делового
языка даже тогда, когда он начал все больше меняться, а также в ряде
своеобразных фразеологических оборотов, ясно указывающих и на связь
с трудовым народом, и на глубокую древность.
В позднейших документах можно, так же как и в ранних, отметить
несколько любопытных и показательных древних оборотов. Скажем, в
одной из полоцких грамот читаем: «А ему тыи люди ни племя, ни
хлѣбоеди». Для XV в. это, конечно, сохранившийся древний
фразеологический оборот. Первая часть восходит к определению связи
племенной эпохи — 'не связаны с ним как единоплеменники', а вторая
поясняет — 'не те, кто ест его хлеб'. Этим определяется значение слова
племя — 'тесный, малый коллектив, семья, домочадцы, которые едят
хлеб одного господина'.
Древним надо считать и обозначение терминологического порядка
чисть путь в таком контексте: «А и ѣще што было межи насъ как здавна
гостемъ путь чистъ и вашимъ и нашимъ торговцемъ безъ приимъ безъ
пакости всякому человеку и чорнымъ людемъ промыселъ», что значит
'путь свободен, не угрожает нападением разбойников'.
Более поздним надо признать такие обозначения, как великий князь,
панове, бояре, мещане и чёрные люди. Чтобы вполне осмыслить эти
социальные термины, надо вспомнить договор Олега с греками. Светлые
бояре противопоставляются чёрным людям (позже белое сословие —
'привилегированное'). Белые и чёрные восходят к очень древнему
времени, но приобретают все новые социальные значения.
Надо отметить и ряд таких выражений, которые могут быть поняты
только с помощью сложного комментария из области быта и народных
134
воззрений. Скажем, в «Русской правде», в статье, объясняющей
происхождение изгойства, сказано, что если свободный человек привесит
ключ, он становится холопом, рабом. Чтобы объяснить выражение
привесить ключ, надо знать, что ключ являлся символом ведения всего
хозяйства. В народных обычаях это сохранилось как деталь свадебного
обряда. У уральских казаков жених приносит в подарок невесте вместе с
наперстком также и ключ; ключ — символ как повинности, обязанности
подчиняться этому хозяйству, так и хозяйственных полномочий.
Другой, еще более ясный по своему социальному содержанию
термин, встречающийся в актах новгородских, полоцких, а затем и
московских, продать вдерень или одерень; отсюда — дерноватый
холоп, дерноватая грамота. Объяснение этому термину я дал раньше,
при анализе языка «Русской правды».
Можно было бы сказать, что такие выражения, уходящие в далекое
прошлое, к древним, дохристианским воззрениям и обычаям,
встречаются в юридическом языке относительно редко. Это верно, и не
может удивить то, что пережитки, восходящие еще к эпохе доклассового
общества, в конце средних веков были не особенно многочисленны. С
другой стороны, только пристальное внимание к отдельным не совсем
ясным выражениям и оборотам речи нашего делового языка позволяет
выявить эти пережитки. Если сейчас мы знаем их очень мало, из этого не
следует, что их еще не найдут. Я не сомневаюсь, что дальнейшие
исследования во многих случаях позволят обнаружить эту связь
терминологии и фразеологии делового языка с народными моральнорелигиозными воззрениями.
Проповедническая литература
У нас на очереди анализ сочинений домонгольской эпохи, написанных
церковниками — епископами, монахами, теми, кто более основательно и
широко
изучал
старославянскую
письменность.
Пользуясь
старославянским языком при богослужении, исполнении обрядов, так
называемых «треб», в проповедях, в законодательных и богословских
сочинениях (они назывались тогда посланиями), церковники должны
были равняться на язык своих церковных (священных, как их называли)
книг и делали это успешно. Но так как старославянский язык все-таки
был языком не совсем близким (он настолько существенно отличался от
русского, что воспринимался как чужой, иностранный язык), то его
135
изучение представляло Довольно большую трудность и требовало весьма
длительных занятий и немалых дарований. Поэтому среди множества
церковных писателей — не только первых веков нашей письменности,
когда это было внове и особенно трудно, но и позднейшего времени,
когда усовершенствовались способы обучения старославянскому языку и
большинству стали доступны источники для его изучения, — лишь
некоторые овладевали старославянским языком в полной мере.
Значительная часть церковников усваивала только наиболее характерные
отличия языка старославянского от русского, широко распространенные
обороты и выражения. И вот на таком смешанном языке, в котором за
старославянским обличьем сквозила русская основа, и писали многие
деятели православной церкви.
Изучение сочинений церковников для нас не только необходимо, но
представляет и немалый интерес по целому ряду причин. Во-первых,
потому, что немало элементов старославянского языка, старославянского
стиля (а шире это можно определить понятием «старославянская
культура языка») вошли в русский язык, причем оказались здесь отнюдь
не балластом. В истории русского языка влияние старославянского языка
было весьма плодотворным. О громадном историческом значении того
наследия, которое русский язык воспринял от старославянского,
говорили не только многие писатели Древней Руси, но и М. В.
Ломоносов, А. С. Пушкин и др. В эпоху зарождения и становления
нашей письменности старославянский язык уже обладал неизмеримо
большим количеством слов и выражений для обозначения отвлеченных
понятий, чем русский язык.
Во-вторых, через старославянский язык в русский язык вошли и
упрочились в нем многие понятия античной философии, античной и
средневековой науки, так как старославянский язык складывался под
непосредственным
воздействием
византийско-греческого,
т.
е.
позднегреческого, языка именно в ту эпоху, когда византийская культура,
особенно наука, философия, достигла высокого уровня. Если
старославянский язык был для нас посредником между культурой
древних греков, римлян и русской культурой, то сама византийская
культура сложилась и достигла высокой степени развития в силу того,
что в ней совместились богатейшие традиции Востока и Древней Греции,
Запада, Рима. Таким образом, через старославянский язык русский язык
в самом начале своего развития воспринял богатейшие достижения всей
мировой культуры прошлого.
136
Кроме того, старославянская письменность обогатила фонд языковых
синонимов — парных, тройных обозначений одних и тех же или близких
понятий. Развитие синонимики, словарной и грамматической,
синтаксиса,
словообразования
и
словоизменения
чрезвычайно
расширяло стилистические возможности русского языка. В истории
языка произошел чрезвычайно быстрый переход от более или менее
однородного, однотипного общего языка к языку весьма сложной
структуры, располагающему стилями и стилистическими системами
(стилями высокой поэзии; философии, богословия и науки; деловым;
повседневно-бытовым).
Только такое широкое обогащение языковыми средствами различного происхождения и состава, обладающими многообразными
стилистическими функциями, и позволило лучшим мастерам литературы той эпохи создать замечательные памятники древнерусской
письменности, которыми мы справедливо гордимся и которые в то время
не имели себе равных у других народов. Поражающее сейчас богатство
языковых, литературных, поэтических средств летописей, «Слова о полку
Игореве» и некоторых церковных сочинений не могло бы создаться без
восприятия
лучших
достижений
мировой
культуры,
чему
способствовало широкое знакомство со старославянским языковым
наследием.
В-третьих, о чем надо сказать, — это обострение «языкового чутья»,
что всегда происходит при пристальном и долговременном изучении
чужих языков. Знание только родного языка никогда не дает такого
отчетливого понимания структуры слова, предложения, значения, какое
дает параллельное изучение двух или нескольких языков. Причем
изучение родственного языка в большей мере может содействовать
обострению внимания ко всем тонким различиям, какие существуют
между родственными языками, чем изучение языка далекого. Язык
другой системы имеет настолько мало совпадений и соответствий и
настолько много существенных различий, что не требуется особенно
четких представлений о категориях родного языка, чтобы воспринимать
категории чужого языка как совершенно новые, тогда как при
параллельном изучении двух родственных языков от ошибок и
недоразумений может предохранить только очень точное осознание во
всех деталях и совпадений, и различий родственных языков.
Все не раз слышали, что старая история языка в основном была
построена на изучении ошибок русских писцов при копировании
старославянских оригиналов. Но едва ли кто-нибудь читал или слышал,
137
что этих ошибок поразительно мало — единицы на многие и многие
листы рукописей. Поэтому так беден был материал по истории русского
языка в прошлом столетии. За рамки древней, преимущественно
церковной письменности историки языка не заглядывали; и эта
поразительная малочисленность ошибок (которых могло бы быть
неизмеримо больше, если бы списывали рукописи люди, не владевшие
старославянским языком) показывает нам, как высок был уровень
изучения этого неродного языка. Но даже достаточно полное и точное
представление о строе чужого языка, о важнейших отличиях его от
родной речи не ведет к активному владению чужим языком. А потому,
отмечая хорошее знание старославянского языка большинством
книжников Древней Руси, мы наряду с этим утверждаем, что редкие из
них безукоризненно могли писать или говорить на этом языке.
Пассивное владение языком, как всем, наверное, хорошо известно, очень
отличается от активного.
Что же мешало нашим книжникам дойти до высшей ступени (стадии)
овладения старославянским языком? На этот вопрос нетрудно ответить.
Активное владение языком возникает только у людей, которые в
повседневном быту постоянно пользуются данным языком и находятся в
среде, говорящей на данном языке. У нас нет оснований предполагать,
чтобы в России когда бы то ни было существовала такая среда, где
постоянно, во всех случаях жизни пользовались старославянским языком.
Старославянский язык употреблялся в церкви, в науке, но не
использовался постоянно и никогда не был единственным языком даже у
церковников. Наконец, предположение, что у нас, хотя бы в эпоху
Владимира, в Киеве жило очень много болгарских священников, вопервых, не имеет достаточно убедительной аргументации и потому не
может считаться бесспорным, во-вторых, если бы даже на Руси жило
много попов-болгар, это, конечно, не создавало еще среды, т. е. не могло
быть постоянного общения на старославянском языке. Владея
старославянским языком, однако постоянно слыша вокруг себя живую
русскую речь, пользуясь русским языком во всех домашних,
хозяйственных делах, и даже в государственных, церковники, естественно,
и в свои сочинения, написанные по-старославянски, должны были
вносить какое-то количество русских слов, выражений, конструкций.
Посмотрим, в какой мере осуществлялось стремление говорить и
писать на чистом старославянском языке? Начнем с анализа состава
языка «Слова о законе и благодати» Илариона и «Похвалы князю
Владимиру».
138
В русской науке раньше всего стала известна в небольших извлечениях
именно
«Похвала
князю
Владимиру».
Ее
опубликовал
в
палеографических копиях (т.е. сделанных от руки копиях, стремящихся
точно передать облик рукописи), директор Петербургской публичной
библиотеки А. Н. Оленин в 1806 г. Он еще тогда не представлял себе, что
это одно из самых замечательных произведений древнерусской
письменности; для него это был просто образец языка древнейшего
времени.
В 1844 г. проф. А. В. Горский, известный знаток нашей древней
письменности, в «Прибавлениях к творениям святых отцов церкви»,
которые издавались Московской духовной академией, опубликовал
«Слово о законе и благодати» вместе с «Похвалой князю Владимиру» по
известным ему четырем спискам, причем в одном из них он нашел
наиболее полный текст (это был список XVI в.). Другие, более древние
списки содержали лишь отрывки или неполный текст. Горский впервые
приписал это сочинение митрополиту Илариону. В дальнейшем долго
длились споры об авторе сочинения, а также о том, одно ли это
сочинение или два разных. Но в конце концов, ввиду того, что нашлись
списки, где эти два сочинения помещены под одним заголовком, а также
ввиду того, что оба сочинения связаны по теме, литературоведы
окончательно пришли к единому мнению, что перед нами один
памятник, автором которого был митрополит Иларион. Но я бы сказал,
что дело не в том, что окончательно доказано авторство Илариона. Нам
довольно безразлично имя автора, но совершенно ясно, что автором
этого сочинения мог быть такой человек, как Иларион, хотя, может быть,
это и не Иларион.
Что значит «такой человек, как Иларион»? Иларион был первым
русским митрополитом. До него и после него митрополитами в Киеве
были греки, присылаемые из Константинополя. Об Иларионе из летописи и других упоминаний в разных житиях известно, что он был
человеком исключительной учености, что он был близок ко двору киевского князя Ярослава Мудрого, что он был его сторонником, защитником, принадлежал к тому кругу ученых людей, которыми окружил
себя Ярослав. Летопись сообщает, что на протяжении ряда лет эти
ученые люди создали множество книг, переводных и оригинальных,
способствовавших распространению на Руси христианства.
Один из лучших исследователей этого памятника, акад. И. Н. Жданов,
работавший во второй половине прошлого века, определяет его
назначение и содержание так: «Желание прославить настоящее в
139
прошедшем — вот существенный смысл попыток, к числу которых
принадлежит и Похвала кагану Владимиру»1. Автор «Слова о законе и
благодати» был близким человеком Ярославу. Деятельность Ярослава
вызывала его удивление, Ярослав казался ему русским Соломоном. Это
произведение представляется нам попыткой создать образ князяпросветителя и дать идеальную картину просвещения Руси, попыткой,
связанной не только с общей потребностью в новых идеалах, но и со
стремлением книжных людей Яросла-вова времени найти оправдание
своей деятельности и деятельности своего покровителя Ярослава. Их
вдохновляла идея, что для нового (христианского) учения нужны новые
народы. К таким народам принадлежит и народ русский. Для первой
половины XI в. (так как «Слово...» было написано именно в 40-х годах XI
в., не раньше и не позже, судя по содержащимся в нем сведениям
исторического порядка) провозглашение таких идей, конечно,
характеризует автора как человека широкого исторического и научного
кругозора, подлинного патриота.
Для нас не безразличны и более частые споры исследователей о том,
является ли «Слово о законе и благодати» текстом поучения (так сказать,
памятником риторическим), записью ораторской речи или же это
писанный памятник, предназначенный для распространения и чтения в
копиях, а вовсе не для какой-то аудитории, не для слушателей.
Большинство литературоведов считает, что перед нами именно
сочинение, которое могло быть, конечно, произнесено (это не исключается), но оно было написано и предназначалось не только для
слушателей, но и для читателей. Основываются тут прежде всего на
словах самого автора во вводной части — будем по традиции называть
автора Иларионом. Нельзя предполагать, чтобы какой-нибудь грек или
болгарин мог написать такое патриотическое сочинение, как «Слово о
законе и благодати». Отсюда неоспоримо вытекает, что автором был
русский. Но русские авторы первой половины XI в. нам достаточно
известны. Это Иаков, который написал несколько житий, до нас
дошедших, и следовательно, доступных подробному изучению; это
монах Печерской обители Нестор; это Феодосии Пе-черский, писавший
несколько позже Илариона; это Лука Жидята, который в то же время
жил в Новгороде. Все эти авторы писали другим языком и стилем, и
1
Жданов И. Н. Слово о законе и благодати и Похвала кагану Владимиру. — Соч., т. І.Спб.,
1904, с. 46.
никому из них сочинение не могло принадлежать. С другой стороны, в
одном из древнейших сборников «Слово...» помещено рядом с речью,
140
произнесенной Иларионом после его избрания митрополитом, и это
представляется специалистам совершенно достаточным доводом для
признания именно Илариона автором «Слова...». Русский человек,
близкий к Ярославу, хорошо знавший жизнь, дела, интересы и нужды
Древней Руси, отличавшийся исключительной начитанностью, — таким
и представляется нам, по всем дошедшим сведениям, митрополит
Иларион. Так как никто другой не может быть поставлен рядом с ним, то
остается вполне правдоподобным допущение авторства Илариона.
Так вот, Иларион в начальной части «Слова о законе и благодати»
пишет: «Иже в инѣх книгахъ писано и вамъ вѣдомо, тии здѣ положити,
то дръзости образъ есть и славохотию»1 — 'я не буду говорить о том, что
уже многими написано в известных вам книгах, потому что в этом
проявилось бы, с одной стороны, неуважение к моим слушателям или
читателям, а с другой стороны — пустое тщеславие'. Уже этой фразы
достаточно, чтобы оценить высоту писательских требований Илариона к
себе и к другим, ибо и сейчас очень многие книги представляют собой не
что иное, как что в инѣх книгахъ писано. И дальше: «Не къ невѣдущимъ
бо пишетъ, но пре-излиха насыщшемся сладости книжныя» — 'я пишу
не для тех, кто невежествен, а для тех, кто с избытком насытился
сладостью книжной'. Здесь он говорит о себе пишет. Это достаточно ясно
указывает на то, что сочинение задумано для немногих, для высшего
круга киевского общества, для наиболее просвещенных и образованных
людей Ярославова времени.
Прежде чем рассматривать отдельные детали языка Илариона, я
приведу еще две цитаты, которые, как мне кажется, наиболее ясно
определяют замысел и основную идею этого сочинения.
«Похвалимъ же и мы, по силѣ нашей, малыми похвалами — великаа
и дивнаа сътворшаго нашего учителя и наставника, великаго Кагана
нашея земля, Владимера, внука стараго Игоря, сына же славнаго
Святослава, иже, въ своа лѣта владычьствующа, мужствомъ же и храборством прослушя въ странахъ многахъ, и побѣдами и крѣпостію
' Здесь и далее цит. по кн.: Памятники духовной литературы времен вел. князя Ярослава 1го (Прибавления к творениям св. отцов в русском переводе за 1844г.),ч.2.
поминаются нынѣ и словутъ. Не въ худѣ бо и не въ невѣдоми земли
владычьствовашя, но въ Русской, яже вѣдома и слышима есть всѣми
конци земля». — 'Прославлю Владимира, внука первого Игоря, сына
прославленного Святослава, которые когда-то правили в Русской зем-
141
ле, мужеством и храбростью прославились во многих землях, а победы их и мужество славятся и ныне. Они государили не в какой-нибудь
плохонькой земле, а в русской, о которой знают и о которой слышат
во всех концах земли'.
Это одна тема, которой посвящена значительная часть сочинения, — о
могуществе и славе Русской земли. Другая тема уже более узкая: «Виждь
же и градъ величьствомъ сіяющь, виждь церкви цвѣтущи, виждь
христианство растуще, виждь градъ иконами свя-тыихъ освѣщаемь
блистающеся, и тиміаномъ объухаемь, и хвалами и божественами пѣнии
святыими оглашаемь» — предметом вдохновения и гордости Илариона
является принятие христианства: 'церковь процветает; христианство
распространяется; город, т. е. Киев, блистает иконами, благоухает
фимиамом и оглашается церковными песнопениями'.
Даже из этих двух отрывков можно составить себе представление о
том, что язык «Слова о законе и благодати» существенно отличается от
языка тех памятников, которые мы рассматривали до сих пор, от
памятников деловой письменности. Внимательно и не раз перечитавши
этот текст, я стремился извлечь из него какие-нибудь отчетливые
русизмы, и надо сказать, что, кроме слова каган, неизвестного в
старославянской письменности, причем слова по происхождению
тюркского (это титул Владимира, титул, который, очевидно, носили
киевские князья до принятия христианства), я не нашел ни одного, чтобы
сказать: «Вот слово, которое никогда не встречается в старославянской
письменности». Можно было бы еще отметить эпитет старый («стараго
Игоря»). В старославянском старый означает, как и у нас сейчас,
'пожилой человек', и кроме того 'старший'. Но здесь старый Игорь —
'древний' или 'первый', а это значение слова старый не старославянское,
а русское.
Еще целый ряд слов, которые по первому впечатлению воспринимаются как русские, на поверку оказываются широко употреблявшимися в старославянской письменности. Такими я считаю слово
послухъ, хорошо известное в нашей деловой письменности, но
достаточно часто встречающееся и в памятниках древнейшей
старославянской письменности, написанных в Болгарии и Сербии, а
также слова рушити; гробъ; отрясти; животъ — 'жизнь'; держати
(держать веру) — 'быть приверженцем'; снимался (в смысле 'собираясь',
что связано с существительным сънемъ — 'собрание', что дало польское
142
сейм; этот глагол, хотя широко известен всей деловой русской
письменности, но он встречается во многих нерусских памятниках). Все
это слова, которые столь же обычны, столь же естественны в русском
языке, как и в других славянских языках. Специфически русского в этом
ничего нет.
Я сказал, что характерным отличием старославянского языка IX и X вв.
было множество слов и выражений с отвлеченным значением. Найдем у
Илариона несколько примеров вновь образуемых абстрактных понятий,
новых в русской письменности, и соответствующих им обозначений,
новых в русском языке.
Иларион употребляет несколько раз слово обновление и объясняет
его в качестве синонима словом пакибытие. Это нас сразу
предостерегает от того понимания слова (мы к этому всегда склонны), к
которому мы привыкли в современном языке. Сейчас значение слова
обновление — 'переход от какого-то старого качества к новому качеству,
приобретение новых свойств'. Здесь же, как видим, синоним пакибытие
показывает, что под обновлением подразумевается переход во вторую,
загробную жизнь, новую для человека (пакибытие — 'вторая жизнь').
Представление о загробной жизни в небесном царстве являлось новым
для Руси, языческой Руси оно было несвойственно. Термин пакибытие,
по-видимому, созданный в старославянской письменности, принят
Иларионом. Но его это не удовлетворяет. Дело не только в том, что
загробная жизнь — это вторая жизнь, а в том, что эта жизнь будет новой
и лучшей. Поэтому для определения понятия пакибытие у него есть
целый ряд описательных выражений: жизнь нетленная (букв, жизнь
негниющая, или не подверженная гниению), будущий век.
Несколько раз встречается выражение посети господь человеческаго рода. Оно нас как будто и не затрудняет, но я уверен, что никто
правильно бы мне его не истолковал и не нашел бы вполне адекватного
перевода. Наивно воспринимать это выражение вроде того, что 'пришел
бог в гости к людям'. Для Илариона это значит, что бог снизошел с небес
на землю и превратился в человека посредством человеческого
рождения. Здесь иносказательным является слово посети с новым,
весьма широким значением (со словом род в сочетании ли
человеческий род или в другом сочетании; в конце концов, это не так
важно, потому что в 40-х годах XI в., а может быть, на два-три десятилетия
раньше, в сознание русских людей впервые стала входить идея
человечества в целом, идея человеческого рода). До этого слово род
143
имело как раз значение изолирующее, выделительное, а здесь оно
приобретает значение самое широкое, почти безграничное.
Возьмем теперь небольшой отрывок из Илариона, где встречаются
явления, не рассмотренные до сих пор: «Присѣтившу богу человѣческа
естества, явишася уже безвѣстная и утаенная, и родися благодать и
истина, а не законъ; сынъ, а не рабъ». Текст этот чрезвычайно трудный
именно потому, что при крайней сжатости, экономии выражения он
очень богат содержанием. Такие слова в сочинении древнерусского
писателя с абсолютной непреложностью доказывают, что за спиной его
уже длительная традиция, потому что в этой фразе как бы
сконцентрирован целый ряд историко-философских идей того времени.
Попробуем это перевести. Когда бог воплотился в человеческое естество
(или явился человеком среди людей), тогда обнаружилось и то, что было
неизвестно, и то, что было от человечества утаено; появились благодать и
истина вместо закона. Это значит, что сущностью религии стал не закон,
а благодать и истина, свобода религиозных отношений человека и бога. В
христианстве человек стал сыном бога, а в древнееврейской религии был
рабом бога. Вот каков смысл этой фразы.
Связь языка сочинений Илариона с византийским литературным
языком проявляется в употреблении древнегреческих и древнееврейских
слов, главным образом имен (евангелие, апостолъ, ар-хангелъ, идолъ,
Синаи, Агарь, Измаилъ, Сарра, Исаакъ). Можно говорить и об элементах
лексики древнерусского языка, появившихся под влиянием языка
византийской письменности.
Обилие сложных слов также отличает старославянский язык от
русского: предтеча, православный, правоверный, благоверный,
богословие, богородица, равнохристолюбец, равноочиститель,
тщеславие и т.д. Все эти слова (а некоторые из них остались в нашем
языке) созданы были в Х-ХІ вв. для перевода соответствующих греческих
слов двойного состава.
Характерна для языка Илариона церковная лексика, связанная со
специфическими религиозными представлениями, скажем, спасе,
спасение, спасъ. В языческой религии славян отношение божества к
человеку сводилось либо к дарам, либо к казни. Теперь спасение — это
избавление от казни, от мучений, от наказаний за преступления и грехи.
Идея спасения появилась с христианством, и для ее выражения был
создан целый комплекс слов.
Скрижаль — чужое слово, означает в народном языке южных славян
каменную плиту, каменную доску; в церковном языке это каменные
144
доски, на которых были высечены Моисеевы законы. И отсюда в
христианской письменности возникло переносное значение слова
скрижаль — 'основы веры, основные догматы религии'.
Противоположение неба и земли, небесного и земного, вероятно,
существовало и в языческом представлении славян, но в христианском
употреблении это противопоставление принимает новый оттенок:
небесный — относящийся к загробной жизни; земной — относящийся к
реальной, нынешней человеческой жизни.
Слова добръ, доброта, сложная калька с греческого добродетель в
современном русском языке употребляются примерно в тех же
значениях, в каких они вошли в церковную письменность. Но надо
помнить, что в языческую пору эти слова имели совсем другие значения.
Добрый означало 'толстый, дородный, богатый'. Впервые христианское
учение придало этому слову значение моральное, нравственное. Добрый
в смысле 'сочувствующий, милостивый или выдержанный, стойкий в
своих нравственных принципах' — это совсем новое значение слова
добрый, возникшее в IX-X вв.
Стѣнь — чужое слово, соответствующее примерно нашему тень. Но
употреблялось оно у Илариона, как и у других писателей того времени,
не в прямом, а почти исключительно в переносном значении. Надо
сказать, что именно в письменности XIII и позднейших веков, в силу
создавшейся привычки устанавливать парные соответствия в русском и
старославянском языках, слово стѣнь стали употреблять как русское
тѣнь — 'место, не освещенное солнцем' (например, у Даниила
Заточника). Но у Илариона стѣнь употребляется только иносказательно,
в значении 'тьма язычества', т.е. время, когда свет христианства еще не
проник к какому-нибудь народу, в какую-либо страну.
Слово тварь, как показывают наши памятники, было известно
русскому языку до принятия христианства, оно значило 'наряд,
Убранство, украшение'. В старославянском языке тварь — 'создание,
творение', поэтому церковники говорят о милости божьей к твари, 0
великолепии твари, созданной богом, называют иногда одного человека
тварь божья. А в светских памятниках старшей поры мы встречаем
выражение привели коня в твари, т. е. в золоте. Оба значения
существовали параллельно.
Идольский мракъ — тоже один из штампов церковной письменности, употреблявшийся не в прямом, а в переносном значении:
идол (слово греческое) — 'неверие, язычество'.
145
Домъ божий святыя премудрости — так называли соборы святой
Софии, самые знаменитые, прославленные соборы, великие памятники
мирового зодчества. Такие соборы были и в Константинополе, и в Киеве,
и в Новгороде. Но, конечно, в буквальном значении такого выражения
скрывается первоначальное конкретное понимание, т.е. христиане в
какую-то пору развития своей религии, по-видимому, были убеждены,
что церковь — дом, где живет бог. Это пережиток язычества, когда в
кумирне существовал кумир, в реальность которого верили язычники.
Такое представление было перенесено и на христианский храм; но
постепенно оно освобождается от конкретности, и домъ божий уже не
связывается с вещественным обитанием сверхъестественного существа в
какой-то постройке. Выражение становится опустошенной метафорой,
но остается надолго и прочно, так же как святая София (раньше под
святой премудростью подразумевалась именно святая София).
Разберем обращение к князю Владимиру спиши до общаго всѣмъ
въстаниа. Только христианство принесло идею, что смерть есть сон,
временное состояние до пробуждения, которое настанет при кончине
мира для умерших, когда все они встанут из своих могил. Это понятие
здесь и выражено. Напрасно было бы искать следы такого выражения в
каком-нибудь памятнике деловой письменности, их там нет. Едва ли
прочно вошло оно в обиход и в позднейшее время. Понятие смерти-сна
осталось сугубо христианско-богословским.
Новые своеобразные представления в церковной письменности
связывались не только с положениями чисто религиозными. Мы имеем,
конечно, какой-то запас представлений, заимствованных христианством
из средневековой схоластической науки, которые характеризуют
христианскую письменность, христианских проповедников. Скажем, в
«Слове о законе и благодати» Илариона несколько раз повторяются
такие слова: «богъ заключи ложесна Саррина». Здесь утверждается какаято власть божества над способностью производить детей. Выражения
заключи ложесна, отключи ложесна также характеризуют церковную
письменность.
«Сьтвори богъ гостивству велику и пиръ великъ тельцемъ упитаннымъ от вѣка, възлюбленныимъ сыномъ своим Иисусъ Хри-стомъ».
Здесь гостивству или гоститву объясняется рядом стоящим пиръ
великъ (синонимическое выражение). Этот термин взят из обиходного
языка, однако рядом читаем тельцемъ упитаннымъ от вѣка, что сразу
переводит выражение в план абстракции. Бог для человечества устроил
пир, заколов (или повелев заколоть) для угощения вместо теленка своего
146
сына Иисуса Христа. Такие иносказательные обороты и выражения
приучали к отвлеченному мышлению, освобождали от наивного
представления об однозначности слова или выражения.
«Радуйся и веселися, яко твое вѣрное въсиание не исушено бысть
зноемъ невѣриа, нъ дождемъ божиа поспѣшениа распложено бысть
многоплоднѣ» — вот еще один образ, взятый как будто из самой
обыденной жизни крестьянина-пахаря, но служащий для выражения
историко-философской концепции, потому что это завершающая
формула всего сочинения Илариона. Смысл его такой: радуйся и
веселись, ибо твой посев новой религии не пропал в знойной пустыне
неверия; твой посев дал множество плодов от дождя, каким явилась
помощь божья.
Нам теперь довольно трудно представить себе мышление и сознание
человека, который еще не привык к отвлеченным понятиям, которому
еще чуждо было сложное восприятие нескольких смысловых планов.
Конечно, сравнения, метафоры не появляются только в древней
письменности христианского периода, они встречаются и на более
ранних этапах. Однако применение сравнений и метафор не к явлениям
обыденной жизни, не для обнаружения какого-то подобия двух явлений,
двух фактов конкретного опыта, а для перехода от конкретного явления,
опыта к философскому обобщению — это новое в развитии мышления и
потому находит себе (с трудом, конечно, медленно и постепенно) новые
средства языкового выражения. Трудность доведения до сознания читателей и слушателей новых идей проявлялась в накоплении парных
обозначений, синонимических повторов, в плеонастическом стиле
Древней письменности. Но неверно называть его плеонастическим, ибо
плеоназмы — это излишние повторения, а здесь была насущная
необходимость повторения в двух-трех параллельных выраже-нйях, ибо
идея была нова, сложна, не общедоступна, не общеизвестна.
Я уже говорил, что у Илариона рядом с выражением ПОСЕТИ богъ
человѣчьскаго рода читаем посѣти людий своихъ, а рядом с будущим
вѣкомъ он употребляет вѣчьная жизнь или жизнь нетленная; рядом с
идольскимъ мракомъ — бѣсовское служение (бесами называли
языческих богов). Виждь чадо свое... виждь утробу свою, виждь
милааго своего — как будто полностью выражена мысль, но рядом
читаем: «не къ страннымъ, но къ наслѣдникомъ небеснаго царствиа». Речь
идет не о реальном предмете, а о символе воплощения бога через
человека.
147
Переходим к более дробным элементам. Мы должны отметить
чрезвычайное изобилие имен прилагательных в языке «Слова о законе и
благодати» Илариона и всей церковной письменности, по сравнению с
русской деловой письменностью. Известно, что прилагательные —
категория относительно молодая. Индоевропеисты-компаративисты
утверждали, что в индоевропейском праязыке категория прилагательных
еще не отделилась от категории существительных. Оформление ее как
особой грамматической категории относили к истории отдельных
индоевропейских языков. Не касаясь вопроса о праязыке, следует сказать,
что в истории каждого индоевропейского языка можно проследить
своеобразные пути сложения прилагательных. Так, относительно
русского языка возможно утверждать, что прилагательных древнейшего
типа — качественных — у нас очень мало. Подавляющее большинство
прилагательных — относительные, а для древнерусского языка
характерна категория притяжательных прилагательных. В небольшом по
объему «Слове...» мы находим ряд притяжательных прилагательных,
которые нашему языку несвойственны: труба Архангелова, племя Авраамле; встречается немало прилагательных относительных с суффиксом
-ьн-:
безвѣстьнъ,
беспамятьнъ,
божествьнъ,
благодатьнъ
(благодѣтьнъ), земльнъ, небесьнъ; есть прилагательные с суффиксом ьск-: архангельскъ, бѣсовьскъ, божьскъ и др.; в одном случае
встречается нечленное прилагательное: въ странахъ многахъ.
Склонение прилагательных у Илариона чрезвычайно архаично и
отнюдь не может быть названо русским. Он склоняет так: драгыимъ,
бѣсовьскыимъ, святыихъ, т. е. склоняет местоименные прилагательные,
как в самых древних старославянских памятниках письменности — без
слияния, без стяжения местоимения с прилагательным.
В именном склонении мы тоже имеем архаизмы. Все категории основ
четко различаются: йотованные основы различаются от цейотованных;
согласные основы выдержаны строго, без какого бы то ни было
сближения с основами на і; широко употребляются звательный падеж,
двойственное число — категории, которые довольно рано исчезают из
русского языка. Именительный падеж множественного числа
существительных среднего рода также употребляется для выражения
отвлеченных понятий: безвѣстьная же и утаеннаа, великаа и дивьнаа.
Абстракция получилась благодаря этой форме именительного
множественного, которая по происхождению связана с собирательными
именами существительными.
148
Союзы, частицы, предлоги своеобразно отличают язык «Слова о
законе и благодати» Илариона от языка «Русской правды» или русских
грамот. Иларион употребляет аще как союз условный, егда как союз
временной, себо как союз причинности, идеже как союз,
присоединяющий придаточные места, якоже как союз, применяемый в
сравнительных предложениях. Употребление частиц ли, или, бо, убо
также нерусское. Единственная русская частица, которую я могу
отметить, — это частица ти в смысле противительного союза а: прежде
стѣнь, ти потомъ истина.
Язык Илариона характеризует широкое применение инфинитивных
оборотов: «Богъ убо прежде вѣкъ изволи и умысли Сына Своего въ миръ
послати, и тѣмъ благодати явитися». Инфинитив — сказуемое и агенс
(субъект действия) — выражается дательным падежом. Эта конструкция
широко применяется у Илариона. Нельзя сказать, что она чужда нам, но
все же в языке позднейшем и в языке собственно русском она гораздо
менее употребительна.
Страдательные конструкции, также мало употребительные в русском
языке, здесь встречаются на каждом шагу: «Христосъ сла-вимъ бываетъ, а
июдеи кленоми».
Конструкция «дательный самостоятельный», русское происхождение
которой совершенно невероятно, здесь представлена много раз. Она
стала весьма обычной и в языке нашей светской литературы, но не
случайно ее полное исчезновение в послепетровскую эпоху. Если
добавить, что в народных говорах мы этой конструкции не находим, то
окончательно надо будет признать ее нерусской по происхождению. Тут
многих примеров не нужно: «По сихъ же Уже стару сущу Аврааму и
Саррѣ, явися Богъ Аврааму, сѣдящу ему пРедъ дверьми куща своеа».
Наконец, чрезвычайно широко употребляются причастия не только в
обороте «дательный самостоятельный», но и в оборотах причастия
согласованного, причастий определительных. Это опять-таки черта,
отличающая старославянский язык от древнерусского.
Местоимения в тексте употребляются старославянские, фонетика
также явно старославянская: езеро, раба, рабичищь, пре-пущаеть,
мракомъ, послежде, прежде, златомъ, сребромъ и т.д. В любом разделе
— в фонетике, морфологии, словообразовании, синтаксисе — везде у
Илариона мы имеем не русские, а старославянские формы и элементы.
Не может быть сомнений, что это язык не русский. Иларион — один из
лучших знатоков старославянского языка — чаще всего пользовался
старославянским языком1.
149
Я сказал, что митрополит Иларион принадлежал к тем немногим
писателям Киевской Руси, которые почти безупречно овладели старославянским языком, и потому ему удалось выдержать в «Слове о
законе и благодати» от начала до конца высокий торжественный строй
старославянского языка. Почти невозможно отметить какие бы то ни
было нарушения старославянской нормы, допустимо говорить только о
предпочтении в некоторых случаях того из двух возможных вариантов
(словарных, грамматических), какой является общим древнерусскому и
старославянскому языкам, о стремлении, следовательно, избегать всяких
славянизмов, противопоставляемых русским словам. Скажем, форма
перфекта в старославянском языке могла употребляться всегда со
связкой, во всех лицах, а в 3-м лице могла употребляться без связки. Для
русского языка начального периода письменности употребление
перфекта без связки в 3-м лице было уже нормой, об этом
свидетельствуют все памятники деловой литературы. У Илариона мы
имеем формы перфекта без связки (3-е лицо): «Градъ твой Киевъ
величьствомъ яко вѣнцемъ обложилъ, предалъ люди твоя и градъ Святѣи
всеславнѣи». Но во
Мнение о безукоризненном старославянском языке в произведениях митрополита
Илариона, разделявшееся всеми исследователями вплоть до 60-х годов нашего века, было
дополнено работами Н. Н. Розова, впервые опубликовавшего текст «Слова о законе и
благодати» по подлинным древним спискам XV в. [«51аѵіа», 1963, т. 32, вып. 2; см.: Розов Н. Н.
Из истории лингвистических публикаций литературных памятников XI в. (издание А. В.
Горским «Слова о законе и благодати»). — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1963].
Б. А. Ларину текст произведений Илариона был известен лишь по изданию Горского,
который сознательно исправлял язык списков памятника, приноравливая его к нормам
церковнославянского языка, общепринятого в синодальный период истории русской церкви.
Прим. ред.
1
2-м лице регулярно имеем связку: яко утаилъ еси... открылъ еси; не
видѣлъ еси... не ходилъ еси; нѣси умерлъ и др.
В некоторых поздних памятниках старославянского языка встречается
контаминированная форма аориста 3-го лица единственного числа (и
множественного числа), где первоначальная форма осложнена
окончанием настоящего времени -тъ. Такие формы для русского языка
древнейшей поры были характерными, нормальными, во всяком случае,
они встречаются в русских памятниках очень часто, в старославянских —
крайне редко. У Илариона мы находим приять, объять и начать. Все
другие (их несколько десятков) строго выдержаны в первоначальном
150
виде: посѣти, сътвори, успе, съпасе, роди и т. д. Формы имперфекта в
архаическом старославянском языке употреблялись с двойными
гласными. В этом сквозила еще достаточно отчетливо первоначальная
сложная форма имперфекта из основы и вспомогательного глагола:
бѣаше, бывааху и т. д. Формы имперфекта с удлинением гласного
встречаются у Илариона примерно в двух случаях из трех, а один из трех
уже имеет русскую форму, т.е. стя-женную, с одним гласным:
привождааше, дояашеся, но раждаше.
В отношении использования причастий язык Илариона надо решительно отнести к старославянскому типу, потому что причастия
употребляются чрезвычайно часто, почти в каждом периоде. Встречаются все четыре формы причастия (две формы действительного и две
формы страдательного залога), соблюдается их строгая семантическая
дифференциация, ясно ощущаются оттенки значения причастия.
Скажем, причастие страдательного залога с суффиксом -м-обозначало не
пассивный признак действия, приписанный предмету, а потенциальный,
возможный. Во фразе «И яко не явима, но утаена и на конець вѣка
хотяща явитися» отчетливо выступает эта древнейшая форма
образования на -м: не явима не потому, что нельзя было этого
обнаружить, а потому, что предстояло еще обнаружиться. Не явима в
смысле 'лишена возможности проявиться' есть древнейшее значение
образования на -м. Позднейшее значение явимыи — 'тот, кто стал явным
для кого-нибудь'; этого значения здесь нет, но есть образование с новым
значением 'одержимый, т.е. которого держат'.
Довольно широкое употребление причастий отличает язык «Слова о
законе и благодати» от языка многих других памятников. Приведу хотя
бы по одному-два примера на каждую категорию. Мы Уже находили
страдательные причастия настоящего времени, теперь Укажем
страдательные причастия прошедшего времени: узаконенный,
утаенный, спасенный, възлюбленный. Особенно часты причастия
действительного залога настоящего времени: възводя, въхо-дя, слушая,
ожидая, не рушаща, утверждающа, владычаствующа.
И довольно редки причастия действительного залога прошедшего
времени: не болевши, наводнився, покрывъ, съзъвавъ и т.д. На это следует
обратить внимание вот почему. Реже всего в русских текстах встречаются
именно причастия настоящего времени действительного залога. Они, как
известно,
функционально заменены
тем,
что мы
называем
деепричастием, неизменяемой наречной формой, которую генетически
не совсем убедительно связывают с причастием. Каково бы ни было
151
отношение деепричастия к причастию, важно, что в русских текстах
вместо причастия действительного залога настоящего времени
употребляется деепричастие. У Илариона нельзя указать случаев такой
замены. С другой стороны, причастия прошедшего времени (типа
покрывъ) в русских текстах чрезвычайно широко употребляются, а у
Илариона они встречаются редко.
Итак, заключая, можно сказать, что в «Слове о законе и благодати»
митрополита Илариона нет таких русских грамматических и словарных
элементов, которые чужды были языку старославянскому; Иларион
чрезвычайно скупо и редко употребляет даже те элементы, которые
были общи двум языкам.
Совсем другую картину мы увидим в составе языка «Слова о вере
латинской» Феодосия Печерского и в «Житии Феодосия Пе-черского»,
которое, по преданию, написано Нестором, монахом Печерского
монастыря. В «Слове...» Феодосия Печерского встречается параллельное
употребление русских и старославянских элементов. Наряду с такими
отчетливыми фонетическими славянизмами, как единъ, ясти, азъ,
брашно, употреблена приставка прѣ-, а не русская приставка пере-;
рядом с этим мы имеем робъ, а не рабъ, т. е. русский вариант с о, роженъ
(не с жд), полногласные формы го-лодьна, молоко, к тобѣ (не тебѣ). Это в
торжественном поучении на богословскую тему!
Из русской лексики иногда составлены целые предложения: «Своихъ
же дъчереи не даяти за нѣ, ни поймати у нихъ, не брататися с ними, ни
поклонитися, ни цѣловати его, ни с нимъ въ одиномъ съсудѣ ясти, ни
пити, ни борошна их примати»1; «Ядять съ пьсы и съ ісошьками, пьють
бо свой сѣчь и ядять жълвы, и дикѣи кони, и ось-лы, и удавленину, и
1
Цит. по кн.: Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского. — ТОДРЛ, 1947,
т. 5.
мертвьчину, и медвѣдину, и бобровину и хвостъ бобровый ядять въ
говѣнье». Тут, может быть, много полемического задора и
преувеличения, но как раз в пылу полемики Феодосии Печерский забыл
о старославянском и заговорил на русском языке.
Но рядом с этим мы имеем и такую отчетливо старославянскую
лексику, как мощей, глаголють, правовѣрьныи и др. «Слово о вере
латинской» очень короткое, поэтому материала мало, но и то, что я
привел, показывает, что его автор — человек, который очень хочет
говорить по-старославянски, но это ему не всегда удается, и его язык надо
152
характеризовать именно как смешанный, параллельно и равноправно
использующий традиции и русского, и старославянского языков.
«Житие Феодосия Печерского» — один из самых замечательных
повествовательных памятников церковной литературы старшего
периода. Я всем рекомендую его прочесть, но, к сожалению, это не так
просто сделать. Это любопытнейший памятник, содержащий
богатейшие бытовые картины, очень интересный по языку и, пожалуй,
несравнимый ни с каким другим житием, вплоть до житий XVII в., где
так же много черт реальной жизни и так же своеобразен
повествовательный язык. Здесь примерно так же, как и в поучении
Феодосия Печерского, проявляется двойственность языка: рядом с
вратарь, врата встречаем ворота; наряду с неполногласными формами
время, брань — пороздень, наряду с хощем, аще, нощьныи — хочет, а
более обычна замена славянского жд на ж: одежу — одежду, осуженъ —
осужденъ. Своеобразно наречие бла-же в смысле 'лучше', не встречаемое
больше нигде и характерное для языка этого памятника именно потому,
что слова такого нет ни в старославянском, ни в русском языке, автор
образует его сам.
В грамматическом строе «Жития Феодосия Печерского» мы видим
также архаические старославянские формы склонения прилагательных:
недостоинааго, святыимъ, преподобнааго, чьрьньчьску-му, стольнааго и
т.д. Рядом с этим широко употребляются двойственное число: о чюдесьхъ
святою и блаженою страстотрьпьцю1 и звательный падеж, что также
характеризует старославянский язык прежде всего, но имеет некоторую
опору в древнейшем типе Русского языка.
В глагольных формах распространен архаический имперфект с
' Цит. по кн.: Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1899.
удлиненным гласным: любляаше, посылааше, бѣаше, послушааше. Но
здесь уже пропорция такая — 1/3 архаических форм и 2/3 форм,
подобных русским, т.е. кратких: подобаше, постяше, хотяше, хо-жаше,
приближашеся.
Форма аориста в «Житии Феодосия Печерского» является основной
формой прошедшего времени, перфект крайне редок, имперфект
встречается вдвое реже, чем аорист. В архаической форме встречается
имперфект с окончанием настоящего времени на -ть: поклоняхуть,
повѣдахуть. Характерно, что в некоторых формах имперфекта русское ж
вместо жд сочетается со старославянской долгой гласной: хожааше.
153
Глагол ѣхати в старославянском языке употребляется в таком же
значении, в каком и мы сейчас его употребляем — 'передвигаться на возу,
телеге' (в старославянском этот глагол звучал /ахати, в словинском и
сейчас он звучит )аЬа(і). В «Житии Феодосия Печерского» Нестор часто
употребляет форму ѣхати, причем в значении, не свойственном
старославянскому, а в смысле 'ехать верхом на коне'. Но это значение
характерно для феодальной Руси: феодал (если он еще жив-здоров) мог
передвигаться только верхом на коне: «азъ ти лягу на возѣ, ты же могыи
на кони ѣхати».
Причастие в «Житии Феодосия Печерского» встречается только
действительного залога, причем преобладают причастия прошедшего
времени. В отличие от «Слова о законе и благодати» Илариона,
страдательных причастий здесь совсем нет, действительное причастие
настоящего времени крайне редко, причем в одном случае можно ясно
говорить, что русское деепричастие автор подменил старославянской
формой. Рассмотрим несколько случаев употребления причастия
прошедшего времени: «тъгда изникъ видѣтъ и познавъ князя его суща и
въ страсѣ бывъ не отъврьзе вратъ». Характерно, что причастие
прошедшего времени употребляется здесь в качестве сказуемого и
соединяется с личной формой глагола союзом и. И только последний
глагол во фразе — личная форма аориста. Или: «И егда же въздрѣмашеся
тъгда же съсѣдъ текъ идяаше въскраи коня» — 'когда его одолевала дрема
(Феодосии ехал верхом), тогда он слезал с коня и быстро шел, чтобы
разогнать сон'. Этот период выражен двумя имперфектами и двумя
причастиями. Таких примеров можно привести много: «И издалеча
познавъше блаженааго, и съсѣдъше съ конь по-кланяяхуся убо
блаженууму оцю нашему Феодосию»; «Разгнѣва ся з^ло и яко львъ
рикнувъ на правьдьнааго» (рикнувъ равноправно, как выражение
сказуемого, с формой аориста) и т. д.
В синтаксисе надо отметить ряд нормальных конструкций старославянского происхождения, прежде всего «дательный самостоятельный»: «яко да полудьнию сущю, помиють братия нощьныихъ ради
молитвъ» — 'когда стоит полдень, монах в монастыре отдыхает'. Однако
мы имеем очень мало этих конструкций в тексте «Жития Феодосия
Печерского».
Сложные предложения образуются обычно со старославянскими
союзами: «Рѣхъ ти повелѣно ми есть отъ игумена. Яко аще и князь
придеть, не отврьзи вратъ». Яко, аще — союзы нерусские, якоже в
значении 'чтобы' — союз русский, а не старославянский. Русский союз ти
154
встречается в тексте несколько раз. Во фразе дон-деже трудяаше ся ти
тако пакы на конь въсядяше союз ти тако употреблен в значении
'потом'. И еще: «И оттолѣ аще коли приста-вяше тыя играти, ти
слышаше блаженаго пришьдши, повелѣвааше ТЕМ прѣстати» — 'если
князь звал своих скоморохов для развлечения, то приказывал прекратить
игру, чуть только услышит, что пришел Феодосии' (в конструкцию
целиком старославянскую вставлено одно предложение с русским
союзом ти).
Однако русская основа языка автора «Жития Феодосия Печерского»
чувствуется, например, тогда, когда он употребляет местоимение в
значении члена в постпозитивном положении без всякой надобности: «и
причастися брашьна того, испълнь суша кръви и убийства). Здесь
местоимение как бы утрачивает свое указательное значение и
употребляется именно как член, что было свойственно древнерусским
говорам и кое-где сохранилось до сих пор, особенно на севере.
В лексике мы имеем такую же пеструю картину, такое же чередование
фонда старославянского с русским запасом словаря: обаче — 'так как',
зѣло — 'очень', сице — 'таким образом', тщание, воздержание;
сложные
слова:
славословие,
преблаженый,
преподобный;
характерное для старославянского, нерусское по происхождению слово
епистолия (вместо послание). И рядом с этим немало русских слов,
которые особенно заметны в старославянских конструкциях: уже зорямъ
въсходящемъ — тут зоря в значении звезда' — слово русское; еще же и
кунами тому давъ — здесь кунами в смысле 'деньгами'. При обычном
старославянском убийцы мы встречаем убоиници. Русскими по
происхождению являются слова поточение — «Промчеся вѣсть еже на
поточение сужену быти блаженому» — 'пронесся слух о том, что князь
собирается сослать Феодосия' — и заточение: «Се бо глаголаху на
заточение хочеть тя посълати». Встречаются русские термины и формы
на возѣ, допровадити до монастыря, орудие в значении 'дело'.
Как видим, русские элементы составляют все же вкрапления,
значительно меньшую долю в составе языка, чем старославянские
элементы. Однако соотношение элементов и характер их включения
совсем не тот, что в языке Илариона. Здесь русская речь является для
автора равноправной основой, наряду со старославянской. Автор именно
чередует их в свободных сочетаниях, не стремясь к изысканной чистоте
старославянского строя. И надо думать, что именно такой способ
построения речи, свободное широкое пользование и русскими, и
старославянскими элементами и было наиболее обычным в Х-ХІ вв.
155
«Житие Феодосия Печерского» написано, по-видимому, в конце XI в.
Едва ли допустимо предположение, что разница в характере языка
обусловлена временем, тем, что Иларион писал в 30-40-х годах XI в., а
Нестор — в 70-80-х годах, так как мы встретим и в позднейшей
письменности, даже в специальной церковной письменности, такое же
использование старославянских и русских элементов. Но из двух
возможных вариантов — строгого разграничения двух языковых
традиций или их сочетания — типичным вариантом надо считать
второй.
В «Повести временных лет» под 1068 г. помещено поучение, которое
потом переписывалось в различных сборниках. Это показывает, что оно
было популярным, признавалось образцом для проповедников.
Поучение присоединено к следующему летописному сообщению:
«Придоша иноплеменьници на Русьску землю, половьци мнози. Изяславъ же, и Святославъ и Всеволодъ изидоша противу имъ на Лѣто и
бывши нощи, подъидоша противу собѣ. Грѣхъ же нашихъ ради пусти
богъ на ны поганыя, и побѣгоша русьскыи князи, и побѣдиша половьци»1.
По поводу этого сообщения о столь позорном событии в истории
русской и помещено большое «Слово о нашествии иноплеменников»
1
Цит. по кн.: Повесть временных лет. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц, ч. 1-М. —Л., 1950.
(будем его условно так обозначать). Проповедь эту долго приписывали
Феодосию Печерскому, так как он был не только главным обличителем
князей Изяслава, Святослава и Всеволода, но и высшим церковным
авторитетом своей эпохи. Однако тщательное изучение языка этой
проповеди и сравнение ее с поучениями Феодосия Печерского заставили
крупнейших специалистов, прежде всего акад. Н. К. Никольского1,
отказаться от этого господствовавшего мнения и признать, что «Слово...»
написал кто-то другой, но тоже выдающийся русский проповедник.
Язык «Слова о нашествии иноплеменников» представляет большой
интерес.
Специалисты-литературоведы,
знатоки
церковной
письменности — уже доказали, что оно не пришло откуда-нибудь из
болгарских или сербских духовных центров. Подтверждение этому мы
находим и при анализе языка. Но для нас важно, что популярное
сочинение неизвестного автора являлось одним из типичных образцов
употребления церковнославянского языка на Руси.
156
Написано оно, очевидно, около 1068 г., хотя вполне возможно, что и
несколько позже. Здесь мы имеем большую выдержанность внешнего
облика старославянских норм: почти нет случаев полногласия, а всегда
гпадомь, мразомь, на здравие, главѣ; кроме того, мы встречаем единъ,
единьць, приставки раз-, а не роз-, и пре-, а не пере-, но никогда не
встречаем русского ч, а всегда щ: хощеть, аще, усрящетъ.
Надо сказать, что автор очень тонко чувствует звуковую сторону слова,
в совершенстве владеет аллитерацией: «Да, аще ли покаявшеся будемъ...
всѣхъ грѣхъ прощени будемъ» — вся фраза звучит как стихотворная речь.
Или еще: «Ово ли мразомь плоды узнобляя и землю зноемь томя наших
ради злобъ». Я остановился на этих примерах, чтобы показать, что автор
проповеди — незаурядный мастер слова.
Характерной для грамматического строя языка этого автора является
глагольная форма. Он употребляет предпочтительно глаголы,
обозначающие длительное действие. И это преобладание производных
видовых форм отличает письменную литературную речь от Живой
разговорной, где как раз более обычны простые глаголы. Так, 3Десь
употребляются глагол подвизати (а не подвигнута), възвра-Щатися (а
не възвратитися), лишающеся (а не лишивъшеся), °Мьівати (а не
омыти), уклоняющеся (а не уклонивъшеся) и т. п. Для чего
понадобилось такое, может быть, даже утомительное для читателей и
слушателей, накопление форм многократного вида? Это соответствует
общему замыслу автора проповеди, в которой говорится о бедствиях,
постигающих отступников от веры. И всегда так будет, если они не
исправятся, услышав призывы проповедников.
Так же как в рассмотренных ранее памятниках, наряду с аористом
здесь широко употребляется имперфект. Встречаются сложные и,
видимо, редкие, вовсе не типичные глагольные образования: например,
аще ли покаявшеся будемъ, т.е. сочетание причастия прошедшего
времени с глаголом будеть (в значении условного наклонения). Рядом с
обычным сложным будущим, которое в русском языке образовывалось,
по-видимому, чаще всего с вспомогательным глаголом начну: «Яко
упихати начнуть другъ друга»; здесь мы имеем старославянскую форму с
глаголом имѣти, имати: не имуть изнемощи — в смысле 'не изнемогут'.
Чаще, чем в деловых памятниках, употребляются беспредложные
конструкции; так, конструкция прилѣпимся господи бозѣ нашемъ
считается исключительно редкой, но она, оказывается, все же встречается
в проповеднической литературе.
157
Сложные предложения образуются, с одной стороны, с помощью
нерусских союзов и посредством изобильных причастных оборотов — с
другой. Оборот «дательный самостоятельный» сравнительно мало
употребляется, как и в «Житии Феодосия Печерского»: «И тако
окруженымъ имъ въспомянутся къ богу; земли же согрѣшивши которѣи
любо» — во всем поучении только два случая. Но, как далее увидим,
другие причастные обороты используются для построения сложного
предложения очень часто: «Буду свѣдѣтель скоръ на противныя, и на
прелюбодѣица, и на клянущаяся именемь моимъ во лжю, и на
лишающая мьзды насильника, насильствующая сиротѣ и вдовици, и на
уклоняющая судъ кривъ». Длинный период обычно весь построен на
причастных сказуемых, причастных оборотах: «Градъ въ дождя мѣсто
пуская ово ли мразомъ плоды узно-бляя и землю зноемъ томя» — здесь
три причастных оборота.
Но причастные конструкции не единственный тип образования
сложных предложений. Расчленение сложного предложения посредством союзных конструкций, выделенных союзами, также достаточно
широко представлено: «Разумѣхъ, рече, яко жестокъ еси, и шия желѣзная
твоя, того ради удержахъ от васъ дождь, предѣлъ единъ одождихъ, а
другаго не одождихъ, исше» — здесь три предложения, из которых два
придаточных введены посредством союза яко и слов того ради. Егда —
тоже старославянский союз: «Будеть бо, рече, егда призовете мя, азъ же
послушаю васъ».
«И въздам вамъ за лѣта, яже пояша прузи, и хрустове, и гусѣници,
сила моя великая, юже послахъ на вы. Друзии же и закыханью
вѣрують, еже бываеть на здравье главѣ. Но сими дьяволъ летить и
другими нравы всячьскыми превабяя ны от бога, трубами и
скоморохы, гусльми и русальи». — 'Я вознагражу вас за те годы, в
которые саранча, хрущи, гусеницы пожрали весь урожай, все это
великое множество, которое я послал на вас. А другие среди вас верят
в магическую силу чиханья, а оно бывает только для здоровья голове.
Но этими суевериями дьявол обманывает нас так же, как и другими
способами, например, игрой на трубах, свирели, гуслях и русальским
обрядом'.
Здесь сочетание союзных придаточных с причастными оборотами
дает длинный период из пяти предложений.
Характерно для языка «Слова о нашествии иноплеменников»
использование антитезы как стилистического и вместе с тем син-
158
таксического приема. С одной стороны, эта склонность к контрастному
противопоставлению проявляется в подборе слов противоположного
значения, антонимов, например: (бог) «не хощеть зла человѣкомъ, но
блага; ово ли мразомь плоды узнобляя, а землю зно-емь томя» и др.
Но еще чаще это развернутое противопоставление выражается в
противопоставительных конструкциях:
«Сего ради винограды вашѣ и смоковье ваше, нивы и дубравы ваша
истрохъ, глаголеть господь, а злобъ вашихъ не могохъ истрети». — 'Я
уничтожил ваши сады, ваши фиговые пальмы, ваши дубравы и нивы,
но я не мог сокрушить ваше зло'.
«Усты же чтутъ мя, а сердце ихъ далече отстоить мене». — 'Словами
прославляют и чтут меня, а сердце их враждебно мне'.
«Будеть бо, рече, егда призовете мя, азъ же не послушаю васъ. Взищете
мене зли, и не обрящете, не всхотъша бо ходити по путемъ моимъ». —
'Когда вы меня будете призывать, я не ослушаюсь вас, когда вы будете
меня искать, вы нигде меня не найдете'.
«Не словомь нарицяюшеся хрестьяни, а поганьскы живуще. Се бо не
погански ли живемъ». — 'Называете себя христианами, а живете, как
язычники. Разве это не язычники?'
И дальше приводятся примеры о вере в магическое значение встречи:
«...Аще усрѣсти вѣрующе: аще бо кто устрящетъ черноризца, то
въвращаеться, ли единьць, ли свинью. Видимъ бо игрища утолочена, и
людии множества на нихъ; яко упихати начнуть другъ друга, позоры
дѣюще от бѣса замышленного дѣла, а церкви стоять». Такое развернутое
выражение противопоставления — прием, который усвоен на основе
тщательного изучения византийской и старославянской письменности,—
широко применяется русским автором в его оригинальном сочинении.
Сложная лексика этого памятника в основном нерусская. Однако
здесь нет такой выдержанности и чистоты старославянской лексической
системы, как у Илариона. Прежде всего отметим книжные сложные
слова:
братоненавидѣнье,
вседержитель,
черноризца,
прелюбодѣица — 'развратник, нарушитель норм брака'. В тексте
встречается, например, слово виноградъ: в древнерусском языке оно
обозначало фруктовый, плодовый сад; в XI в. таких садов у нас почти не
было, их только начинали разводить возле крупнейших монастырей
приезжие греки и болгары, но в проповеди говорится о винограде,
смоковницах, фиговых пальмах. Этого не могло быть на Руси. Более
159
достоверны нивы и дубравы, что характеризует русский пейзаж и
народное хозяйство. В проповеди упоминается также гибель урожая,
который был съеден саранчой: «яже пояша прузи, и хрустове, и
гусѣниця». Но едва ли речь идет о действительном нашествии саранчи.
Скорее всего, здесь литературный шаблон, заимствованный из
старославянских памятников. На это указывает и дальнейший текст, где
говорится о майских жуках (хрустове) и гусеницах, т. е. о вредителях
плодовых деревьев и полей, хорошо известных на Руси.
Некоторые наиболее чуждые и мало известные старославянские слова
переписчик заменил (пояснил) более знакомыми и привычными
русскими словами; например, после прузи стоит хрустове и гусѣниця.
Отметим ряд слов и выражений, имеющих переносное значение; но
они были доступны церковнику или просвещенному приверженцу
православной церкви, но не очень понятны только что обращенному
язычнику, мало образованному человеку. Например, такое выражение,
как не насытитеся злобъ вашихъ, что можно перевести 'не знаете меры
своим преступлениям', или уклонисте-ся от пути моего — 'нарушили
законы божеские, церковные' (это обычный библейский образ,
повторяемый множеством проповедников), или акы свинья в калѣ
грѣховных присно каляющеся, и тако пребываетъ.
Возьмем хляби — слово довольно загадочного происхождения, с
двояким переводом. С одной стороны, хляби — 'водопад', но фраза
разверзу вамъ хляби небесные значит 'нашлю на вас дожди проливные'. Однако более верно считать первичным значением слова хляби
— 'створка двери, шлюза'. Поэтому приведенное выражение означало
'открою двери (ворота) и впущу бездну воды, которая заперта за
воротами'. Этот образ, когда-то весьма конкретный для болгар, для
русских был метафорой с неясным значением. О том, что хляби
первоначально означало 'шлюз', свидетельствует и выражение
прольются точила винная и масльная — 'приспособление будет
выдавливать масло из олив и вино из винограда'. Но это выражение
понимается не буквально, а как 'начнутся пиры после сбора урожая'.
Здесь отчетливо выступает новое, условное, переносное значение,
которое заслоняет первоначальное именно в силу того, что состав
выражения на чужом языке не был отчетливо понят книжниками.
Характеризует «Слово о нашествии иноплеменников» и широкое
употребление абстрактной лексики, однако не в такой мере, как в
проповеди Илариона. Обличительное «Слово...» должно было раскрыть
отступления от мелочных, весьма подробных регламентов, которые
160
установила церковь для повышения нравственности людей. В этом
поучении почти не упоминаются сами грехи, чем обычно охотно
занимаются проповедники, а повторяется несколько раз одна и та же
общая формула и на уклоняющая судъ кривѣ, т. е. тех, кто заставляет
судью
покривить
душой,
вынести
неправильный
приговор.
Формулировка весьма расплывчатая и обобщенная.
Наконец, русская лексика. Я уже сказал, что она вкраплена чрезвычайно скупо: скоморохи, гусли, русали отражают древнерусский быт,
хотя последнее слово пришло к нам из старославянского языка. Так, в
предложении «Казнить ли богъ смертью... ведромь ли гусѣницею, ли
инѣми казньми» рядом с русским вёдро — 'длительная засуха' стоит
старославянское зной. В одной фразе с русским хрустове — 'майские
жуки', игрища — 'место, где происходят народные игры', утолочено —
'вытоптано, гладко, как ток на гумне', употреблено яко упихати начнуть
другь друга. Кроме «Слова о нашествии иноплеменников», упихати
нигде не встречается (некоторые переписчики заменили упихати
вариантом пхати). Очень характерно место, посвященное встрече: «Аще
бо кто усрящеть черноризца, то възвращаеться, ли единець, ли свинью;
усрѣсти вѣрующе» (веруя в сречу) — опять русское слово; тут ч, а не щ.
Перевод «Повести временных лет» Д. С. Лихачева и Б. А. Романова в
общем довольно хороший, но не лишенный недостатков. Не говоря о
том, что стиль его тяжелый, архаизированный, местами искусственный, в
отдельных местах перевод просто неверен. Здесь место о встрече с
монахом переведено так: 'ведь если кто встретит черноризца, то
возвращается домой, также встретив отшельника или свинью, — разве
это не по-поганому?' Тогда как единець — 'дикий кабан'. Проповедник
говорил: 'вы так же боитесь монаха, как дикого кабана', а переводчик
смысла не понял. В слове единець русское о заменено на е, т. е.
фонетически оно оформлено как славянизм, а слово это славянскому
языку неизвестно.
Из слов, которые употреблялись параллельно и в русском, и в
старославянском языках, но которые все же надо скорее признать
русскими, мы выделим гумно. Весь оборот и наполнятся гумна ваша
пшеницѣ, надо считать отражением живой русской речи. Наконец,
последнее слово, на анализе которого я остановлюсь, — обиловать. Здесь
тоже переводчик «Повести временных лет» недостаточно внимательно
или недостаточно удачно передал текст «...дон-деже все обилують вамъ и
не имуть изнемощи виногради ваши ни нивы» — 'после долгого
бездождья я открою вам хлябы небесные, и тогда вы получите богатый
161
урожай на своих нивах и в своих садах'. Переводчик это обиловати не
заметил и перевел: 'и разверзу вам хляби небесные и отвращу от вас гнев
мой, пока не будет у вас всего в изобилии, и никогда не истощатся ни
сады ваши, ни нивы'. Обиловати — старославянское слово,
действительно означающее 'иметь всего вдосталь'. Но в древнерусском
языке обиловати (от обилие) означало 'урожай'.' В тексте речь идет не о
богатстве вообще, не об изобилии всего, а о сельскохозяйственном
урожае. Так и надо было перевести этот, несомненно, русский элемент
лексики.
Последний памятник проповеднической литературы, которым мы
займемся, — это «Поучение» Серапиона Владимирского. Оно относится
уже к концу XIII в. (все памятники, которые мы рассматривали до сих
пор, относятся к XI в.). Нас будут интересовать здесь два вопроса: можно
ли отметить какие-нибудь существенные отличия в составе церковного
литературного языка в конце XIII в.
от языка XI в. и можно ли говорить, как утверждали некоторые исследователи, что церковный язык непрестанно менялся в сторону
сближения с русским, утрачивая свои старославянские традиции (как
выразился акад. В. М. Истрин, «литературный язык, выросши на почве
старого, болгарского языка, все более и более русел»1).
Прежде чем рассмотреть особенности языка «Поучения» Сера-пиона
Владимирского, я напомню, кто такой Серапион и зачем он написал свое
«Поучение». Серапион был поставлен епископом во Владимире в 1274 г.,
а в 1275 г. он умер. Поучения Серапиона были направлены против
феодального распада, против розни и вражды между русскими
князьями; он ратовал за объединение русских княжеств в борьбе с
татарами. Его поучения очень правдиво, а иногда и живописно отражают
состояние Руси в конце XIII в. под игом мон-голо-татар. Основное
содержание его проповедей можно представить по следующим
отрывкам из поучений:
«Тогда наведе на ны языкъ не милостивъ, языкъ лютъ, язык не щадящь
красы уны, немощь старець, младости дѣтии»2.
«Не плѣнена ли бысть земля наша? Не взята ли быша град(и) на-ш(и)?
не вскорѣ ли падош(а) отьци и братья наш(и) трупиемь на з(емли)? Не
ведены ли быша жены и чад(а) наш(и) въ плѣнъ? Не порабощены (ли)
быхомъ оставше гор(ь)кою си работою от инопле-менникъ?»
162
«А еж(е) еще поганскаго обычая держитес(я). Волхованию вѣруете и
пожигаете огнем невиныя человѣкы и наводите на весь миръ и град
убийство? Аще кто и не причастися убийству, но в соньми бывъ въ
единой мысли. Убийца же бысть или могаи помощи, а не поможе, аки
самъ убити повелѣл есть? От которых книгъ или от кихъ писании со
слышасти, яко волхованиемь глади бывають на земли и пакы
волхованиемь жита умножаютьс(я)?» — 'Вы до сих пор верите волхвам,
вы сжигаете на кострах невинных людей, возводя на них вину за то, что с
нами происходит, на «мир и град» (на жителей села и города) за
убийство. В каких книгах, в каком писании вы читали, что голод
происходит от волхвов, от колдовства? Что колдовством можно
уничтожить урожай хлеба?'
1
Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы до московского периода (11-і з
вв.). Пг, 1922, с. 83.
Цит. по кн.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и
Древнерусского языка. М, 1861.
«То аже сему вѣруете, то чему пожигаете я? Молитеся и чтите я, дары
приносите имъ, ать строять миръ, дождь пущають, тепло приводять,
земли плодити велять». — 'А если вы верите, что волхвы могут это
сделать, то зачем же вы сжигаете их на кострах. Молитесь им, давайте им
дары, пусть «строят мир», наводят дожди, тепло, велят плодоносить
земле!'
«Се нынѣ по 3 лъта житу рода нѣсть не токмо в Русь, но и в Латынѣ. Се
вълхове ли створиша?». — 'Вот уже три года нет урожая хлеба не только в
нас на Руси, но и на Западе, за рубежом, в католических странах. А это
тоже волхвы сделали?!'
Как видим, это горячо составленная проповедь. Тогдашняя русская
действительность отражена здесь довольно полно. Серапион говорит о
том, что прошло 40 лет с побед Батыя (1237-1240), а мы живем в нужде, в
нищете, в порабощении.
Прямых русских речевых элементов в этой проповеди почти нет. В
ранее приведенных цитатах мы могли только отметить житу рода нѣсть
— 'нет урожая хлебных злаков' и союз ать — 'пусть'. Но характерно что
слово миръ автор употребляет в двояком значении: в общеславянском —
'вселенная' и в древнерусском — 'сельская община'.
Церковнославянская лексика и фразеология в «Поучении» Серапиона Владимирского, так же как в «Житии Феодосия Печерского» и в
163
«Слове о нашествии иноплеменников», является основной речевой
стихией. Что, например, значит выражение смерти напрасны
видѣхомъ? У нас слово напрасный означает 'ненужный, безрезультатный, бесплодный'. Очевидно, таково было значение этого слова
и в древнерусском языке. В старославянском же оно означало 'быстрый,
внезапный, скорый'. Здесь как раз речь идет о внезапной смерти мужей,
братьев, воевавших с татарами.
Еще один пример: «Инии не могоша о дому своемь ряду створити
въсхищени быш(а)» — о гибели людей говорится, как о похищении их
дьяволом. Образ, внутренняя форма слова — старославянские. И тут же о
дому своемь ряду створити. За этим слышится живая русская речь,
хотя выражение ряду створити нельзя назвать явным русизмом. Здесь,
как и в некоторых других памятниках, мы отмечаем, что основе русской
разговорной речи искусственно придаются некоторые внешние
формальные старославянские черты.
Чтобы закончить, я укажу и те немногие примеры, где русский язык
врывается в церковнославянский текст: села наш(а) лядиной поростоша
— 'поля наши заросли мелким лесом'; лядина — слово русское,
неизвестное старославянскому языку.
Возьмем слово могаи — здесь русское причастие (деепричастие) мога
оформлено, как церковнославянское (членное) причастие. Такая форма
показывает, что привыкший к русской речи проповедник старается
оформить свою мысль по-старославянски. Он делает это иногда не очень
умело, но создает впечатление свободы от просторечия в высоком слоге.
Сочинения Владимира Мономаха
Церковная письменность в Древней Руси развивалась быстрее и оставила
больше памятников, чем письменность на русском литературном языке.
Это объясняется и тем, что пропаганда новой религии требовала прежде
всего размножения культовых, богослужебных, богословских книг, и,
наконец, тем, что использование письменности в светских целях было в
Киевской Руси относительно ограничено,
Я рассмотрел несколько образцов проповеднической литературы
древнейшего периода. Из проведенного анализа можно видеть, что
церковный литературный язык во всем отличался от русского
литературного языка. С другой стороны, в силу происхождения литературных языков в Древней Руси от двух родственных народных языков
— русского и болгарского — между ними должно было быть и было
164
много общего. Это сходное выступало в двух формальных вариантах, в
двух обликах, фонетическом и морфологическом, не говоря уже о том,
что словарный состав болгарского народного языка в X в. весьма
существенно отличался от русской лексики. Но тематика и содержание
церковной письменности ограничивали использование в ней этих общих
элементов лексики (имеются в виду те общие элементы, какие были
унаследованы от древнейшей близости болгарского и русского языков).
Поэтому именно в области яексики и фразеологии обнаруживается
наибольшее
расхождение,
наибольшая
отдаленность
церковнославянского и древнерусского языков. Степень чистоты
старославянского языка была далеко не °Дна и та же в поучениях
различных проповедников. Я выделил «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона как памятник исключительный не только по
высоте риторического искусства, но и по чистоте старославянского языка,
по отсутствию в нем элементов родного языка проповедника.
Язык поучений большинства проповедников был достаточно
однообразен и не представляет большого интереса для истории русского
литературного языка. Возьмем, например, поучения новгородского
епископа Луки Жидяты. Они отличаются от произведений Илариона
прежде всего смешанностью языка, в котором наряду со
старославянскими встречаются и русские элементы.
Можно указать еще одного проповедника древнекиевской эпохи,
который, как и Иларион, в совершенстве владел старославянским
языком; его сочинения были обнаружены только в XX в., хотя исследователи древнерусской литературы знали о них уже давно. Однако
ученые и не подозревали, что проповеди эти были написаны русским
автором. И лишь тщательные разыскания позволили акад. Н. К.
Никольскому, в конце концов, после изучения почти всего дошедшего до
нас литературного наследия определить автора проповедей. Это
Климент Смолятич, бывший в середине XII в. в течение нескольких лет
киевским митрополитом. Был он на митрополичьем столе недолго, так
как в эти годы шла напряженнейшая общественная борьба между
княжескими и церковными группировками собственно русского и
провизантийского направлений. То и дело сменявшиеся на киевском
престоле князья поддерживали то русскую, то византийскую
группировку. Поэтому Климент при князе Изяс-лаве Мстиславиче был
возведен на митрополичий стол, потом снят с него, а с возвращением в
Киев своего покровителя вновь вернулся туда — и снова был изгнан. По
165
существу митрополитом он почти и не был: его место то и дело занимали
греки.
Никольский приписал Клименту много различных сочинений, не со
всеми его атрибуциями можно согласиться, но по крайней мере
половину произведений следует бесспорно признать принадлежащими
Клименту. Я не буду производить полного анализа языка этих
произведений, ограничусь лишь одним примером — «Посланием
Климента-митрополита
Фоме-прозвитеру»
(испорченное
слово
пресвитер). Климент начинает «Послание...» высокомерным указанием
на то, что он писал свое поучение для князя Изяслава, используя
священника Фому лишь в качестве посредника. Так что напрасно Фома
вступает с ним в спор, считая себя его корреспондентом. Фома спорит с
Климентом по поводу понимания отдельных тонкостей христианского
богословия, обвиняя Климента в отступлении от правой веры; Климент
же отвечает, что его сочинения предназначены лишь для избранных, для
людей начитанных и образованных. Попутно он замечает, какими
источниками пользовался в не дошедшем до нас первом послании к
князю Изяславу: это были произведения античных писателей — от
Гомера до Аристотеля и Платона.
Столь чрезвычайно начитанный для своего времени книжник мог
писать на чистом церковнославянском языке, который и для нас
представляется нелегким, а для людей того времени тем более
представлял трудное и мудреное чтение. Однако подавляющее
большинство проповедников пользовались языком, средним между
русским и старославянским, выбирая в старославянском такие слова,
выражения и конструкции, которые были ближе к русским и потому
должны были быть наиболее понятны всякому русскому слушателю или
читателю. Иногда же проповедники, не зная в должной мере
старославянского языка, переходили с церковнославянского на чисто
русский язык.
Дальнейшее развитие церковнославянского языка шло по пути все
большей нормализации соответствий между ним и русским языком. Все
чаще говорится о недопустимости смешения церковнославянского языка
с просторечием. Пишущие стремятся как можно бережнее сохранить
церковнославянский язык во всей его чистоте. Однако вместе с тем
отдельные элементы русского языка, включаемые в старославянский язык
произведений русских церковников, уже перестают ощущаться как
русизмы
и
воспринимаются
как
допустимые,
полноправные
старославянские речения. Уже давно исследователи обратили внимание
166
на то, что русские формы с ж на месте старославянского жд (понужати
вместо понуждать, рожество вместо рождество) стали обычными,
вполне нормальными в церковнославянской письменности ХІІ-ХІѴ вв.,
хотя параллельный вариант (ч вместо щ) никак не допускался: старое щ в
церковнославянском языке сохранялось бережно: пещь, нощь и т. п.
Совсем иное отношение к церковнославянизмам было в русской
Деловой письменности. Когда мы рассматривали язык договоров с
греками, «Русской правды», позднейших грамот, датируемых уже эпохой
феодального распада (смоленские, полоцкие грамоты), я отмечал, что в
языке всех этих памятников всегда была небольшая «примесь»
церковнославянизмов.
На первых порах развития русского литературного языка, повидимому, эти церковнославянизмы (весьма, впрочем, немногочисленные) отражали верно и точно состав общего городского
разговорного языка, т.е. они вошли в устную речь раньше, чем в
письменность.
Однако в XI—XII вв. и позднее, когда церковная письменность
развивается, когда и составлением деловых документов все чаще
начинают заниматься церковники как самые грамотные люди (особенно
на окраине, в провинции), церковнославянская «примесь» в языке
деловой письменности становится все более значительной, но, конечно,
до известного предела: церковнославянизмы всегда составляют именно
«примесь», относительно небольшую в общем составе языка. В деловых
памятниках старшего периода нельзя уловить какой бы то ни было
стилистической дифференциации старославянских и русских речевых
элементов. Церковнославянизмы употребляются в памятниках деловой
письменности именно как освоенные заимствования. Никому, повидимому, не приходило в голову считать эти немногочисленные
старославянские элементы чужеродными включениями, «примесью», как
мы их теперь называем. Какое-нибудь местоимение азъ или начальная
формула всякой грамоты се азъ, какой-нибудь союз аще, встречающиеся
многократно в документах, для дьяка, как и для всех, должно быть,
казались обязательной составной частью делового документа.
Своеобразное отношение к церковнославянизмам можно заметить в
памятниках оригинального литературного творчества, в собственно
художественных памятниках Древней Руси и, наконец, в появляющихся
значительно позднее научных письменных памятниках. Здесь
старославянские традиции, грамматические и словарные, используются
несравненно шире и свободнее, чем в деловом языке. Употребление
167
старо- или церковнославянизмов приобретает стилистический характер.
Назначение славянизмов в повествовательных, художественных
памятниках
древнерусской
литературы
—
обогатить
язык
стилистическими оттенками, сделать его разнообразнее, выразительнее.
Одним из древнейших памятников данного рода представляются нам
сочинения Владимира Мономаха. Владимир Мономах, внук Ярослава
Мудрого, в конце своей долгой жизни — великий князь киевский,
известен нам гораздо более, чем, пожалуй, другие князья династии
Рюриковичей. Это объясняется прежде всего тем, что «Повесть
временных лет» (то, что историки и литературоведы признают третьей
редакцией древнейшего русского летописного свода) была составлена по
его указанию, в бытность его великим князем, составлена для его
прославления и оправдания всех его деяний. Последняя часть этого свода
(третья редакция доведена до 1118 г.) содержит подробные сведения о
жизни и деятельности Владимира Мономаха, приводит очень много
фактов для характеристики князя. Поэтому уже давно историки и
литературоведы начали изучать и биографию, и государственную
деятельность, и литературное творчество Владимира Мономаха. Ему
посвящено немало монографий и большие разделы в общих курсах
русской истории. Рекомендую прочесть монографию акад. А. С. Орлова
«Владимир Мономах»1. В названной книге вы найдете интересные
выборки из старой литературы и характеристики Владимира Мономаха
как литературного героя, государственного деятеля, полководца,
человека киевской эпохи, весьма типичного и вместе с тем глубоко
своеобразного.
Наконец, тут же помещены все сочинения Владимира Мономаха с
обширным комментарием и переводом на современный русский язык.
Литературные достоинства перевода Орлова бесспорны, хотя, как всегда
при оценке лингвистом перевода, выполненного литературоведом,
можно в нем обнаружить и неточности, и спорные места. Читается книга
легко, и текст перевода вполне вразумителен. Прочтите эту книгу, она
находится на стыке истории, литературоведения и языковедения,
поэтому не раз может вам пригодиться.
Поставив очень много разных вопросов по поводу Владимира
Мономаха, Орлов обошел только один вопрос — о его языке, очевидно, в
силу того, что одновременно с книгой Орлова вышла известная книга
акад. С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного
языка старшего периода», где большая глава посвящена анализу языка
сочинений Владимира Мономаха. Хотя никто до Обнорского не
168
производил такого обстоятельного и подробного исследования языка
Мономаха, все же никак нельзя признать, что этой работой тема
исчерпана. Тут остается еще широкое поле деятельности по изучению
языка сочинений Мономаха и для нашего, и для следующих поколений.
Прежде всего надо сказать, что самый текст сочинений Мономаха
представляет почти столько же затруднений и загадок, сколько их есть в
тексте «Слова о полку Игореве» (несколько меньше, потому я и сказал
«почти столько же», но все же их достаточно много). Это объясняется
близким сходством литературной судьбы обоих памятников. Так же как
и «Слово о полку Игореве», «Поучение» Владимира Мономаха дошло до
1
См.: Орлов А. С. Владимир Мономах. М. — Л., 1946.
нас в одном-единственном списке, с той только разницей, что
единственный список «Слова...» сгорел в 1812 г. во время московского
пожара, когда Наполеон занял Москву, список же сочинений Мономаха
до сих пор лежит в нашей Публичной библиотеке в Ленинграде и
каждый может иметь счастье изучить этот список, прикоснуться к нему.
Историку языка и литературы такой случай, когда он имеет важнейший
памятник литературы киевского периода у себя перед глазами, не может
не представляться исключительным случаем в истории нашей
рукописной традиции.
Все сочинения Владимира Мономаха, которые до нас дошли (а их
могло быть гораздо больше), списаны были подряд в конце «Повести
временных лет» (за несколько листов до конца рукописи) монахом
Лаврентием. Это известный Лаврентьевский список Суздальской
летописи, сделанный в Нижнем Новгороде в 1377 г. Сам Лаврентий в
приписке, которой он завершил свой труд, сообщает, прося прощения за
множество ошибок, что оригинал, с которого он списывал летопись, был
ветшан (т. е. очень древний, старый) и многое в нем оказалось уже
недоступно для прочтения — чернила стерлись. В рукописи, не очень
подержанной, не слишком часто читавшейся, даже тогда, когда
осыпаются чернила, можно прочесть исчезнувший или исчезающий
текст, потому что на пергамене остаются следы гусиного пера, которым
выводили буквы, и по этим следам можно прочесть письменные знаки.
Но если рукопись часто читают, перелистывая ее, заминают концы
страниц, то такая рукопись становится абсолютно неудобочитаемой.
Видимо, именно такую рукопись и имел перед собой Лаврентий.
Поэтому в ряде мест «Повести...», где он не мог прочесть текст, сделаны
пропуски или искажены слова в тексте. Так было и с сочинениями
Владимира Мономаха.
169
Так как сочинения Мономаха не повторяются более ни в одном из
списков «Повести временных лет», то из этого можно заключить, что они
никогда и не были включены в состав этого летописного свода. И только в
одном или, может быть, в двух-трех случаях, по-видимому, в ближайшее
после смерти Владимира Мономаха время его почитатели могли
переписывать эти сочинения после летописи, как приложение к ней. Но
если бы до нас дошла целая копия такого списка, то мы ожидали бы
прочесть сочинения Владимира Мономаха после 1118 г., а они помещены
в Лаврентьевском списке под
1096 г. как явная вставка, прерывающая связный текст летописи. Это
может быть объяснено только тем, что рукопись была очень истрепана,
нитки порвались, и эти самые последние листы, особенно пострадавшие,
потому что они были в конце всего списка, чтобы они не затерялись, ктолибо из хранивших рукопись мог заложить в середину летописи,
недалеко от ее конца. Лаврентий же проявил себя человеком
смиренномудрым и, не переставив листы, переписал их так, как они
лежали. Таким образом, сочинения оказались под 1096 г. Эта ошибка
монаха Лаврентия, который был «умом молод», как он сам заявляет, и
привела к тому, что историки долго спорили о том, в каком году
написаны сочинения Мономаха. Многие из ученых заявляли, что именно
в 1096 г. и ни в каком другом. Но все же, к чести науки, от этого суждения
теперь окончательно отказались, ныне общее единогласное мнение
исследователей таково, что, если не все, то большая часть сочинений
Владимира Мономаха написана не в конце XI в., а в начале XII в., между
1113 и 1117 гг., может быть, даже в 1118 г., но не позже. При датировке
сочинений Мономаха исходят обычно из встречающегося в начале
первого из сочинений, так называемого «Поучения Мономаха детям»,
выражения на са-нехъ сѣдя: «Сѣдя на санехъ, помыслих в души своей и
похвали бога иже мя сих дневъ грѣшнаго допровади». Так как далее
сказано: «На далечи пути, да на санехъ сѣдя безлѣпицю си молвилъ», —
то отсюда заключали, что сочинения написаны Владимиром, когда он
ехал из своих южных переяславских владений на север, на Волгу, в ростовские земли, значит это было зимой. Выражение на санехъ сѣдя
толковали буквально, и отсюда делали вывод, что случай с вызовом
Мономаха из Переяславля имел место в конце XI в., а потому, действительно, все это и могло быть написано в 1096 г.
Когда-то все сочинения Владимира Мономаха объединялись под
одним заглавием «Поучение». Для простоты и теперь иногда так делают
в литературоведческих и языковых обзорах. Первый издатель
170
«Поучения» — граф А. И. Мусин-Пушкин, тот самый, который в 1800 г.
издал «Слово о полку Игореве», напечатал сочинения Мономаха в 1793 г.
и озаглавил этот памятник «Духовная князя Владимира Всеволодовича».
Духовной называли завещание; таких завещаний сохранилось очень
много от московского времени, от древнего же, киевского периода это
единственное завещание.
После Мусина-Пушкина долго еще этот сборник сочинений рассматривался как одно сочинение, затем разглядели в нем не менее чем
три, а некоторые — даже четыре сочинения Мономаха: «Поучение»,
«Перечень походов и охот», «Пути и ловы» (иногда называют это
произведение «Автобиографией»), «Послание к Олегу», «Молитву».
Однако «Молитва» едва ли является отдельным сочинением; я полагаю,
что она могла составлять одно целое с «Посланием к Олегу» или с
«Поучением»1. Во всяком случае, о трех отчетливо различающихся и по
стилю, и по языку сочинениях можно говорить с полной уверенностью.
Подводя итоги своего исследования «Поучения» Владимира Мономаха, Обнорский высказывает предположение, что в руках Лаврентия,
в этом «ветшаном» списке древней «Повести временных лет» находился
оригинал, т.е. собственноручная рукопись Мономаха в двух частях:
оригиналы «Поучения» и «Послания к Олегу». А «Автобиография»,
считает Обнорский, была в более поздних копиях. Однако никакой
аргументации в пользу своего предположения Обнорский не приводит.
Основная задача его исследования — устранить как можно больше
церковнославянизмов из текста сочинений Владимира Мономаха как
поздние, по его мнению, наслоения, отражающие порчу текста под
рукой переписчика, с тем чтобы восстановить первичный, чисто русский
языковой облик этого памятника. Мы ожидали бы, что аргументация, на
которой
основано
предположение
Обнорского
о
том,
что
«Автобиография», в отличие от двух других сочинений Мономаха, вошла
в поздние списки, будет заключаться в том, что в этом сочинении
наибольшее количество церковнославянизмов, но по ходу исследования
оказывается, что именно в «Автобиографии» церковнославянизмов всего
меньше. Тогда в чем же дело? Что заставляет противопоставлять язык
«Поучения» и «Послания к Олегу», как непосредственно восходящих к
оригиналу, и язык «Автобиографии», точнее «Перечня походов и охот»?
Нигде не приведены соображения Обнорского по данному поводу:
остается догадываться, что основанием для такого суждения могло быть
значительное количество испорченных мест, а также большее число
случаев подновления орфографии, чем в других частях свода.
171
' Теперь уже можно признать несомненным, что так называемая «Молитва» Владимира
Мономаха представляет собой не что иное, как тематическую подборку покаянных
песнопений из текста церковной книги «Постной триоди»; см.: Матьесен Р. Текстологические
замечания о произведениях Владимира Мономаха. — ТОДРЛ, 1971, т. 26. Прим. ред.
Я мог бы совсем не останавливаться на разборе данного суждения, раз
оно не аргументировано, но я пытаюсь найти все, что можно, чтобы
счесть это заявление обоснованным. Если даже и предположить, что
именно эти соображения побудили Обнорского сделать подобные
выводы, то все же следует признать их несостоятельными. Правильнее
будет считать, что все три сочинения Владимира Мономаха имели
одинаковую литературную судьбу, т. е. они в этой «ветшаной» рукописи
XII в., как полагают литературоведы, действительно были очень близки к
оригиналу (я никак не думаю, что это мог быть сам оригинал, ибо он был
найден в составе летописи, а летописи составлялись в монастырях, так
что туда могли бы дать оригинал лишь для снятия копии, но нельзя
думать, чтобы он мог там остаться). Таким образом, едва ли можно
говорить, что Лаврентий имел в руках оригинал (это фантастическое
предположение!), но можно полагать, что та копия, которую
переписывал Лаврентий, была действительно очень недалека от
оригинала — вторая или третья копия, но не дальше. Все это относится,
по нашему мнению, одинаково ко всем сочинениям Владимира
Мономаха, а не только к двум из них.
Первая задача, которая должна быть решена лингвистами, — попытаться расшифровать «темные места» в тексте памятника. Хотя над
этим уже много потрудились филологи прошлого века и, как показывает
издание Орлова, ими внесено немало исправлений. Многие исправления
можно признать если не окончательно принятыми, то вполне удачно
обоснованными, однако все же остается еще немало и таких исправлений
текста, которые вызывают сомнения. В своей книге Орлов дал обзор не
поддающихся бесспорной расшифровке «темных мест» в тексте
сочинений Владимира Мономаха.
Рассмотрим одно из таких «темных мест»: «Куда же пойдете, иде же
станете, напоите, накормите унеина; и боле же чтите гость1. Слово
унеина с первого издания памятника и доныне представляет немало
затруднений. Во времена Н. М. Карамзина было предложено такое
толкование: в кабардинском языке уна — 'дом', а тут уне-инъ — 'хозяин
дома'. Это объяснение повторялось долго, пока кто-то не возразил: при
172
чем тут кабардинский язык, почему мы должны именно у Владимира
Мономаха находить единственный раз в русской письменности
употребленное кабардинское слово? Если объ' Цит. по кн.: Повесть временных лет, ч. 1. М. — Л„ 1950.
яснять это сношениями русских с кабардинцами, то тогда необходимо
предположить, что и какие-то иные кабардинские слова могли войти в
русский обиход. Но чтобы у Владимира Мономаха встретилось одно
слово, совершенно не известное ни одному из русских говоров, это весьма
сомнительно!
Блестящую догадку высказал в свое время акад. Ф. И. Буслаев: здесь
два слова, написанные слитно, т. е. надо разделить сочетание на уне —
'лучше' и ина — 'другого'. Тогда перевод будет звучать так: 'если вы
поехали в поход, то где бы ни остановились (на ночлег), напоите,
накормите лучше другого'1. Однако для столь остроумного понимания
все же чего-то не хватает в тексте. Лучше, чем «что?» — второй части
сравнения в тексте нет.
В. А. Воскресенский предложил понимать слово унеина как образованное от корня ун -------- 'юный', т. е. унеинъ — это будто бы испорченное или не совсем обычное образование от корня ун-1. Значение
слова — 'молодой', и автор «Поучения» употребляет его в переносном значении: 'накормите молодого голодного бедняка'. В этом толковании натяжка со стороны семантики. Если уне означает 'юноша',
то почему именно следует накормить юношу, а не старца? Если же
принять переносное значение 'бедняк', то контекст все равно остается непонятным.
Затем исследователи стали исходить из того, что это слово не может
быть сохранено в тексте в том виде, как оно там написано: предполагали
порчу текста. Тогда, оставляя слово уне как наречие 'лучше', остальную
часть делили еще на два слова, получалось: накормите уне и на(иболее
же чтите гостя). Смысл фразы стал достаточно ясен. Как и объяснение
Буслаева, это толкование мне кажется удачным. Но позднее
исследователи пытаются заменять это слово иным. П. М. Ивакин,
например, автор прекрасной монографии о сочинениях Мономаха,
вместо слова унеина предлагает убога или странника. Он считает, что
от первого слова осталось только у, от второго же — остальная часть
слова. Подобные смелые текстологические операции, как мне кажется,
можно предпринимать, если перед нами действительно текст, целиком
поврежденный многолетними переписками. Однако здесь это
1
См.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского
языка. М„ 1861, стлб. 476.
2
См.: Воскресенский В. А. Поучение детям Владимира Мономаха. СПб., 1893, с. 15.
173
предположить невозможно. Ведь копия Лаврентия, бесспорно, была
весьма близкой к оригиналу, предполагать в ней такое большое
отклонение от него нет оснований.
Было много и других предположений. Это лишь говорит о том, какие
немалые трудности могут встретиться в тексте, и, конечно, дело
лингвистов основательнее заняться «темными» и испорченными местами.
Никто еще, в том числе и Обнорский, написавший пространный труд о
сочинениях Владимира Мономаха, ничего не сказал ни об одном
«темном месте» в этом памятнике. Это еще предстоит сделать.
Вторая задача (после того как лингвисты помогут увереннее и точнее
восстановить первоначальные чтения текста и устранить все ошибки
переписчиков) — установить связь языка сочинений Мономаха с языком
других памятников той же эпохи.
Обнорский хорошо обосновал то положение, что основа языка
сочинений Мономаха — древнерусский литературный язык, тот же,
который отразился в «Русской правде». Иначе говоря, в начале XII в.
Владимир Мономах писал языком, очень мало отличающимся от языка X
в.
Смелые операции Обнорского по устранению всех церковнославянизмов (он их почти сплошь, за немногими исключениями, считает
вторичными, не восходящими к оригиналу) не получают поддержки
прежде всего потому, что у Владимира Мономаха не было и не могло
быть никаких побуждений избегать использовать старославянскую
языковую традицию, ему, несомненно, хорошо известную. Все, в том
числе и Обнорский, признают, что Владимир Мономах был весьма
образованным человеком. В отличие от других исследователей,
Обнорский даже утверждает, что Мономах знал несколько языков.
Почему? Владимир Мономах сообщает, что его отец знал пять языков.
Отсюда Обнорский делает вывод, что и сын знал языков не меньше. При
этом он даже не пытается перечислить, какие именно языки мог знать
Мономах. Приведу это место из работы Обнорского полностью, чтобы не
быть обвиненным в неосторожном обращении с текстом: «Рекомендуя
своим детям и иным читателям Поучения изучать языки, подобно тому
как его отец Всеволод Ярославич изучил пять языков, сам Мономах,
конечно, не мог не последовать первым этому примеру своего отца. Мы
не знаем, однако, какие именно и сколько языков знал Мономах. Во
всяком случае среди них был греческий язык, какой-то из европейских
языков, конечно, болгарский язык, может быть, один из
174
западнославянских языков (чешский язык). Замечательно, однако, что на
лексике Мономаха это его знание языков никак не отразилось»1. Как
видите, я не исказил ни хода мыслей, ни общих положений!
Я не берусь решать вопрос о том, сколько иностранных языков изучил
Владимир Мономах, и допускаю, что он мог, кроме церковнославянского
и некоторых элементов половецкого, других языков не знать, но
церковнославянский, или старославянский, он, несомненно, знал хорошо.
Это ясно хотя бы потому, что он и в первом своем сочинении,
«Поучении», и в последнем, «Послании к Олегу», приводит
многочисленные цитаты не только из книг церковно-бо-гослужебных,
которые всякий христианин сколько-нибудь мог знать, непременно читал
их, если был грамотным человеком, но и из сочинений отцов церкви
(Василия Великого, поучения неизвестного автора, сохранившегося в
«Прологах», и др.). Это были произведения, нелегкие для восприятия, и
знали их лишь весьма образованные люди того времени. Чтобы изучать
такие
книги,
Мономах
должен
был
великолепно
знать
церковнославянский язык! Но если он его знал и не мог не почитать, не
признавать языком богатым, красноречивым, то он мог и сам
употреблять церковнославянизмы для украшения речи, произнося их с
пафосом, с гордостью за то, что ими владеет. Поэтому задача состоит не в
очищении языка Мономаха от церковнославянизмов, а в истолковании
их стилистической функции; задача в том, чтобы понять, в какой мере
славянизмы были необходимы Мономаху, чем они обогащали его язык,
когда и где он их употреблял.
Русская основа языка Мономаха хорошо показана Обнорским, и я
отсылаю вас к его книге. Но Обнорский преимущественно
останавливался на вопросах фонетики и морфологии памятника. О
русской основе языка произведений Владимира Мономаха говорят
полногласные варианты слов: волость, голодъ, переступити, соромъ,
череда, сторона и др.; слова с начальными о: одинъ, оди-ночьство и
ро-: розбити, розглядати или с ч вместо щ: помочь, дчерь. Это
совершенно ясные, неоспоримые показатели русской основы.
Характерны также особенности русской флексии в склоне' Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, с.
71-72.
ниях, например, родительный падеж мягких основ: лжѣ блюдѣтеся и
пьяньства, перфект без связки для 3-го лица и перфект со связкой для 1го и 2-го лица: безлѣпицю си молвилъ; все же то далъ богъ на угодье
175
человѣкомъ... иже та угодья створилъ еси... якоже блудницю и
разбойника и мытаря помиловалъ еси; трудъ свой оже ся есмь
тружалъ и т. п. В текстах встречается русское деепричастие, которое
Обнорский постоянно называет причастием: ез-дяче, молвяче; русскими
являются и такие формы деепричастий, как река — 'говоря' и т.д.;
сложные формы имперфекта, обычные в древнерусском языке: тако бо
оць мои дѣяшет блаженыи; и облиз-ахуться на нь акы волци.
Но в области синтаксиса и лексики работу Обнорского надо значительно дополнить. Обратим внимание, скажем, на беспредложные
конструкции от названий городов: а самъ иде Курску; а мене посла
Смолиньску. Рядом со множеством беспредложных конструкций
изредка встречаются конструкции с предлогами въ, на, къ. И вот
Обнорский, не колеблясь, объявляет это ошибками, позднейшими
изменениями текста. Несомненно, что беспредложные конструкции еще
употреблялись в начале XII в., но несомненно и то, что уже в XI в. с ними
широко конкурировали конструкции с предлогами, что в русском языке
были двойные, парные конструкции. Об этом свидетельствуют все
памятники. Во всех текстах беспредложных конструкций меньше, а
предложных больше. И у Обнорского нет оснований предполагать тут
выдержанную систему только беспредложного употребления, не говоря о
том, что беспредложными могли быть только местный, дательный,
винительный падежи, отвечавшие на вопросы «где?», «куда?», вопросу
«откуда?» всегда соответствовал предлог изъ. С другой стороны, когда
речь шла не о конечной цели похода, а о направлении, то обязательно
употреблялся предлог на. Это была важная языковая дифференциация.
«И Смолиньску идохом, с Давыдомъ смирившеся» — 'идти под стены
Смоленска', а не на город Смоленск, а «и пакы 2-е к Смолиньску со
Ставкомь с Гордятичемъ» — 'пошел в поход на Смоленское княжество', а
не на город Смоленск. Или: «Онъ йде Новугороду, а я с половци на
Одрьскъ, воюя, та Чернигову» — 'пошел в Новгород, бросил нас, перестал
быть нашим союзником'. Так что предложные и беспредложные
конструкции имели разное значение, были одинаково нормальны и
обязательны в языке произведений Мономаха, и тут нет нужды
предполагать позднейшие искажения.
Характернейшей чертой древнерусского синтаксиса Обнорский
считает абсолютное преобладание сочинения над подчинением. Однако
у Владимира Мономаха гипотаксические, подчинительные конструкции
чрезвычайно многочисленны и считать их заимствованиями можно
только в некоторых случаях, но далеко не всегда. Отрицать наличие
176
сложных периодов, построенных на основе не только сочинения, но и
подчинения, никто не может. Но Обнорский, очевидно, полагает, что это
почти все старославянские конструкции. Иногда поводом для этого
является наличие союза аще в старославянской форме: «Аще ли вы будет
крестъ цѣловати к братьи или г кому, а ли управивъше сердце свое».
Подчинительный условный союз аще, может быть, и дает повод
считать это предложение славянизмом, но дело в том, что не только во
время Мономаха, в начале XII в., но и во время его деда, Ярослава, аще
никак не ощущался как славянизм, потому что употреблялся как
обычный, обязательный союз в русском деловом языке. Следовательно,
считать его славянизмом нельзя, он прочно вошел в русский язык. На то,
что здесь аще лишь один из вариантов, указывает и употребление рядом
с аще в той же функции (условного союза) союзов ино и аче (правда,
писцами аче испорчено на отче, но порча здесь очевидна для всех). В
«Послании к Олегу» Мономах говорил о том, что надо быть бдительным,
осторожным, однако хотя и хорошо быть осторожным, но божья забота о
человеке, когда бог бережет, гораздо лучше, чем забота человеческая. В
последней фразе Но отче добро есть блюсти слово отче, конечно,
испорченное а(т)че (так совершенно верно исправляют литературоведы).
Это аче указывает, что аще — лишь вариант, который давно существовал
в русском языке, а потому объяснять употребление этой конструкции
воздействием старославянского языка нет оснований.
То же можно повторить и о союзе егда. Это союз старославянского
происхождения, но он давно вошел в русский язык, и считать его в XII в.
старославянским уже нельзя. Другое дело, что два раза наряду с егда
встречается внегда: «Внегда стати человѣкомъ, убо живы пожерли ны
быша; внегда прогнѣватися ярости его на ны, убо вода бы ны потопила».
Тут можно усматривать влияние церковнославянского языка. В
выражении с союзом егда говорится о земном, а союз внегда
употребляется тогда, когда речь идет о боге, т. е. когда автор чувствует
потребность говорить в торжественном стиле.
Для включения придаточного предложения причины употребляется
союз зане: «Не ревнуй лукавнующимъ, не завиди творящимъ ібезаконье,
зане лукавнующии потребятся, терпящий же господа, — д-и обладають
землею». Его тоже обычно считают старославянским, но это как раз один
из тех общих элементов русского и старославянского языков, в котором
нет никаких дифференциальных признаков, заставляющих признавать
его только старославянским. Союз зане одинаково употребителен и в
177
русском, и в старославянском языках, так что образоваться он мог в обоих
языках независимо, параллельно. Одно тут можно сказать, что поскольку
союз зане часто встречается в цитатах из священного писания, это может
послужить поводом к тому, чтобы во многих случаях относить его к
элементам старославянского языка (исходя из контекста).
В одном случае древнерусский союз оже испорчен на иже. Это
показывает, что в XII в. в разговорной речи города союз оже не употреблялся. Книжники его постоянно портят и заменяют. Так, например,
написано: «А иже от бога будеть смерть, то ни отець, ни мати, ни братья
не могуть отъяти» — здесь иже совершенно бессмысленно, и очевидно,
что оно стоит на месте оже. Тем более, что в других местах оже
встречается не искаженным:
«Мы человѣци, грѣшни суще и смертни, то оже ны зло створить, то
хо-щемъ и пожрети и кровь его прольяти вскорѣ, а господь нашь,
владѣя и животомъ и смертью, согрѣшенья наша выше главы нашея
терпить, и пакы и до живота нашего». — 'Так как мы грешны и
смертны, то если нам кто-нибудь зло причинит, то мы хотим сожрать
его, кровь его пролить. А господь наш, владея жизнью и смертью,
согрешенья наши, которых у нас выше головы, терпит всю нашу
жизнь'.
Один этот период, состоящий из трех главных, нескольких обособленных оборотов и одного условного придаточного, уже свидетельствует о том, какие сложные построения были возможны в русском
языке, без всяких заимствований из старославянского. Таких
конструкций, очень сложных и не имеющих никаких старославянских
элементов, у Владимира Мономаха много, например: «Куда Же ходяще
путемъ по своимъ землямъ, не дайте пакости дѣяти от-рокомъ ни
своимъ, ни чюжимъ, ни в селѣх, ни в житѣх, да не кляти вас начнуть». По
содержанию это напоминает статью из договора с греками, где
говорилось, что купцы по дороге в Константинополь не должны делать
«пакостей в селах». Здесь два придаточных: придаточное места и
придаточное целевое.
Синтаксис в «Поучении» Владимира Мономаха, как и в других его
произведениях, чрезвычайно богат, включает множество конструкций.
Такое разнообразие свидетельствует о том, что и в разговорном языке XII
в. мы имеем уже хорошо развитый гипотаксис, и это идет вразрез с
178
традиционным воззрением на древнерусский синтаксис как упрощенный
и примитивный.
Древнерусский язык был языком простонародным. Если признать,
что общенародный язык не был тождествен с разговорным языком
наиболее порабощенного класса, считать, что он был более всего связан с
языком городского населения, тогда представление о примитивности
этого языка должно отпасть. Уже в XI в. памятники дают нам образцы
сложного языка. Утверждение, что сочиненные предложения абсолютно
господствуют в русском языке, ничего не означает, так как сочинительная
связь в любом языке встречается чаще, чем подчинительная. Даже в пору
развития научно-философского языка, когда этот язык стал ведущим в
нашей литературе, мы считаем язык плохим, если в нем очень много
подчинительных предложений.
Показателем строя языка служит и то, что сочинение имело много
средств связи. Употреблялся, например, союз а в значении 'и': «А к богу
бяше покаятися, а ко мнѣ бяше грамоту утѣшеную, а сноху мою послати
ко мнѣ, зане нѣсть в ней ни зла, ни добра, да бых об-уимъ оплакалъ мужа
ея». Изредка встречается союз а в значении 'и' и в «Повести временных
лет», и в «Слове о полку Игореве», и в ряде других памятников. Значит, у
Мономаха это не случайно.
Союз ти имел сочинительное значение. Из союзов сочинительноначинательных, которые соединяли абзацы, употребляются также союзы
та и то. Мономах описывает ряд своих походов, и каждое описание он
начинает с союза то и, а затем переходит к союзу та и, наконец, к союзам
и и а. Он употребляет разные союзы для стилистического разнообразия.
Следовательно, о бедности стилистических средств в его произведениях
можно было бы говорить, если бы он использовал два-три способа
сочинения или один-два союза. А у Мономаха мы встречаем множество
союзов и все те типы придаточных предложений, которые существуют и
теперь в литературном языке. Кроме перечисленных он употребляет и
союз егда: «И ты же птицѣ небесныя умудрены тобою, господи; егда
повелиши, то вспоють, и человѣкы веселять тобѣ; и егда же не повелиши
имъ, языкъ же имѣюще онемѣють».
Местные придаточные редки у Мономаха, что говорит не о примитивности, а о развитости языка (у него всего два придаточных места).
Очень многочисленны условные предложения. Это объясняется тем, что
условная связь характерна для таких рассуждений, которые необходимы
в законодательных документах, но не нужны в художественной
литературе.
179
Условие выражается союзом еще: «Аще и на кони ѣздяче не будеть ни
с кым орудья, аще инѣх молитвъ не умѣете молвити, а «Господи
помилуй» зовѣте беспрестани, втайнѣ» — 'если вы на коне едете... если
других молитв не умеете произносить, то «Господи помилуй» взывайте
непрестанно про себя'; «Аще вы послѣдняя не люба, а передняя
приймайте».
Много предложений с оже: «Оже ли кто вас не хочет добра ни мира
крестьянам, а не буди ему от бога мира узрѣти на оном свѣтѣ души его»;
встречаются союзы али, иже. Это богатство синтаксических средств
выделяет сочинения Мономаха среди других памятников.
У Мономаха есть периоды, в которых используются разные связи;
много сложных периодов в «Послании к Олегу». В стилистических целях
Мономах использует антитезы: «Научиша бо и паропци, да быша собѣ
налѣзли, но оному налѣзоша зло» — здесь пропущено слово, но, зная
приемы антитезы, в нужном месте можно поставить добро.
Старославянизмы присутствуют в языке Мономаха, например, при
описании похода сквозь половецкие рати, но они не определяют его
речь, ибо подчинены русской основе. Встречаются у него причастные
конструкции, которые несвойственны русскому разговорному языку, но
рядом с ними — много чисто русских деепричастий.
Славянская лексика ярко выступает у Мономаха там, где речь идет о
религиозных наставлениях. Однако преобладают элементы, общие для
русского и старославянского языков. Старославянские слова, неизвестные
русскому языку, употребляются, но очень редко. Например,
поохритаються — 'будут насмехаться' встречается только раз. Мы
должны отметить и русское словообразование, например, использование
суффикса -н- для образования прилагательных. Для русского языка того
времени были характерны многие слова, теперь уже вышедшие из
употребления, скажем, из охотничьей и военной терминологии: стахомъ
— 'расположились лагерем'; очутивше бѣжаша — 'прознав об этом,
бежали'; утанивалъ — 'угонял борзых'. Более ста раз встречается чисто
русское образование не сътишьды, исчезнувшее теперь.
В лексике встречаются элементы, которые сохранились только в
украинском языке. Очевидно, язык Мономаха ближе киевскому, чем
московскому: паропцы — 'парубки'; добро слово дадите — 'добрый
день'; ворожбитъ — 'озлобленный человек'.
Много слов используется метафорически. Сѣдя на санехъ долго
вызывало споры. Князей хоронили на санях, посадить на сани —
'снарядить в последний путь'. Отсюда сѣдя на санехъ означает 'на-
180
ходиться при смерти'. Еще примеры: суд придетъ — 'смерть в бою';
оружие внидетъ в сердце ихъ — 'погибнут от своего оружия'; не зрите
на воеводъ — 'не передоверяйте своих дел воеводе'; значение сочетания
лютый звѣрь до сих пор неизвестно, очевидно рысь'.
«Слово о полку Игореве»
Методы российского языкознания позволяют нам, трактуя вопрос о
происхождении русского литературного языка, привлекать данные
любых эпох, а также факты современной диалектологии и фольклора.
Однако всем совершенно ясна неравноценность произведений нового
времени и источников ранних периодов. Понятно, что так же мы поразному оцениваем и памятники старейшей поры. Каким бы периодом
русского языка мы ни занимались, мы всегда будем в языке источников
различать слои, восходящие к глубокой древности, и слои, более близкие
к нашему времени.
Изучая язык домонгольского периода, нельзя одинаково пользоваться
всеми памятниками этой эпохи. Из многочисленных письменных
памятников того времени первостепенное значение имеют «Русская
правда» и «Слово о полку Игореве». С ними не может конкурировать ни
один памятник. Язык «Русской правды» позволяет познакомиться с
языком дописьменного периода. До революции исследователи
совершенно не пользовались «Словом о полку Игореве». В этом
проявлялась, по их мнению, научная осторожность, а с нашей точки
зрения — методологическая беспомощность. Обычно аргументировали
нежелание анализировать язык «Слова...» тем, что
1
ред.
См.: Ларин Б. А. Из истории слов. — В кн.: Памяти Щербы. Л., 1951. Прим.
*
' '..
«Слово...» в рукописи не сохранилось, а известно лишь в издании 1800 г.
да еще в копии, сделанной для Екатерины И. Единственный список
произведения сгорел при пожаре Москвы в 1812 г. По поводу датировки
списка были большие разногласия среди ученых. Нет единого мнения по
этому вопросу и сейчас. Памятник, по общему убеждению, относится к
XII в., а сгоревший список— к XV-XVI вв., т.е. от возникновения
памятника до времени составления единственного известного списка
прошло примерно 300 лет. На протяжении длительной истории
изучения «Слова...» высказывались различные мнения по поводу
подлинности памятника.
181
Я думаю, что мне не нужно излагать историю находки памятника, его
издания. Это всем известно. Поэтому я просто расскажу, как обосновывались сомнения, которые мешали пристально изучать памятник и
использовать его для истории русского литературного языка. Хотя,
несомненно, издатели «Слова о полку Игореве» допустили целый ряд
неточностей, надо считать это издание для своего времени превосходным
и весьма ценным. Конечно, принципы публикации теперь изменились,
однако мы должны признать, что это издание нисколько не хуже тех
приближенно или условно точных изданий, которые осуществляются
историками и лингвистами в наши дни. Как бы то ни было, небольшая
неточность издания не может служить препятствием для изучения этого
памятника, для его широкого использования. Издание передает
погибший список недостаточно точно, но расхождения между печатным
изданием и Екатерининской копией касаются только орфографии.
Сохранились черновики А. Ф. Малиновского, много работавшего над
изданием «Слова...»1, которые показывают, что само чтение,
расшифровка, транслитерация текста шли нелегко, вызывали большие
сомнения и споры.
Все это вынуждает нас не доверяться в полной мере орфографии,
словоразделению издания 1800 г.: издатели не раз меняли деление
строчек на слова, поэтому не все является здесь несомненным. Однако,
пользуясь этим изданием, мы находимся не в худшем положении, чем
при работе с каким-нибудь другим изданием очень Древних текстов.
Рассмотрим основное и наиболее серьезное сомнение — сомнение в
См.: Сперанский М. Н. Первое издание «Слова о полку Игореве» и бумаги А- Ф.
Малиновского. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Список с первого издания 1800 г. А. И.
Мусина-Пушкина. Под ред. А. Ф. Малиновского. М., 1920; Барсов Е. В. "Слово о полку
Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной РУси,т. 1.М., 1887.
1
подлинности «Слова о полку Игореве». Надо сказать, что вскоре после
гибели списка «Слова...» стали высказываться сомнения в подлинности
этого памятника. Проф. М. Т. Каченовский, крупный для своего времени
филолог, первый высказал предположение, что поэма создана не в XII в. 1
Митрополит Евгений Болховитинов считал, что подлинник «Слова...»
относится к XVI в., будто оно является переработкой «Задонщины», а
стимулом к созданию «Слова...» послужил разгром татар2. О. И.
Сенковский (Барон Брамбеус) тоже высказал сомнение в подлинности
«Слова...»3.
182
В самом конце XIX и в начале XX в. о подлинности «Слова о полку Игореве» заговорили зарубежные ученые. Французский славист
Л. Леже в 1901 г. весьма энергично доказывал, что мифологические
данные, которые имеются в «Слове...», расходятся с мифологией
других памятников древнейшего периода, и это заставляет усомниться в подлинности «Слова...»4.
С 1926 по 1944 г. упорно доказывал недостоверность «Слова о полку
Игореве» французский академик А. Мазон5. Обобщив теории, которые
сложились в русской науке прошлого, он сформулировал свои взгляды
на эту проблему. Бесспорно, подлинным памятником является
«Задонщина».
Русские
литературоведы
считали
«Задонщину»
второстепенным памятником, слабым, не заслуживающим внимания
подражанием «Слову...»; по Мазону, дело обстоит иначе. «Задонщина» —
блестящий литературный памятник, один из лучших в древнерусской
литературе.
«Слово...»
же
является
попыткой
переработать
«Задонщину», предпринятой каким-то славистом, сербом или чехом,
эмигрировавшим в Россию в XVIII в. Наряду с этим утверждением Мазон
допускает резкие выпады против русской культуры и науки, против
русских ученых. По его мнению, поэма о походе Игоря заслужила славу
І
См.: Каченовский М.Т. Взгляд на успехи российского витийства в первой половине
истекшего столетия. — «Труды Об-ва любителей рос. словесности», 1812, ч. 1.
1
2
См.: Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в научной и художественной мысли первой
трети XIX в. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сб. статей. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц.
М. — Л., 1950, с. 300-302.
3
См.: Сенковский О. И. Рецензия на книгу «Умозрительные и опытные основания
словесности, сочинение А. Глаголева. Спб., 1834». — «Библиотека для чтения», 1834, № 4, с. 5-6.
4
См.: Ье§ег Ь. К.Ч88Є8 еі зіаѵез. Ёіікіез роііі^иез еі 1іИёгаіге8. Р., 1890, р. 93-94; Леже Л.
Славянская мифология. Воронеж, 1908, с. 4-5.
5
См.: Магоп А. І е Зіоѵо а"І§ог. Р., 1940.
напрасно, вопреки выводам критической науки; жемчужину же
литературы, «Задонщину», не оценили.
Точку зрения Мазона поддержали и другие западные ученые. М.
Горлин доказывал, что «Слово о полку Игореве» по стилю сходно с
героическими поэмами XVIII в.1 Проф. Б. Унбегаун говорил, что
некоторые элементы языка, как, например, слово русичи, доказывают
подделку. Суффикс -ич, по мнению Унбегауна, имеет выделительноиндивидуализирующее значение, указывает происхождение по отцу, и
названий народов с этим суффиксом якобы нет2. С этим выводом
183
согласиться нельзя, поскольку нам известны такие названия народов:
кривичи, вятичи и др.
Однако порочная теория Мазона не нашла широкой поддержки за
рубежом (Мазон сам говорил, что даже многие его ученики не
соглашаются с ним). Против выводов Мазона выступил польский ученый
А. Брюкнер. Его книга «О подлинности «Слова о полку Игореве» —
работа удачная и научно ценная, хотя с некоторыми положениями
Брюкнера мы не можем согласиться3. У нас обоснованно опровергли
положения Мазона проф. Н. К. Гудзий, чл.-корр. АН СССР В. П.
Адрианова-Перетц, проф. Д. С. Лихачев и др.4
Прежде всего оппоненты Мазона говорят о том, что французский
ученый не сумел правильно оценить ту огромную филологическую
работу, которая проделана над «Словом о полку Игореве» в течение 150
лет. Достаточно указать на богатейший комментарий к «Слову о полку
Игореве» акад. В. Н. Перетца, где к каждому слову поэмы подобраны
соответствия из русских памятников домонгольского периода, из
1
См.: Согііп М. Заіотоп еі Рйіетее. — «К.еѵие с!е8 еішіез 8Іаѵе$». Р., 1938,1.
1-2.
2
18, Газе.
См.: ІІпЬе§аип В. Ье$ К.іі8Ісі — Клізісі сій 51оѵо <1Т§ог. — Там же.
3
См.: Вгііскпег А. Біе ЕсЬіЬеіі с!е8 Ідогііесіев. — «2еіі5сЬгіЙ: Гііг зІаѵівсЬе РЬіІоІо-&е»,
Іеіргщ, 1937, Всі 14.
4
См.: Гудзий Н. К. Ревизия подлинности «Слова о полку Игореве» в исследовании
проф. А. Мазона. — «Уч. зап. МГУ», 1946, вып. 110, кн. 1; его же. Невероятные
Догадки проф. А. Мазона о вероятном авторе «Слова о полку Игореве». — «Изв. АН
СССР. ОЛЯ», 1950, вып. 6; Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Ігоревім» і
«Задонщина». — «Радяньске літературознавство». Київ, 1947, № 7-8; ее же.
«Задонщина». К вопросу реконструкции авторского текста, — «Изв. АН СССР. ОЛЯ»,
1947, т. 6, вып. 2; Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве». (Историко-литературный
очерк.) — В кн.: «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. м. — Л.,
1950.
фольклора, переводной литературы и т.д.1 Вот эти-то совпадения
языкового материала с достоверными источниками XII—XIII вв. и
являются одним из основных аргументов в пользу подлинности
«Слова...». Никакой фальсификатор не мог бы воспроизвести столько
соответствий с древними памятниками. А между тем открываются все
новые и новые языковые элементы, восходящие к домонгольскому
периоду, подтверждающие древнее происхождение «Слова...».
Вторым аргументом в пользу подлинности «Слова о полку Игореве»
является тот факт, что в целом ряде памятников, созданных позже XII в.,
184
но ранее XVIII в., обнаруживается знакомство со «Словом...». В рукописи
псковского «Апостола» (1307) еще К. Ф. Калайдович нашел запись,
относящуюся к междоусобицам князей и являющуюся дословным
повторением известного места из «Слова...»: «Тогда при Олзѣ
Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь
Даждьбожа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась:
При сихъ князѣхъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша,
въ князѣхъ которы и вѣци скоро-тишася человѣкомъ)2. Объяснить это
совпадение можно только тем, что «Слово...» создано раньше 1307 г.
В списках «Задонщины», расходящихся между собой, неизменными
остаются десятка полтора фразеологических заимствований из «Слова о
полку Игореве». В целом ряде случаев текст «Слова...» искажен автором
«Задонщины», так как язык памятника XII в. был в XV в. уже частично
непонятен.
Цитаты из «Слова о полку Игореве» найдены в Псковской летописи, в
«Житии Александра Невского», в «Молении» Даниила Заточника.
Повторяемость текста «Слова...» в других памятниках свидетельствует о
том, что оно написано в домонгольский период, в XII—XIII вв. Только
такой вывод является правильным, никаких предположений о более
позднем сложении «Слова...» быть не может.
Многие места, трудные для первых читателей и комментаторов
«Слова о полку Игореве», в связи с открытиями исследователей русской
1
См.: Перетц В. Н. «Слово о полку Игоревім». Пам'ятка феодальноі України — Руси XII в.
Київ, 1926.
2
См.: Калайдович К. Ф. Библиографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании
Российских древностей графа А. И. Мусина-Пушкина. — «Записки и труды ОИДР», 1824, ч. 2.
культуры, историков, археологов, диалектологов, сделанными в последнее
время, стали теперь понятными. «Слово...» по своему историческому
содержанию должно включать большой языковой материал, связанный с
половцами. Трактовка этого материала для издателей памятника была
делом нелегким, так как у нас в конце ХѴШ в. тюркология была
разработана слабо, именно поэтому многие места, связанные с
половцами, были не разъяснены. А ведь это говорит о подлинности
текста. Занести материал из тюркских языков мог только человек,
знакомый с ними. А так как тюркологов в XVIII в. не было, значит, это
мог сделать только автор, живший в XII в., современник и участник
событий, отображенных в «Слове...». Очень показательно, что сейчас,
когда никто больше не сомневается во времени создания «Слова...», из
185
него черпают богатейший материал для воссоздания русской культуры
раннего средневековья.
Мазон утверждал, что будто бы черновики Малиновского, его
колебания, .поиски, сомнения подтверждают фальсификацию текста. Но
никакая фальсификация не могла бы причинить специалистам столько
затруднений, а тут, чтобы дать читателю ясный текст, приходится биться
над каждой строкой. Брюкнер в опровержение мнения Мазона говорит,
что подлинные памятники чешской литературы, например, XV в., до сих
пор представляют большие трудности. А ведь о «Слове о полку Игореве»
никто никогда не мог сказать, что ему там все понятно; до сих пор еще
остались «темные места». Наличие «темных мест» свидетельствует как об
испорченности текста, так и в известной степени о подлинности
памятника.
Отрицая подлинность текста, ученые выдвигали еще и такой слабый
аргумент: рукопись, мол, погибла при странных обстоятельствах.
Брюкнер правильно замечает, что ничего тут странного нет, рукопись
сгорела при пожаре Москвы 1812 г.: в то время погибло большое число
книг, среди них почти вся библиотека Мусина-Пушкина.
Против подлинности выступает, как утверждал Мазон, сочетаниевязыке «Слова о полку Игореве» севернорусских и южнорусских
Диалектных языковых особенностей. Однако этот аргумент как раз
свидетельствует о дилетантизме Мазона в области истории русской
литературы и о его наивных воззрениях. В языке любого памятника,
изданного в Киеве, мы имеем северные наслоения на южной осно-Ве> так
как почти все оригинальные памятники киевской литературы погибли в
монгольскую эпоху и известны нам только в северных списках,
естественно, с внесением северных черт. Это подтверждает пример
«Русской правды»; да, надо полагать, и «киевскому койне» XII—XIII вв. не
чужды были новгородские элементы.
Упрекая русских ученых в недооценке «Задонщины», Мазон говорит,
что явные погрешности в передаче фразеологии «Слова о полку Игореве»
автором «Задонщины» объясняются не неумелым заимствованием, а тем,
что текст «Задонщины» дошел до нас в искаженном виде, тогда как
создатель «Слова...» в XVIII в. читал «Задонщину» в лучшем виде. Но нам
известны списки «Задонщины» с XV в., т.е. со времени, отделенного от
периода ее создания не более чем полустолетием. Текст «Задонщины» не
мог быть больше искажен за 50-70 лет, чем текст «Слова...» за 300 лет. По
Мазону, большое число «темных мест» свидетельствует о подделке
памятника. Однако ни один фальсификатор не может имитировать
186
«темные места» так, чтобы они при позднейшем исследовании могли
быть раскрыты на основе источников XII—XIII вв.
Далее Мазон утверждал, что мифология «Слова о полку Игореве» не
соответствует древнему периоду. На самом же деле мифология «Слова...»
как раз поражает нас тем, что она полностью отражает древнейший
период. Характерно отсутствие в «Слове...» бога Перуна, считавшегося у
мифологов XVIII в. главным богом древнерусской языческой религии.
Если бы автором фальсификации был писатель XVIII в., то он не мог бы
не упомянуть об этом «Зевсе русского Олимпа». По новейшим
исследованиям, Перун — бог новгородских славян; в Киеве его не чтили,
во всяком случае, он не был главным божеством до создания Владимиром
киевского языческого Пантеона. Упоминание его в «Повести временных
лет» еще не свидетельствует о существовании Перуна в киевской
мифологии (надо помнить, что «Повесть...» слагалась из разных
источников: киевских, новгородских, смоленских и др.).
В последнее время «Слово о полку Игореве» пристально изучалось со
стороны географии и истории. Исследователи пытались по данным
современной топонимики восстановить со всей точностью маршрут
походов Игоря, уточнить места битв, маршрут бегства Игоря из
половецкого плена от Кончака. Здесь возникли трудности из-за
несоответствия древних географических имен и современных, а также
недостаточной осведомленности исследователей о местах, связанных с
походом. Позднее исследователи повторили путь Игоря. В результате
этого удалось с достоверностью установить географию событий
«Слова...»1. Это тоже свидетельствует о его подлинности, о том, что и
автору «Слова...» знаком этот путь.
Проф. М. Д. Приселков в работе «Слово о полку Игореве» как
исторический источник» доказывает, что нигде так детально не освещена
внутренняя и внешняя политика киевских, черниговских и других князей,
как в «Слове...». Все известное из других памятников дополняется,
раскрывается материалами «Слова...»2. Никакой фальсификатор не мог
бы так воспроизвести сложную политическую обстановку той эпохи.
В 1856 г. К. Маркс дал характеристику «Слова о полку Игореве»,
исключающую всякие сомнения в его подлинности. В письме ф. Энгельсу
он писал: «Суть поэмы — призыв русских князей к единению как раз
перед нашествием собственно монгольских полчищ. (...) Вся песнь носит
героически-христианский характер, хотя языческие элементы выступают
еще весьма заметно»3. Ни один настоящий знаток древнерусской
литературы и русских древностей не сомневался в подлинности
187
«Слова...»; только предвзятость и научная недобросовестность могли
привести к беспочвенному скепсису. Выступлением Каченовского против
«Слова...» был глубоко возмущен А. С. Пушкин; «подлинность... песни
доказывается духом древности, — писал он, — под которую невозможно
подделаться»4. В. Г. Белинский считал, что «Слово...» современно
отраженному в нем событию: «Это произведение явно современное
воспетому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и
человеческого духа Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма
татарщины»5.
Итак, вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» можно считать
окончательно решенным. Один из оппонентов Мазона удачно сказал, что
единственной заслугой Мазона является то, что он навсегда
скомпрометировал мысль о подложности «Слова...».
1
См.: Кудряшов К. В. «Слово о полку Игореве» в историко-географическом освещении. — В
кн.: «Слово о полку Игореве». Сб. статей. Под ред. И. Г. Клабу-новского и В. Д. Кузьминой. М.,
1947; его же. «Слово о полку Игореве». — В его кн.: Половецкая степь. М., 1948.
2
См.: Приселков М. Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. — «Историкмарксист», 1938, кн. 6.
3
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2, т. 29, с. 16.
4
Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. 12. М., 1949, с. 147.
5
Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти т., т. 5. М., 1954, с. 332-333.
Есть еще вопрос, над которым следует задуматься: почему «Слово о
полку Игореве» является наиболее доходчивым и увлекающим нас
памятником? Именно это позволяло скептикам говорить, что
экспрессивность «Слова...» свидетельствует о близости его автора к нашей
современности. Основа поэтики и стилистики «Слова...» далека от
современной. Мы многое воспринимаем при его первом чтении наивно,
упрощенно. Так в чем загадка доступности, увлекательности «Слова...»?
На этот вопрос отвечают по-разному. Правильно объясняли это
народностью «Слова...». Проф. М. А. Максимович, проф. А. А. Потебня и
акад. А. С. Орлов в своих исследованиях показали глубокую связь
«Слова...» с фольклором: былинами, плачами, песнями, обрядовой
поэзией1. Нельзя отрицать справедливость этого утверждения.
Народность «Слова...» неоспорима. Не может быть сомнения в том, что
ни один памятник домонгольской поры не связан так с народной
поэзией, с народными воззрениями; проповедники не могли так
свободно использовать народную поэзию, не могли ее использовать в
188
силу характера памятника и составители «Русской правды». «Слово...»
богаче отзвуками народной поэзии, чем какой-либо другой памятник.
Именно эта органическая связь с фольклором и делает «Слово...»
близким нам.
Но надо указать еще раз на то, что «Слово о полку Игореве» есть, по
словам Маркса, призыв к единению Руси перед нашествием монголов.
Воспринимая теперь «Слово...» свободным от всяких исторических
фальсификаций, мы восхищаемся широтой политического кругозора его
автора, сознанием необходимости единства русского народа в борьбе с
великой опасностью. Нельзя сказать, что идея теснейшего единения всех
сил перед лицом надвигающейся беды была свойственна только
«Слову...» и появилась впервые здесь. Эта идея отразилась и в «Повести
временных лет»: в описании деятельности Святослава, Ярослава Мудрого,
Владимира Мономаха. Но нигде, ни в каком другом памятнике
древнерусской литературы высокая патриотическая тема не была
облечена в такую убеждающую форму, как в «Слове...». Поражает
смелость и мудрость замысла: использовать для пропаганды идеи
1
См.: Максимович М. А. Украинские народные песни. М., 1834; его же. «Песнь о полку
Игореве». (Из лекций о русской словесности, читанных в 1835 г. в Киевском университете.) —
Собр. соч., т. 3. Киев, 1880, с. 498-563; Потебня А. А. Малорусская народная песня по сп. XVI в.
Текст и примечания. — «Филологические записки», 1877, т. 2, 5-6; 1878, т. 1-4; Орлов А. С.
«Слово о полку Игореве». М. — Л., 1946.
единения Руси тяжелую неудачу, разгром русских войск половцами. Но
вместе с тем совершенно ясно, что автор «Слова...» именно в предвидении
новых тяжких испытаний связал воспоминания о славе прошлых веков с
рассказом о страшном разгроме войск Игоря.
Рассказ о походе Игоря сохранился в Лаврентьевской и Ипатьевской
летописях. Лаврентьевская летопись сопровождает рассказ о разгроме
Игоря горькими словами в адрес чернигово-северских князей. Летописец
лишь осуждает северских князей, тщеславно стремившихся к разгрому
половцев, он не возвышается в своем рассказе до высокой идеи единения.
Составитель Ипатьевской летописи сделал все возможное, чтобы
защитить, оправдать неудачливых чернигово-северских
князей.
Сопоставление «Слова о полку Игореве» с этими летописными
рассказами позволяет сделать вывод, что автор «Слова...» был
незаурядным человеком, стоявшим выше летописцев по своему
политическому кругозору.
189
Наконец, анализ языкового строя должен дать основание для понимания причин живучести, неувядаемости, поэтичности «Слова о
полку Игореве». Но лингвисты и здесь не выполнили своей задачи. Они
много занимались реконструкцией «Слова...», но ими пока сделано еще
слишком мало для раскрытия «темных мест», для объяснения
поэтических оборотов речи. «Слово...» написано не для развлекательного
чтения — это политический памфлет, который поражает нашего
современника необычностью языка и потому также кажется
произведением поэтическим.
Излагая спорные суждения о подлинности «Слова о полку Игореве», я
почти не приводил суждений лингвистов, потому что не могу считать
лингвистами Е. Болховитинова, проф. И. И. Давыдова 1 и М. Т.
Каченовского. Но понятно, что мнение лингвистов должно иметь
первостепенное значение. Никто из лингвистов не изложил своих
аргументов против фальсификации «Слова...», никто не привел во всей
совокупности множества доводов в пользу подлинности «Слова...».
Разработка языка «Слова...» велась до сих пор довольно поверхностно.
Проф. М. А. Колосов включил отдельные языковые элементы
' Подлинность «Слова...» И. И. Давыдов отрицал в лекции «Составные начала и Управление
древней отечественной словесности» («Уч. зап. Московского университета», 1834, ч. 3, № 8).
Прим. ред.
«Слова...» в свой обзор древнейшего состояния русского языка 1. Акад. А.
X. Востоков рассмотрел отдельные слова и объяснил их в своем словаре2.
С исчерпывающей полнотой и большой тщательностью акад. И. И.
Срезневский дал истолкование всего лексического состава «Слова...» в
«Материалах для словаря древнерусского языка». Акад. Ф. И. Буслаев
широко пользовался примерами из «Слова...» в «Исторической
грамматике»3. Первая монография, посвященная языку «Слова...», была
написана проф. А. И. Смирновым в 70-х годах прошлого века4.
В работе Смирнова еще довольно механически трактуются языковые
данные «Слова о полку Игореве». Скажем, он приводит примеры
написания о вместо е: папорзи вместо предполагаемого паперси, такое
же чтение предложил Буслаев5. Но чтение паперси всеми отвергнуто,
следовательно, никакой замены буквы е на букву о тут нет. Так же
сомнителен и второй пример Смирнова: вместо сморци он предполагает
первоначальное смерци. Но и эта поправка является совершенно
излишней. Следовательно, в «Слове...» нет примеров написания о вместо
е.
190
Разбирая написание о вместо а, Смирнов приводит Словутицю
вместо Славутицю (обращение к Днепру), носады (вместо насады) и
далее оварьскии (вместо аварьскии). За исключением последнего
примера оварьскии, в двух первых надо видеть скорее переосмысление
или этимологическое переразложение этих слов, т. е. Словутицю по
связи с слово и носадъ по связи с носъ. Наоборот, в слове побарая он
видит написание а вместо о. Но в этой итеративной форме не могло быть
написания с о. В форме бебрянъ — 'бобровый' в плаче Ярославны
Смирнов видит тоже ошибочную замену о через е, тогда как дальнейшая
разработка языка «Слова о полку Игореве», показавшая его
неоспоримую связь с юго-западной поэтической традицией, со
1
См.: Колосов М. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие.
Варшава, 1872.
!
Так, по-видимому, назван «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), в
составлении которого Востоков принимал деятельное участие. Прим. ред.
3
См.: Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1881.
4
См.: Смирнов А. И. О «Слове о полку Игореве». — «Филологические записки», 1875, т. 6;
1876, т. 1 -3, 5, 6; 1877, т. 3, 5, 6; 1878, т. 2-6.
5
См.: Буслаев Ф. И. Русская хрестоматия. М., 1888, с. 97.
словарным составом юго-западных диалектов, позволяет считать форму
бебрянъ отнюдь не ошибкой или заменой, а первоначальным чтением.
Уже эти примеры показывают, как мало еще были готовы историки
русского языка к уверенной и подлинно исторической трактовке такого
материала.
Полногласные и неполногласные формы Смирнов делит на три
разряда слов (такую классификацию до сих пор сохраняют некоторые
исследователи, например акад. С. П. Обнорский). Во-первых, он говорит
о словах, в которых встречается только старославянская форма,
например, древо, злато, сребро, страна, стрежаще; во-вторых, о словах,
которые встречаются только в полногласной форме и не встречаются в
форме старославянской, неполногласной: болото, пороси, полонена —
'пленные', вережена — 'поврежденные', пово-локоста — 'заволокли'; и,
наконец, третья категория — слова, которые в тексте памятника имеют
двоякую форму: на брезѣ — на березѣ, голова — глава, городъ —
градъ, забороло — забрало, хороброе — храбрые, голосъ — гласъ,
ворота — врата, боронь — брань и др. Приведя эту классификацию,
исследователь счел свою задачу выполненной. Но непонятна цель
классификации, сомнительна ее доказательная сила.
191
В дальнейшем ученые подойдут к вопросу (хотя бы о полногласных и
неполногласных формах) совсем иначе. С одной стороны, будут
рассматриваться стилистические качества тех и других форм,
целесообразное употребление их; с другой стороны, будет решаться
вопрос, везде ли можно видеть в сохранившемся до нас тексте первоначальные формы. Если слова с полногласием сомнений почти не
вызывают, так как эта лексика свойственна именно древнейшей эпохе и
являлась господствующей и основной для древнейшего русского языка,
то старославянская лексика и в особенности группа чередующихся
написаний может вызвать сомнения. Тут исследователи решают вопрос
по-разному. Обнорский в большинстве случаев считает Неполногласные
написания вторичными, либо ошибочно, либо сознательно введенными
при правке текста1. Другие исследователи (например, проф. Л. П.
Якубинский) признают возможным допустить Наличие в памятнике тех
и других форм, но не во всех случаях2.
' См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода, с. 189-193.
2
См.: Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 325-326. Прим. ред.
Встречаются у Смирнова и некоторые ошибочные толкования.
Говоря, например, о форме былями, он считает, что от слова быль не
могло быть такой формы творительного падежа множественного числа.
Но это слово могло иметь исходную форму быля (именительный падеж
единственного числа), тогда форма былями не должна вызывать
сомнений как подлинная форма.
Когда Смирнов пытается подвести итог анализу языка «Слова о полку
Игореве», то признаками древнейшего состава языковых форм он
признает отсутствие некоторых явлений, т.е. дает одни только
отрицательные констатации. Например, нет форм 2-го лица
единственного числа на -шь, нет инфинитивов на -ть (а есть только на ти), что, по его мнению, характеризует именно древнейший языковой
облик; нет ни одного случая (кроме былями) употребления форм на амъ, -ами, -ахъ во множественном числе мужского и среднего рода; нет
родительного падежа прилагательных с окончанием -ова (а есть только
формы прилагательных на -ого, -аго); нет именительного падежа
единственного числа на -ои (а есть только на -ыи).
Что же не по методу исключения, а положительным образом характеризует «Слово о полку Игореве» как памятник эпохи домонгольской Руси, а не XVI или XVIII в.? Об этом речь будет дальше.
192
После монографии Смирнова появляется ряд работ еще более мелких
и узких. Долгое время велись споры о месте создания памятника, при
этом пытались отыскать в нем диалектизмы. Но здесь неверен сам метод.
Такой образованный человек, как автор «Слова...», не мог допустить
ярких местных диалектизмов, однако некоторые диалектные черты в
«Слове...» есть.
Проф. Н. М. Каринский доказывает псковское происхождение списка
и с некоторой осторожностью формулирует такое положение: судя по
наибольшему отражению этого памятника именно в псковской
письменности, можно предположить, что вся история его существования
связана с Псковской землей1. Отсюда должно следовать, что он там и
создан. Этого вывода Каринский не делает, но подводит к нему.
Аргументация Карийского не может быть совсем отброшена, но сейчас
она уже не вызывает полного доверия. Я приведу его доводы. Он
начинает с того, что вслед за акад. А. И. Соболевским считает ярким
псковизмом появление шипящего вместо свистящего (шизыи вместо
' См.: Каринский Н. Очерки из истории псковской письменности и языка. II. А. И. МусинПушкин. Пушкинская рукопись «Слова о полку Игореве» как памятник псковской
письменности ХѴ-ХѴІ вв. Пг., 1917, с. 14.
сизый). Псковские говоры, действительно, отличались употреблением ш
вместо с перед звуками переднего ряда. Это казалось важным доводом в
пользу псковского происхождения хотя бы сгоревшего списка ХѴ-ХѴІ вв.
Но Обнорский, не принимая этого, говорит, что этимология слова сизый
неясна, и поэтому «не невероятно», что именно первоначальной,
древнейшей, основной формой и было шизый для всего русского языка,
а форма сизый появилась где-то путем слоговой ассимиляции. (Так как
за начальным ши следовало зы, то влияние второго свистящего будто бы
привело к замене шизый на сизый.)1
Я не могу признать это положение допустимым, а считаю его вполне
невероятным, ибо тогда пришлось бы допустить, что все множество
памятников, дружно говорящих о форме сизый как общерусской и
всюду известной, сохраняет нам искаженное произношение этого слова,
и только один псковский диалект представляет древнейший, исконный
вид. Едва ли можно признать это вероятным.
Но в чем надо последовать за Обнорским — это в опровержении
второго примера, приведенного Каринским. Сочетание васъ умъ
Каринский, как и Орлов, исправляет на вашъ умъ. Обнорский указывает,
что в соответствующем месте мы ожидаем форму двойственного числа
193
ваю умъ. Здесь мы имеем обращение к двум лицам, двум князьям, и в
этом обращении не могло быть вашъ умъ, а только ваю умъ.
Дальше Каринский приводит ряд написаний с я после шипящих
(тучя, сыновчя, поскочяше, потручяти, рассушясь и т.д.) и такие же
написания из псковских памятников ХІѴ-ХѴ вв. Обнорский отводит и
этот аргумент на том основании, что рядом с написанием я после
шипящих мы имеем не меньше случаев написания а. Однако что же нам
мешает считать, что все эти написания я после ч и ш являются ошибкой
переписчика-псковича, отражающей его собственное произношение? А
сохранение написаний без смягчения, которые Обнорский приписывает
первоначальному тексту, могло быть показателем той меры
добросовестности копииста, которую Обнорский в общем признает (в
работе несколько абзацев посвящены тщательности работы последнего
копииста памятника). Значит, написания типа тучя нельзя считать
' См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода, с. 134-135.
совсем бездоказательными.
Дальше Каринский приводит формы с твердым р — крычатъ,
рыскаше — и рядом — написание мягких показателей после р, например, в слове Днепрь или внутри слова хорюговь. Формы хорю-говь
никогда не могло быть в живом говоре, но такое написание мог допустить
писец, который заметил, что его твердое произношение соответствует
более мягкому произношению в нормальном литературном языке.
Обнорский, не входя подробно в обсуждение этих фактов, отмечает
колебания написаний ри и ры. Но о чем они свидетельствуют? О
псковском происхождении хотя бы последнего переписчика текста.
Более убедительно возражение Обнорского против следующего
аргумента Карийского: слово чрьленыи восходит к чьрвленыи, т. е.
здесь имеет место утрата в, и в псковских памятниках широко
встречается эта утрата. Но Обнорский сейчас же приводит примеры, где
в таком же положении перед л в собственных именах в не исчезает:
Святъславль, Святъславличь, Ярославль, Всеславль, Всеславличь,
Гореспавличь; ни в одном из этих случаев нет утраты в, тогда как в
псковской летописи подобные княжеские имена пишутся без в. Эти
доводы надо признать верными. Возможно, о единичном слове
чрьленыи не стоило и говорить, доказывая псковское происхождение
памятника, так как эта тенденция проявилась не широко и есть много
194
фактов, ей противоречащих, но в совокупности всех замеченных
отражений псковского говора и эта деталь не лишена значения.
И последнее, на чем следует остановиться, так как вопрос этот долго
занимал ученых, — форма аркучи в плаче Ярославны. Каринский
разделяет слово на союз а и ркучи; затем к этому он еще прибавляет
найденную в другом месте форму ркоша. Здесь привлекает внимание
необычная форма корня рк-, а не рек-, т. е. без гласного. Псковские
памятники дают широкое подтверждение этого явления (Каринский
приводит для примера наркуться, изорчеть и т.д.), и наша формула а
ркучи тоже неоднократно встречается в Псковской летописи. В
псковском фольклоре форма а ркучи не совсем вымерла до сих пор. Так
как этот вид корня без гласного нигде за пределами Псковской области
не отмечен, то пройти мимо этого факта нельзя. Орлов писал: «Что
касается... отсутствия ь в корне рек- (аркучи, ркоша), объясняемых... не
как ошибки, то мы затруднились бы.устанавливать псковизм
Пушкинского списка; так сложно здесь соотношение графики,
орфографии и диалекта»1. Другие литературоведы, не приводя серьезных
доказательств, полагают, что здесь надо видеть не два слова, а одно —
аркучи (тогда пришлось бы объяснить это а именно как наставной
гласный, заменяющий утрату коренного гласного). Считаю это
предположение необоснованным.
В заключение я должен сказать, что работа Карийского все же должна
считаться не опровергнутой. Если сомнительно то, что «Слово о полку
Игореве» возникло и на протяжении ряда столетий хранилось именно в
Псковской области, то предположение, что последний или один из
последних переписчиков этого памятника был пскович, достаточно
обоснованно. То, что псковизмы проявляются не полностью и не
последовательно, имеет два объяснения: либо это доказывает довольно
высокую грамотность переписчика, который лишь изредка ошибался
против принятой тогда нормы, либо это говорит о том, что мы имеем
перед собой не псковский список, а уже копию с него, в которой
псковизмы в значительной мере сглажены, устранены, и лишь кое-что от
предыдущего псковского списка уцелело. Второе предположение вполне
вероятно и его нельзя упускать из виду, так как все параллели,
приведенные Каринским, подобраны им из памятников XV в., а
сгоревший список наиболее авторитетные исследователи относят к
середине XVI в. Таким образом, сгоревший список, видимо, был
следующим после псковского списка XV в.
195
Были предположения и о северном, т.е. новгородском, происхождении списка. Такое предположение высказал Колосов и затем
поддержал Обнорский. Но, признавая, что ряд языковых особенностей,
по-видимому, указывает на новгородскую окраску списка, все же надо и
здесь учесть некоторые отклонения, хотя бы полное отсутствие второго
полногласия при наличии ряда слов, в которых оно должно было бы
проявиться. Можно говорить лишь о том, что какой-то из
промежуточных списков мог быть новгородским и что некоторые черты
новгородского говора отразились и уцелели в последнем списке. Но так
уверенно, как делает это Обнорский, утверждать, что последний писец
был новгородцем, не приходится, тем более, что помимо отсутствия
второго полногласия против новгородского происхождения говорит
колебание ры и ри и наличие р
' Орлов А. С. «Слово о полку Игореве», с. 62.
твердого. Не опровергнуты аргументы Карийского и в отношении
шизый и а ркучи.
Остается еще указать на третье направление исследований: некоторые
ученые хотят доказать украинское происхождение списка, и здесь тоже
существенное и более или менее достоверное смешивается нередко с
весьма сомнительным. Скажем, Максимович считал возможным
признать украинизмами формы тече, простре, видя в них формы
настоящего времени (сопоставляя их с украинскими несе, бере), а
формы вонзить, понизить (вместо вонзите, понизите) он рассматривал
как украинские (повелительное наклонение 2-го лица)1. Однако формы
тече и простре, как явствует из контекста, аорист и потому не могут
быть сопоставлены с украинским несе и бере. Что касается написания
понизить, вонзить, то здесь скорее нужно видеть свойственное
сгоревшей рукописи графическое чередование букв ь — е. По
свидетельству А. И. Мусина-Пушкина, Н. М. Карамзина, С. А.
Селивановского, сгоревшая рукопись была по почерку западнорусская
(белорусская), и написания ь и е трудно различались. Следовательно,
можно предположить, что издатели «Слова о полку Игореве» неверно
прочли эти слова и надо восстановить вонзите, понизите (читали
вонзитѣ, или вонзить вместо вонзите).
Но наряду с этими спорными и сомнительными украинизмами
нельзя отвергнуть ряд верных указаний, сделанных не только Максимовичем, но и другими исследователями, например Потебней,
Перетцем, проф. О. Огоновским и др.2, на наличие в языке памятника
196
староукраинских черт. Правда, многие исследователи искали источник
этих «украинизмов» у западных славян, находили в «Слове о полку
Игореве» польско-чешские элементы. Но так как никому, кроме Мазона,
не могло прийти в голову, что автором «Слова...» был поляк или чех, то
следует объяснять польско-чешские параллели к отдельным словам в
тексте нашего памятника знакомством автора с украинскими и,
возможно, именно галицкими говорами.
Вот несколько примеров: например, вопросительная частица чи, мы
ее знаем в украинском и западных языках, но не в великорусском.
Лисицы брешуть1 (в смысле 'лают') — слово брешут в таком значении
1
См.: Максимович М. А. Собр. соч., т. 3, Киев, 1880, с. 559, 629-630, 652.
2
См.: Огоновський О. «Слово о полку Игореве», поетичний памятник руської
письменності XII в. Львов, 1876; Потебня А. А. «Слово о полку Игореве». Текст и примечания.
Харьков, 1914; Перетц В. Н. «Слово о полку Ігоревім». Київ, 1926.
широко употребляется сейчас во всех украинских говорах. Мечи
гримлютъ — типичная украинская форма, соответствующая русскому
гремят. Ничить трава жалощами — здесь слово ничить находит
объяснение в украинском языке, а жалощи — жалощами и формой
множественного числа, и суффиксом тоже ведет нас к украинскому
языку. Встречаются целые выражения: «А чи диво ся, бра-тие, стару
помолодити?» в значении 'надо ли удивляться?'; «Чему, господине, мое
веселие по ковылию развѣя?» и еще несколько подобных оборотов в
плаче Ярославны соответствуют украинскому вопросительному чому. В
выражении влъци грозу върожатъ по яругамъ слово въсрожатъ имеет
параллели в польском и чешском языках, но это опять-таки легче понять
через посредство западноу-краинских говоров. В подтверждение
украинского влияния приводились лексические элементы: яругы,
цвѣлити (в северных украинских говорах означает 'дразнить'). Указывали
в «Слове о полку Игореве» и элементы польские; считали балтийским
словом къметь. Наличие новгородских, псковских, украинских,
белорусских, польских, балтийских элементов говорит о сложности
языка больших городов Древней Руси.
197
Я уже говорил, что в общих курсах истории русского языка, даже
изданных недавно, язык «Слова о полку Игореве» почти не анализировался. Но наряду с таким недоверчивым и опасливым отношением к
этому источнику авторы общих курсов, как, например, Соболевский,
проявляли большой интерес к «Слову...» и немало написали этюдов,
поясняющих отдельные выражения и слова. Соболевский даже
предложил основательную реконструкцию текста2. Он поддержал
догадку литературоведа А. И. Лященко3 о том, что последняя часть
«Слова...», после плача Ярославны, представляет собой позднейшее
добавление, указав, что это предположение полностью подтверждается
лингвистическими данными. Церковнославянская лексика сосредоточена
' Цит. по кн.: Слово о полку Игореве. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.— Л., 1950.
См.: Соболевский А. И. Об одном месте «Слова о полку Игореве». — В кн.: Чтение в
историч. об-ве Нестора-летописца, кн. 2. Киев, 1888; его же. К «Слову о полке Игореве».
(Материалы и заметки по древней русской литературе.) — «Изв. АН. ОРЯС», 1916, т. 21, кн. 2;
его же. К «Слову о полку Игореве». — «Изв. АН. ОРЯС», 1929, т. 2, кн 1.
2
3
См.: Лященко А. Этюды о «Слове о полку Игореве». — «Изв. АН. ОРЯС», 1926, т. 31.
именно в конце «Слова...», и это, с его точки зрения, доказывает
непервоначальность последней части. Конец якобы был потом кем-то
дописан и его нельзя относить к XII в.
Осторожное отношение к использованию фактов языка «Слова о
полку Игореве» в истории русского языка имело в прошлом один веский
аргумент. Прежде чем анализировать какие-либо языковые данные,
нужно произвести расчистку текста, снять с него ряд последовательных
наслоений. Так как до недавнего времени этим всерьез никто не
занимался, то, естественно, осторожные лингвисты предпочитали вовсе
не трогать такой сырой материал.
Надо признать громадной заслугой Обнорского, что в своей книге
«Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» в
главе, посвященной «Слову о полку Игореве», он произвел эту
чрезвычайно трудную, кропотливую, тонкую работу по классификации
языковых явлений «Слова...». Книгу Обнорского всем необходимо
прочесть, поэтому пересказывать ее я не буду. Я только скажу о том, чего
не доделал Обнорский.
198
Относясь с сомнением к форме текста, какую донес до нас сгоревший
список «Слова о полку Игореве», Обнорский, по непонятным мне
причинам, относится с большим доверием к работе первых издателей
памятника. В его книге вы не найдете главы, которая должна была бы в
ней быть, — главы о том слое ошибок, совершенных издателями,
который необходимо снять прежде всего. Приходится понимать это так,
что он считает издание почти безукоризненным, а о каких-то двух-трех
мелких промахах не находит нужным говорить. Я думаю, что кому-то в
ближайшее время следует проделать именно вот такую кропотливую
работу: тщательно изучить издания древнерусских памятников
последней четверти XVIII в. и сопоставить с этими изданиями текст
сохранившихся рукописей (скажем, издания Н. И. Новикова). Тогда мы
будем иметь твердую основу для того, чтобы судить о принципах и
приемах издания древнерусских текстов в конце XVIII в. и о допущенных
ошибках.
Есть и другая крайность, заключающаяся в том, что некоторые
считают издания «Слова о полку Игореве» совершенно беспринципными
и следовательно, допускают, что можно радикально исправлять в первом
издании «Слова...» какие угодно «грубые» ошибки. Если граф МусинПушкин, на средства которого осуществлено первое издание «Слова...»,
не был хорошо подготовлен к такой трудной задаче, то нельзя говорить о
неподготовленности Малиновского1, Карамзина, Н. Н. БантышКаменского или опытного архивиста Селивановского.
Но нельзя впадать в другую крайность — относиться с полным,
абсолютным доверием к издателям. Если мы находим ошибки в новейших изданиях нашего времени, когда филология шагнула далеко
вперед, то что говорить об изданиях XVIII в. Конечно, там немало
ошибок. Сопоставление издания Мусина-Пушкина с Екатерининской
копией показывает, что не все прочтено верно. На счет издателей можно
отнести прочтения текста, которые трудно допустимы для ХѴ-ХѴІ вв.
Скажем, давно привлекает к себе внимание конструкция своя вѣщия
пръсты на живая струны въскладаше. При слове струны мы ожидаем
живыя, а не живая. А в другой фразе употреблено наоборот: трещать
копиа харалужныя вместо харалужная. Такое смешение форм
женского и среднего рода в XVI в. даже и у не особенно грамотных
переписчиков рукописей не встречается. Приписывать его копиистам
ХѴ-ХѴІ вв. мне представляется невероятным. Здесь мы можем думать
лишь о неправильном прочтении рукописи издателем. Эта ошибка
могла бы быть объяснена особенностями графики рукописи, а этими
199
палеографическими вопросами, кроме акад. Н. С. Тихонравова, никто не
занимался2. В западнорусских (белорусских и украинских) рукописях ХѴХѴІ вв. начертания ѣ, ъ, ь, ы и а довольно близки, поэтому возможно неправильное понимание графики — прочтение в одном случае буквы а за
ы, а в другом случае ы — за а.
Ошибку издателя я вижу и в затруднявшей нас форме нѣгуютъ в
«Золотом слове» Святослава. Трудно допустить, чтобы в речевом
периоде, содержащем четыре формы имперфекта (одѣвахуть,
чръпахуть, сыпахуть, възграяху), пятый глагол имел форму настоящего времени, а не имперфект: нѣгуютъ вместо нѣговахуть. Здесь
следует искать палеографическое объяснение этому искажению, для чего
необходимо изучить памятники западнорусского письма и найти в них
необходимые параллели. Тогда на недосмотре издателей можно будет
1
Работа акад. М. Н. Сперанского над бумагами Малиновского показала, какой это был
опытный, тонкий филолог. См.: «Слово о полку Игореве». Список с первого издания 1800 г. А.
И. Мусина-Пушкина. Под ред. А. Ф. Малиновского. М., 1920.
2
См.: Тихонравов Н. С. «Слово о полку Игореве». М., 1868.
настаивать. Слой ошибок переписчиков ХѴ-ХѴІ вв., как я уже сказал, нам
теперь очевиден. Искажения такого рода, как повелѣя вместо повелѣлъ,
подобию или по дубию вместо подъ облакы, надо объяснять
трудностью понимания «Слова о полку Игореве» в XVI в. или неясностью
общего контекста для писца.
Искажение фразы вежи ся половецкий подвизашася тоже представляется совершенно ясным. Это связано с непонятностью для севернорусского переписчика ХѴ-ХѴІ вв. препозиции возвратной частицы
ся. Писец новгородский или псковский, которому неизвестны были
подобные конструкции с возвратной частицей ся перед глаголом,
прибавил к слову подвизаша частицу ся, как будто необходимую по
смыслу, не обратив внимания на то, что ся уже стоит впереди. Такое
искажение текста, конечно, никто не решится возвести к первичному
составу памятника. Устранив эти искажения (и издателей, и последних
переписчиков текста), мы сможем найти в очищенном тексте достаточно
доказательств его подлинности, т. е. его возникновения в конце XII в., а не
в какое-нибудь другое время.
Обнорский уже указал на поразительную точность употребления
форм двойственного числа, на отсутствие хотя бы единой погрешности в
образовании старых падежных форм от существительных с основой на
заднеязычные. Местный падеж единственного числа: брезѣ, вѣцѣ, розѣ,
200
тоцѣ, харалузѣ, именительный падеж множественного числа: влъци,
греци, пуци, пороси, стязи — все это формы, которые в XVIII в. едва ли
уже могли быть выдержаны столь последовательно. К этому надо
добавить, что в тексте употребляются нечленные прилагательные в
косвенных падежах, например, неготовами дорогами, а также
безукоризненно различаются три формы прошедшего времени: аорист,
имперфект и перфект (явление редкое в памятниках ХѴІІ-ХѴІІІ вв.).
Вывод Обнорского об использовании постпозитивного и препозитивного положений прилагательных в членной и нечленной формах
также весьма доказателен. Обнорский тут достиг исключительных
результатов,
показав
единую
строгую
систему
употребления
прилагательных впереди и позади своего определяемого.
Столь же веским доказательством подлинности «Слова о полку
Игореве» я считаю наблюдения над беспредложными конструкциями.
Для древнейшего типа нашего литературного языка характерны
беспредложные конструкции. Но изначальное употребление беспредложных конструкций в тексте «Слова...» уже неясно вследствие
целого ряда последовательно проведенных изменений первоначального
текста в его сложной письменной традиции. Тут можно было бы гораздо
более смело, чем это сделал Обнорский, допустить включение целого
ряда предлогов (например, в, к) в первично беспредложные сочетания,
если быть уверенным в общем архаическом облике языка этого
памятника и предполагать в нем северную языковую основу. Я приведу
ряд примеров, где предлоги не вставлены и текст сохранился в
первоначальном виде: збися дивъ, кличет връху древа; копие
приломити конець поля половецкаго; не было оно обидѣ
порождено; прысну море полунощи; погасоша вечеру зари и т. д.
Я считал бы показательным также употребление в «Слове о полку
Игореве» конструкций страдательных причастий с предлогом от: «и видѣ
отъ него тьмою вся своя воя прикрыты». Аналогии этой конструкции мы
имеем как раз в древнейшей нашей письменности — в «Житии Бориса и
Глеба», приписываемом Иакову, в «Повести временных лет» Нестора и
еще в двух-трех памятниках самой начальной поры. Вероятно,
конструкция вошла в русский литературный язык под влиянием
греческих конструкций с предлогом ало в ХІ-ХШ вв. Но как бы то ни
было, сперва она прочно утвердилась, потом начала исчезать, в ХѴІ-ХѴІІ
вв. под влиянием латинской конструкции была воскрешена — чтобы
вторично исчезнуть.
201
Наиболее обоснованным из аргументов в пользу подлинности «Слова
о полку Игореве» являются его лексические показатели. Но они до сих
пор не рассмотрены во всей полноте, никто этого не сделал, а между тем
давно ясно, что не одно-два, а несколько десятков слов, употребленных в
«Слове...», исчезли из русского литературного языка после монгольского
нашествия и с XV в. не встречаются в памятниках письменности. Наличие
этих слов — яркое и неоспоримое доказательство того, что «Слово...»
относится к домонгольской эпохе. В конце XVIII в. исчезнувшие слова
были неизвестны и в большинстве непонятны. Поэтому совершенно
невозможно, чтобы автор, если он жил в XVIII в., употребил их. Это такие
слова: усобица (вы можете сказать, что мы его хорошо знаем, но оно
было воскрешено Карамзиным и историками и вновь введено в литературный язык после издания «Слова...», уже в начале XIX в.); ратаи с его
производными (оно известно в «Русской правде», в «Слове о полку
Игореве» и в «Повести временных лет» — дальше мы его не встречаем);
зегзицею кычеть (Ярославна) — оба слова больше нигде не встречаются,
то же относится к слову засапожникы.
Далее: Поскепаны шеломы оварьскыя — 'разбиты в щепки шлемы
оварские' — слова этого корня известны в нескольких памятниках
домонгольской поры. Остановлюсь на слове поскепаны. Оно вызывало
сомнения потому, что встречается в сочетании с шеломы. Некоторые
исследователи сомневались, чтобы можно было металлический шлем
поскепати — 'разбить в щепки'. Но теперь археологи установили с
полной достоверностью, что оварские шлемы половцев были не
металлические, а состояли из деревянного остова, поверх которого была
натянута кожа, иногда с металлическими бляшками, одной или двумя —
на темени и на лбу. Такой шлем, в основном состоящий из дерева, от
удара мечом, конечно, разлетался в щепки. Затем слова: котора —
'распря, раздор'; гридница — 'палата для телохранителей князя';
комони — 'кони'; топковины — 'двуязычный народ, который, зная,
кроме русского, печенежский или половецкий язык, служил
посредником между русскими и степняками'; тули — 'колчаны для
стрел' (один раз это слово указано у Срезневского для XVI в., но уже тулъ
— 'футляр'). Затем ряд слов половецких, которые исчезли в
послетатарскую эпоху: орътьма — 'накидка, плащ'; чага (встречается
еще в летописи, значит 'невольница', а может быть, судя по турецкой
этимологии, 'молодой невольник') — 'молодая невольница'; кощиевъ (вы
знаете слово Кащей из сказок, но это совсем другое слово): «Ту Игорь
князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ СЕДЛО кощиево», т. е. в седло обозного
202
слуги. Затем несколько слов греческих, позже исчезнувших: паполома —
'дорогая ткань, бархат с шелковым узором' и др. Итак, совокупность
целого ряда признаков — грамматических и словарных — устраняет
всякое сомнение в подлинности «Слова...»: оно могло возникнуть только в
конце XII в.
Но, конечно, нельзя ограничиваться в изучении «Слова о полку
Игореве» только подбором доказательств его подлинности или одним
очищением первичного текста от позднейших искажений. Интересы
лингвиста гораздо шире. Ведь в той мере, в какой перед нами памятник
поэтического языка, литературного языка, мы должны отдать себе отчет в
особенностях художественного строя, художественного состава речи
«Слова...». Я остановлюсь на некоторых сторонах, сразу привлекающих
внимание исследователя.
Фонетика «Слова о полку Игореве» должна быть изучена не только с
точки зрения исторической, но и в плане художественного
использования звуковых средств, какие были в русском языке той поры.
Не раз восхищались поразительным мастерством автора живописать
звуками, совершенным использованием того приема, который в
художественной речи называют аллитерацией, а теперь чаще
звукописью. Остановлюсь на одном-двух примерах такого искуснейшего
оперирования звуками для внесловесного или дополнительного к
словесному выражения поэтических образов или картин. «...Нощь
стонущи ему грозою птичь убуди; свистъ звѣринъ въста; збися дивъ» —
здесь не может не привлечь внимания накопление свистящих и
шипящих: нощь, стонущи, птичь, свистъ, въста, збися. Такую же
аллитерацию мы имеем в описании жуткой ночи перед поражением,
перед разгромом: влъци грозу въсрожатъ по яругамъ; орли клектомъ на
кости звѣри зовуть. В описании бегства Игоря из плена чередуются
сочетания взрывных кн, кл с шипящими и свистящими: «...Овлуръ свисну
за рѣкою; велить князю разумѣти: князю Игорю не быть! Кликну, стукну
земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкий подвизашася». В первой части
описания бегства Игоря звукоподражательными словами выражен
сигнальный свист, а во второй части (кликну, стукну) сознательное нагнетание мгновенных глухих звуков воспроизводит топот убегающего
человека. В картине битвы — «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси
поля прикрываютъ, стязи глаголютъ... Яръ туре Всеволодѣ! стоиши на
борони, прыщеши на вой стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи
харалужными!» — такое же сгущение согласных, выразительных
203
контрастными сочетаниями, чередование то звонких и плавных, то
свистящих и шипящих.
Ученые отмечали также поразительно яркие цветовые контрасты в
«Слове о полку Игореве». Я не стану задерживаться на примерах,
приведу один-два: Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка,
сребрено стружие — 'красный флаг, белое знамя, красный бунчук,
серебряное древко'; кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучи съ
моря йдуть.
Я уже говорил о том, что чередование полногласных и неполногласных форм должно привлечь к себе внимание не только с формальной
стороны. И вот мне очень приятно указать, что Обнорский в заключение
подробного рассмотрения чередования этих форм сделал важный шаг в
этом направлении. Он говорит о том, что не случайно в «Слове о полку
Игореве» сказано головы Половецкыя, но о князе — главу приложити. И
дальше, в обращении к Кончаку: чръныи воронь поганый Половчине, но
часто врани не граяхуть.
Совершенно ясно, что слова врани и глава, использованные автором
сознательно, принадлежат к высокоторжественному стилю. Там, где
выражен патетический призыв к князьям и где речь идет о каких-то
событиях, рисуемых в торжественном, величавом духе, там встречаются
такие формы, как глава, вранъ, града, врата и т.д. Но там, где речь идет
о теме, вызывающей эмоции отрицательные, гневные, негодующие, где
нужно конкретно противопоставить этому высокому стилю сниженность
темы, там употреблены полногласные формы. Иными словами,
совершенно ясно, что для автора «Слова...» в конце XII в. старославянские
элементы языка являются стилистическим средством. Следовательно,
нельзя так легко подряд выбрасывать все старославянские элементы из
«Слова...» как искажения, внесенные позднейшими переписчиками.
Русский язык совершенствовался с каждым веком: расширяется круг
лексики, все разнообразнее становятся стилистические средства. И
огромную роль здесь сыграло взаимодействие старославянского и
русского языков.
В богатстве образов «Слова о полку Игореве» надо выделять несколько
различных слоев. Множество совпадений с библейской символикой,
указанное литературоведами (особенно Перетцом1), сделало для всех
неоспоримым то положение, что автор «Слова...» был человеком широко
образованным. Лучшие образцы книжной риторики, книжной поэзии
Киевской Руси были ему хорошо известны, он мастерски владел — не
хуже митрополита Илариона или какого-нибудь византийского историка
204
— сложными приемами мудреной и отнюдь не общедоступной техники
построения образных периодов. Я приведу некоторые из них. «Высоко
плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя птицю
въ буйствѣ одолѣти» — тут образ сокола, который поднимается выше
всех птиц, выражен удвоением образа. А ведь можно было дать его один
раз, как это мы имеем в фольклоре. Здесь же какое обогащение образа,
какая игра этими двумя образованиями от одного корня: въ буести и въ
буйствѣ!
Антитеза, характерная для поэтического стиля, еще детально
расчленена: «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици
преградиша чрълеными щиты» — 'дети бесовы (т.е. по' См.: Перетц В. Н. «Слово о полку Игореве» и исторические библейские книги. — В кн.:
Сборник в честь акад. А. И. Соболевского. Сб. ОРЯС, 1928, т. 101, № 3; его же. «Слово о полку
Игореве» и древнеславянский перевод библейских книг. — «Изв. АН СССР. ОРЯС», 1930, т. 3,
кн. 1.
ловцы) рассекли поле своими дикими воплями, а храбрые русские
разными путями преграждают путь их бешеной атаке'. Во-первых,
русские молчат, ожидая эту лавину, а не вопят, как половцы; во-вторых,
они выставили как грозную твердыню свои сомкнутые красные щиты.
Какой глубоко продуманный контраст!
«На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалуж-ными,
на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла». Давно уже обращено
внимание на некоторую неожиданность таких земледельческих,
крестьянских образов в высокой дружинной поэзии — бой сравнивается
с молотьбой. Можно утверждать, что в этом сказалась связь с народной
поэзией, песней. Но автор «Слова о полку Игореве» простые образы
тоже мастерски преображает, осложняет. Посмотрите, как прозрачна
здесь
символика
образа.
Эти
символы
как
бы
тут
же
прокомментированы. В народной песне, кроме образа молотьбы, ничего
не было, а в «Слове...»: на Немизѣ снопы стелютъ — головами;
молотять — чепи харалужными, т.е. коваными цепами; на тоцѣ —
животъ кладутъ, т.е. жизнь свою кладут; вѣютъ — душу отъ тѣла. Это
уже не просто метафора, не просто образное выражение. Казалось бы,
воины делают такую же тяжкую работу, как земледельцы. Но все же
воины совсем непохожи на земледельцев. Здесь образ разрушается,
вскрывается глубокое несходство двух его компонентов, которое и
превращает параллелизм в противопоставление. Вполне отчетливо это
дано в следующей фразе того же абзаца: «Немизѣ кровави брезѣ не
бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми русскихъ сыновъ». Все это
205
несомненные показатели не начальной, а довольно поздней и высокой
культуры дружинного эпоса.
Другой ряд образов близок к поэтической структуре, можно сказать,
только на наш взгляд, на взгляд поздних потомков, а на самом деле
является почти реалистическим изображением событий. «Дружину
твою, княже, птиць крилы приодѣ, а звѣри кровь полиза-ша» ('дружина
твоя, князь, перебита, и стая хищных птиц укрыла ее своими крыльями, а
звери кровь полизали') — это реалистическое описание поля битвы
после разгрома. «Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло
кощиево» — тоже пример совершенно реалистического изображения
события, ибо археологическими материалами подтверждено, что
княжеские седла были богато украшены золотом. Пленный князь,
конечно, был лишен своего коня и был посажен в сѣдло кощиево, т. е.
седло обозного слуги.
Из того, что мы уже узнали, должно быть ясно, что лексика «Слова о
полку Игореве» не может считаться областью неразработанной. Но
вместе с тем необходимо признать, что методы анализа лексики, какие до
сих пор были применены, не могут считаться ни вполне правильными,
ни вполне удовлетворительными. Так как этот памятник чрезвычайно
краток, то относительно небольшой запас слов (всего около 3000) можно
было, конечно, за столь длинный период разработки текста изучить
чрезвычайно разносторонне. Если вы прочли книгу Обнорского, то
поняли, что до сих пор исследования ограничивались, с одной стороны,
морфологическим анализом, который, собственно, относится к
грамматике, а с другой — довольно узкими наблюдениями над составом
этой лексики со стороны ее происхождения, этимологического состава.
Может быть, в этом даже кто-нибудь склонен видеть преимущество или,
во всяком случае, достоинство нашей научной традиции, ибо
этимологический анализ, выводя слово за рамки памятника, тем самым
закладывает какие-то основы широкого исследования словаря русского
языка, безотносительно к какому бы то ни было литературному
произведению. Но такое этимологическое исследование, плодотворное
для понимания общих процессов развития языка, должно охватывать
возможно больше памятников известной эпохи и стремиться выявить в
этих памятниках их полную лексическую систему. Такой попытки никто,
однако, не сделал по отношению к нашей домонгольской литературе.
Даже если понимать эту задачу как подготовительную для того, чтобы
потом подвести итог рассмотрению лексической системы, то и с этой
стороны проведенная работа вызывает возражения.
206
Не вдаваясь в подробности, потому что это вопрос, на мой взгляд, не
первостепенный в изучении лексики, я остановлюсь на двух-трех
отрицательных примерах. Для защитников тезиса о независимости
древнейшего русского литературного языка от балканских и византийско-болгарских влияний естественно было некоторое увлечение
восточными элементами в словарном составе «Слова о полку Игореве».
Здесь мы имеем, например, такие сомнительные положения, как
признание слов ногата и резана (названия денежных единиц,
встречающиеся еще в «Русской правде», летописи и в некоторых других
источниках) терминами тюркского происхождения. Никакой тюркской
этимологии для этих слов не найдено. Единственным весьма зыбким и
слабым основанием для такого крайне сомнительного допущения
является то, что слово ногата встречено в «Сосіех
Ситапісш» — в средневековом тексте, содержащем несколько десятков
половецких слов. Если даже в скудных остатках языка гуннов (какихнибудь полтора десятка слов сохранилось), которые задолго до половцев
прошли, почти не задерживаясь, через южную часть нашей территории,
найдено несколько славянских слов, то тем более в языке половцев,
которые соседствовали, боролись, вели широкую торговлю, имели
всяческие длительные связи со славянами на протяжении столетий,
должно было быть, и несомненно было, немалое количество славянских
слов. Такими славянскими заимствованиями в языке половцев и были
ногата и резана, которые этимологически могут быть объяснены.
Ногатой назывались малоценные меха (мех, содранный с лапок зверя),
резаной назывались мелкие меховые обрезки, еще менее ценные. Слово
резана связано с тем же корнем, что в слове резать, как ногата — с
корнем слова нога.
Другой пример такой же неосторожной и неосновательной этимологии — слово къметь, которое объясняется как заимствованное из
лат. СОП1Є8, сотііік или греч. \орлітг|с,. Созвучие тут есть, хотя между
латинским сотек и греческим \оцг|ТГ|с, нет полного совпадения ни в
значении, ни в истории, так что сейчас даже не совсем ясно, одно ли это
слово, или два слова разного языкового состава и разного
происхождения. К нашему слову къметь они имеют, возможно, такое же
отношение, как французское 1'ёгё к русскому лето. Не говоря о том, что
слово къметь известно всем славянским языкам, оно известно и
балтийским языкам (ср. литов. кшпегів). Это один из древнейших
социальных терминов и, как большинство социальных терминов,
вероятно, восходит к племенному названию. Многочисленность значений
207
в разных языках и широта распространения в народных говорах, а не
только в старых текстах, позволяют нам утверждать, что это не
заимствованное, а местное древнейшее слово. Эти одиночные примеры
показывают, что направление разработки «заимствованных» слов было
не совсем правильно и давало результаты если не ошибочные, то во
всяком случае весьма сомнительные.
В последнее время, с легкой руки проф. М. Н. Петерсона, у нас стали
заниматься статистической лексикологией — новый аспект в русской
науке. Может быть, и небезынтересно знать, что в памятнике всего 2875
слов. Но прежде всего я должен сказать, что этот результат весьма
сомнительный, потому что он получен при подсчете слов в издании
Мусина-Пушкина, а, как нам известно, в этом издании деление текста на
слова во многих случаях весьма спорно. Кроме того, полуторастолетняя
разработка памятника позволяет теперь видеть в тексте «Слова о полку
Игореве» вставки, искажения, перестановки и утраты. Значит, этот
подсчет весьма мало чего стоит. С таким же успехом можно было бы на
основе подсчета, скажем, числа букв на одном листе пергамена
(например, какой-нибудь грамоты XII—XIII вв.) говорить о числе звуков
древнерусского языка.
Так же неправомерно на основании простого подсчета слов в не
совсем надежном издании устанавливать словарный запас, который
можно относить к древнему периоду. Подсчеты идут и дальше. Например, существительных в памятнике 380, прилагательных 145, глаголов
298, наречий 34. Это опять-таки недостаточно показательно в рамках
такого малого, столь своеобразного, отнюдь не среднего и не типичного
памятника, каким является «Слово...». Результаты подсчета не годятся ни
для того, чтобы составить себе понятие об удельном весе отдельных
лексических групп в общем русском языке того времени, ни для
характеристики памятника в стилистическом плане. Здесь нужна куда
более дробная классификация лексических элементов, чем по частям
речи.
Наконец, в работах акад. В. В. Виноградова и Обнорского предлагается
уже предметно-тематическая классификация лексики. Ими выделена
военная лексика, перечислены названия предметов вооружения и
некоторые специальные обозначения из области военного искусства.
Затем приведены термины охотничьи, которых, оказывается, очень
немного, но все же несколько больше, чем, скажем, в летописи, ближе
всего стоящей по содержанию к «Слову о полку Игореве». После того как
выделены эти наиболее бросающиеся в глаза лексические группы,
208
остаются еще слова, связанные с обозначением явлений природы, и
слова, относящиеся к быту в самом широком понимании. Наконец,
последняя группа — слова церковные — сразу же привлекает внимание к
вопросу о соотношении в языке памятника лексики русской и
старославянской. Исследователи решают этот вопрос по-разному. Так
как кое-что об этом было сказано раньше, я не буду возвращаться к
обзору старых работ, а остановлюсь только на взглядах Обнорского.
В главе, посвященной лексике, как я уже отмечал, Обнорский сперва
пользуется шахматовскими критериями для выделения главным образом
фонетических
и
в
меньшей
мере
морфологических
церковнославянизмов. Затем, имея таких предшественников в этом
направлении, как Якубинский и Виноградов, Обнорский говорит о
стилистическом использовании славянизмов, о том, что они противопоставляются русским словам в тех случаях, когда мы имеем парные
дублеты типа полногласных и неполногласных форм. Такое положение
обязывает признать в языке памятника немалую долю старославянской
лексики. Но в заключительном разделе работы мы находим уже
знакомый вывод: старославянский слой надо признать, если не целиком,
то в подавляющем большинстве, вторичным, наносным, результатом
редактирования в период «второго южнославянского влияния».
Такое положение представляется довольно убедительным по отношению к фонетическим элементам языка памятника. Можно согласиться с Обнорским, например, в том, что форма междю не могла
быть отнесена к первичному тексту, потому что старославянская форма
звучит между, а древнерусская — межю, и, по-видимому, междю
является контаминацией (т. е. средне-пропорциональным из этих двух
форм), внесенной сторонниками старославянского облика языка при
переписке текста, или что наличие формы порожено позволяет
восстанавливать порождено, что Дажьбожь употреблено вместо
Даждьбожь, а нужа вместо нужда. Но здесь суть дела не в лексике, а в
фонетике. Там же, где мы имеем подлинно лексическое
противопоставление, т.е. разные слова — одно славянское, а другое
русское (скажем, крамола, а рядом с ним котора; слово котора всеми
признается за русское — 'распря, раздор', а крамола — за старославянское), — там вопрос уже не решается так просто, как в случаях с
междю или порождено. Якубинский и тут последователен, как и в
реконструкции фонетического облика слова. Он говорит, что крамола —
это замена старого котора 1. Но показательно, что в этом случае
209
Обнорский за Якубинским не последовал и, перечисляя в «Слове о полку
Игореве» синонимы, поставил крамола рядом с котора, признавая, что
автор памятника употреблял оба лексических эквивалента. Значит,
нельзя видеть позднейшие замены во всех случаях, когда в «Слове...»
встречаются лексические старославянизмы. Только имея очень веские
основания, можно отвергать то Или иное слово как старославянизм. И
такие критерии в ходе раз' См.: Якубинский Л. П. История древнерусского языка, с. 324-325. Б. А. Ларину эта работа
была известна задолго до ее опубликования. Прим. ред.
работки памятника уже давно найдены, надо их только применять
последовательно и до конца.
Главным из этих оснований являются многочисленные повторения
отдельных пассажей из «Слова о полку Игореве», сравнений, изречений,
оборотов в позднейших памятниках. Эти цитаты из «Слова...» позволяют
нам часто видеть более древнее состояние текста, чем то, которое дано в
издании
Мусина-Пушкина.
Реконструкцию
надо
начинать
с
сопоставления текста памятника с записью псковского «Апостола» (1307),
которая известна со времен Карамзина и неоднократно использовалась
при комментировании «Слова...». В издании 1800 г. мы имеем
скратишась, а в «Апостоле» — скоро-тишася, и эту форму можем
относить к первоначальному тексту «Слова...». Самым правдоподобным
представляется предположение, что перед копиистом лежал более
древний список, где читалось ско-ротишася. Что касается замены
выражения жизнь Дажьбожа внука выражением жизнь наша в
псковском «Апостоле», то это надо рассматривать как применение
данной цитаты к своему времени, т. е. началу XIV в., а не как порчу
текста. Опираясь на такие сопоставления, можно уверенно воссоздать
более древний облик «Слова...». Сравнение с «Задонщиной», с текстом
сказаний о Мамаевом побоище (о Дмитрии Донском) точно так же дает
нам очень ценный материал для реконструкции более древнего вида
текста «Слова...».
Много споров и сомнений вызвало такое место: «Игорь къ Дону вой
ведетъ! Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию». Начало этой цитаты
было ясно, затруднение вызывало выражение бѣды его пасетъ птиць по
дубию: непонятно было, с чем связана форма слова бѣды, не совсем ясны
были формы птиць и по дубию. Долго считали это непонятное место
испорченным. Затем исследователи стали предлагать всевозможные
210
поправки. Одна из очень реальных поправок — это исправление в
издании 1800 г. подобию на по дубию. Вторая поправка — в слове
птиць стали видеть проявление новгородского «цоканья», замену
первичного птичь, которое считали собирательным существительным
(такого же словообразовательного типа, как нечисть, заваль и под.).
Тогда получался такой смысл: 'стаи птиц следуют за войском,
подстерегают (т. е. ждут) его беды (поражения), рассевшись по дубраве'.
Позже нашли текст, где слово дубие означало 'поросль, кустарник', и
тогда дали перевод 'по кустам' (вместо 'по дубравам'), потому что в
степях половецких никаких дубрав в то время уже не было. Как будто
дело обстояло довольно благополучно. Но когда стали пристально
изучать текст сказаний о Куликовской битве, то там встретилось а уже бо
бѣды их пасоша птицы крылати подъ облакъ и добавлено: летять. Отбросив последнее слово, мы имеем полное совпадение с текстом «Слова о
полку Игореве», но вместо подобию (по дубию) «Сказание о Дмитрии
Донском» дает чтение подъ облакъ.
Хотелось бы понять, как это могло произойти. Нередко в рукописях
XVI в. встречается надстрочное написание слога кы (к). Если мы
предположим, что в списке, предшествующем тому, на основе которого в
1800 г. издан текст, имелось это надстрочное кы или к, то под обла с
утратой кы в последующих списках и могло послужить основанием для
чтения подобию. Сохранение чтения по дубию вызывает серьезные
возражения натуралистов, указывающих, что в половецких степях в XII в.
дубрав не было. Если даже признать, что по дубию могло означать 'по
кустам', то и в этом случае чтение остается сомнительным, потому что
отрывок, который здесь процитирован, относится к описанию похода
Игоря по голой степи, и птицы преследовали войско Игоря, его обоз,
носясь под облаками и ожидая поживы после боя. Описание следования
птичьих стай за большими отрядами войск в Древней Руси мы встречаем
и в других памятниках, правдоподобность такой картины никаких
сомнений не вызывает. Поэтому правильнее будет и здесь отвергнуть
исправление подобию на по дубию и принять за основу чтение,
известное нам из «Сказания о Дмитрии Донском» и из «Задонщины», —
под облакы.
Еще один пример поправки на основе сопоставления с «Молением»
Даниила Заточника, памятником более поздним, чем «Слово о полку
Игореве». Памятники эти близки, и поэтому совпадения в текстах, хотя и
очень небольшие, драгоценны для нас и должны быть использованы для
реконструкции текста «Слова...». В «Молении» Даниила Заточника (по
211
списку Срезневского, цитируемому Буслаевым1, читаем: «повѣдаху ми,
яко той ести судъ Божий надъ мною и суда де Божия ни хитру уму, ни
горазну не минути». А в «Слове...»: «тому вѣщей Боянъ и пръвое
припѣвку, смысленый, рече: Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду
суда божиа не минути».
Если мы отбросим вводные слова, то что совпадает в этих двух
Цитатах? Ни хитру уму, ни горазну не минути в «Молении» — ни
хытру, ни горазду (ни птицю горазду) суда Божиа не минути в
1
См.: Буслаев Ф. И. Русская народная поэзия. Спб., 1861.
«Слове о полку Игореве». Сопоставляя эти фразы, мы имеем основание
считать слова ни птицю горазду позднейшим добавлением, потому что
именно этого нет в «Молении» Даниила Заточника. Помимо этих
добавочных слов за то, что здесь перед нами позднейшая вставка, говорит
нарушение ритма, которое вносит эта вставка, ослабляющая пословицу
излишним повторением. Ни о какой птице в предыдущем тексте речь не
шла, значит, птица появляется здесь совершенно неожиданно. Те, кто
считает недопустимым сколько-нибудь решительные и смелые
изменения в тексте «Слова...», пытаются спасти эту фразу
исправлениями. Проф. Е. В. Аничков, например, предложил вместо ни
птицю горазду читать ни пътицю, ни звѣрю, ни гаду1. Это довольно
существенно исправляет смысл пословицы. В таком виде ее можно было
бы.принять, но здесь слишком большое исправление текста. Я предпочел
бы на основании сопоставления с «Молением» Даниила Заточника
исключить эти слова из «Слова...» именно как позднейшую вставку,
интерполяцию.
Есть еще и другие совпадения в текстах «Слова о полку Игореве» и
«Моления» Даниила Заточника. Но полного обзора этих совпадений и
возможных на этой основе исправлений текста «Слова...» я не могу
делать, так как это заняло бы слишком много места. К словарным
совпадениям текстов двух памятников я еще вернусь.
Кроме «Моления» Даниила Заточника некоторые отголоски «Слова о
полку Игореве» обнаружены в летописных текстах и в «Повести об
Азовском осадном сидении донских казаков». И одна из важнейших
задач филологов, работающих над реконструкцией текста «Слова...»,—
тщательно изучить все случаи использования текста памятника в русской
литературе и на этой основе очистить, освободить текст известного нам
списка от всех позднейших искажений и добавлений.
Что же предстоит еще сделать лингвистам, какие задачи можно
поставить в области разработки лексики «Слова о полку Игореве»?
212
1
См.: Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. Спб., 1914, с. 330.
Прежде всего составление полного, обстоятельного толкового словаря.
Нельзя полагаться на то, что весь текст — худо ли, хорошо ли — уже
объяснен в разных изданиях переводчиками и комментаторами, нельзя
оставаться
«нахлебниками»
историков,
литературоведов
или
специалистов по материальной культуре Древней Руси, по исторической
географии и т.д. Выработка научно достоверного и возможно полного
понимания «Слова...» требует деятельного участия лингвистов.
Отсутствие такого словаря сказывается весьма печально и на изучении
текста студентами. На экзаменах выпускникам неоднократно
предлагались тексты из «Слова о полку Игореве», из «Повести временных
лет», и всякий раз такие вопросы становились катастрофическими для
студентов. Скажем, фразу из летописи уже намъ еде пасти студент
переводит 'отдохнем здесь, попасем коней'. Другой студент долго не мог
перевести чи ли въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесовь внуче. Мы
спросили, что его затрудняет, оказывается, непонятно чи ли; подсказали,
что чи ли — союз. Он сразу же перевел: 'союз воспеть надо было...' и т.д.
Сейчас это смешно, а на госэкзаменах было довольно трагично, потому
что одно из двух: либо надо лишать студента возможности продолжать
сдачу экзамена, либо делать вид, что не слышишь ответа.
Не так легко предупредить ошибки в переводе и у профессионалов,
переводчиков и комментаторов. Писатель А. К. Югов, сделавший целый
ряд новаторских предложений, изменяющих традиционное понимание
текста, допустил несколько недоразумений в толковании «Слова о полку
Игореве». Скажем, слова Карна и Жля в том месте «Слова...», где
описываются горькие последствия разгрома Игоревой рати, он объясняет
как имена половецких ханов, т.е. точно так же, как понимал это место
Мусин-Пушкин1. Только недостаточным знакомством с богатейшей
литературой по истолкованию текста «Слова...» можно объяснить такие
грубые ошибки.
Досадные ошибки в словарных объяснениях можно найти и в
хрестоматиях по древней литературе, например, в хрестоматии Гудзия и
даже в издании «Слова о полку Игореве» в серии «Библиотека поэта»
(1949), хотя оно выгодно отличается от предшествующих высоким
филологическим уровнем. Но нельзя остановиться на первой ступени
работы, на том, чтобы только более подробно истолковать основные
значения большинства слов памятника, — надо идти дальше. В
последующих исследованиях, мне представляется, мы Должны показать
лексическое богатство нашего памятника в перспективе исторического
1
См.: Слово о полку Игореве. Пер. и комм. А. Югова. М., 1945, с. 71.
213
развития русского словаря как отражения сменяющихся идеологий и
мировоззрений. В разработке лексики
«Слова...» следует выделить, по крайней мере, четыре аспекта: а) показать
то, что было достоянием общего языка не только феодальной верхушки,
но и широких народных масс; б) показать — что уже в значительной мере
сделано — специфические черты языка, характеризующие «Слово...» как
героическую поэму, возникшую в среде княжеской дружины; в) выделить
и оттенить всеми имеющимися в нашем распоряжении способами тот
пережиточный, глубоко архаический слой лексики, который связан, с
одной стороны, с традициями и формулами дружинной поэзии, а с
другой — с традициями и формулами народной песни, пословицы,
прибаутки, и наконец, с элементами религиозных воззрений славян
дохристианского периода; г) показать наиболее интересные, неологизмы
в «Слове...», то, что является языковым творчеством автора, то, что
противостояло средней языковой норме, общему словоупотреблению.
Мы имеем уже немалый подготовительный материал для того, чтобы
произвести такое расслоение лексики в исторической перспективе.
Наиболее общепонятный, общеизвестный слой лексики «Слова о полку
Игореве» вскрыт теми комментаторами, которые подобрали огромное
количество словарных параллелей из былин, украинских дум,
лирических народных песен (русских, белорусских, украинских), а также
теми комментаторами, которые привели множество сопоставлений из
письменной литературы. Богатейший материал по использованию
лексики «Слова...» в старых письменных памятниках, в народном
творчестве или просто в диалектах и дает опору для суждений об
общепонятном основном запасе слов нашего текста.
Я, кстати, упомяну здесь, что уже несколько раз лингвисты-диалектологи пытались «прикрепить» «Слово о полку Игореве» к какой-то
узкой диалектной среде, к одному населенному пункту. Еще сравнительно недавно проф. П. А. Расторгуев и чл.-корр. АН СССР В. И.
Чернышев (Чернышев в неопубликованной работе, а Расторгуев в
диссертации1) утверждали, что лексика «Слова...» в значительном числе
случаев поразительно совпадает с говорами древней Север-ской земли в
ее северо-западной части, около Трубчевска-Старо-дуба. Аналогичные
выводы были сделаны украинскими диалектологами, которые
утверждали, что говоры Закарпатской Руси имеют большое количество
словарных совпадений с «Словом...», и это будто свидетельствует о том,
что «Слово...» сложилось в Галицкой, а не в Черниговской Руси. И в том и
1
См.: Расторгуев П. А. Северско-белорусский говор. Л., 1927.
214
в другом случае выводы из сравнительно неширокого круга лексических
сопоставлений сделаны чрезмерными потому их никто и никогда не
поддерживал и не поддерживает. Но существенно, что время от времени
в том или другом говоре обнаруживаются все новые и новые совпадения
с лексикой «Слова...». Это не случайно и позволяет утверждать, что
основной запас слов памятника (по крайней мере половина, 1500 слов) —
достояние различных русских говоров XII в. Надо прибавить к этому, что
наиболее многочисленные параллели к лексике «Слова...» из народных
говоров мы находим в реалистических местах памятника. Для
иллюстрации этого положения остановлюсь на некоторых фразах из
плача Ярославны. Часто говорят, что это самая лирическая часть
«Слова...», в наибольшей мере отражающая народные поэтические
традиции.
Если мы проанализируем ряд словосочетаний, скажем, «омочю
бебрянъ рукавъ в Каялѣ рѣцѣ», то должны будем признать, что здесь
каждое слово имеет неоспоримые широкие соответствия — или в
памятниках древней письменности, или в народной речи. Может вызвать
сомнение только бебрянъ, но нельзя сомневаться что эта форма в XII в.
была живой, во всяком случае в Киевской Руси.
«Утру князю кровавыя его раны» — опять-таки ни одно из слов не
вызывает сомнений, это слова общего языка.
«В полѣ безводнѣ жаждою имь лучи съпряже, тугою имъ тули затче»
— здесь можно видеть некоторые отступления от обычной разговорной
фразеологии в неожиданном сочетании тугою имъ тули затче в
смысловом плане (т.е. 'колчаны были забиты, заткнуты тоской'), как и
жаждою имъ лучи съпряже — 'луки их были согнуты, стянуты жаждою'.
Образы эти, несомненно, выходят из обычного словоупотребления,
поднимаются над ним, как неологизмы, но каждое из слов само по себе
широко употреблялось в древней письменности и не вызывает сомнений.
«Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ, стязи
глаголютъ; половци йдуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ
Рускыя плъкы оступиша» — 'земля гудит, реки замутились, тучи пыли
прикрывают поля, знамена полощутся по ветру, половцы наступают с
Дона и от моря и со всех сторон окружают русские войска'. Эту картину
можно смело назвать реалистическим описанием начала боя.
Я мог бы продолжать примеры еще и еще, ибо не менее чем две трети
слов, причем не в отдельных звеньях, а подряд, фраза за фразой, период
за периодом, относятся к лексике самого широкого употребления.
215
Поэтому у нас не вызывают сомнений попытки реального истолкования
почти всего текста не как поэтического, а как реалистического
повествования о походе. В этой связи я и остановлюсь на толковании
некоторых выражений в «Слове о полку Нгоре-ве», которое дал
известный зоолог проф. Н. В. Шарлемань1. Особый интерес представляют
такие случаи, когда комментарии зоолога оказались для всех
неоспоримыми и доказательными в смысле разрушения легенды о
поэтичности языка «Слова...».
Скажем, говоръ галичь убуди — эту фразу не раз характеризовали
как смелое творческое применение слова говоръ к крику птиц.
Шарлемань пишет, что орнитологи давно отметили в крике галок
исключительное обилие гласных, напоминающих гласные человеческой
речи. Они в значительной мере лишены шума, и поэтому сопоставление
крика галок с речью обычно для естественников.
В описании бегства Игоря есть такие слова: стрежаше его гого-лемъ
на водѣ. Попробуем истолковать это выражение. Гоголь — название
одной из пород диких уток, которые водятся в степях на нашем юговостоке. Эта птица отличается исключительной боязливостью и
чуткостью по отношению к человеку. Поэтому стрежаше его гоголемъ
на водѣ значило, что по поведению уток на воде Игорь узнавал о
приближении погони и принимал свои меры — скрывался в воде или в
прибрежных кустах.
Выражение дятлове тектомъ путь к рѣцѣ кажуть объясняется тем,
что в XII в. в безлесных половецких степях дятлы могли обитать только в
балках и ложбинах рек, где еще сохранились остатки леса, эти балки не
были видны с далекого расстояния, и только человек с чутким слухом мог
узнать о близости реки, балки, ложбины по стуку дятла. Так что и в этом
надо видеть не столько свежий поэтический образ, сколько отражение
точного знания всех природных условий половецкой степи, большого
опыта в степных походах, когда вопрос о воде является вопросом жизни.
Телеги половцев, убегающих от Игоревых войск, скрипят, рци лебеди
роспущени (исправляем, вслед за большинством комментаторов:
роспужени). Это место давно привлекало к себе внимание, и здесь
1
См.: Шарлемань Н. В. Из реального комментария к «Слову о полку Игореве». — ТОРДЛ,
1948, т. 6.
Шарлемань дает такое объяснение: на севере водятся лебеди-кликуны;
весной они перелетают с юга на север, а осенью — с севера на юг. Так как
поход Игоря происходит весной, то здесь речь идет о больших стаях
лебедей-кликунов, перелетающих на север. Шарлемань пишет, что когда
216
лебеди темными ночами совершают перелет, невозможно уснуть от их
крика. Так что здесь опять-таки есть реальное воспоминание о
слышанном не один раз ночном шуме. Что касается скрипа телег, то надо
помнить, что повозки степняков, как это достоверно установлено,
передвигались на сплошных деревянных дисках, посаженных на оси и
лишенных всякой смазки.
«По Руской земли простроимся половцы, акы пардуже гнѣздо» — это
место также вызывало очень разные толкования: гнездо рысей, гнездо
леопардов и др. Но Шарлемань дает точное объяснение. Слово пардуже
в текстах встречается неоднократно и называет гепардов, которые были
широко известны в Древней Руси; так как кавказские, русские, тюркские
князья и половецкие ханы любили охотиться с гепардами (как теперь с
собаками), повадки их были феодалам хорошо известны. И вот одной из
характерных особенностей гепардов является то, что они выходят на
охоту выводками, «гнездами» (другие же хищники подобного рода
охотятся в одиночку, изредка парами). Так что пардуже гнѣздо отнюдь
не поэтическая метафора, а выражение, показывающее точное знание
законов животного мира.
В свете такого просмотра текста, давшего весьма существенные
результаты, мы, конечно, примем и реальные комментарии в области
топономастики, предложенные специалистами по исторической
географии. У Гудзия и других исследователей встречающееся несколько
раз в «Слове о полку Игореве» название реки Каялы объясняется как
поэтическое, а вовсе не реальное, подлинное название; никакая река так
никогда не называлась, и автор «Слова...» придумал это название,
обозначающее окаянную, ненавистную реку. А специалисты по
исторической географии, хотя и расходятся во мнениях, считают Каялы
точным названием одной из рек Донецкого бассейна (Каялы по-тюркски
значит 'река со скалистыми берегами'). Такой рекой, как доказывает один
из лучших комментаторов «Слова...» с точки зрения исторической
географии К. В. Кудряшов, была река, которую теперь называют
Макатихой1. В том, что раньше ее называли половецким именем Каялы,
не приходится сомневаться, так как земли по всему ее течению на
1
См.: Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948, с. 73.
протяжении едва ли не полутысячелетия находились во владениях
различных тюркских народностей. Такое же понимание как метафоры
или смелого полета поэтической фантазии вызывало выражение
217
Ипатьевской летописи в морѣ истопоша, примененное к бежавшим с
поля битвы ковуям в рассказе о походе Игоря.
В описании первой победы Игоря мы читаем: «Съ зарания въ пя-токъ
потопташа поганыя плъкы Половецкыя, и рассушясь стрѣлами по полю,
помчаша красныя дѣвкы половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и
драгыя оксамиты. Орьтъмами, и япончицами и кожухы начашя мосты
мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и вся-кыми узорочьи
половѣцкыми». В этом описании видели искусное изображение
торжества победителей, их пренебрежения к богатству: возвращаясь
после ограбления половецкого обоза, они швыряют в грязь часть
награбленного добра. Но сейчас историки толкуют это иначе. Отступая
после разгрома половецкого табора перед превосходящими силами
половцев, русские были сбиты с лучшего сухого пути обошедшими их с
фланга половецкими отрядами и вынуждены были пробиваться на север
топкими, болотистыми низинами. Чтобы не потопить коней и не
увязнуть, они разбрасывали кожухи, накидки, плащи и проходили по
ним, как по мосту. Таким образом, здесь можно видеть не проявление
ликования победителей и их презрения к богатой добыче, а изображение
хода боевых операций, которое сделано хорошим знатоком военного
дела или участником похода.
Наряду с такими реалистическими чертами, отчетливо указывающими на социальную среду автора, мы встречаем немало языковых
элементов, отражающих какие-то глубоко архаические воззрения,
сохранившиеся в его время. Рассмотрим несколько примеров. Вот всем
хорошо известное описание дружины курского князя Всеволода: «А мои
ти куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы
възлѣлѣяни, конець копия въскръмлени». Это трудно признать реальным
отражением современного автору войскового быта. Но следующая часть
описания — пути имь вѣдоми, яругы имь знаеми — точными словами
характеризует войско, исключительное по боевому опыту и военному
мастерству. Об этом же говорится и в конце описания: луци у нихъ
напряжени, тули отворени, сабли изъострени — 'луки у них
натянуты, колчаны открыты, сабли наточены'. Этим, пожалуй, и
ограничиваются реальные черты в описании дружины Всеволода.
Слова подъ трубами повити, подъ шеломы възлѣлѣяни, ко-нець
копия въскръмлени считали поэтическими образами. Но еще Буслаев
указал, что мы имеем формулу, которая применяется в дружинном
эпосе многих народов, а не только в «Слове о полку Игореве»1. Здесь надо
218
видеть отражение древнего мировоззрения, эпохи магического
миросозерцания, ибо все три формулы не что иное, как языковое
воспроизведение древних обрядов посвящения и воспитания воинов.
Что касается концовки сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, то
сопоставление с волком в поле, конечно, не досужая игра воображения
поэта, а связано, как показывают исследования в области мифологии, с
древним обожествлением волка в эпоху тотемных верований (волк был
тотемом племени). Вспомните и другие места в «Слове...»: «скочы
влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ или тогда Влуръ влъкомъ потече». Здесь
перед нами отражение чрезвычайно древнего воззрения на тесную связь
человека и зверя. Вопрос только в том, в какой мере это было еще
действенным, живым для автора, а в какой мере — только поэтической
или, вернее, традиционной формулой дружинной поэзии.
Но дошел ли Игорь до берегов Черного или Азовского моря?
Наименее вероятно, что дошел (хотя Карамзин и допускал это1, но сейчас
никто так не думает). Проследив описание похода по летописным
источникам, Кудряшов установил, что дружины князей киевской эпохи
не делали суточных переходов более 40 километров2. Тогда получается,
что местом встречи Игоря с половцами была центральная часть донской
области, далеко от Черного или Азовского моря. Но Кудряшов
утверждает, ссылаясь на источники ХѴІ-ХѴИ вв. и некоторые областные
словари, что морем называли большие болота, озера и разлив рек во
время весеннего половодья. Так как поход происходил весной, как раз в
пору разлива рек, то недалеко от места последнего сражения русских с
половцами и находилось такое «море» — при слиянии трех рек: Голой
Долины, Тора и Макатихи. Следовательно, в морѣ истопоша —
сообщение о гибели кавалерии ковуев в этом «Донецком море», так как
путь посуху был им отрезан половцами. Все это я привожу к тому, чтобы
' См : Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 3. Спб., 1833, с. 62-63.
2
См.: Кудряшов К. В. Половецкая степь, с. 71.
показать, что к языку «Слова о полку Игореве» мы должны отнестись как
к драгоценному источнику лексических богатств народного языка, где
поэтические элементы, т. е. собственно авторские орнаментальные
элементы, составляют очень небольшую долю.
Обратимся теперь ко второй категории лексических элементов
«Слова о полку Игореве», которую можно считать отражением специфического дружинного языка. Киевский князь Святослав в так
219
называемом «Золотом слове», обращаясь к Игорю и Всеволоду, героям
похода, говорит: «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!» Наиболее
известное значение слова сыновець — 'племянник', а между тем Игорь и
Всеволод были его двоюродными братьями. В другом месте сказано:
«Игорь и Всеволод уже лжу убудиста которою, ту бяше успилъ отецъ их
Святъславь грозный великый киевскый грозою». В старую пору это
вызывало всякие предположения, даже такое, что речь, может быть, идет
о каком-нибудь другом Святославе. (Мазон мог видеть в этом
доказательство подделки, невежества автора.) Как объяснили историки,
суть дела в том, что весь ритуал феодальных отношений требовал, чтобы
князь, занимавший киевский престол, назывался отцом всех остальных
князей, независимо от степени или вида их родства. Поэтому для
Святослава Киевского все князья были сыновци. Это отражение
специфически дружинного словоупотребления; так никогда не сказал бы
человек из народа или представитель духовенства, так говорили только
феодалы между собой.
Теперь рассмотрим категорию эпитетов, которыми «Слово о полку
Игореве» так богато, посмотрим, к каким словам применен, например,
эпитет златыи, златъ: отня злата стола — 'отцовского золотого
престола', зпатымъ шеломомъ, въ златъ стремень, ту Игорь князь
высѣдѣ изъ сѣдла злата и т. д. Из этого перечня совершенно ясно, что
везде эпитет златыи, златъ сопровождает узкий круг феодальных
понятий: престол, седло, шлем, стремя и др. Другой случай: «Единъ же
изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие» —
постоянно говорили о том, что это бесспорный поэтический образ.
Однако археологи не так давно выяснили, что золотое кольцо на шее
носили князья как знак достоинства, внешний признак их положения.
Приведенная цитата означает только то, что речь идет о гибели князя, а
не простого дружинника или ратника.
Остановлюсь еще на двух-трех образах. «Хощу бо, рече, копие
приломити конець поля Половецкаго». Стоит задуматься над тем, что
значит это выражение. Зачем князю ломать копье в самом конце поля
половецкого? Чтобы понять это выражение, приведем текст из
Лаврентьевской летописи (1151): «Андрѣи... ѣха напередъ, и съѣхася
преже всѣх и изломи копье свое» — 'князь выехал вперед, перед фронтом
войска, и сломал свое копье'. Зачем ломать копье перед началом боя? Как
же князь будет биться, если он сломал свое копье? Какой смысл в этом? С
нашей точки зрения, это нелепость. Но опять-таки широкие параллели в
разных источниках позволили истолковать это место до конца. Это
220
магический заклинательный обряд. Ломая копье над своей головой (а
князь ведь глава всего войска), князь совершает заклинание, смысл
которого может быть раскрыт примерно в такой формуле: «вот так, как
сломилось это копье, не причинив мне вреда, пусть сломятся все вражьи
копья». Так что и здесь мы имеем не поэтический образ, а сохранение
древней магической формулы, примененной в условном значении: князь
начал бой по издревле установленному ритуалу, и в этом— доброе
предзнаменование.
Вопрос о языке «Слова о полку Игореве» был и остается самым
трудным в истории русского языка. Лингвисты ряда поколений
проделали огромную черновую работу по отнесению текста к определенной территории, по очищению его от искажений, внесенных в ХІѴХѴІ и XVIII вв. Литературоведы и историки разгадали многие «темные
места». Лингвисты, главным образом диалектологи, подобрали
параллели из народных говоров, из народной поэзии, позволяющие
понять прямой смысл текста, показали органическую связь «Слова...» с
народным языком и поэзией.
Приведя ряд примеров, я старался доказать неосновательность
взгляда на «Слово о полку Игореве» как на памятник торжественной,
«приподнятой» поэтичности, книжности, как на памятник, отражающий
влияние зарубежной, например, византийской, скандинавской или
восточной, тюркской поэзии. Элементы изысканной поэтики, элементы
многовековой культуры, высокие традиции, безусловно, есть в
памятнике, но не они являются решающими, основой является народная
поэтика, народные песни. Связь с народной поэтикой, летописью и
воинскими повестями свидетельствует о глубоко народных корнях
«Слова...».
Существенным отличием народной поэтики от книжной является
большая ее реалистичность. К раскрытию этой особенности и были
направлены все мои усилия в толковании многих мест Реалистическая
точность изложения событий, описаний природы, быта и т.д.
подтверждается исследованиями историческими, географическими,
натуралистическими и др. Например, фразы «О моя сынов-чя, Игорю и
Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвътшти, а себѣ
славы искати; ... ту кроваваго вина не доста» можно назвать поэтическим
описанием боя, однако оно не совпадает с описаниями боя в нашей
переводной литературе.
Ближайшей задачей исследования языка «Слова о полку Игореве»
является изучение лексики, ее семантического богатства. Для толкования
221
слов недостаточно подобрать параллели к «Слову...» из памятников
литературы
домонгольского
периода,
необходимо
привлекать
пояснительные материалы из народных говоров, из других славянских и
иных языков. Значение «Слова...» в истории русского языка заключается в
том, что оно в своем малом объеме содержит богатый запас речевых
средств оригинального народного языка, не искаженного чужим
воздействием. По самобытности языка и речевой выразительности ни
один памятник не может идти в сравнение со «Словом...». «Русская
правда» ограничена своей тематикой, относительно небольшим запасом
слов, связанных со специальным содержанием этого юридического
памятника. По разнообразию языковых средств ближе всего к «Слову...»
стоит «Моление» Даниила Заточника1.
«Моление» Даниила Заточника
Можно ли изучать язык разных памятников — хотя бы даже киевской
поры — по одной схеме? Рассмотрим вопрос более основательно, это
необходимо для дальнейшего изучения материала.
1
За последние двадцать с лишним лет в печати появились новые издания «Слова о полку
Игореве», переводы памятника на современный русский язык, исследования о языке и стиле
произведения (см.: «Слово о полку Игореве». Библиография изданий переводов и
исследований 1938-1954 гг. М. — Л., 1955). Наибольший научный интерес представляют
следующие издания: Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». М—
Л., 1960; «Слово о полку Игореве» — памятник XII в. М. — Л., 1962; «Слово о полку Игореве» и
памятники Куликовского цикла. М. —Л., 1966; Слово о полку Игореве. Вступ, статья Д. С.
Лихачева. Примеч. О. В. Творогова и Л. А. Дмитриева. Л., 1967; Адрианова-Перетц В. П.
«Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968. См.также
издаваемый Институтом русской литературы АН СССР (Пушкинским домом) «Словарьспра-справочник «Слова о полку Игореве». Сост. В. Л. Виноградова, вып. 1-6. М. — Л., 19651984; в первом выпуске дан текст «Слова о полку Игореве», выработанный при
непосредственном участии Б. А. Ларина. Прим. ред.
«Русская правда» известна в громадном количестве списков с XIII в. и
вплоть до XVIII в. Текст «Русской правды» московской эпохи лингвистов
интересовать не может. Лингвист найдет для характеристики языка
московской эпохи более подходящие юридические памятники
(«Судебник» Ивана III, «Судебник» Ивана Грозного «Уложение» Алексея
Михайловича и др.). Язык законодательства этого периода следует
изучать по этим кодексам, а не по «Русской правде» в поздних списках.
Для нас наибольший интерес в языке «Русской правды» представляют те
элементы, крупицы, которые дают основание судить о языке
дописьменной эпохи.
222
Допустимо ли так же изучать язык «Слова о полку Игореве»? Конечно, можно попытаться в языке «Слова...» выделить черты языка
дописьменной эпохи, поскольку оно создано на основе традиций устной
поэзии, воинских повестей и пр. Но не это является важнейшей задачей
при его изучении. «Слово...» интересно само по себе, для характеристики
языка XII в., а не для реконструирования с его помощью языка
древнейшего, дописьменного.
«Моление» Даниила Заточника связано с богатой традицией различных сборников моральных, политических, религиозных сентенций,
афоризмов, пословиц и поговорок. Есть ли конкуренты у «Моления» в
литературе XV-XVI вв.? Почти нет литературных произведений такого
характера — публицистических, обличительных, сатирических, в
известной части повествовательных и лирических. Язык «Моления»
Даниила Заточника ценен для нас во всех редакциях, на всех этапах
развития этого текста. Переделки его всегда были злободневны, а язык их
отражал язык времени этих переделок. «Моление» интересно не только
для изучения языка XII в., но и как источник для характеристики языка
последующих эпох (на основе изучения позднейших редакций). Если
«Русскую правду» и «Слово о полку Игореве» мы изучаем в
ретроспективных целях, то «Моление» — для познания истории
литературного языка конца киевской эпохи.
О происхождении памятника, о времени и месте его возникновения
существует большая литература, но нет окончательного, прочно
обоснованного мнения. Памятник этот был хорошо филологически
обработан Н. Н. Зарубиным1. Он собрал все известные в то время
пятнадцать списков, расположил их, во-первых, по двум редакциям (XII
' См.: Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам.
Л., 1932.
и XIII вв.), во-вторых, дал переработки каждой из этих редакций и еще
дополнительные очень краткие тексты, представляющие извлечения из
памятников позднего времени. После этого было найдено еще пять
списков. Большой интерес, проявлявшийся к этому памятнику в средние
века, дает возможность предположить, что будут найдены новые списки1.
Существенным недостатком издания Зарубина является неудачная
группировка по редакциям. Он считал, что лучшие списки —
Академический (для старшей редакции) и Чудовский (для младшей
редакции). Литературоведы, например такой крупный специалист, как
акад. В. Н. Перетц, осудили подобную классификацию списков. В своей
223
рецензии на издание Зарубина Перетц доказывает, что лучшим для
второй редакции (младшей) является список Ундольского2. В результате
неудачной классификации списков у Зарубина получилось большое
различие в языке двух редакций. Если взять список Ундольского, обе
редакции оказались бы более близкими по языку:
Чудовский список
Список Ундольского
в багрянице рцем сице
в багряницы речем сице
аще бы умѣлъ
аще быхъ умѣлъ
Таким образом, более древние формы — в списке Ундольского.
Многочисленность заглавий, обращение к различным князьям, иногда
отсутствие имени князя (некоторые списки озаглавлены «Слово о
мирских притчах и бытеиских вещех...») — все это давало повод для
самых разноречивых догадок относительно автора «Моления». Акад. В.
М. Истрин сомневался: был ли заточен Даниил?3 Высказывалось и другое
сомнение: было ли направлено это посланиє к князю? Наконец,
1
Издания новых списков (по фамилиям издателей): список Тихомирова. — ТОДРЛ, 1954, т.
10; список Покровской. — Там же; список Перетца. — ТОДРЛ. 1956, т. 12; список Малышева.
— ТОДРЛ, 1948, т. 6. Прим ред.
2
См.: Перетц В. Н. Академическое издание «Моления» Даниила Заточника. — ТОДРЛ,
1934, т. 1, с. 344-345.
3
См.: Истрин В. М. Был ли «Даниил Заточник» действительно заточен? — «Летопись
Историко-филологического об-ва при Новороссийском ун-те», Одесса, 1902, т. 10.
некоторые литературоведы сомневались в подлинности «Моления» как
памятника языка домонгольской эпохи, даже считали содержание
«Моления» мистификацией1.
Сейчас совершенно твердо установлено, что памятник имеет две
древние редакции и ряд позднейших переработок. Одна редакция
относится к концу XII в. и связана с именем новгородского князя
Ярослава Владимировича. Вторую редакцию относят к XIII в., так как она
содержит обращение к Ярославу Всеволодовичу (1191-1246).
Один из специалистов по Древней Руси проф. Б. А. Романов
утверждает, что Заточник — это постоянное, повторяющееся явление
русской общественной жизни2. Облик Заточника менялся из века в век, от
одной формации к другой, но он всегда существовал как образ
обездоленного человека, вызывавший сочувствие из-за своего
незадачливого положения. Этим, считает Романов, надо объяснить
224
популярность текста. Каждый из редакторов памятника применял
историю Даниила к себе, изменяя только частности. Романов оспаривает
мнение, не раз высказывавшееся в литературе, о том, что этот памятник
должно связывать с церковной средой. Уже первые издатели и
исследователи считали, что основной задачей «Моления» было
обличение пороков церковников3. Романов и с таким утверждением не
согласен. Он убедительно показывает, что острота и сила социального
обличения в «Молении» направлена на многие стороны «гнета феодалов,
в защиту угнетенных; упоминание о церковниках имеет лишь
эпизодическое значение. Он указывает на другие, гораздо более жестокие
обличения быта церковников в памятниках древней письменности и
считает, что «Моление» было, наоборот, поддержано церковной средой.
В этом он совершенно прав. Трудно понять популярность «Моления»,
если оно отражает только борьбу с церковниками: в нем видели
памятник, направленный на борьбу с социальным гнетом, гнетом
феодалов.
Сомнения относительно связи «Моления» Даниила Заточника с
какими-то реальными фактами возникли потому, что ряд афоризмов из
«Моления» встречаются в сборниках как ранних (например, в «Пчеле»,
«Менандре»), так и составленных позже. Однако большая часть этих
1
См.: Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. Спб., 1882, с.
77.
2
См.: Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.
5
См.-. Шляпкин И. А. Слово Даниила Заточника. Спб., 1889, с. 6.
сборников известна лишь в поздних списках и соотношение их с
«Молением» неясно. Надо отбросить, по моему убеждению, теорию о
том, что «Моление» когда-то представляло собой анонимный
публицистический трактат с выдуманной автором ситуацией, что якобы
автор не имел или не придумал никакой другой возможности, чтобы
обличить современное ему общество, чем форма «моления» —
раболепного послания к своему князю с мольбой о сострадании, о
разрешении возвратиться из ссылки к княжескому двору. Такое
толкование
мне
представляется
искусственной
модернизацией
литературных жанров того времени. Нельзя отрицать наличие в этом
памятнике очень резких, сатирических, обличительных выпадов против
крупного боярства, в несколько более осторожной форме (и, повидимому, только в позднейших редакциях) — против церковников и,
наконец, против «злых жен», т. е. дурных женщин. Все так хорошо
укладывается в мотивировку автором памятника его жизненного
225
крушения, что нет нужды ни в каком другом объяснении. Но основная
идея заключается все-таки в защите положения при дворе князя людей,
не имеющих вкуса к ратному делу, но образованностью и умом
пробивающих себе дорогу в думцы князя, в советники княжеской думы.
Все остальное — объяснение жизненных неудач автора и причин ссылки.
Я не вижу серьезных оснований отказаться от признания связи этого
памятника с действительными историческими фактами в начальный
период его литературной истории.
Вспомним содержание «Моления». В молодые годы Даниил жил при
дворе князя. За какую-то провинность (по одним спискам— трусость в
бою, по другим — за нечистое дело) он был сослан на озеро Лаче (или же
на озеро Белое). Отсюда он обращается к князю с посланием,
содержащим не только просьбу о прощении, но и целый ряд советов.
Даниил Заточник прежде всего говорит о том, что князь должен опекать
гонимых и обиженных, ибо притеснения со стороны бояр становятся все
более невыносимыми. Он советует князю держать при себе ученых и
разумных людей, а не людей богатых и храбрых, но лишенных мудрости.
Далее Даниил рассматривает, как может «сложиться его судьба, если
князь его не простит. Это позволяет ему с большим писательским
мастерством и сатирическим талантом охарактеризовать некоторые
стороны общественной жизни. Он ставит вопрос: не пойти ли ему в
монахи? И отвечает, что не может этого сделать, так как иноческая жизнь
его не привлекает, а обманывать и лицемерить, как большинство монахов
(принимают иноческий чин, а сами живут в довольстве, пьянствуют), он
не может. И это ведет автора к обличению монастырской жизни. Другой
выход: найти богатого тестя, но и это его не прельщает. И далее идут
выпады против «злых жен». Таким образом, сюжет дает автору
основания для разносторонней критики.
Чем «Моление» может привлекать лингвиста? В нем мы находим
существенные и типичные черты языка лучших памятников домонгольского периода. С одной стороны, богато представлены лексика и
синтаксис народной речи, с другой — мастерски применяются и
книжные средства языка (в стилистических целях, для контраста, для
большей выразительности и разнообразия). Во всей совокупности
вопросов языка «Моление» еще не изучалось. Анализ языка привлекался
лишь для решения двух вопросов: можно ли отнести памятник к
домонгольскому периоду и какая редакция является более древней.
Ответы на эти вопросы найдены и не вызывают возражений.
226
Наиболее основательная работа над языком «Моления» Даниила
Заточника проделана акад. С. П. Обнорским1. На основе анализа фонетических, морфологических явлений, а также синтаксиса и лексики
Обнорский утверждает, что в «Молении» отражен русский язык
архаического типа, вполне однородный с языком «Русской правды»,
«Слова о полку Игореве», «Поучения» Владимира Мономаха.
Так, в старшей редакции прослеживается смягчение задненёбных г, к,
х, их переход в свистящие з, ц, с (в склонении существительных перед ѣ и
и дифтонгического происхождения): друзи, полци, руцѣ, сопозѣ и др.
Последовательно употребляются личные местоимения 1-го и 2-го
лица в первичном («энклитическом») виде: мя, тя, ми, ти, ны, вы. Полные
формы местоимений употребляются для особого их подчеркивания,
усиления, при антитезах.
Совершенно правильно употребляются три прошедших времени
(имперфект, перфект, аорист). В 1-м и 2-м лице перфект обязательно
употребляется со связкой, в 3-м лице связка отсутствует.
Притяжательные прилагательные находятся в постпозиции.
Полностью выдержана система употребления членных и нечленных
прилагательных. Рассмотрим несколько примеров. «Лѣпше бы ми
См.,- Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода. М. —Л., 1946, с. 81 — 131.
1
смерть, нежели Курское княжение»1 — здесь Курское — 'определенное,
всем известное' — полная форма прилагательного; «Видихъ: великъ
звѣрь, а главы не имѣетъ» — самое общее представление о каком-то звере
— краткая, «неопределенная» форма прилагательного; «богат мужь везде
знаем есть», где богат — 'любой, какой бы то ни был' — обобщенность,
неопределенность выражается краткой формой прилагательного; а
«богатый человѣкъ несмысленъ, яко паволочито изголовие» — это
исключение, богатый вместо богатъ (лучшие списки и дают здесь
форму богатъ).
К числу архаических черт, потом утраченных, Обнорский относит и
конструкции страдательных причастий с предлогом от при родительном
падеже лица: «а ты оживлявши вся человѣкы мило-стию своею, сироты и
вдовици от велможь погружаемы»; «намъ ли от града погинути, или
граду от нас пленену быти». Такие конструкции характерны для
литературного языка домонгольской поры.
Некоторые положения в работе я считаю спорными, на них я должен
остановиться несколько подробнее. Прежде всего я не могу считать
227
вполне удачным решение вопросов о времени возникновения памятника
и о двух редакциях. Следуя за Зарубиным, Обнорский считает лучшим
списком Чудовский, хотя во многих случаях, указывая, что этот список
дает искаженный текст, сам поправляет его по списку Ундольского
(следовало положить в основу исследования лучший список).
Сомнительны и некоторые другие выводы Обнорского. Проследив по
Чудовскому списку второй редакции употребление деепричастных форм
в роли сказуемого, Обнорский считает, что их следует объяснять
перепиской в ХІѴ-ХѴ вв. Но достаточно двух-трех совпадений форм в
обеих редакциях, чтобы установить, что это явление было уже
свойственно первичному составу языка памятника.
Он также считает, что надо относить к более позднему времени
появление несогласованного краткого причастия (деепричастия). Но
такие формы мы находим в «Русской правде», «Поучении» Владимира
Мономаха, «Повести временных лет» и других памятниках древней поры.
Обнорского смущает «расшатанная система согласования причастий с
существительными». Но сам факт существования несогласованных форм
уже говорит о наличии деепричастий: «трава блещена растяще на
1
Цит. по кн.: Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их
переделкам.
застѣнии»; «рѣка... напаяюще не токмо человѣки, но и звѣри»; «птиця
частяще пѣсни своя» и др. Там, где пробивается народная языковая струя,
мы
имеем
несогласование
причастий
с
существительными.
Следовательно, и в «Молении» это не результат отражения языка
поздней поры, а влияние языка народного, знавшего деепричастия еще в
дописьменную эпоху, как можно заключить из языка «Русской правды».
В первой и второй редакциях встречается оборот «именительный
падеж женского рода в значении винительного падежа прямого
дополнения»: «лѣпше ми волъ буръ вести в дом свои, нѣже зла жена
поняти; луче бы ми видети нога своя в лычницы в дому твоем; луче бы ми
вода пити в дому твоем». Разработка вопроса об этой конструкции
началась у нас давно, впервые на нее указал еще Ф. И. Буслаев1, но ее
синтаксическая роль до сих пор не была ясна. Сбор материала по
народным говорам для Атласа русского языка позволил изменить
первоначальное мнение об этой якобы чисто северной, новгородской
черте. Раньше считали, что такая конструкция встречается только при
инфинитиве, но подобный синтаксический оборот и до последнего
времени широко распространен в северных говорах русского языка. Судя
228
по реликтам его в белорусском и украинском языках, он был свойствен,
как мне представляется, всем восточнославянским говорам, а не только
севернорусским.
С другой стороны, такая конструкция встречается не только при
инфинитиве, но и при других глагольных формах: при деепричастии
(акад. А. И. Соболевский приводит пример из «Домостроя»2), даже с
личными формами глагола; это заставляет начисто отбросить старое
объяснение. Можно утверждать: наличие подобной конструкции в
древнерусском языке — одно из самых ярких проявлений воздействия
разговорного языка на литературный.
Несколько замечаний вызывают разделы книги, посвященные
синтаксису сложноподчиненного и сложносочиненного предложений.
Обнорский утверждает, что для русского языка этого периода характерно
преобладание
сочинительных
конструкций
и
ограниченное
употребление подчинительных. Однако такой вывод не вяжется с опытом
изучения других языков. Если бы мы встали на точку зрения Обнорского,
' См.: Буслаев Ф. И. Русская хрестоматия. М., 1888, с. 185.
2
См.: Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. Изд. 4. М., 1907, с. 198.
то должны были бы констатировать отсталость, примитивность
мышления русских писателей киевской эпохи, что было бы большой
нелепостью. Подчинительные конструкции развиваются в соответствии с
развитием мышления и развиваются чрезвычайно рано и быстро.
Мы не можем допустить мысли о преобладании сочинения в языке
русской литературы домонгольской поры. Если мы присмотримся к
фактам, приведенным Обнорским, то увидим, что здесь допущена
ошибка. Он говорит, что сочинительные союзы а, и и др. служат для
выражения и подчинительных отношений, следовательно, этим самым
уже признается наличие подчинительных конструкций. Надо было
изложить этот материал иначе и сказать, что выражение подчинения в
древнерусском языке, в частности в «Молении» Даниила Заточника,
имело другую систему языковых средств, чем в современном, что многие
союзы употреблялись
для
выражения
и
сочинительной,
и
подчинительной связи. Накопление союзов и дальнейшее разграничение
их по функциям между сочинением и подчинением происходило
постепенно. Если мы посмотрим, какие же типы подчинительных
конструкций встречались в языке древней поры, то увидим, что уже
существовали все основные типы подчинительных предложений —
229
временные, дополнительные, определительные, обстоятельственные,
условные, уступительные, причинные.
Надо отметить, что те разряды подчинительных отношений, которые
не вызывают у Обнорского никаких сомнений, выражаются часто
союзами нерусскими: яко — для включения дополнительных
предложений, идѣже — для обстоятельственных, аще — для условных
(наряду с а, и). Здесь стоило бы остановиться на синонимике союзов иже,
который, къто. Обнорский считает который и къто очень поздними,
но совпадение их по всем спискам заставляет усомниться в этом и
предполагать большую древность союзов, употреблявшихся для
выражения подчинительной связи.
Лексический материал памятника оставляет большой простор для
исследования. Обнорский анализу лексики уделил слишком мало
внимания, но и те слова, которые он разбирает, рассматриваются с
формальной стороны (славянская и русская лексика выделяется только
по фонетическим и морфологическим признакам). Приведенный им
перечень слов со славянскими фонетическими и морфологическими
признаками довольно велик. Мы ожидали бы, что Обнорский признает
влияние книжной традиции большим, скажет, что оно сильнее, чем в
«Слове о полку Игореве» и «Русской правде». Но это разрушило бы его
априорную концепцию, поэтому он утверждает, что весь слой лексики с
нерусскими признаками является вторичным. Между тем большое
количество списков, их перекрестное сопоставление позволяет детально
обосновать то или иное положение, а не высказывать чересчур смелые
догадки,
противоречащие
показаниям
имеющихся
рукописей.
Безусловно, есть примеры замены русских слов славянскими в
позднейшие эпохи, но они единичны и их можно точно выделить.
С одной стороны, «Моление» Даниила Заточника имеет общее со
«Словом о полку Игореве» — широкое отражение фольклора, хотя в
«Слове...» встречаются различные жанры устного народного творчества, а
в «Моление» включены только пословицы, поговорки да три-четыре
намека на песенный жанр. С другой стороны, этот памятник связан с
собственно церковной письменностью; и не случайно в некоторых
списках он озаглавлен «Слово» Даниила Заточника, т. е. проповедь. Да и
другой заголовок — «Послание» Даниила Заточника — точно так же
указывает на чисто литературный жанр, имеющий уже прочные
традиции и в византийской, и в старославянской литературе. Автор
говорит о себе: «Азъ бо, ни за море хо-дилъ, ни от философъ научихся, но
бых аки пчела, падая по розным цвѣтом, совокупляя медвеныи сотъ; тако
230
и азъ, по многим книгамъ исъбирая сладость словесную и разум».
Авторская характеристика своего труда как усердной компиляции из
многих книг не вполне характеризует весь состав памятника. Эту
характеристику надо дополнить другой цитатой, которая укажет на
второй важный элемент в составе памятника: «Глаголеть бо в мирскых
притчах» (это значит 'простые, некнижные люди знают такую
пословицу'). И дальше — целый ряд пословиц, причем пословицы эти,
как совершенно ясно даже для неспециалиста, отнюдь не книжные: «Ни
рыба въ рыбах ракъ; Ни потка въ потках нетопырь; Не мужь в мужех, иже
кимъ своя жена владѣеть; Не робота в роботах под жонками повозъ возити». Здесь и лексика, и формы, а в некоторых пословицах и фонетические признаки — все указывает на живую народную речь, а не на
книжный источник.
Я уже говорил, что «Моление» Даниила Заточника удобнее и целесообразнее всего сопоставить со «Словом о полку Игореве» — и по
стилю, и по содержанию, и по составу языка. В полном объеме лексика
этих двух памятников никем не изучалась. Такое исследование
представляется важной задачей, так же как и широкое изучение общих
элементов, заимствованных из фольклора — песен, пословиц, поговорок.
Пока мы судим довольно обобщенно о прочных связях «Моления» и
«Слова...» с народной поэтической традицией, однако некоторые
различия в отборе фольклорного материала были бы очень
показательны. Я сейчас предложу вам несколько сопоставлений, чтобы
доказать, что параллельное изучение этих двух памятников не лишено
интереса.
В «Слове о полку Игореве» мы знаем одно слово с приставкой без-: въ
полѣ безводнѣ. Категорию этих слов некоторые лингвисты склонны
считать ненародной. Однако в «Толковом словаре живого великорусского
языка» В. И. Даля подобных слов много; уже одно это заставляет нас не
поверить такому утверждению. В «Молении» Даниила Заточника таких
слов больше, чем в «Слове...»: безумие, безнарядне, безпечалие и др.
В «Слове о полку Игореве» встречаются два однокоренных, синонимических слова буесть и буйство. Буесть — относительно редкое
слово; в «Молении» Даниила Заточника оно встречается в трех местах: «и
расыпася животъ мои, аки Ханаонскыи царь буестию; и бысть выя твоя в
буести; обогатѣв, восприиму гордость и буесть». Это показывает, что
слово буйство в более позднюю эпоху вытеснило буесть. В киевскую же
эпоху буесть — вполне употребительное слово.
231
В «Слове о полку Игореве» слово бѣда находится в затруднительном
для нас контексте: «Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию». В
«Молении» Даниила Заточника оно несколько раз встречается в
совершенно ясном значении: «Яко же слово гинеть часто разливаемо,
тако и человѣкъ, приемля многая бѣды (в другом списке бѣды и
напасти); тако и человѣкъ, многи беды приемля, худѣет; человѣкъ, беды
подъемля, смысленъ и уменъ обретается; всякъ человѣкъ о чюжеи бѣде
хитръ и мудръ, а о своей не можетъ смысл ити». Приведенные примеры
из «Моления» наводят на мысль, что затруднение в понимании текста
«Слова...» возникает от какой-то порчи текста, а не от самого слова бѣда.
В «Слове о полку Игореве» встречается оборот Донъ шеломы
выльяти, где слово выльяти считается южнорусским. В «Молении»
Даниила Заточника, которое противопоставляется «Слову...» как севернорусский памятник, находим в списке Ундольского то же слово: «Ни
моря уполовником вылияти, ни нашим иманием твоего дому истощити» (в Чудовском списке оно заменено глаголом вычерпать).
Слово черленыи — 'красный, багряный' употреблено в «Слове о
полку Игореве» несколько раз (черленые щиты), встречается оно и у
Даниила Заточника: «Луче бы ми видети нога своя в лычницы в дому
твоем, нежели в черленѣ сапозѣ в боярстем дворѣ» — 'лучше бы мне в
лаптях в твоем доме ходить, чем в сапогах из красной кожи в боярском
доме'. Синоним слова черленыи — багряный тоже свойствен обоим
памятникам — в «Слове...»: «оба багряная стлъпа погастаста»; в
«Молении»: «Луче бы ми тобѣ в дерузѣ служити, нежели в багряницы въ
боярстем дворѣ».
Хытръ в обоих памятниках употребляется в значении 'мудрый,
искусный, вещий' — в «Слове о полку Игореве»: «Ни хытру, ни горазду,
ни птицю горазду суда божиа не минути»; в «Молении» Даниила
Заточника: «всякъ человѣкъ хитръ и мудръ чужеи бѣдѣ, а о своей не
можетъ смысл ити».
Худой употребляется в «Слове о полку Игореве» в значении социальной оценки: «Не худа гнѣзда шестокрилци», как и в «Молении»:
«Сироты худые, от богатых потопляеми, аки к заступнику теплому к тебѣ
прибегаютъ».
В «Слове о полку Игореве» об Олеге Святославиче Черниговском
сказано: «Тогда, при Олзѣ, Гориславличи сѣяшется и растя-шеть
усобицами». В «Молении» находим параллель: «Кому ти есть
Переславль, а мнѣ Гореславль».
232
В обоих текстах встречается народное слово далече — в «Слове о
полку Игореве»: «далече залетѣло (Ольгово гнѣздо); далече зайде соколъ
птиць бья»; в «Молении»: «а ин, привязав вервь к уху церковному, а
другий конецъ к земли отнес далече».
Характерным можно считать, что слово часто и в «Слове о полку
Игореве», и в «Молении» Даниила Заточника служит для обозначения
крика, пения птиц — в «Слове...»: «часто врани граяхуть», в «Молении»:
«да не възненавидим буду миру со многою бесѣдою, яко же бо птиця
частяще пѣни своя.
Древнерусскому языку были свойственны формы с начальным У, а не
)у. Многие из этих старых русских форм с у были затем вытеснены,
однако в «Слове о полку Игореве» читаем: «уношу князю Ростиславу
затвори». Точно так же в «Молении» Даниила Заточника: «унъ възрастъ
имѣю, а старъ смыслъ во мнѣ».
Древнюю форму наречия ту находим в обоих памятниках вместо
позднего, сохранившегося в нашем языке тут — в «Слове о полку
Игореве»: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти»; в
«Молении»: «женися у богата тьстя чти великиа ради: ту пии и яжь».
Находим в «Молении» и образование с эмоциональной окраской
дѣвиця: «Дѣвиця бо погубляеть красу свою», обычное в «Слове о полку
Игореве»: «връже Всеславъ жребии о дѣвицю себѣ любу; а вѣ соколца
опутаевѣ красною дѣвицею» и др.
Не сразу было признано употребление в «Слове о полку Игореве»
особой формы птиць, птичь в значении собирательном (наиболее
правильное толкование): «уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубию;
дружину твою, княже, птиць крилы приодѣ». В «Молении» Даниила
Заточника встречаем ту же форму: «Птич бо радуется веснѣ».
Этот длинный ряд соответствий ясно указывает на близость лексического состава «Моления» Даниила Заточника и «Слова о полку
Игореве», важность языковых данных «Моления» для понимания
«Слова...» и доказательства его подлинности, а также позволяет указать
архаичный слой в лексике «Моления» Даниила Заточника1.
Характерное отличие языка памятников заключается в том, что
формулы и элементы грамматики, словаря, общего разговорного языка в
«Молении» Даниила Заточника, вопреки намерениям автора, отразились
гораздо шире и гораздо более органично слились с традициями
книжнославянскими, чем в «Слове о полку Игореве».
233
Начнем с некоторых совпадений. Слово столь, неоспоримо относящееся к древнейшему словарному составу, в «Слове о полку
Игореве» встречается семь раз и всегда обозначает 'область княжения'. Во
всех случаях оно неразрывно связано с эпитетом златъ или отень, т.е.
'отеческий золотой княжеский престол'. Иных контекстов нет, иного
употребления автор «Слова...» не знает. Это то употребление слова столь,
которое было наиболее привычно и законно в феодальных кругах. В
«Молении» Даниила Заточника читаем: «3 добрымъ бо думцею думая
князь высока стола добудеть; великого стола; злата стола» — здесь тот же
самый 'княжеский престол'. Но рядом с этим встречаем: «Не гнавши бо
ся кому после шершня с метлою о кроху, ни скакавши со стола по
горохово зерно, добра не видати». Это, конечно, уже речь не феодалов, а
простых крестьян;
1
См.: Иссерлин Е. М. «Моление» Даниила Заточника и «Слово о полку Игореве» (лексикосемантические параллели). — «Филологические науки», 1973, № 4. Прим. ред.
здесь столь — 'сидение', но простое, домашнее, не золотое, как сидение в
таком бедном доме, где надо поднимать даже одну горошину, упавшую
со стола.
Редкий и скоро исчезнувший полногласный вариант хоробрый
встречается в «Слове о полку Игореве» один раз, а храбрый употреблено
в 15 случаях. В «Молении» Даниила Заточника все случаи употребления
полногласного варианта — «аще ти есмъ на рати не хоробръ; умен муж
не велми на рати хоробръ; хороброму дай чашу вина, хоробрѣе будет» —
в позднейших списках заменены формой храбрый.
Слово тур, сейчас известное разве только зоологам, в «Слове о полку
Игореве» употреблено в переносном значении (Яръ туре Всеволодѣ) и в
традиционном сравнении (храбрая дружина рыка-ютъ акы тури). В
«Молении» Даниила Заточника это слово встречается в характерном для
эпохи образе: беда и горе заставляют человека метаться, бросаться из
стороны в сторону, яко около тура с топором, т. е. с неподходящим для
охоты на тура оружием. Для автора тур еще имело конкретное значение.
Показательно происхождение различий в языке этих двух редакций.
Древнейшая редакция «Моления» в целом ряде случаев дает нам
короткие и сравнительно бедные формулы. Позднейшая редакция
обогащает эти короткие формулы, и, как правило, дополнительные
выражения берутся не из книг, а из живого языка. Вот один из примеров:
«Злато съкрушается огнемъ, а человѣкъ напасть-ми; пшеница бо много
мучима чистъ хлѣбъ являеть, а в печали обрѣтаеть человѣкъ умъ
234
свръшенъ». Это целиком книжный язык; здесь едва ли можно отметить
что-нибудь, что связано с реальным бытом, с народной речью. Но
возьмем эту же часть в несколько более поздней редакции: «Зла бѣгаючи,
добра не постигнути; не бившися со псом об одномъ моклокѣ, добра не
видати; тако же и горести дымные не терпѣвъ, тепла не видати. Злато бо
искушается огнемъ, а человѣкъ напастми; пшеница бо многа мучима
хлѣбъ чистъ является, а человѣкъ, беды подъемля, смысленъ и уменъ обретается». Видите, как развернут этот раздел «Моления»: 'если тебе не
приходилось никогда отнимать у пса обглоданную кость, то не увидишь
добра; если ты не задохнешься в дыму, когда топится печь в избе, то не
увидишь тепла' (обычно не было печей с трубами и во время топки печи
жилье заполнялось едким дымом, который потом выходил через
отверстие; конечно, курные избы, которые топились «по-черному»,
являлись принадлежностью крестьянского быта, ибо в княжеских палатах
никому не приходилось терпеть горечь дыма). И последнее, особенно
эффектное выражение: «Аще кто не бывал будет во многих бѣдах, яко у
беса на въспари, то нѣсть в нем вѣжества». Образ даже с точки зрения
тогдашней стилистики весьма грубый, низкий и отнюдь не книжный. Ни
в одном из памятников ХІ-ХІІ вв. подобных вставок, конечно, нет.
Возможно, что они появились в XIV, даже в XV в. Но общий характер
текста отражает в какой-то мере его первоначальное отличие от
древнейшей литературной традиции.
Отметим теперь в составе лексики «Моления» Даниила Заточника
такие книжные элементы, какие неизвестны в предшествующей
письменности. В позднейших списках «Моления» встречаются слова
византийского, греческого и арабского происхождения, которые
проникли во время «второго южнославянского влияния». Этот слой
можно легко выделить: фарь, фарсисъ — 'боевой конь' — арабское слово,
попавшее к нам через Византию и Болгарию устным путем, так как в
письменности оно мало известно; греческое слово стафи-лье —
'виноград'; старославянское слово греческого происхождения подрумие
— 'беговая дорожка, ипподром'. Слово воевода (добавление XVII в.)
заменило добра князя ранних списков. Хорошо знакомое слово вещь в
«Молении» употреблено в значении 'несчастье, бедствие': «Князь не самъ
впадаеть въ вещь, но думци вводять». В древнейших текстах, чаще
переводных, но иногда и оригинальных, встречается слово вещь с таким
значением, что ясно указывает на связь с чисто книжной традицией. Все
это признаки того, что литературные памятники в ХѴ-ХѴІ вв. становятся
достоянием только высших кругов общества (дворянства, духовенства). В
235
связи с этим они подвергаются «славянизации»; язык подделывается под
книжный, ученый. Это вторичный слой.
Писателям древнейшей эпохи было свойственно смелое использование народной речи, острой пословицы, резкого прямого слова,
грубоватой насмешки. Можно видеть стремление автора «Моления»
даже книжные слова подбирать и комбинировать так, чтобы они
находили созвучие в народном языке. Например, обилие в значении
'изобилие' — книжное слово, а в значении 'урожай зерновых хлебов или
овощей' — народное (в новгородских и псковских говорах). Даниил
Заточник говорит: «Земля подает плод обилия, древеса овощь», т.е.
употребляет это слово именно в народном значении, а це в старом
книжном. Слово вретище — 'изодранная, ветхая одежда' (Помяни мене
в неиспранем вретище лежа; есмъ бо яко вретище обетшало)
перекликается с народным веретье — 'толстая холщовая одежда' (в
новгородских, тамбовских, воронежских говорах).
Широко, по-видимому, было известно в народной речи слово
монисто, встречающееся в «Молении» Даниила Заточника. Акад. И. И.
Срезневский отмечает частое употребление этого слова в памятниках, что
позволяет считать его широко распространенным уже в XIII в.1 (это слово
греческого происхождения вошло в народный обиход). Во фразе «Бых
аки пчела, падая по розным (вар. различным) цвѣтом» слово розным
употреблено в книжном значении, но в народном произношении (в
просторечии это слово означало 'дырявый, рваный'). Но большинство
слов в этом памятнике имеет не только сходство или звуковую близость с
народной лексикой, но и совпадает с ней полностью.
Исследователи (проф. М. А. Максимович2 и др.) относили лексику
«Моления» Даниила Заточника к языку севера. Однако целый ряд слов
являются достоянием общенародным, т. е. свойственны и северным, и
южным, и западным диалектам. Так, деруга, дерюга Даль относит к
областным словам3, но это слово широко распространено в русских
говорах многих районов нашей страны. Липьё, дубьё, ивьё — слова с
собирательным суффиксом -ьё для обозначения лесов с одними
древесными породами известны во многих русских говорах. Жито — это
'зерновой хлеб', трудно сказать какой, возможно, рожь, так как рожь
составляла большую часть посевов: «Не сѣи бо на браздах жита, ни
мудрости на сердце безумных».
236
Срезневский отмечает слово колбаса в памятниках XIII-XVI вв.
(«Новгородская Кормчая», «Стоглав»). А. Г. Преображенский, ссылаясь
на ориенталистов, выводит его из еврейского4. А. Брюкнер, отыскав
широкие параллели для этого слова во всех славянских языках, считает
его заимствованным еще «праславянским языком»5. Что «праславянским
языком» — это сомнительно, но что у славян это слово древнее, вполне
' См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам, т. 1-3. Спб., 1890-1912.
2
5
См.: Максимович М. А. Собр. соч., т. 3. Киев, 1880, с. 383, 557-558.
См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1. М., 1955, с 444.
4
См.: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1958.
5
См.: Вгйскпег А. 81о\ѵпік еІуто1о(*ісгпу )егука Роізкіедо. ѴѴагзгаѵіга, 1957, з. 227.
вероятно. В «Молении» Даниила Заточника оно встречается в таком
контексте: «Не добро слово продолжено, добро продолжено колибаса (в
других списках колбаса, колбоса, колбася).
Слова конь и лошакъ употребляются параллельно. Нужно отметить
также слова птица, норовъ, повозъ, жонка, ненадобѣ, роз-бои (а не
разбои), повозничати и др. Слово избой сопоставляется с тверским и
псковским избой в значении 'остаток, разбитое', т.е. явно народного
происхождения: «Тако изби угры на избой». Перевод избил угры
вдребезги вызывал затруднения, что лишний раз показывает, как широко
вошли в язык памятника слова из народной речи.
Следует указать еще слово керста (в другом списке короста).
Обнорский считает «правильной» только форму керста, а короста —
искажением, но он не обратился к словарям. Обе формы правильные,
каждая в своих границах: в онежских и архангельских говорах — керста, в
южных и центральных говорах — корста и короста; Даль указывает
корста — 'гроб, домовина'. Короста Чудовского списка вполне
соответствует литовскому КаМаз — 'гроб, ящик'. Это слово имеет
параллели и в финских языках. Однако его нельзя считать
заимствованным из какого-либо языка; здесь мы имеем одно из
проявлений широкой общности языков балтийских, славянских и
финских, до сих пор еще мало изученной.
В «Молении» Даниила Заточника встречается много таких народных
слов, которые не обнаружены ни в каких других памятниках той поры и
даже московского периода (например, потка — 'птица').
Никак нельзя признать книжными также слова трепетица и чемерь.
Они,
несомненно,
народного
происхождения,
как
об
этом
237
свидетельствуют и показания памятников, и областные словари. «Тивунъ
бо его аки огнь трепетицею накладенъ, и рядовичи его аки искры» — это
осуждение беззаконий тивунов — княжеских управляющих. Что такое
трепетица? В народных говорах его не найти. Срезневский приводит
пример только из «Моления» и высказывает предположение, что это
'осина'. Догадка маловероятная, и вот почему: как известно, осина не
лучший, а худший вид дров, так что образ аки огнь трепетицею
накладенъ был бы ослаблен таким пониманием этого слова; ср. в «Слове
о полку Игореве» трепещут синий молнии — 'ярко пылают, вспыхивают'.
Скорее всего, трепетица — это то, что называют в говорах загнетъ,
которая употребляется для разжигания костра. Чемерь, чемерица в
народных говорах означает ядовитое растение цикуту, лычьница — это
'лапоть'; у Даля находим лычаки — 'лапти'.
К словам лутовяныи, лутвеныи — 'из липовой коры' областные
словари указывают поясняющие параллели. Когда-то, судя по народным
говорам, эти слова были широко распространены. Приведенные
примеры показывают близкое знакомство автора с народной речью и его
стремление смело употреблять незнакомые или малознакомые в его
среде слова. Надо полагать, что и ближайшее народное окружение
отчетливо отразилось в его сочинении. На это указывает обилие лексики,
которая характерна для северных говоров (новгородских и псковских).
«Дивья за буяном кони паствити, а за добрым княземъ воевати». Хотя
эта поговорка прославляет князя — хорошего, умелого в военных делах,
но исходная часть сравнения (дивья за буяном кони паствити) резко
выпадает из обычного описания феодального быта. Слово дивья, которое
Обнорский относит (непонятно на каком основании) к существительным,
сохранилось и сейчас в севернорусских говорах (новгородских и
псковских) как наречие в значении 'хорошо, легко'; оно широко
распространено в топонимике; однако слово дивья неизвестно в древней
письменности, не отмечено Срезневским, не повторяется более в других
памятниках. Да и весь этот образ — 'хорошо, удобно коней пасти за
горой' (удобно, во-первых, потому, что защищает от внезапного
нападения, во-вторых, потому, что пастуху можно находиться на горе и
видеть приближение врага, а враг прежде всего покушается на коня,
который был высшей ценностью, да и коню удобно скрываться за горой
от ветра) — все это чисто крестьянская лексика, чисто крестьянский вкус,
проявляющиеся в таком сравнении; да и коней пасти отнюдь не являлось
занятием феодала. Все это выражение было не совсем понятно
238
переписчикам ХѴІ-ХѴІІ вв., отсюда ряд искажений (за бо-яномъ, за
бояш и др.).
«Не бився о моклякѣ, вологи не видати». Слова волога — 'жид-Кая
горячая пища' и моклокъ — 'кость, мосол' широко известны в северных
говорах.
«Ни моря уполовнею вычерпать»; в списке Ундольского уполовником; ср. новгородское уполовня.
«Жена лукава аки въялица в дому». Слово въялица — 'метель, вьюга'
известно в северных говорах.
Паволочито изголовие, в других списках зголовье, узголовие,
возголовие — все эти варианты встречаются в говорах.
К северной лексике относится долоти: «Лѣпше есть камень до-лоти,
нижели зла жена учити», в поздних списках встречаются варианты:
долотити, долбити, колоти.
О себе Даниил Заточник говорит, что он, аки трава блещена растяще на застѣнии (вар. за стѣни, в засни). В диалектах это слово
известно: псковское засина и застен, смоленское застень — 'место,
заслоненное от солнца!
«Льстива дружба аки зимнее солнце, ни грѣет, ни знобит». Слово
знобит широко употребляется в новгородских говорах.
«Никто же может соли зобати». Слово зобати встречается в
Псковской летописи, псковском «Апостоле». В современных говорах
зобать означает 'есть ягоды, горох, что-либо мелкое, сыпучее; брать по
крупинке в рот', отсюда зобня, зобёнька — 'корзина' (встречается в
псковских и новгородских говорах).
«Лубен умъ, полстен языкъ, мысли яко отрепи изгребнии» — диалектизмы, в памятниках параллелей не найдено. В говорах слова
лубянбй, полстянбй — 'из грубого полотна', йзгреби — 'очесы льна'
известны в Новгородской, Вологодской, Пермской областях.
«Аки птенца от кляпци». В народных говорах клепцы — 'капкан,
силки для ловли птиц' (в архангельских, вологодских, онежских районах).
«Нолны ему мыкатися». В современных говорах слово нолны неизвестно, но Срезневский приводит примеры из псковских, новгородских
памятников, где нолны — 'доколе'.
«Жена бо злообразна подобно перечесу: сюдѣ свербить, а сюдѣ
болит». Слово перечес встречается только в говорах — у Даля находим: с
перечесу голова болит; свербит встречается в псковских и тверских
говорах.
239
«Святителскии имѣя на себѣ санъ, а обычаем похабенъ (вар. похабъ)». Срезневский из памятников XII в. дает значение для по-хабъ —
'сумасшедший'. В современных псковских, новгородских и тверских
говорах похабный значит 'дурной, плохой'. Это слово вошло позже в
литературный язык, хотя употребляется довольно редко, как грубое,
бранное слово.
Если в итоге можно утверждать, что северной лексики несколько
меньше, чем слов общенародных, территориально не ограниченных, то
все же ни в каком другом памятнике домонгольской поры нельзя найти
такого богатства народной, простонародной лексики, как в «Молении»
Даниила Заточника. В этом надо видеть и причину исключительной
популярности памятника.
В чем отличие диалектизмов «Моления» Даниила Заточника? Диалектизмы «Русской правды» характерны для узкого круга феодальной
знати. Диалектизмы «Слова о полку Игореве» — из разговорного языка
говоров среднего Поднепровья. Там можно отметить черты южные,
северные, белорусские; но мы не встречаем такого слоя лексики
общенародной, как в «Молении» Даниила Заточника. Надо учесть и то,
что ни один список этого памятника не стоит близко к оригиналу, так как
сохранилось только четыре списка XVI в. (Ундольского, Соловецкий,
Перетца, Покровской), а остальные — ХѴТІ в.
Какие выводы можно сделать после обзора трех основных памятников?
Я уже говорил, что Обнорский в своей книге в конце каждой главы
дает итоги изучения памятника по определенной схеме и всегда
подчеркивает повторяющиеся выводы. Следует ли принять это? Я
думаю, что невозможно отнестись с доверием ко всем предложенным
решениям и считать их одинаково важными. Недостатком книги Обнорского является отсутствие перспективы в оценке тех или иных
языковых особенностей. Например, читая каждый раз, что мы имеем
написание ки, ги, хи и что надо восстанавливать их на месте кы, гы, хы,
вряд ли мы можем признать зто орфографическое явление существенным для истории литературного языка того времени. С другой
стороны, вряд ли дело обстояло везде одинаково с произношением этих
написаний. Пестрота произношения в современных восточнославянских
языках заставляет усомниться в этом. Возможно, что на севере было ги,
240
ки, хи, а на юге в ХІ-ХІІ вв. — гы, кы, хы, раз такое произношение
сохранилось в украинских говорах до сих пор.
Наблюдения над судьбой ъ и ь также не имеют существенного
значения, ибо это относится к истории правописания и произношения,
которая не может быть изучена на основе одних литературных текстов. Я
бы сказал (не занимаясь этим подробно), что из истории литературного
языка можно устранить все вопросы фонетики. Если сейчас у нас нет
полного единства норм произношения, то тем более не могло быть
единого произношения в эпоху сложения русского литературного языка.
О морфологических признаках:
1. Сохранение двойственного числа показано так широко во всех
памятниках, что можно согласиться с Обнорским относительно
устойчивости употребления этой формы в литературном языке того
времени, однако не следует считать это чертой живого языка эпохи. Это
задержавшееся в литературном языке пережиточное явление, и надо
было указать, что оно находилось на пути к отмиранию.
2. Формы аориста и имперфекта употребляются безошибочно и
часто. Эти формы считались книжными формами. Существовало
мнение, что из разговорного языка имперфект и аорист исчезли очень
рано, но работа Обнорского заставила отказаться от этого взгляда.
3. Употребление сложного будущего с почьну и начьну, а не с буду
оспаривать не приходится, но позволительно спросить: какое отношение
имеют эти сложные формы к современным диалектным формам?
Известно, что теперь в литературном языке будущее время с почну и
начну не употребляется. Известны ли эти вспомогательные глаголы в
живом языке? Да, известны в народных говорах на юге и юго-западе, что,
следовательно, указывает на связь языка некоторых исследованных
памятников с южными и юго-западными говорами.
4. Употребление энклитик (ми, ти и др.) — такая же архаическая
черта, как и двойственное число, форма дательного падежа. Она важна
для опознания памятников XII—XIII вв., но для характеристики живого
языка того времени значения не имеет, так как в разговорной речи
употреблялись уже полные формы, как показывают наиболее
непосредственные отражения живого языка в письменности той эпохи.
Какие признаки, приведенные в исследовании Обнорского, являются
актуальными в языке того периода и какие являются уже реликтовыми?
Двойные падежи восходят к древнейшей поре, это отмирающее явление.
Повторные предлоги и союзы, наоборот, и поныне широко встречаются в
1
См.: Боровский Я. Е. «Слово» Даниила Заточника. Проблемы текстологического анализа
и вопросы авторства. Автореферат канд. дисс. Киев, 1970; Иссерлин Е. М. Наблюдения над
241
лексическими параллелями в списках «Моления» Даниила Заточника. — В кн.: Вопросы
теории и истории языка. Л., 1969; Лихачев Д. С. Социальные основы стиля «Моления»
Даниила Заточника.— ТОДРЛ, 1954, т. 10; Скрипиль М. О. «Слово» Даниила Заточника. —
ТОДРЛ, 1955, т. 11. Прим. ред.
народных говорах, особенно в фольклоре. Это черта живая и довольно
важная для характеристики древнейшего типа литературного языка 1.
Язык летописей
Обзор памятников киевской эпохи не может быть закончен без анализа
языка летописей. Но сначала подведем итоги нашему рассмотрению
материала, это позволит с большей обоснованностью судить о лексике
летописей. Кроме того, летописи не могут считаться памятниками
только домонгольского периода, только Киевской Руси, потому что их
составление начинается в X в., а заканчивается в XVII в., т. е. уже в
московскую эпоху.
Всякие попытки представить письменность киевской поры как
отражение однородного, единого древнерусского языка нами не могут
быть приняты, хотя так учили акад. И. И. Срезневский и С. П.
Обнорский1 Мы не будем стремиться точно определить границы
отдельных периодов в развитии литературного языка между X и XIV вв.,
но мы не можем не признать, что изменения были и их надо приурочить
к каким-то периодам. Причины языковых изменений могут быть поняты
лишь в тесной связи с социальными явлениями, с историей
общественного развития. Эти особенности социальных условий
отражались в различиях областных. Так как зависимость от
географического расположения была как-то наглядней, то она не могла
ускользнуть и от внимания ранних исследователей. И Срезневский, и
акад. А. И. Соболевский говорили об областных изводах памятников и об
областных наречиях, иными словами, географическое дробление языка
вынуждены были признать даже сторонники праязыковой теории2.
Хотя о древнерусских диалектах уже известно из курса исторической
грамматики, я все же должен здесь кое-что напомнить. Наиболее
очевидным и всеми признанным является противопоставление
письменности северной (новгородской и псковской) и южной (Киева,
Галича, Переяславля, Чернигова). Были установлены признаки не только
этих двух групп (северной и южной), но и еще двух-трех подгрупп. Стали
говорить о наречиях псковском, новгородском, смоленско-полоцком;
южнорусское наречие, уточняя, определяли то как галицко-волынское, то
как киевское. Так рисовалась картина древнерусских говоров в пору
' См.: Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. Спб., 1850, с. 95-96; Обнорский
С. П. Происхождение русского литературного языка старейшей поры. — В кн.: Юбилейный
сборник, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции,
ч. 2. М. — Л., 1947.
2
См.: Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка, с. 98; Соболевский А. И.
Лекции по истории русского языка, М., 1907, с. 1, 17.
242
составления лекций Соболевского. Какие же языковые признаки были
положены в основу классификации диалектов старшей поры?
1 . Важнейшей
отличительной
особенностью
севернорусского диалекта признается взрывное г, а южного — спирантное г (Ь).
Спирантное г (Ь) считали вторичным, появившимся в результате
замены взрывного г спирантом Ь. К такому выводу могла привести только праязыковая теория. Мы не знаем параллелей перехода
взрывного г в спирантное г (Ь). В сочетаниях с другими согласными
подобный переход наблюдается в некоторых диалектах, языках. Но
сплошного перехода интервокального г в Ь мы не знаем, и никаких
данных о том, что в южнорусских говорах (и украинских, и южновеликорусских) было когда-нибудь взрывное г, нет.
В «Изборнике» Святослава (1073) отмечено четкое произношение г
как спиранта: кънихъчии вместо кънигъчии (книгочей) — на месте г
написано х, или не въ ходъ вместо не въ годъ. Другого объяснения не
может быть, кроме того, что писавший произносил не взрывное г, а
спирантное Ь. Сюда же относится и написание оспо-дарь вместо
господарь (без начального г) в надписи 1151 г.1 Это ясное указание на
произношение г как спиранта. Мы можем понять подобное явление
только так: г взрывное и г (Ь) спирантное были древними диалектными
чертами, сохранившимися от племенных диалектов эпохи родового
общества.
2. К глубокой древности относится различие этимологического
ц и ч в южных диалектах и неразличение или замена одним звуком
ц и ч — в северных. Это явление обычно принято называть «цоканьем» или «чоканьем». В последнее время, особенно в работе проф.
Д. В. Бубриха, была выявлена его связь с подобным же явлением в
финских языках2. Объяснение такому совпадению мы находим в известном процессе слияния финских племен с русскими на территории распространения «цоканья» и «чоканья». Бубрих отметил еще
одну существенную черту: при неразличении ч и ц обычно существует
' См.: Бычков А. Ф. О серебряной чаре XII в., принадлежавшей черниговскому князю
Владимиру Давидовичу. — В кн.: Записки Археологического общества, т. 3. Спб., 1851, табл. 7.
2
См.: Бубрих Д. В. Свистящие и шипящие согласные в карельских диалектах. — «Уч. зап.
ЛГУ», серия востоковед, наук, 1948, вып. 2.
особое палатальное шепелявое ц. Это существенно потому, что как раз в
243
наших северных говорах, происходящих от новгородского, в
определенных положениях обнаруживается чередование твердого и
шепелявого ц. Это не вторичное смешение старых ц и ч, а иная
фонетическая система, которая противопоставляется системе южных
русских говоров как располагающая либо одним рядом аффрикат
(только свистящими или только шипящими), либо тремя рядами: ц ~ ц"
~ ч. Поскольку это явление распространено на территории и русских, и
западнофинских диалектов, мы должны отнести возникновение его к
дославянскому и до-индоевропейскому периоду1.
3. Некоторые ученые (например, Н. С. Трубецкой2, Т. Лер-Сплавинский) считали, что для новгородских и псковских диалектов
характерен переход тл в кл и дл в гл, тогда как южные говоры на месте
этих сочетаний имеют простое л, появившееся в результате полной
ассимиляции согласных (тл > л, дл > л): чькли — чьли; възмАКласм —
възмлласм (восстала, подняла мятеж). К этому можно прибавить еще
несколько примеров: привегли — 'привели', блюглиси — 'блюлися',
сустрѣкли (сустрѣли) — 'встретили', жерог-ло — 'жерло', жагло —
'жало'. Такие написания, отмеченные в письменных памятниках еще
домонгольской поры, соответствуют словам, встречающимся хотя и
изредка, спорадически в современных псковских и новгородских говорах:
сустрекли, жагло3. Это явление реликтовое. В географических названиях
(топонимике) тоже сохранились эти сочетания. Так, недалеко от
Боровичей есть деревня Егла — соответствует Ель, ёлка; ср. литов. ёдіё,
а{$1ё).
Принято было считать одной из общерусских («праязыковых»)
особенностей русских диалектов утрату согласного д или т перед л. Но
народные говоры опровергают здесь праязыковое построение.
1
Иначе рассматривается вопрос происхождения «цоканья» в русском языке в работе В. С.
Орловой «История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных
говоров» (М., 1959, с. 118-140). Прим. ред.
2
См.: ТшЬеігко). N. Еіпі^ез ііЬег <ііе гиззізспе Ьаиіепіѵѵіскіипе ип<1 сііе Аийбзипе <1ег
еетеіпгиззізсЬеп ЗргасЬеіпЬеіі. — «2еіізсЬгіЙ Йіг зІаѵізсЬе РЬіІоІодіе», 1924, В<11.
А. А. Шахматов отметил еще перечеклъ (перечелъ), а также формы чькли, сочклись и
др. (см.: Шахматов А. А. К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры. — «Русский
филологический вестник», 1913, № 1).
3
Сторонники подобного взгляда обходили противоречие, признавая эту
черту вторичной, появившейся после выделения из праязыка отдельных
244
наречий русского языка. Акад. А. А. Шахматов считал это результатом
влияния «ляхов», но так как никакие исторические данные не
подтверждают польского влияния на псковско-новгород-ские говоры, то
шахматовская теория о польском элементе не была принята.
Соболевский пытался объяснить эту особенность влиянием литовского
или латышского языка1. Если теория праязыка не позволяет дать другого
объяснения, то в пользу положения Соболевского говорят лишь
ограниченные данные, а именно топонимика. Ученые-прибалтийцы,
поддержанные М. Фасмером, считали, что балтийские племена в первом
тысячелетии до нашей эры жили значительно южнее, поселения их
доходили на юге до Припяти, а на востоке простирались чуть ли не до
Оки (или даже до Волги). Но эти довольно фантастические
предположения
основывались
на
формалистическом
подборе
материала. Если и можно думать о некотором передвижении балтийцев
с юго-востока на северо-запад, то во всяком случае не в таком масштабе,
не в таких пределах, как намечают К. Буга и особенно М. Фасмер2.
Разработка псковской топонимики показывает несостоятельность этого
утверждения3. Остается допустить, что северо-западные говоры
сохранили группы дл, тл без ассимиляции, как и балтийские языки.
4.
Четвертой особенностью, позволяющей противопоставить
северные и южные говоры, считают соответствие сочетания жг в северных
памятниках сочетанию жд в южных: дъжгь (дожгь) — дъждь, дъжчь
(совр. укр. дощ); рожгые — 'прутья, розги' — рож-дье, рожчье. Можно
считать это довольно удачным воспроизведениєм произношения. Р.
Якобсон4, Лер-Сплавинский считали, что под сочетаниями жд' ~ жг' ~ жч
1
См.: Соболевский А. И. Важная особенность старого псковского говора. — «Русский
филологический вестник», 1909, № 3-4, с. 233-234.
2
См.: Ви§а К. К. Оіе ѴогдезсЬісЬіе <іег аізСізсЬеп (Ьаісізспеп) Зсатте іт ЬісЬіе сіег
ОгІ5патеп*Ъг5сЬип8 (ЗігеііЬег^ РезІдаЬе). Ьеіргід, 1924; Ѵаатег М. Оіе Оаідгеп-ге сЗег
ЬакіасЬеп 5(атте. — «Зіігип^зЬегісЬіе сЗег Ргеи58. АкасЗ. сЗег ѴѴіааепасЬап:», 1932, Ва 24.
5
Имеется в виду разработка псковской топонимики в диссертации А. И. Лебедевой
«Топонимика Псковской области (лингвистический анализ)» (Л, 1952). Прим. ред.
4
См.: Якобсон Р. Спорный вопрос древнерусского правописания (дъжгь, дъжчь). — В кн.:
Зборник у част А. Белипа. Белград, 1937.
надо понимать передачу аффрикаты гйї,
орфографического выражения.
не имеющей лучшего
245
Я не буду останавливаться на дальнейших признаках фонетического
порядка, а ограничусь замечанием по поводу тех толкований, которые
являются спорными.
5. Характерной новгородской чертой признается произношение и
вместо ѣ (вира вместо вѣра) в различных положениях, причем в
современных новгородских говорах мы встречаемся с целым рядом
вариантов произношения ѣ: а) и на месте всякого ѣ или только
ударяемого ѣ; б) и на месте ѣ перед мягким согласным; в) дифтонг їе или
закрытое е на месте ѣ. Однако в последнем случае нет противопоставления севера и юга, так как и украинские говоры знают їе
вместо ѣ (северноукраинские), і вместо ѣ (южноукраинские). Однако если
здесь нельзя противопоставлять северные говоры южным, то можно
противопоставлять новгородские смоленско-полоцким, которые не
различают ч и ц, но не знают замены звука ѣ.
6. Новгородской (северной) приметой считали чередование на
письме в и у. Это явление тоже широко встречается и в белорусских, и в
южных (украинских) говорах.
7. И последнее, что следует отметить, — смешение свистящих и
шипящих в псковских говорах. Но это неправильное и неточное
определение явления: там нет совпадения двух рядов звуков в одном, оба
ряда (свистящие и шипящие) сохраняются; ж и ш (вместо з и с)
появляются только перед гласными переднего ряда и, ѣ, е: шизый,
жима, шила (вместо сизый, зима, сила), но нет шухой (вместо сухой)
или шам (вместо сам).
Шепелявое произношение свистящих перед и, е (ѣ) — характерная
особенность древних новгородских говоров. Но вот архангельские говоры,
которые сохранили нам во многих чертах древнейший облик
новгородского диалекта, имеют и сейчас резко выраженную шепелявость
з и с перед гласными и, ѣ, е. Неправильно было бы считать такое явление
специфическим, присущим только псковско-новгородским говорам. Эта
особенность давно отмечена в северно-польских (мазовецких) и
словинских говорах, а в последнее время прослежена также в
воронежских, пермских и курских говорах.
Проф. А. М. Селищев пришел к таким выводам: «соканье» и
«шоканье» встречаются там, где имеется смешение с иноязычным
субстратом; на русской территории — с финскими языками, у словинцев
246
— с итальянскими говорами, а у курских саянов — с языком греческих
колонистов1. Появление шепелявых свистящих в русском языке Селищев
объясняет следующим образом: русский язык, отчетливо различающий
шипящие и свистящие, сталкивается с языком, не знающим этих двух
рядов. Однако такое объяснение приемлемо только тогда, когда мы
имеем сквозную взаимную замену шипящих и свистящих. Подобные
говоры действительно встречаются, но их очень мало. Они есть в Сибири
и на Дону: любое с заменяется ш, и наоборот: шам — 'сам', сум — 'шум',
суба — 'шуба'. Селищев упоминает поговорку, которая существует в
Сибири: «Посол шам по штанам, а шобаку оштавил вош караулить» —
'пошел сам по станам, а собаку оставил воз караулить'. Для немногих
случаев можно допустить объяснение Селищева, но для новгородских,
псковских и целого ряда других характерно появление шепелявых на
месте только палатальных, т. е. гораздо более сложная система свистящих
и шипящих. В этих диалектах есть свистящие з, с, шипящие ж, ш и
палатальные з», с» на месте свистящих. Это черты древнейшей поры
развития звуковой системы, предшествующей той стадии, когда стали
четко противопоставляться шипящие и свистящие.
Все эти данные считались надежным критерием для определения
диалектных различий в киевскую эпоху. Сначала они были установлены
только в области фонетики, теперь фонетические данные подкрепляются
показателями морфологическими и лексическими.
Проф. Ф. П. Филин, давно занимающийся проблемой древнерусских
говоров, привлек обильный материал из записей, сделанных для
Диалектологического атласа русского языка, его данные помогают
решить ряд трудных задач. В своих лекциях по истории русского языка
(1940) и в работе «Лексика русского литературного языка древнекиевской
эпохи» (1949) Филин приводит ценные данные для характеристики
древнерусских диалектов, полученные на основе анализа как письменных
памятников, так и живых говоров. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в
существовании множества диалектов в Древней Руси киевского периода.
Теперь вопрос в том, сколь дробные их группы мы должны различать в
домонгольскую эпоху. Необходимо помнить, что территория
1
См.: Селищев А. М. Соканье и шоканье в славянских языках. — «Зіаѵіа», 1931, т. 10,
вып. 4.
распространения древнерусских говоров далеко не соответствует
территории распространения современных говоров. Увеличилась в
несколько раз площадь, занимаемая русским населением, да и
247
численность населения значительно (в сотни раз) увеличилась по
сравнению с X в.
Развитие диалектов идет по пути их сближения, консолидации, а не
распадения. Для киевской эпохи мы должны предположить большое
количество диалектов. Памятники письменности не могут дать нам об
этом достоверных сведений, во-первых, потому, что традиция
письменного языка мешала внесению элементов диалектной речи, вовторых, непосредственно от киевской эпохи сохранилось слишком мало
памятников. От ХІ-ХІѴ вв. дошли памятники преимущественно
новгородские,
частично
ростово-суздальские,
а
памятников
письменности среднего Поднепровья, как и северян, вятичей, мы совсем
не имеем. Монголо-татарское нашествие, когда были порабощены в
первую очередь юго-восточные, южные и восточные княжества,
уничтожило там все письменные источники. Поэтому мы сейчас
сравнительно много можем сказать о новгородских, псковских,
смоленско-полоцких говорах, меньше о говорах Киевщины, Волыни,
Галичины и не имеем ничего документированного о говорах восточных
уделов. Но и того что мы знаем вполне достоверно, уже достаточно для
того, чтобы считать взгляд на литературный язык феодальных княжеств
киевской поры как на единый неверным. Несомненно, церковная
литература написана языком, не совпадающим с языком «Русской
правды». Но можно идти и дальше: язык «Слова о полку Игореве»,
«Моления» Даниила Заточника, «Русской правды» существенно
различается и составом словаря, и другими элементами.
Кроме церковного и светского литературного языка различаются
типы («изводы») литературного языка, характерные для определенных
территорий, например Новгородской Руси и Киевской. В светской
литературе домонгольского периода язык одних жанров ближе к
церковнославянскому типу, а других — к разговорному. Язык «Русской
правды» дальше всего стоит от церковного языка, а «Слова о полку
Игореве» имеет черты, общие с церковным языком; в «Молении»
Даниила Заточника чувствуется связь с разговорным языком городов
Ростово-Суздальской Руси. Поэтому решение вопроса о литературном
языке киевской эпохи весьма сложно. Мы не можем теперь уже сказать,
как Шахматов, что литературный язык древнейшего периода сперва был
целиком церковнославянским и лишь постепенно обогащался русскими
элементами1. Но вместе с тем мы не можем считать, что русский язык
древнейшей
поры
был
целиком
русским,
без
примеси
248
церковнославянского, как предполагает Обнорский2. В работе «Лексика
русского литературного языка древне-киевской эпохи» Филин довольно
удачно полемизирует с Обнорски-м3. Мне представляется довольно
правдоподобным мнение Филина о трех типах языка киевского периода.
Но я считаю все же, что Филиным еще недостаточно использован
наличный материал областных диалектов при реконструкции типов
разговорного языка. Внутри остальных двух типов языка — собственно
литературных (письменно-книжных) — надо различать системы
северную и южную.
До сих пор детально исследовались только основные памятники,
грамоты, надписи на чашах, блюдах и т. д., а записи на иконах, фресках,
на стенах, могильных плитах не анализировались лингвистами.
Исследование этих материалов даст возможность охарактеризовать
разновидности древнерусского языка более детально, по отдельным
областям.
Лексика «Повести временных лет» детально описана в указанной
работе Филина. В дальнейшем я изложу некоторые результаты этого
исследования. Однако, как это и понятно, оно не исчерпало всего
материала, некоторые вопросы остались чуть-чуть затронутыми и мало
выясненными, многие суждения Филина представляются спорными. Но
есть еще много неизученных летописей: новгородские, Киевская,
Переяславская, Ростово-Суздальская, летописи ХѴ-ХѴІІ вв. (Псковская,
Архангельская, Тверская, московские, Сибирская и др.). Вопрос о языке
«Повести...» нельзя считать неразработанным, и вместе с тем надо
сказать, что именно над этим памятником предстоит еще очень большая
работа.
На протяжении почти всего XIX в. лингвисты держались того
упрощенного взгляда, что «Повесть временных лет» следует рассматривать как единый целостный памятник, а ее язык — как одно1
См.: Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка, с. 60.
2
См.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего
периода, с. 6.
3
См.: Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (на
материале летописей). — «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1949, т. 80, с. 5-8, 122-128.
родную систему. Надо сказать, что и историки, и литературоведы давно
изменили мнение.
В XVIII в. и первый исследователь «Повести временных лет» немецкий
акад. А. Л. Шлецер, и русские исследователи, например В. Н. Татищев,
249
придерживались того взгляда, что «Повесть...» является сочинением
Нестора-летописца1. Но в 1820 г. известный историк и археограф П. М.
Строев предположил, что в состав «Повести...» включены многие и
довольно разнородные по происхождению, содержанию и языку
памятники2. Дальнейшая разработка источников привела к мысли, что
под названием «Повести...» сохранился и дошел до нас не труд одного
человека, а сборник очень сложного состава. Акад. К. Н. Бестужев-Рюмин
высказал мнение, что «Повесть...» — труд многих авторов,
подготовлявшийся во многих местах и в течение длительного времени3.
Однако проф. И. П. Еремин предлагает нам вернуться к теории
Шлецера4. Я считаю эту попытку схоластической.
Исследования акад. Н. К. Никольского и А. А. Шахматова, проф. М. Д.
Приселкова и Д. С. Лихачева показали с абсолютной несомненностью,
что летопись — это свод, не менее разнородный по своему содержанию,
чем какой-нибудь альманах, а никак не сочинение одного автора5.
Шахматов утверждал, что «Повесть временных лет» — результат
неоднократной переработки первоначальных сводов. Разные редакторы
то исключали некоторые неугодные им сообщения, то дополняли и
1
См.: Шлецер А. Л. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, ч. 1. Спб., 1809, с.
14-22; Татищев В. Н. История российская с самых древнейших времен, кн. 1, ч. 1. Спб., 1768, с.
51-54.
2
См.: Строев П. Софийский временник, или Русская летопись с 862 по 1534 год.ч. 1. М.,
1820, с. ѴІІІ-ХІ.
3
См.: Бестужев-Рюмин К. Н. О составе русских летописей до конца XIV в. Спб., 1868, с. 33.
См.: Еремин И. П. «Повесть временных лет». Проблемы ее историко-литературного
изучения. Л., 1947, с. 8-9.
4
5
См.: Никольский Н. К. «Повесть временных лет» как источник для истории начального
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании,
вып. 1. Л., 1930; Шахматов А. А. Общерусские летописные своды XIV и XV вв. — «Журнал
Министерства народного просвещения», 1900, №9; его же. Разыскания о древнейших русских
летописных сводах. Спб., 1908; его же. «Повесть временных лет», т. 1. Вводная часть. Текст.
Примечания. Пг., 1916; его же. Обозрение русских летописных сводов ХІѴ-ХѴІ вв. М.—Л., 1938.
Приселков М. Д. История русского летописания ХІ-ХѴ вв. Л., 1940; его же. «Лаврентьев-ская
летопись (история текста). — «Уч. зап. ЛГУ», 1938, № 32, вып. 2. Лихачев Д. С. Русские
летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947.
перерабатывали их, оценивая в свете современных им событий.
Следовательно, как я уже сказал, работы, которые отстаивают взгляд на
«Повесть...» и на другие наши летописи как на работу одного автора,
сейчас не могут считаться состоятельными.
250
Дошедший до нас текст летописи варьируется от списка к списку в
значительно большей степени, чем в других памятниках древней
письменности. Но дело не только в этой изменчивости текста, а в том, что
с самого начала своей литературной истории эти произведения были
скомпонованы из многих источников. Отсюда для языковедов возникает
необходимость расчленить текст на составные части, чтобы не смешивать
разнородные по происхожению и социальному характеру элементы
памятника.
Нет никакого разногласия среди исследователей в том, что в состав
летописи вошли:
1) Подлинные документы: дипломатические, законодательные акты
из княжеских и монастырских архивов. Лихачев в своем исследовании
«Русские летописи и их культурно-историческое значение» показал, что у
нас очень рано создаются княжеские и епископские архивы, хранилища
документов. Летописи ХѴІ-ХѴІІ вв. уже не цитируют документы
полностью, а излагают их содержание или отсылают читателя к
оригиналу. Вот в эту эпоху и возникает подлинная историческая
беллетристика, которая является созданием одного автора и может
считаться единой по языку;
2) Народные предания и фольклор (в этом тоже уже давно нет
никаких сомнений), что отражено в диалогах фольклорного происхождения и в необычных для летописи элементах поэтики, стилистики;
3) Обрамляющий текст, который можно отнести на счет составителя
летописи. Это те страницы летописи, которые должны помочь
читателям осмыслить исторические события в соответствии с
христианской догмой, моралью. Но их нельзя целиком считать авторскими, поскольку летописец часто прибегал к источникам, заимствовал кое-что из хронографов, богословских сочинений, церковных
поучений. Здесь скорее всего можно предположить свободное
обращение к традиционным текстам, ибо большинство летописцев были
связаны с церковью, их мировоззрение не отличалось существенно от тех
взглядов, которые проповедовались в церковной литературе.
Если это так, то и язык летописи нужно было бы изучать не обобщенно, а раздельно по этим трем частям. Однако до сих пор никто такого
анализа не производил. В этом основной недостаток работ, посвященных
изучению языка летописей.
Раньше всего в составе «Повести временных лет» были обнаружены
цитаты, или, как тогда думали, подражания византийским историческим
трактатам. С этим была связана теория византийского происхождения
251
русского летописания (эту теорию поддерживал Срезневский1)- Со
второй половины XIX в. в тексте «Повести...» стали все более определенно
выделять фольклорные элементы (народные предания, былины).
Наконец, наиболее глубокие разыскания о составе и происхождении
«Повести...», осуществленные Шахматовым, показали, что кроме
указанных
источников
«Повесть...»
включает
многочисленные
богословские сочинения (например, замечательный для своего времени
трактат «Сказание о распространении христианства на Руси»),
проповеди, поучения (например, «Слово о вере латинской» Феодосия
Печерского), житийные заимствования (например, из «Жития Бориса и
Глеба»), похвальные слова (например, «Похвальное слово Феодосию
Печерскому») и т.д. Наконец, были обнаружены и включены в
«Повесть...» подлинные документы из княжеской казны, то, что мы
теперь называем архивными документами (уже известные нам договоры
русских с греками попали в летопись именно из княжеской казны).
Однако с завершением всей этой большой и плодотворной аналитической работы наступил новый период в разработке памятника,
характеризующийся стремлением показать единство замысла, композиции, идейных устремлений, какую-то внутреннюю цельность
«Повести временных лет», которую все же, несмотря на богатство
источников и сложность состава, необходимо рассматривать как единый
памятник древнерусской литературы. Однако, стремясь преодолеть
старое, может быть, действительно слишком механистическое
разделение текста «Повести...» на какие-то мелкие части, ученые
допустили также некоторые преувеличения. Скажем, «Повесть...» стали
рассматривать как нечто вроде риторического сочинения, какой-то речи
на тему о великом предназначении России, о необходимости сплочения,
объединения феодальных княжеств для борьбы со степняками.
Сравнивая «Повесть временных лет» с летописными сочинениями
1
См.: Срезневский И. И. Чтения о древних русских летописях. Чтение 1-3. Спб., 1862.
средневековой Европы, литературовед находит в ней гораздо больше
лирического подъема, идейной целеустремленности, внутреннего
единства замысла, наконец, гораздо больше художественной яркости и
изобразительности, что напоминает лучшие образцы народного эпоса.
Все эти положительные черты «Повести...» неоспоримы, перед нами
действительно памятник высокого литературного мастерства. Но тем не
менее мне кажется и ненужным, и неверным представлять «Повесть...»
252
как единое, целостное литературное произведение. Все его достоинства
присущи отдельным составным частям, но все же он является именно
сборником сочинений различных авторов, да притом еще объединением
целого ряда редакционных обработок летописного свода.
Сравнительно недавно издан перевод «Повести временных лет» вместе
с подлинным текстом и обширными комментариями1. Рекомендую
изучить оба тома. Это энциклопедия древнерусской жизни во всех
отношениях — и быта, и литературного искусства, и философии,
религии, нравственности, и вместе с тем один из самых замечательных
памятников нашей истории. (И хотя в молодом возрасте два толстых
тома представляют нечто устрашающее, тем не менее я думаю, что надо
привыкать к тому, чтобы и такие трудности не останавливали вас ради
хорошей цели — ближе, обстоятельнее, подробнее ознакомиться с
драгоценным нашим культурным наследием.) В этом издании во вводной
статье Лихачева довольно подробно излагается вопрос о том, как
постепенно осложнялись филологические комментарии к «Повести...»,
как медленно раскрывалась литературная история этого памятника.
Самые большие заслуги в этой области имеет Шахматов. После его
огромного разыскания о составе летописи и монографий, посвященных
вопросу о Корсунской легенде, о договорах с греками и т.д., собственно,
очень немного удалось прибавить исследователям (хотя вышли
монографии Приселкова, Лихачева — очень крупных специалистов).
Несколько изменилось, пожалуй, понимание исторической обстановки,
когда возникали редакции летописного свода; появилась отчетливая
социальная мотивировка, какой не было у Шахматова. Но в основном
главные этапы историй текста представляются сейчас такими же, как в
1
Повесть временных лет, ч. 1. Текст и перевод, ч. 2. Комментарии. Под ред.
В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1950. Все цитаты из «Повести временных лет»
приводятся
по
этому
изданию.
■:'
работах Шахматова.
)
Прежде всего в эпоху Ярослава Мудрого, примерно около 1037 г.,
возникает «Сказание о распространении христианства на Руси». Его
автор хотел, с одной стороны, связать историю Русского государства и
русского народа с мировой историей, с библейской легендой; с другой
стороны — показать, что русский народ такой же древний, великий
народ, как и греки, как и прочие хорошо известные Библии и греческим
хронографам народы. Целью этого трактата было и другое — доказать,
что христианство принято на Руси по свободному выбору, а не по
принуждению, не под давлением Византии, что распространение
253
христианства способствовало расцвету русской культуры. Это сочинение
в основных своих мотивах очень близко к «Слову о законе и благодати»
Илариона. Поэтому Приселков высказал предположение, будто и оно
написано митрополитом Иларио-ном1, что представляется весьма
вероятным. По-видимому, к этому взгляду склонен присоединиться и
Лихачев, и хотя из осторожности он категорически этого не утверждает,
но приводит целый ряд совпадений в этих памятниках древней
письменности.
Предания о начале Русского государства, о войнах и договорах с
Византией, о варяжской династии князей, об успешных походах русских
князей на Восток, о русских завоеваниях на севере, вошедшие в
«Сказание...», послужили основой для древнейшего летописного
памятника, о котором можно догадаться и который можно реконструировать по сохранившимся источникам. Во второй половине XI в.
печерский монах и крупный ученый того времени Никон перерабатывает
этот древний свод, вводя погодные записи, которые с того времени
становятся основой русского летописания.
Следующая крупная переработка летописного свода приписывается
Нестору, и относят ее к самому началу XII в. — около 1113 г. Затем были
еще две редакции летописи, из которых последняя, 1118 г., принадлежит
игумену
Выдубицкого
монастыря
Сильвестру.
Вот
в
этой
сильвестровской редакции «Повесть временных лет» вошла в состав
большинства русских позднейших летописных сводов и дошла до нас.
Каждый из редакторов включал в летопись какие-нибудь новые
источники, но, конечно, и исключал из нее все, что, с его точки зрения,
' См.: Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской РусиХ-ХІІ вв.
Спб., 1913, с. 181-184, 228.
было неверно, не соответствовало его политическим, религиозным, а
иногда и социальным воззрениям; наконец, каждый из них добавлял
обычно введение и заключительную часть к своду и кое-где внутри текста
производил редакционную переработку таких сообщений, какие
казались наиболее злободневными.
Из этого ясно, что в языке «Повести временных лет» больше, чем в
каком бы то ни было другом источнике домонгольской эпохи, присутствуют различные литературные жанры, различные диалекты; это
русский язык во всем разнообразии, какое ему было свойственно в Хначале XII в. Но, с другой стороны, неоднократные усилия редакторов
придать сборнику какое-то единство, сгладить пестроту, несомненно,
254
привели к тому, что мы можем рассматривать язык летописи (по
крайней мере, в некоторых ее частях) как отражение наиболее
обобщенного языка, в какой-то мере нейтрализованного, освобожденного
от особенностей диалектных и жанровых. Резкие языковые различия
сохранились лишь изредка в тех частях, которые не казались, хотя бы в
начале XII в., при трех последних переработках свода, политически
опасными или литературно неприемлемыми.
Основной мотив, которому подчиняется изложение исторического
материала в летописи, тот же, что и в «Слове о полку Игореве», и в целом
ряде поучений. Это призыв к объединению, обращение к князьям: «Не
мозѣте погубити Русьскыѣ земли. Аще бо възмете рать межю собою,
поганий имуть радоватися, и возьмуть землю нашю, иже бѣша стяжали
отци ваши и дѣди ваши трудом великым и храбрьствомь, побарающе по
Русьскѣи земли» или: «Почто вы распря имата межи собою? А поганий
губять землю Русьскую. Послѣди ся уладита, а нонѣ поидита противу
поганым любо с миромъ, любо ратью!» Такого рода воззвания к князьям
встречаются неоднократно. Идеал летописца, который тоже повторяется
как лейтмотив, — это мир в земле Русской: «И начаста жити мирно и в
братолюбьствѣ, и уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика в
земли».
Важнейшими в составе летописи остаются две части, вошедшие и в
древнейший свод: военная история Русского государства и церковная
история Руси. Отсюда исключительно богатая военная терминология и
фразеология «Повести временных лет». Даже самые обычные слова здесь
почти никогда не означают то, что в нашем современном языке.
Например, идти значит не 'двигаться пешком', а 'совершать военный
поход', поиде или шед — 'отправился в поход', дати, датися— 'сдаться',
взяти — 'завоевать, захватить', блюсти — 'вести военную оборону,
оборонительную службу'. Но помимо этих специфических значений
обычных слов, мы встречаем в «Повести...» особую, неизвестную общему
языку военную терминологию. Скажем, исполчити дружину значит 'по
боевой тревоге всех поставить на свои места в полном вооружении', а сам
ста с дружиною своею по крилома — 'сам стал с дружиной на правом
и левом флангах'. Можно было продолжить примеры, но я не вижу в
этом необходимости, так как военная фразеология «Повести...» не
является достоянием общего языка и в значительной мере не переходит
даже в позднейшие летописные своды, так как быстро устаревает. Если
сравнить военную фразеологию «Повести...» с военной фразеологией,
255
скажем, московских летописей, то увидим, как много появилось новых
словосочетаний и как много отмерло.
Гораздо более устойчивыми элементами языка «Повести временных
лет» являются те, которые мы с полным правом можем назвать
народными. Распределение их в «Повести...», конечно, неравномерно. Мы
их почти не найдем в описаниях походов, в церковно-бо-гословских
частях, но эта народная лексика и фразеология очень широко
представлена в сказаниях, легендах, преданиях, в записях и пересказах
былин, исторических песен, которых довольно много в «Повести...».
Однако подлинно народные элементы есть и в погодных записях,
сделанных редакторами и составителями летописи и касающихся жизни
княжеского двора. В тех случаях, когда мы ожидали бы увидеть передачу
какой-то специфической особенности языка феодала, мы ее почти не
находим, а обнаруживаем нередко именно народную лексику. И это
свидетельствует о том, что обиходным языком у феодалов, так же как и у
крестьян, был один, однородный в своем составе язык. Скажем, князь
князя так упрекает в жадности: «Оже ти, брате, не досыта всю землю
Русскую держаще, а хощешь и сее волости?1» Выражение не досыти
чисто народное; здесь оно употреблено метафорически. Или совершенно
народным языком описывается обстановка, место военных действий:
«Суть горы заидуче (в) луку моря». Форма заидуче — деепричастие с
народным русским ч — выдает происхождение, да и весь оборот в целом
(ср. лукоморье наших сказок) — это, конечно, штамп общей речи. В
описании погребения великого князя киевского есть такие слова: «ночью
же межю двема клѣтми проймавше помостъ, обертѣвше в коверъ и, ужи
съвѣсиша на землю» — 'между двумя комнатами разобрали пол...'. И все
1
Цит. по кн.: Поли. собр. русских летописей. Изд. 2, т. 1, вып. 2. Л., 1927.
это описание составлено на основе просторечия, хотя и выдержано в
высоких патетических тонах. Стихийные бедствия всегда почти
описываются общенародным языком: «бысть буря велика и много
пакости бысть, по селомъ дубье подрало» — 'вырвало дубы с корнем';
«бысть гром страшенъ». «Зарази двое чади» — 'убило двух слуг' (чадѣ —
это не значит 'дети').
Но в тех частях летописи, которые прямо восходят к народным
преданиям, мы имеем изложение такой народной речи, которая
приближается даже в некоторых элементах к диалектам. Известное
сказание о белгородском киселе начинается фразой, в которой
использована книжная конструкция и общерусская лексика: «Во-
256
лодимеру же шедшю Новугороду...» Вслед за оборотом «дательный
самостоятельный», свойственным только книжному языку, идет по
верховьниѣ воѣ на Печенѣгы бѣ бо рать велика беспереста-ни, т. е. явные
элементы живой речи (специфическое выражение по верховьниѣ воѣ
значит 'пошел собирать войска в верховьях Днепра'). Мы найдем и в
дальнейшем
изложении
немногочисленные
книжные
формы,
глагольные, синтаксические, но основа лексики, большинство
фразеологических оборотов — народные.
Я приведу сейчас несколько строк, завершающих притчу об осаде
Белгорода. Белгородское вече, по мудрому совету одного из старост,
вызвало печенегов, чтобы убедить их снять осаду:
«Поимѣте к собѣ таль нашь, а вы пойдѣте до 10 мужъ в градъ, да видите, что ся дѣеть в градѣ нашем». Печенѣзи же ради бывше, мняще, яко
предатися хотять, пояша у них тали, а сами избраша лучьшиѣ мужи в
родехъ и послаша в град, да розглядають в городѣ, что ся дѣеть. И
придоша в городъ, и рекоша имъ людье: «Почто губите себе? Коли
можете престояти нас? Аще стоите за 10 лѣтъ, что можете створити
нам? Имѣемъ бо кормлю от землѣ. Аще ли не вѣруете, да узрите своима очима». И приведоша я къ кладязю, идѣже цѣжь, и почерпоша
вѣдромь и льяша в латки. И яко свариша кисель, и поимше придоша
с ними к другому кладязю, и почерпоша сыты и почаша ясти сами
первое, потомь же печенѣзи. И удивишася, и рекоша: «Не имуть въры
наши князи, аще не ядять сами». Людье же нальяша корчагу цѣжа и
сыты от колодязя, и вдаша печенѣгом. Они же пришедше повѣдаша
вся бывшая».
Даже в этом отрывке мы встречаем совершенно необычную для
летописи лексику: кисель, латки, цѣжь — 'раствор муки для киселя',
корчага, вѣдро, кормля от земли и т.д. Если мы сравним это с языком,
которым описаны эпизоды другого характера, то увидим резкие
языковые контрасты. Вот несколько строк из «Похвального слова
Феодосию Печерскому»:
«Радуйся, отче нашь и наставниче, мирьскыя плища отринувъ, молчанье възлюбивъ, богу послужилъ еси в тишинѣ, въ мнишьскомь житьи,
всяко собѣ принесенье божественное принеслъ еси, пощеньемь превозвышься, плотьскых страстии и сласти възненавидѣвъ, красоту и
желанье свѣта сего отринувъ, вслѣдуя стопами высокомысленнымъ
отцемъ, ревнуя им, молчаньем възвышаяся, смѣреньем и украшался,
в словесѣхъ книжных веселуяся».
257
Здесь, не говоря уже об особом синтаксическом строе, об особом
ритме, лексика иная — отвлеченная, с условными значениями, с особого
рода стилистическими штампами. Наконец, тут есть такие языковые
элементы, которые вовсе не были свойственны русскому языку:
мирьскыя плища отринувъ (плищ — 'гомон, шум'); в словесѣхъ
книжных веселуяся — с неизвестным русскому языку глаголом
веселоватися. Наконец, именно в этих частях летописи широко
употребляются такие формы, как звательный падеж, аорист, перфект со
связкой, старославянские согласованные причастия.
Между этими двумя крайними стилистическими типами, которые
заметно влияют на состав языка, можно выделить нейтральный, средний
тип языка. Не приближаясь слишком очевидно к повседневному
разговорному, не имея каких-либо характерных особенностей книжного
языка, он, однако, отражает обогащение древнерусского языка новыми
элементами. Еще П. С. Билярский более ста лет назад отметил, что в
«Повести временных лет» слово страна употребляется исключительно в
значении 'чужая земля, чужое государство, чужая область': «Глѣбъ
восхотѣ отбѣжати на полунощ-ныя страны», т.е. в скандинавские земли)1.
Отсюда современные странник — 'человек, путешествующий по чужим
землям', и странствовать. Однако, как всем ясно, страна первоначально
обозначала просто какую-то часть, область земли, не обязательно чужую.
Тот же Билярский отметил синонимическое богатство летописного
1
См.: Билярский П. С. Замечания о языке Сказания о святых Борисе и Глебе,
приписываемом Нестору, сравнительно с языком летописи. — «Записки Академии наук»,
1862, т. 2, кн. 2.
языка, которое опять-таки возникло, с одной стороны, в результате
совмещения в нем источников различного происхождения, а с другой
стороны — из-за стремления авторов выработать какой-то наиболее
доступный читателю средних кругов общий язык. Слова с одним
значением употребляются параллельно: древодѣли — плотники,
корабли— лодьи, сулица — копьё, стадия — верста. Билярский
пытался приписать один ряд этих синонимов Нестору, а другой —
позднейшему редактору. Но это представляется не вполне
убедительным.
Довольно широко представлены в языке летописи греческие слова и
кальки с греческого. Греческие слова чаще всего встречаются среди
наименований званий, чинов, обрядов, церковной утвари: дьяконъ,
митрополитъ, епископъ, епитрахиль, евангелие, а кальки —
258
применительно уже к терминам административным, политическим:
самодержьць, самовластьць и т. д.
Гораздо более показательны для процесса создания нейтрального,
общего языка «Повести временных лет» явления не лексические и
фразеологические, а синтаксические. В известной мере благодаря
заимствованию народных оборотов, но в то же время и отражению уже
сложившегося общего языка не только широких народных масс, но и
высших кругов феодального общества синтаксический строй языка
летописи резко отличается от церковной письменности. Пословицы в
летописи не так уж многочисленны. Однако характерно, что они берутся
из речи всех слоев общества. Здесь встречаются специфические
феодальные пословицы, княжеские поговорки, например, «Сребромь и
златом не имам налѣсти дружины, а дружиною налѣзу сребро и злато», а
рядом с этим — чисто народная (хотя и получившая слегка книжную
окраску): «Аще ся въвадить волкъ в овцѣ, то выносить все стадо, аще не
убьють его». Может быть, народная поговорка выражалась бессоюзной
конструкцией. Едва ли можно допустить, чтобы в народной речи было
аще; это уже результат некоторой редакторской работы. Так путем
обогащения и сложился синтаксический строй летописи, изобилующий
специфическими русскими разговорными построениями.
Я остановлюсь здесь на работах, посвященных изучению синтаксиса
летописей: «Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьев-ского списка
летописи» акад. Е. Ф. Карского и «Синтаксические явления Синодального
списка I Новгородской летописи» Е. С. ИстринойЛ Заголовки обеих
работ показывают, что синтаксические явления исследовались по тексту
только одного списка, одной рукописи, а не по летописи как
литературному памятнику. Можно ли согласиться с такой постановкой
вопроса? Если внимание исследователя привлекает только один список,
одна рукопись, то следовало бы выделить черты, характерные для этого
списка. Но ни один из авторов, рассчитывая упростить работу и оградить
себя от лишних упреков, этого не делает. Если бы работы такого порядка
появились в начале XIX в., до того как историки и литературоведы
изучили текст, тогда они, может быть, были бы и приемлемы. А сейчас,
когда найдено много списков, когда проведена огромная работа по сопоставлению их текстов, когда Шахматовым осуществлено сводное издание
«Повести временных лет», результаты такого изучения не могут считаться
удовлетворительными.
Теперь мы можем исследовать памятник, выделяя его первичный
состав, ибо нельзя с одинаковым доверием изучать весь материал.
259
В начале своего исследования Карский пишет, что Лаврентий переписал и начало летописи, составленное на юге, и продолжение ее,
сделанное на севере в более позднее время. Поэтому, будто бы, теперь
трудно выделить элементы старые и новые, южные и северные.
Оправдывая изучение только одного списка, Карский утверждает, что
синтаксические средства языка от XII до XIV в. не менялись. Пока никто
не сопоставил синтаксические формы наиболее устойчивой части текста,
восходящей к архетипу, с формами, которые возникли в результате
переделок, утверждение Карского остается спорным. Но даже если и
признать его положение о неизменности текста, в чем я весьма
сомневаюсь, то и тогда синтаксис летописи нельзя рассматривать как
однородную систему.
Всякое исследование синтаксиса требует расчленить текст на: а)
наиболее широко представленную синтаксическую систему; б) остатки
системы более древней; в) новые, нарождающиеся в эпоху возникновения
памятника синтаксические явления. Я не могу сказать, что ощущения
динамичности синтаксической системы, разграничения старого и нового
не было в работе Карского. Но этого нет «в книге Истриной. Иногда
Карский для одних синтаксических форм указывает границы
употребления, как для явлений, сложив1
См.: Карский Е. Ф. Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи. —
«Изв. АН СССР. ОРЯС», 1929, т. 2, кн. 1; Истрина Е. С. Синтаксические явления Синодального
списка I Новгородской летописи. Пг., 1923.
шихся в прошлом, для других намечает перспективы, как для явлений,
лишь нарождающихся. Но эти случайные наблюдения не могут нас
удовлетворить. Систематическое изучение синтаксиса в процессе его
исторического изменения является настоятельной, очередной задачей
науки. Систематизируя свои наблюдения, Карский не видит
исторической перспективы, и в одной рубрике оказываются явления,
характерные для различных периодов истории языка (отчетливо
различимые, если объяснить их природу). Остановлюсь на двух
примерах: а) Потягнѣмъ, уже нам не лзѣ камо ся дѣти; б) А о наших
не бысть кто и вѣсть принеса.
В первом случае мы имеем два предложения, о которых сразу не
скажешь, самостоятельные они или одно из них является зависимым.
Однако границы между ними совершенно отчетливы, а уяснив себе
смысловые отношения обеих частей, мы едва ли усомнимся в том, что
здесь подчинительная связь: второе предложение является причинным
по отношению к первому. Во втором примере характерно отсутствие
260
ясного синтаксического выражения отношения, конструкция более
примитивная, в которой два предложения, имеющие общий член,
сливаются как бы в одно. Границы предложений этим как бы стерты.
Можно сказать, что перед нами синтаксические конструкции разного
порядка: одна более молодая, развивающаяся, другая более древняя,
архаическая.
Исследователи давно отмечали изобилие в языке летописи безличных
оборотов, совсем несвойственное и необычное для книжного языка: не
бяше льзѣ коня напоити; уже намъ нѣкамо ся дѣти; нельзѣ казати
срама ради; бысть видѣти всѣм. Из живой речи надо выводить и
конструкции без связки: оже ти собѣ не любо, то того и другу не
твори; ты наш князь; гдѣ же ныне увозъ Боричевъ.
Карский выделяет также группу предложений «с отсутствующим
полным согласованием» (сказуемое во множественном числе,
подлежащее — в единственном). Так, во фразах реша старейшина и
рекоша дружина подлежащее стоит в форме единственного числа с
собирательным значением. Можно ли квалифицировать это как
неполное согласование? Я думаю, что нет. Здесь мы имеем так называемое согласование по смыслу, знакомое и теперь еще народным
говорам. Рядом с этим в работе Карского приведены и такие примеры:
«Въ Торжку туча на одном часу ровъ учинило и хоромовъ нѣсколько
снесло изъ основанья». Если мы исключим первую часть и прочтем на
одном часу ровъ учинило, то перед нами безличная конструкция,
широко известная в народной речи и в современном литературном
языке. Стихийные явления, природа которых когда-то была неясна,
выражались формой среднего рода. Но с этим мало вяжется начало
фразы в Торжку туча ровъ учинило; здесь хочется поправить тучей (как
совр. громом убило). Производитель действия (агенс) в такой безличной
конструкции выражается обычно формой творительного падежа, а мы
имеем именительный. Я думаю, что никаких поправок вносить не только
не нужно, но и нельзя; это не испорченное место, а реликтовое явление, и
потому оно кажется малопонятным. Здесь встретился, правда, довольно
исключительный, случай употребления именительного падежа в
функции, далекой от функции выражения подлежащего. Эту функцию
можно назвать функцией «непрямого субъекта». Именительный падеж
выступает во многих категориях как падеж или совсем неоформленный,
или отрицательно оформленный. Отсутствие показателя (падежного
окончания) заставляет нас думать, что эта форма не сразу могла стать
исключительной формой выражения подлежащего (агенса). А старая
261
функция «непрямого субъекта» (когда-то объекта) отчетливо выступает в
известных сочетаниях именительного падежа с инфинитивом, а также и в
данной конструкции.
Из народного же языка надо выводить и чрезвычайно широкое
употребление причастий и деепричастий в «Повести временных лет». У
Карского не проведено сопоставления различных форм употребления
причастий в Лаврентьевской летописи; примеры на причастия даны в
различных частях его работы. При одной группе примеров Карский
говорит о причастии как о второстепенной предикативной форме, а при
другой — как о сказуемом'.
Наиболее архаическую форму для предикативной функции причастия указал еще проф. А. А. Потебня. Он говорил, что причастие чаще
всего употребляется в летописи в качестве нормальной, законной формы
для выражения сказуемого, причем оно часто выступает наряду с
личными глагольными конструкциями и соединяется с ними союзом и2.
Теперь мы допускаем причастие для выражения предиката в
обособленных причастных оборотах; язык «Повести временных лет»
широко пользуется деепричастиями и причастиями при выражении
1
См.: Карский Е. Ф. Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи, с.
22, 63, 68.
2
См.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, ч. 1-2. Харьков, 1888, с. 186-187.
сказуемого в основном, главном, независимом самостоятельном
предложении. Иногда наряду с предложением, где сказуемое выражено
причастием, стоит предложение, в котором сказуемое выражено личным
глаголом, и они соединены союзом, что указывает на их полное
равноправие, независимость и самостоятельность. В работе Карского не
только не выделяется такая группа, но даже не различаются союзное и
бессоюзное употребление предикативных причастий. В следующих
предложениях
нет
оснований
видеть
подчинительную
связь
«...Пришедъше к Днѣпру и сташа вежами; Заутра въставъ и рече к
сущимъ с нимъ ученикомъ; И при-шедь Суждалю и суждальци дашася
ему» — здесь связь сочинительная, так как излагается последовательность
действий.
Разберем другие примеры: «Ночью же межю двема клѣтьми проймавше помостъ, обертѣвше в коверъ и, ужи свѣсиша на землю»;
«Ярославъ же сѣде Кыевѣ, утеръ пота съ дружиною своею, показавъ
побѣду и трудъ великъ». В последнем случае нет соединительных союзов.
262
Можно ли видеть здесь резкое отличие от предыдущего? Пожалуй, нет.
Самостоятельность каждого предложения очевидна. А предложение
Вшедъ в ню и помолися можно рассматривать как выражение двумя
членами предложения целостного действия, но не двух самостоятельных
действий. Однако таких примеров мало.
Еще один пример: «Приде Олговичь с Вышегородци, пристро-ивъся с
братьею своею и присылая к Вячеславу: «Иди з добромъ из города». Он
же не хотя крови пролити, не бися с ними». Этот абзац представляет
цепь предложений, каждое из которых вполне самостоятельно, личные
глагольные формы чередуются с причастиями. Ввиду того, что такого
рода конструкции довольно рано исчезают со страниц летописи и в
последующих редакциях они заменяются, а в говорах редки, можно
считать, что причастия в роли сказуемого характеризуют только
древнейшие тексты, и притом те части, которые относятся к источникам,
более всего отражающим разговорный язык.
У Карского приведены также примеры, где причастия выступают в
роли сказуемого не сами по себе, а со вспомогательным глаголом.
Следовательно, глагольные свойства причастий утеряны, они переходят
на вспомогательный глагол; причастие теперь обозначает признак
субъекта и становится в ряд с именной частью сложного сказуемого.
«Бяхуть бо борци стояще горѣ во бронях и стрѣляюще» — здесь бяхуть
выражает вид и время действия, а стояще и стрѣляюще — свойства
субъекта действия в отвлечении от собственно глагольных значений. В
словосочетании бѣ бо ловы дѣя Олегъ оборот ловы дѣя выступает как
семантическое целое. Такое употребление форм чисто глагольных и
причастных отразило недолгий переходный этап в развитии
предложения.
Рассматривая употребление форм прошедшего времени, Карский и
здесь отмечает «несогласование» в употреблении форм аориста и
имперфекта. Этот термин свидетельствует только о том, что ему не
удалось подметить особенностей в употреблении форм, что он не
заметил разрушения старой системы прошедших времен. Но уж если
найдено в тексте это явление, надо было бы посмотреть, в каких случаях
появляются нарушенные формы глагольных времен.
Карский замечает, что в предложении «Изяслава же Мстисла-вича
язвиша в руку и свергли и бяхуть с коня и хотеша и убити»
давнопрошедшее (свергли бяхуть) перемежается с аористом без видимой
причины. Однако это не так. Здесь, безусловно, есть последовательность
времен: 'Изяслава ранили в руку, а дело было так: сначала сбросили его с
263
коня и затем хотели даже убить'. Дифференциация времен в этом случае
совершенно необходима. Если все это выразить формой аориста, тогда,
действительно,
получится
полная
беспорядочность
рассказа.
Необходимо указать, кроме того, на забвение, непонимание старой
системы в XVI и XVII вв., поэтому текст «Повести временных лет» был не
всегда ясен новым редакторам, и они допускали ошибки (имперфект
заменялся причастием и т.д.). Признаки распада системы четырех форм
прошедшего времени относятся не ко времени составления летописи, а к
периоду появления поздних списков.
Очень существенно замечание Карского о том, что перфект преобладает в языке летописи в прямой речи, т.е. в диалогах. Наряду с
перфектом со связкой во всех трех лицах мы имеем много случаев
перфекта без связки. Однако Карский не указал, где же употребляются те
и другие формы перфекта. Форма перфекта без связки используется в
прямой речи или в фольклорных вставках; со связкой — в церковных
отрывках, отрывках из хронографа и т.д.
Наконец, последний вопрос, на котором я должен остановиться, это
употребление местного, дательного и родительного падежей без
предлога. Конструкции с беспредложным употреблением падежей для
обозначения направления и цели движения, нахождения где-либо, места
и времени действия весьма древние. Одно время вопрос об этих
конструкциях наши историки языка готовы были снять совсем, считая,
что число достоверных случаев употребления беспредложного местного
и дательного падежей во всех перечисленных мною значениях так
невелико (а в живом языке оно не находит опоры), что осторожнее было
бы признать все опиской, пропуском предлога. Таков был основной
тезис, например, диссертации ученика проф. Л. П. Якубинского Ю. А.
Числова1. Работа эта вызвала очень большие сомнения у некоторой части
историков языка, у меня в частности. И действительно, накопилось
достаточно материала и оснований для того, чтобы считать этот тезис
совершенно неосновательным.
Во-первых, обнаружены пережиточные остатки беспредложных
конструкций с местным и дательным падежами в современных севернорусских говорах. Во-вторых, число таких случаев (их ранее насчитывали пять-шесть) оказывается довольно большим. В-третьих,
Числов иногда отвергал беспредложное употребление на том основании,
что перед нами наречия, а не существительные беспредложного
употребления. Еще Срезневский отметил, что наши летописи
отличаются от других памятников беспредложным употреблением
264
местного и дательного падежей2. Мало аналогий этому явлению мы
находим в других славянских языках. В русских говорах спорадически
такое явление сохранилось, но нам стало это известно сравнительно
недавно. За пределами русского языка беспредложный местный падеж
обнаружен только в лужицких говорах, в словенском языке
употребляется беспредложный дательный падеж; другие славянские
языки таких конструкций не знают.
Вошло в обычай характеризовать русский язык домонгольской поры
как язык, в котором преобладали беспредложные конструкции, что дало
возможность А. Мейе заявить, будто русский язык выпадает из всей
системы индоевропейских языков3. Причиной этого явления он считал
культурную отсталость русских, что и было использовано в спорах о
преимуществе аналитической системы языка перед синтетической.
Некоторые западноевропейские лингвисты давно уже отмечали
несостоятельность такого вывода и неправильность сопоставления,
1
См.: Числов Ю. А. Местный падеж без предлога в русском языке. (К истории
аналитических форм в русском склонении.) Канд. дисс, 1940. — Ленинградский гос. архив
Октябрьской революции и соц. строительства, ф. 4331, оп. 30, д. 629.
2
См.: Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка, с. 28-29.
3
См.: МеШеі А. ье5 1ап(гие$ сіапз ГЕигоре поиѵеііе. Р., 1928, р. 270-275.
например, классической латыни с современным французским языком,
как языка синтетического с аналитическим. Более детальное изучение
русского материала показывает, что здесь мы имеем дело с явлением,
весьма ограниченным хронологически, а может быть, и диалектным.
Я остановлюсь на фактах из «Повести временных лет» и Новгородской
I летописи, которая сохранила еще более древний состав летописного
свода. В так называемом начальном своде середины XI в. действительно
очень немного примеров употребления дательного падежа цели без
предлога: «Хочю пояти дщерь твою собѣ женѣ; Ротѣ заходиша межю
собѣ; Хощю тя пояти собѣ женѣ; саму поя женѣ». Чаще всего дательный
падеж без предлога используется при названиях мест, обычно городов:
«иде из града на столъ отень Переяславлю; прибѣгь с полку Смолиньску;
посла по Святополка Турову; поя Антонья Чернигову». Здесь дательный
падеж без предлога обозначал направление, конечную цель движения (в
последнем примере это значение выступает не так отчетливо).
Та же конструкция используется и при именах нарицательных:
«остатокъ бьеных тѣх бѣжаша дружинѣ своей» — 'бежали в том направлении, где была их дружина'. И здесь выступает значение направления движения, его конечная цель. «Пусти дружину свою до-мови;
265
идѣте съ данью домови; половци идоша домовь» — так постепенно
форма дательного падежа домови претерпевает фонетическое изменение
в домовь. До сих пор существует форма домой и в литературном языке, а
в некоторых говорах осталось старое домовь.
Местный падеж без предлога тоже употребляется чаще всего при
названиях городов: «Бѣлѣгородѣ затворился Мстислав Романович;
Святополкъ же сѣде Кыевѣ по отци своем; Бысть пожаръ велик Кыевѣ;
Преставися Володимеръ сынъ Ярославль старей Новѣгородѣ; Новѣгородѣ
иде Волховъ вспять, Мстиславъ Новѣгородѣ сѣде». Каково же значение
местного падежа без предлога? На вопрос «где?» может отвечать
местный падеж со значением нахождения внутри или около чего-нибудь
— в приведенных примерах значение 'внутри, в пределах (города)'.
Может ли местный падеж без предлога иметь другое значение? Да,
может иметь значение 'возле'. В работе Карского нет таких примеров.
Приведем несколько примеров беспредложного местного падежа от
нарицательных имен. «Собрашася на месте Сенаръ поли здати столпѣ»
— некоторые ученые считают, что нельзя отделять Сенаръ от поли, и
потому здесь якобы сказывается связь с предлогом на1. Однако я полагаю,
что это модернизация в разборе текста. Поли не связано с на месте.
Смысл этой фразы таков: 'они собрались, чтобы строить башню в поле,
на месте, называемом Сенар'. «Прославиша и срѣдѣ двора княжа», где
срѣдѣ не предлог, не наречие, а старая форма местного падежа без
предлога от существительного срѣда — 'середина'. Числов утверждает,
что здесь было наречие2. Но это спорно, потому что можно понимать
срѣдѣ как обстоятельство места и местный падеж существительного, а
вовсе не наречие. В следующем примере «долу очи имѣти, а душю горѣ»,
с точки зрения Числова, горѣ — наречие, но это наивное толкование,
потому что горѣ значит 'в небе, у бога'. Здесь горѣ, конечно, не наречие, а
местный падеж существительного без предлога: горѣ «где?» — у бога, на
небе и т. д.
Наконец, надо отметить употребление местного падежа без предлога,
отвечающего на вопрос «когда?», ибо временное и местное значения
тесно связаны (разграничение понятий места и времени — явление
относительно позднее в развитии человеческого мышления): «Се
молвилъ Василко си ночи к Уланови; Идоша веснѣ на половцѣ; семь же
лѣтѣ; томь же лѣтѣ». И рядом с этим — «в сем же лѣтѣ, въ то же лѣто». В
поздних списках конструкции без предлога всегда заменяются
конструкциями с предлогом (конструкция здесь совершенно та же). Надо
признать,
что
эта
беспредложная
конструкция,
довольно
266
распространенная в языке «Повести временных лет», является также
отражением живой народной речи, которая мало сохранилась в
книжном языке последующего времени и не была свойственна языку
редакторов летописи, но, видимо, потому и нашла такое широкое
распространение, что составитель «Повести...» ориентировался на
народную речь и смело отступал от норм книжной традиции, которая в
XII в. сложилась уже довольно прочно.
Итак, мы имеем два падежа без предлога для обозначения места:
дательный падеж, выражающий предел и направление движения, и
местный падеж, выражающий нахождение внутри, в пределах. Наряду с
1
Числов предлагает читать Сенар-поле (как перекати-поле или Гуляй-поле). Это
произвольное, недопустимое толкование, потому что в местности, упоминаемой в Библии,
нет никакого поля.
2
Он пишет в диссертации: «Остальные три формы горѣ, долу, срѣдѣ, выставленные
Карским в качестве претендентов на беспредложные локативы, являются таковыми лишь
этимологически. В древнерусском языке это уже наречия, стоящие вне живого употребления
местного падежа, из которых срѣдѣ приобрело значение предлога».
этим встречаются формы родительного падежа в значении предела
времени: «Тое же осени да ему отець волость; Преставися... пороздноѣ
недѣлѣ».
Сопоставим данные «Повести временных лет» с конструкциями этого
рода в Синодальном списке Новгородской I летописи. Здесь гораздо
чаще встречается употребление беспредложных конструкций при
нарицательных именах, а особенно в местном и винительном падежах:
«Иде... на чюдь зимѣ». Десятки раз встречаются такие обороты, как томь
же лѣтѣ, той же веснѣ, томь же дни.
«И сташа в Невѣ устье Ижоры» — в этом предложении рядом
употреблены конструкции с предлогом и без предлога. Здесь ясно
выступает значение двух разных падежей: в Невѣ, — 'в пределах чеголибо', устье Ижоры — 'рядом с чем, близ чего' (винительный падеж без
предлога).
«На поли конець Чудиньчевѣ улици» — здесь конець — винительный
падеж без предлога в значении нахождения вблизи.
«И выгнаша и на Гюргевъ день, осень» — здесь на Гюргевъ день —
указание точного промежутка времени, точного предела; осень —
приблизительное, обобщенное обозначение 'около'. Синодальный список
еще сохранил несколько беспредложных конструкций, а в остальных
267
списках Новгородской I летописи беспредложные конструкции
заменены предложными.
До сих пор никто не занялся уточнением областных, территориальных
границ употребления беспредложных конструкций рассмотренных нами
видов. Начальный свод летописи последний раз был переписан в
Новгороде. В «Повесть временных лет», возможно, попали конструкции
из новгородского древнейшего свода. Изредка эти конструкции
встречаются в старших редакциях Псковской летописи. Дательный,
местный и винительный падежи без предлогов являются особенностью
новгородского литературного языка, а следовательно, и общего языка
новгородцев. Языки балтийские и финские, находившиеся в
непосредственном соседстве с Новгородским и Псковским уделами, тоже
знают беспредложные конструкции. Литовский и латышский языки
широко пользуются предложными конструкциями, но вместе с тем они
сохранили еще и конструкции «местно-временного значения» без
предлогов. Так, в литовском языке различаются четыре формы местного
падежа для обозначения: а) нахождения внутри чего-нибудь (іпезвіѵш), б)
нахождения рядом
(асіеззіѵиз), в) движения по направлению к чему-нибудь (аііаііѵш), г)
проникновения во внутрь чего-нибудь (Шатіѵиз).
Совпадения в значении падежей и в употреблении беспредложной
конструкции в русском языке и соседних языках северо-западных
районов указывают на то, что мы имеем дело с древним явлением,
восходящим еще, по-видимому, к языкам дославянским, дофинским,
добалтийским. В силу этого можно думать, что дальнейшие
диалектологические разыскания, проводимые в связи с составлением
Диалектологического атласа русского языка, позволяют установить
точные границы распространения этой черты в русских говорах —
современных и древних.
Я остановился обстоятельно на этом вопросе потому, что здесь
наглядно вскрывается недопустимость рассматривать язык летописи
недифференцированно, видеть в нем отражение языка всей киевской
эпохи. Отдельные языковые черты заставляют нас искать их источник то
на севере, то на юге, то на западе, то на востоке.
В сфере грамматических явлений территориальную локализацию
языка проследить труднее, чем в лексике. Лексике древнейшего периода
истории русского языка посвящена работа Филина «Лексика русского
литературного языка древнекиевской эпохи», которая заложила основы
для широкого и более углубленного изучения древнерусского языка1.
268
Исследуя «Повесть временных лет» по различным летописным сводам,
Филин старался уловить основные изменения, установить важнейшие
этапы истории лексики литературного языка в целом. Первая задача
автора — снять искажения в текстах; вторая — выделить
церковнославянскую лексику «Повести...», причем эта задача отмечается
как важнейшая, что связано с общей концепцией Филина, считающего,
что до принятия христианства у нас не было письменности. В этом
отношении его понимание (ошибочное) противостоит концепции
Обнорского2.
Следующий вопрос — об общерусской лексике, которая создавалась в
Киеве. С Киевом еще Шахматов связывал появление общерусской речи
(койне), общерусского разговорного языка3. Кроме
1
См.: Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по
материалам летописей). — «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1949, т. 30.
2
См.: Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками. — В кн.: Язык и мышление, вып.
6-7. М. — Л„ 1936, с. 103.
3
См.: Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка, с. 62-65.
«киевского койне» Филин находит еще и другие типы разговорной речи,
отложившиеся в разных областных диалектах и некоторых памятниках.
Филин выделяет три пласта лексики: общий пласт (киевское койне),
славянский пласт, который, с точки зрения автора, тоже является общим,
и диалектный пласт. Кроме того, он отмечает еще хронологическое
деление: а) древнейшая лексика и б) вторичная лексика, неизвестная
древнейшему своду и «Повести временных лет».
Я остановлюсь только на нескольких разделах этой работы. Сопоставляя лексику «Повести временных лет» с лексикой Никоновской
летописи (XVI в.), Филин считает необходимым указать причины
редакционной переработки летописи. Эти причины он усматривает в
непонятности текста «Повести...» в московскую эпоху. Мне кажется,
следует продолжить исследование: указать, какие слова исчезли в
московскую эпоху. Многие слова получили другое значение, и лишь
меньшинство слов отмерло и совершенно не употреблялось в
московскую эпоху. Именно такая разработка вопроса (а этого и не делает
автор исследования) и могла бы послужить прочной основой для
утверждения о смене мировоззрения.
Я приведу несколько примеров. На первых же листах летописи
читаем: жребий братень, в дальнейшем: часть Симова, предѣлъ
Симовъ. Жребий — теперь слово высокого стиля, выражение бросать
269
жребий стало литературным штампом. Но в летописном сочетании
жребий братень слово жребий имеет иное значение, это не 'судьба' и не
'гадание о судьбе', а 'удел, земля, области, унаследованные от отца'. В
таком значении слово жребий теперь неизвестно. Составитель «Повести
временных лет» под этим выражением понимал раздел имущества в
патриархальной семье. Древнее значение слова жребий — 'обряд (в
племенном быту)', как можно думать, сопоставляя русское слово с литов.
§егЪіі — 'почитать, наряжать'.
В тексте договора с греками (911 г.) встречается слово углады, которое
в позднейших списках заменяется словом уклады и, наконец, словами
выходы, дань. Слово углады по своему происхождению считается
загадочным; трудно сказать, каково его значение. Можно догадываться,
что это установленная обрядом, обычаем доля участников военного
похода, выделение известной части военной добычи. Значение слова
может быть выяснено из контекста, а происхождение его остается
неясным. Возможно, оно появилось в эпоху союза племен,
предпринимавших вместе тяжелые походы.
Система этих племенных союзов исчезает в киевскую эпоху, скоро
исчезает и термин.
Такого же порядка и другая замена: начата скот собирати, а дальше
начаша дань собирати. Скот представлял когда-то, еще в дофеодальный период, меновую ценность; в киевскую эпоху слово скот
сохранилось как обозначение ценности, взимаемой завоевателями с
завоеванных, и позже здесь уже более подходящим стало слово дань,
понятие феодальной эпохи. Дань выплачивалась феодалу, князю.
Еще пример: ити роте — 'приносить языческую присягу, клятву'. И
это выражение было заменено формулой водити ко кресту, цѣловати
крестъ, относящейся к эпохе принятия христианства. Тексты договоров
русских с греками дают нам возможность со всей отчетливостью
проследить старый языческий обряд роты: дружинники и князь
обнажали оружие, складывали его к подножию идола и произносили
магические заклинания.
По замене слов в различных текстах летописи можно проследить и
бытовые изменения, скажем, на примере слова вотола — 'одежда из
грубой ткани, дерюги'. Выработка вотолы не была повсеместной, одежду
из такого материала носили только в деревне, и слово вото-ляна
заменено в редакции XVI в. словом волосяна.
Иногда сказывается забвение и диалектных слов. Синонимы уй —
стрый — дядя были по происхождению вариантами, характерными для
270
областных изводов литературного языка. В позднейших текстах осталось
только дядя.
Вот некоторые лексические замены в тексте «Повести временных лет»,
произведенные редакторами в XVI в.: похорони — погребе; в масленую
недѣлю — в сыропустную недѣлю; сруби градъкъ — созда градъкъ;
река, рькя — глаголя; переклюкала мя еси — упре-мудри мя еси;
хромой — клосный; медлити — коснѣти; запона ('занавес') —
катапетазма. В изобилии появляются неологизмы, образованные путем
перевода греческих сложных слов, подстановки славянских основ
(кальки): самодержець, миродержець, единовластие и т. д.
Внутренней причиной и предпосылкой «второго южнославянского
влияния» в XV в. было усиление монархии, искавшей опоры для своего
авторитета в византийских традициях. В Москве в тот период родилась
идея объединения всех славян в борьбе против турецкого ига. Немалую
роль сыграли в этом эмигранты с Балканского полуострова, уверенные в
том, что теперь только Московская
Русь может и должна спасти всех славян, попавших под иго турок. Эта
идея и заставляла воскрешать забытый славянский языковой фонд,
стремиться к созданию общего для всех восточных и южных славян
литературного языка. Это отнюдь не «второе южнославянское влияние», а
реставрация
старославянских
традиций,
отражающая
новые
политические тенденции — к общеславянскому объединению под
1
Язык летописей рассматривался позже в следующих работах: Боровский В. И. О языке
Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку. — В кн.: Труды комиссии по русскому
языку, т. 1. М., 1971; Творогов О. В. К вопросу об употреблении старославянизмов в «Повести
временных лет». — ТОДРЛ, 1963, т. 19; его же. Словарь-комментарий к «Повести временных271
лет». Автореферат канд. дисс. М., 1962; его же. Традиционные устойчивые словосочетания в
«Повести временных лет». — ТОДРЛ, 1962, т. 18. Прим. ред.
гегемонией Москвы1.
______________глшз ______________
Типы литературного языка
Московской Руси (ХІѴ-ХѴІІ вв.)
Язык Московского государства
272
Мы закончили рассмотрение домонгольского периода в развитии
литературного языка. Как отразилось монголо-татарское нашествие и
разорение России на развитии русского языка?
Монголо-татарское нашествие существенно отличалось от самых
крупных войн предшествующего времени. И так как результатом
тяжелого поражения русских войск стало почти 200-летнее монголотатарское иго, то, несомненно, в языке, так же как и в других сферах
русской культуры, этот период оставил глубокий след. Завоевание Руси
войсками хана Батыя сопровождалось страшным, кровопролитным
истреблением огромных масс народа, не только военных, но и почти
половины населения многих областей, поло-нением сотен тысяч русских
людей, уводом их навсегда из родных мест. Падение Киевского
государства, которое началось в конце XI в., могло бы, вероятно,
продлиться долго. Монголо-татарское нашествие уничтожило последние
основы единения русских племен и русских княжеств. Резкое углубление
феодальной разобщенности и обособленности начинается именно со
второй половины XIII в. Поднепровье, Киевская земля, которая одна
только долго и называлась Русью, утрачивает и политическое, и
хозяйственное значение в жизни страны и на много столетий становится
захолустной окраиной. Еще в домонгольский период Новгород стремился
к независимости и самостоятельности. Теперь же, в силу того что именно
новгородские земли не подверглись нашествию, разорению и
разрушению, независимость Новгорода становится реальностью.
Поэтому ХІІІ-ХѴ вв. — это эпоха быстрого роста Новгорода и приобретения им ведущей роли в хозяйстве, политике, культуре восточных
славян.
В момент самой большой опасности, когда, воспользовавшись
распадом Киевского государства и изоляцией Новгородской Руси, соседи
новгородцев — шведы, немцы, Литва и Польша — хотели подчинить
Новгород, блестящие победы Александра Невского, его верная внешняя
политика спасли Новгород от гибели и обеспечили ему еще на несколько
столетий исключительно благоприятные условия развития. Поэтому
Новгород становится хранителем традиций Киевской Руси. Культура
Новгорода связывает традиции Киевской Руси и Московского
государства.
Новгородская письменность ХІІІ-ХѴ вв. богаче, чем письменность
любого другого княжества. Через новгородскую письменность мы теперь
и восстанавливаем наследие домонгольской эпохи, ибо прямых
источников литературы, письменности, языка киевского периода мы, как
вы знаете, почти не имеем. Рукописи XI—XIII вв. если и связаны с Киевом
в единичных случаях, то это исключительно ритуально-церковные книги
и рукописи, которые освещают историю языка и литературы
чрезвычайно скудно и довольно односторонне.
Меньше других княжеств Киевского государства пострадали от
монголо-татарского нашествия земли Ростово-Суздальского княжества. И
здесь, так же как в Новгороде, исследователи истории культуры
неоднократно отмечали постоянно обнаруживаемое в разных областях
воздействие Киева и самых отдаленных юго-западных центров культуры
— Волыни и Галичины. Связи с Киевом и Галицией проявляются в
архитектуре церквей, в строительстве кремлей, дворцов князей, в
иконописи, в поэтике, в сюжетах и даже в непосредственно
традиционном материале литературы Ростово-Суздальской Руси. Но
здесь, в отличие от Новгорода и его пригородов, почти не заметны новые
культурные достижения. А пригородами или подчиненными, младшими
городами Новгородской земли были и Псков, и Вятка, и города
архангельских земель, которые тогда назывались Двинскими землями.
В конце XIV в., когда Золотой Орде были нанесены один за другим
тяжкие удары, после Куликовской битвы, которая произвела переворот в
политике русских княжеств, соотношение политических и культурных
сил на Руси существенно меняется. К этому времени Новгород истощен
тяжелой борьбой с северными, западными, Южными соседями и с
появившимися за это время соперниками на востоке — княжествами
Тверским, Ростово-Суздальским и быстро развивающимся Московским.
Новгород теряет свое ведущее значение, и после довольно длительной
и тяжелой внутренней борьбы между княжествами определяется
руководящее положение московских князей.
Причины возвышения и роста Московского государства освещены
достаточно обстоятельно историками. Нас интересует состав населения
Московского княжества в ХІІІ-ХІѴ вв., язык и письменность Москвы. Не
один раз историки русского языка обсуждали и освещали этот вопрос, но
надо признать, что сделано чрезвычайно мало.
Москва в XII в. была пограничным пунктом, лишенным самостоятельности, поэтому население Московской земли формируется
постепенно уже в условиях монголо-татарского ига, феодального распада
и значительных передвижений народа, связанных с быстрыми
переменами в политическом положении отдельных феодальных
княжеств.
274
Московское княжество было более всего удалено от мест военных
действий на северо-западе, а также от мест наиболее частых столкновений
с монголо-татарами, волны нашествия которых часто не доходили дальше
юго-восточных окраин, т.е. земель северских, рязанских, нижегородских.
Поэтому Московское княжество стало очень быстро заселяться
беженцами, переселенцами как с северо-запада — с земель новгородских,
тверских, ростово-суздальских, так и с юго-востока — из Рязанского
княжества и в какой-то мере из южных княжеств — с Украины и из
Северской земли. Таким образом, население Московского княжества, по
сравнению со всеми остальными феодальными землями, было наиболее
смешанным по своему составу. Самые длительные и тесные связи,
экономическая и политическая зависимость от Ростово-Суздальского
княжества объясняют то, что бояре — господствующий класс в Москве —
были по происхождению в основном северянами. Такое господствующее
положение ростово-суздальское боярство сохраняло и позже, когда
московские князья объединили под своей властью уже множество
различных княжеств и в связи с этим состав боярства сильно изменился,
так как почти каждое завоевание нового княжества сопровождалось
переходом в сан бояр московского князя бывших удельных князей.
Значит, в Москве в ХѴІ-ХѴІІ вв. были и бояре ростово-суздальские, и
бояре тверские и новгородские, и бояре муромские и рязанские, и бояре
— выходцы из Польши, Литвы и Украины. Однако, повторяю,
господствующее положение даже в XVI в. сохраняло именно боярство
севернорусское.
Русская церковь, получившая самостоятельность и независимость еще
в эпоху Ярослава Мудрого, подчинялась в ХІ-ХІІ вв. Киеву, потом
Владимиру (киевские митрополиты после монголо-татарского нашествия
не могли оставаться в Киеве и переехали на север) и, наконец, Москве, так
как московские князья очень дальновидно сумели заключить союз с
главой русской церкви и переманить его к себе в Москву. Однако
окончательное перенесение центра духовного управления всей Руси в
Москву произошло только в XIV в., с чем было связано и переселение в
Москву значительных групп церковников. Для этого периода церковная
письменность имеет исключительно большое значение, так как единство
религии было последней опорой будущего национального, а тогда еще
народного единства раздробленной Руси. Это время блестящего расцвета
церковной литературы. Церковники разрабатывают отнюдь не только
богословские, догматические, религиозные вопросы; они занимаются и
вопросами политики, и вопросами экономики, и вопросами науки. В их
руках просвещение, в их руках почти вся государственная переписка; в
значительной мере церковники составляют и государственный аппарат,
являясь редакторами, составителями, а в некоторых менее культурных
центрах и единственными грамотеями, которые могли вести
государственную переписку. Таким образом, язык церковников ХІІІ-ХІѴ
вв. представляет для нас большой интерес.
Вот здесь и надо вспомнить, что руководящая группа церковников
Ростово-Суздальского княжества была южнорусской, киевской и
перенесла на север какие-то традиции киевской живой речи. А в Москве
церковная верхушка была ростово-суздальской, и следовательно,
сохраняла те традиции и тот облик языка, который сложился в РостовоСуздальском княжестве. Таким образом, состав феодальной верхушки
Московского княжества нам достаточно известен. Не так ясен вопрос о
составе населения Москвы и других больших городов Московского
княжества. В том, что состав крупного купечества был таким же пестрым
и сложным, как и посадского и крестьянского населения, у нас нет
сомнений. Сведения о ремесленном люде, важнейшей части посадского
населения, позволяют заключить, что и эта категория постоянно
обновлялась и расширялась.
В феодальную эпоху ремесленники ценились выше недвижимых богатств,
они
были
основным
источником
доходов
князя,
наиболее
производительной частью населения. Поэтому каждый феодал стремился
привлечь в свой город как можно больше мастеров, специалистов
строительного, оружейного, кожевенного дела, слесарей, плотников,
сапожников, портных и т. д. По мере роста богатства и Новгород, и
Ростов, и Суздаль, и Владимир, а затем и Москва собирали не только по
Руси, но и из далеких зарубежных земель хороших ремесленников.
Отсюда в посадах были все условия для широкого взаимодействия
русских диалектов между собой, а также взаимодействия русского языка с
иными языками и восточной, и западной групп. Через ремесленную
среду, не в меньшей мере, а может быть даже в большей, на русский язык
оказывают влияние языки западноевропейские, прежде всего немецкий,
итальянский и более близкие — польский, шведский. Начинает
чувствоваться влияние южных языков (кавказских), восточных (азиатских)
и языков тех народов, которые теснее всего исторически связаны с
русским, т. е. народов угро-финской группы. Даже воздействие такого
небольшого средневекового государства, как Иран, с которым у нас не
было почти никаких политических и культурных связей, и то сказывается
276
в некотором количестве заимствований в русском языке, проникших
через посредство речи ремесленного люда.
Наконец, крестьянское население Московской Руси. Чтобы
представить, как складывалось крестьянское население Московского
княжества, нужно вспомнить, что закрепощения крестьян еще не
произошло, что в ХІІ-ХІѴ вв, крестьяне не были ограничены в праве
переселения, в праве покинуть одного феодала и перейти к другому, за
исключением тех случаев, когда крестьянство было обременено
кабальными обязательствами; но, как мы знаем из целого ряда
документов, крестьяне и с этим не считались. В форме ли законных
переселений или незаконных (бегства), но крестьянство находилось в это
тяжелое время в особенно большом движении. Так как феодалы не могли
(по крайней мере, до разгрома монголо-татар на Куликовом поле)
защищать крестьян от татарского насилия, то совершенно естественно,
что крестьяне сами искали те места, где их защищала природа, просторы
Русской земли, а иногда и ловкая политика некоторых князей оберегала
княжество от монголо-татарских насилий. Именно этим, по-видимому,
более всего и привлекали к себе крестьянство московские феодалы. Им
удавалось подкупом, унижениями, хитростью отводить отряды баскаков,
зверски обращавшихся с русским населением, направлять их в чужие
земли; это обеспечивало относительный покой Московскому княжеству,
все возрастающий приток населения, а следовательно, обогащение
феодалов, что давало им возможность вести свою сепаратную политику.
Московские князья от Ивана Калиты и до Ивана IV Грозного придавали
большое значение объединению русских земель вокруг Москвы, и это
сыграло важную роль в истории русского народа.
Отсюда ясно, что состав крестьянства московских земель никогда не
был однороден, он не может быть возведен ни к какому племенному ядру
древнейшей дофеодальной эпохи. Это новая формация, сложившаяся в
эпоху монголо-татарского ига и окончательно определившаяся после
победы над завоевателями в период роста Московской Руси.
Мнение историков русского языка о языке Москвы опиралось чаще
всего на сведения о составе феодальной верхушки Москвы.
Подчеркивалось, что высокие достижения культуры, в том числе и
языковой, Киевской Руси были сохранены в северо-восточных княжествах
— Новгородском, Ростово-Суздальском, Тверском, — а затем
приумножены в Москве, когда Москва подчинила себе остальные
феодальные княжества. Общая концепция единства и непрерывности
развития русского языка от X до XVI в. находила здесь как будто твердую
фактическую опору. Естественно было и подчеркивать, как это сделали,
скажем, акад. А. А. Шахматов и его последователи и ученики, северное
начало в московской культуре и в московском языке1. В старой литературе
встречаются такие суждения: не только в ХІІІ-ХІѴ вв., но даже в XVII в.
правящие московские классы говорили на языке с ясно и резко
выраженной северной диалектной окраской.
Те черты языкового строя, какие сейчас характерны для Москвы, черты
южнорусского происхождения, по этой концепции, проникли в язык
московского населения поздно, постепенно преодолевая сопротивление
правящих кругов и вытесняя старинные северные языковые черты.
Отсюда создается представление, что примерно с XV в., когда Москва уже
стала центром нового государства, московский язык резко разделился на
два языковых типа — язык феодалов и язык низов, простонародья.
Феодалы «окали» (как это грубо выражали), а народ «акал», феодалы
1
См.: Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М.— Л., 1941, с.
66.
говорили на северном наречии, а народ — на южном. Шахматов, который
никогда не увлекался расслоением языковых явлений, а наоборот,
интересовался тем, что было единым и общим, сформулировал свое
учение о языке Московской Руси несколько иначе. Он считал московский
язык новой формацией русского языка, образовавшейся на северной
основе под сильным южнорусским влиянием. Согласно классической
формуле Шахматова, консонантизм русского языка, как он сложился в
Москве, был севернорусский, а вокализм южнорусский, т.е. система
согласных севернорусская, а система гласных южнорусская1. Эта формула
имеет как будто твердую фактическую опору: московская речь отличается
от севернорусских диалектов тем, что называется в диалектологии
«умеренным аканьем», т. е. системой гласных, различающей ударяемое и
неударяемое положения и имеющей очень сложный порядок изменений
гласных в зависимости от места по отношению к ударяемому слогу. Эта
система, характерная для южнорусских говоров и совсем несвойственная
севернорусским, и сделалась основой московской речи и через нее
основой общерусского языка. Но русскому языку свойствен ряд различий
и особенностей не только в вокализме, но и в консонантизме. Различия в
составе согласных в языке Московской Руси оказываются нелокализованными, неотраженными. Это прежде всего фрикативное г (п), которое
отличает южнорусские говоры и которому в северных говорах
соответствует взрывное г.
278
1
См.: Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка, с. 66.
Что можно противопоставить этим традиционным воззрениям на
язык Москвы? Прежде всего законно усомниться в том, что на
протяжении столетий в Москве сохранялось какое-то резкое противопоставление, антагонизм между языком феодалов и посадских
людей. То, что изображалось недавно как проявление классового
антагонизма в языке, правильнее будет объяснять хронологически.
Северный облик московской речи, более тесная связь с севернорусскими
народными говорами характерны для Москвы с ее возникновения и до тех
пор, пока Москва сохраняла сначала зависимость от РостовоСуздальского княжества, а потом, пусть и независимое политически, но
зависимое культурно, положение конкурента, борющегося за господство
и верховную власть. Но в тот период, когда московские князья
окончательно подчинили себе другие русские княжества и когда Москва
из таможенного пункта превратилась в центр государства, язык жителей
Москвы существенно изменился, потому что иным стало само население
Москвы. Огромный приток населения из южнорусских княжеств
характерен для Москвы только в самом конце XIV и главным образом в
ХѴ-ХѴІ вв., и возрастающий удельный вес южнорусских диалектных черт
в московской речи относится к этому, уже более позднему периоду.
Только путем натяжек можно утверждать, что даже в XVIII в., во всяком
случае в XVII в., сохранялись резкие различия в речи боярства и посада. В
XV в. и культовые книги, евангельские тексты отражают уже «аканье», и
грамоты великих князей, и памятники высокой литературы
свидетельствуют о том, что элементы южнорусских наречий прочно
укоренились в речи всего населения Москвы, а не только простонародья.
Мы сейчас склонны видеть прошлое Москвы в свете ее позднейшего
величия и поэтому забываем, какой была Москва в XII—XIII и даже в XIV
в. Надо твердо помнить важные даты, например дату Куликовского
сражения — 1380 г. В этой битве московский князь Дмитрий Донской был
руководителем и организатором, но в разгроме монголо-татар
участвовали войска почти всех восточнославянских княжеств, кроме разве
псковичей и новгородцев, и удельный вес собственных сил московского
князя в этом всенародном ополчении был еще не очень велик. Об этом
лучше всего свидетельствует то, что вскоре Москва подверглась
татарскому разгрому только потому, что московский князь оказался один
против врагов; все союзники его покинули, и покинули, как теперь ясно,
потому, что растеряли все свои силы в чрезвычайно тяжелой и
кровопролитной Куликовской битве и не смогли быстро сформировать
новые войска.
Завоевание и подчинение Москве крупных княжеств, соседних с ней,
происходит только во второй половине XV в., т. е. спустя почти сто лет
после Куликовской битвы, и последовательность присоединения уделов
ясно указывает на возрастающую мощь Москвы, ибо начинается оно с
сравнительно слабых, незначительных центров, а завершается очагами
наиболее отчаянного и упорного сопротивления. Ярославль отошел к
Москве в 1463 г., Ростов — в 1474 г., а к концу 70-х годов Москва подчинила
себе все земли Ростово-Суз-Дальского княжества. В 1478 г. покорен
Новгород, формально это означало и подчинение всех новгородских
колоний, но на деле распространение московской власти происходило не
без длительного, в течение нескольких десятилетий, сопротивления на
местах Во всяком случае, Вятка — последний форпост новгородского сопротивления — была подчинена только в 1489 г., Тверь — в 1485 г. Псков
— в 1510 г. А самый злостный и яростный враг Москвы — ря_ занское
княжество было покорено в 1521 г. К началу же XVI в. относятся и первые
крупные победы в борьбе с западными соседями. Смоленск отвоеван у
Польши в 1514 г., а северские города — Белев, Трубчевск, Путивль и др. —
только к 1523 г.
Таким образом, не в ХІІІ-ХІѴ вв., а во второй половине XV и в XVI в.
Москва стала государственным центром, достигла полного господства не
только в русских землях времен монголо-татарского ига, но и в русских
землях эпохи Киевского государства, которые на несколько столетий
были оторваны от остальных восточнославянских княжеств. В этот
длительный период — с XII до конца XVI в. — и образовалась московская
формация русского языка.
Взаимодействие и смешение характерны не только для типично
севернорусских наречий с типично южнорусскими, но и этих двух с
западнорусскими, с новыми типами русских наречий, которые развились
на севере и востоке, в местах поздней колонизации. Этот процесс лияет на
становление национального русского языка. Хронологические рамки
формирования национального русского языка не могут быть определены,
скажем, в пределах одного века. Если Киевское государство, которое
складывалось на протяжении четырех или пяти веков, послужило
основой для образования единой русской народности и упрочения общих
черт всех восточнославянских языков, то Московское государство,
образование которого также заняло четыре или пять веков, создало
основу для русского национального языка.
280
К какому времени можно отнести начало этого процесса? Ко второй
половине XV в.; к тому времени объединительная роль Москвы начала
проявляться уже достаточно отчетливо. Когда завершился этот процесс?
Одни говорят — во времена Пушкина, значит, в первой половине XIX в.;
другие считают, что национальный язык сформировался значительно
раньше, еще в Петровскую эпоху. Как наиболее правильно ответить на
этот вопрос? Если считать полной зрелостью, признаком окончательного
сложения национального языка проявление его новых своеобразных
качеств, тогда можно было бы говорить, что русский национальный язык
уже существуеТ в конце XVII в., ибо основы грамматического строя и
словарного фонда русского языка в это время уже мало отличаются от
современных.
Но есть другой важный критерий зрелости национального языка. Это
его активное использование всем народом, полное преодоление следов
феодального дробления, резких диалектных различий. Если этот признак
считать важнейшим, тогда, конечно, придется говорить о XIX в. как о
времени окончательного становления национального языка. Но я думаю,
что последний признак — активное повсеместное употребление —
характеризует уже не систему языка, не формацию языка, а состояние
социальной базы этого языка, и исходить из этого признака не следует.
Значит, более правильно говорить о времени сложения и проявления
основ грамматической системы и словаря, т. е. о конце XVII — начале
XVIII в., когда окончательно исчезает пестрота грамматических и
лексических форм. Приведу один показательный пример. Наша деловая
письменность в своих устойчивых формах содержит обычно перфект
множественного числа. В старых текстах XII—XIII вв., когда еще
сказывалась централизованная роль Киева, встречается одна форма:
купили есмы, продали есмы, сказали есмы, но в XIV— XV и даже в XVI
в. грамоты уже не имеют единой формы, и мы читаем, скажем, в новгородских текстах купили есмя, продали есмя; в полоцких, смоленских
— есмо; в тверских, московских — купили есме, продали есме. И это
грамоты, исходившие из княжеской канцелярии, от наиболее грамотных
писцов того времени. Такой разнобой, закономерный и естественный в
эпоху феодального дробления, исчезает в XVII в.
Если в грамотах ХІѴ-ХѴ вв. мы легко обнаруживаем резкие черты
отдельных древнерусских диалектов, то в XVII в. диалектные различия
уже почти незаметны. В грамоте псковского князя Ивана Александровича
начала второй половины XV в.1 читаем: отсталошь (вместо осталося),
жбегле (вместо сбегле), пенежи (вместо пеня-зи), княжя (вместо князя),
1
См.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. М.—Л., 1949.
зялуются (вместо жалуются), ноць, бо-Цек, чепи (вместо ночь, бочекъ,
цепи), купцини (вместо купчини), Цего (вместо чего) и тут же
встречаются: мягкость шипящих (ле-Жялъ, вдержялъ), употребление е
на месте а и т. д. Можно отметить и ряд словарных особенностей, не
повторяющихся широко. Скажем, сбродни ('преступники') слово,
которое, кроме письменности того времени неизвестно (кроме псковской
грамоты). Или местоимение теи (вместо тот), тых, тыми (вместо тѣх,
тѣми). И это все — в маленькой грамоте, состоящей из 15-16 строк!
В московской «Духовной грамоте Ивана Юрьевича Грязного» (конец
XVI в.)1 мы имеем слово кнеиня — 'княгиня' (т.е. е вместо я), утрату
спирантного придыхательного г (Ь), «аканье»: да(ш)ли (вместо дошли),
Соломанида (вместо Соломонида); специфически местные особенности
синтаксиса, морфологии, лексики (саженье — 'платье, унизанное
жемчугом', кафтан, однорядка). Но, повторяю, в XVII в. эта локальная
окраска
документов
встречается
изредка
(у
какого-нибудь
малограмотного подьячего на далекой окраине). Не только московское
делопроизводство, но и деловой язык больших центров Московской Руси
в XVII в. уже единообразен.
Не представляет никаких сомнений то, что основы сближения русских
диалектов и формирования общего языка были заложены еще в XI—XII
вв., в эпоху расцвета Киевского государства Рюриковичей. В
литературном языке это единство традиции наиболее показательно. В
основных для московской эпохи литературных жанрах — в летописях,
житиях, в деловой и переводной литературе — традиции литературного
языка киевской эпохи были определяющими (т. е. отношение старых,
традиционных элементов к новым можно выразить как 9:1).
Не так давно издан Московский летописный свод конца XV в.,
относимый в общем исследователями ко времени между 1480 и 1490 гг.2
Этот Московский свод на две трети повторяет своды домонгольского
времени, и только последняя часть является новым литературным
произведением. Однако язык последней части Московского свода, где
изложены и описаны события XV в. (или второй половины XIV — начала
XV в.), почти не отличается от языка предшествующих частей. Лишь в
немногих местах можно выделить незначительное количество новой
лексики, технической и юридической (связанной с большими
изменениями в социальных и экономических отношениях по сравнению с
домонгольской эпохой). И, наконец, что для нас наиболее важно, в языке
последних
частей
Московской
летописи
наиболее
ощутимо
282
1
См.: Сборник актов, вып. 1. Духовные и сговорные грамоты. Спб., 1895.
2
См.: Поли. собр. русских летописей. Изд. 2, т. 15. М.—Л., 1949.
непосредственное воздействие разговорного языка. Но какого? Уже
достаточно оформивщегося и определившегося в XV в. московского
общеразговорного языка. Приведу несколько примеров.
«Тое же весны мътяца марта 26 на великъ день пришел из Риму посол
к великому князю Семен Толбузин, а привел с собою мастера муроля1,
кои ставит церкви и палаты... тако же и пушечник той нарочит лити их и
бити ими, а колоколы и иное все лити хитръ велми.» Начало этого
отрывка своей формой, построением сразу напоминает нам
Новгородскую I летопись. Проанализируем лексику: тое же весны —
родительный беспредложный падеж; мастеръ (привел с собою мастера)
— старое новгородское заимствование с запада; мураль — слово
западного происхождения, новое для русского литературного языка (из
лат. тйги$ через посредство польского); кои ставит церкви и палаты —
новая формула для обозначения строительного дела (ставить), так же как
пушечник — слово, появившееся в XV в.; лити пушки — термин, ранее
неизвестный, потому что этой военной техники не было в домонгольскую
эпоху.
Несколько ниже: «А въ 17 мистръ Венецѣискыи Аристотель начат
разбивати церкви Пречистыа непадшиа стены новыя, и разби того дни
два столпа да и предние двери и СТБНЫ передние разби много.» Тут едва
ли можно отметить какие-нибудь языковые новшества, хотя очень
любопытны новшества из области строительного дела.
Но вот следующий абзац: «Того же месяца 23 по вечерни взошла туча
да гром сперва мал, потом и велик с полудень, а с молъньею, да и дождь
велик, а морозы и студень до 2-го маа, от того дни пошли дожди на всякъ
день.» Этот текст, так же как некоторые части в Новгородской I летописи,
написан целиком на общем разговорном языке. Можно только отметить,
что он не удовлетворяет традиционным кратким, лаконичным формулам.
Летописец очень подробно описал ненастную и опасную для сельского
хозяйства весеннюю погоду, поэтому здесь столько не книжных, а чисто
народных элементов и в лексике, и в таких фразеологических сочетаниях,
как мал гром, дождь велик или пошли дожди на всяк день, туча (в
значении 'грозовая туча') и т.д.
Как и в старых летописях, в Московском летописном своде много
диалогов. И надо отметить значительно большую близость диалогов
Московской летописи к разговорному языку, чем, скажем, диалогов
«Повести временных лет». К диалогам «Повести временных лет» надо
относиться очень осторожно, они переданы неточно, как бы переведены
1
Надо читать мураля.
на литературный язык, освобождены от каких бы то ни было диалектных
элементов. Здесь, в Московском летописном своде, мы имеем более
полную протокольную запись политически и исторически важных
диалогов. Например, в описании дипломатической подготовки захвата
Великого Новгорода царем Иваном Васильевичем, как и в следующем
затем подробнейшем описании новгородского похода, почти половину
текста составляют диалоги.
В диалогах представлены не только отдельные лексические и
фразеологические элементы, но и синтаксис разговорного языка. Скажем,
великий архиепископ новгородский Феофил величает себя государь. А
когда речь идет о том, что его называли лишь господином, сказано:
«Никоторого великого князя государемъ не зывали», т.е. употреблена
нелитературная многократная форма. И дальше: «с тѣм есмя не
посылывали» — опять разговорная форма. Очень часто встречается
специфически московская лексика: «Посылает князь к Новугороду
съкладную», т.е. грамоту о мирном деле; «посылает хыдыршика» — одно
из тюркских заимствований московской эпохи; «И князь великы послал к
ним на говорку боарина своего» — слово, не встречающееся до того в
русской письменности и литературе; «Того же дни послалъ князь
великы... что бы пошли не мотчаа и с пушками и со всею приправою по
первому приказу» — здесь специфическая военная терминология
московской эпохи: не мотчаа — 'не мешкая, не замедляя своего похода, не
останавливаясь в пути', со всею приправою — 'со всем военным
снаряжением, со всем обозом'.
Великому посольству Новгорода, пытавшемуся уладить конфликт с
Москвой, князь отвечает так:
«А коли уже ты, владыка, и вся наша отчина Великыи Новгород перед
нами перед великими князи виноваты сказалися есте, а тѣх речей, что
к нам посылали есте и вы запрѣлися, а нынѣ сами на ся
свидѣтельствуете, а въспрашиваете, какову нашему государьству быти
на нашей отчинѣ на Новѣгородѣ, ино мы, великые князи, хотим
государьства своего, как есмы на Москвѣ, так хотим быти на отчинѣ
своей Великом Новѣгородѣ».
Здесь и синтаксическое построение, и лексический состав — все
чуждое книжному языку.
284
Вот в этом я вижу наиболее существенное отличие языка Московского
летописного свода от старых летописей. Однако иногда встречаются
довольно контрастные сочетания старой традиции с новыми языковыми
формами, например:
«Въ 4-ю недѣлю владыка с тѣми же прежереченными пришед к великому князю явили десять волостей... И князь велики и тѣх 10 волостей
не взял, и они били челомъ, что бы самъ государь умыслилъ, как ему
своя отчина жаловати и колко ему волостей взяти, а отчина его покладываеть ся на бозѣ да на нем. И князь великы велѣл бояром молвити
имъ: «взяти ми половину всѣх волостей владычных да и манастырьскых да Новоторжьскые, чий ни буди».
В конце переговоров, когда князю уже дают большой откуп, он, как
скупой и алчный купец, хочет уточнить, сколько же он будет получать с
каждого двора:
«И князь великы велѣлъ с ними боаром говорити о дани, что явили ли
дань съ всѣхъ волостей Новгородских съ сохи по полугривнѣ по 7
денег, велѣл их въспросити, что их сох, и они сказали: «3 обжи соха, а
обжа один человѣкъ на одной лошади ореть, а хто на 3-х лошадех и
сам третей ореть, ино то соха». И князь великы захотѣл взяти съ бжи
по полугривнѣ, и владыка съ всѣми своими от всего города начаша
бити челом, что бы государь смиловался... И князь великы тѣмъ их
пожаловал, что имати ему одинова на год дань с сохи по полугривнѣ...
на всяком, хто ни паши землю, и на ключникѣх и на старостах и на
одерноватых. И владыка съ всѣми своими еще били челом... поне же
то, господине, христианству то тяшко, а пожаловал бы государь на
Новгородскую душу».
Этот разговор, выясняющий, каков размер обжи, какой сбор с каждой
обжи должен быть дан, изложен языком, на котором говорили крестьяне,
купцы, ремесленники, подьячие, т.е. на языке общенародном1.
' Изучению языка Московского летописного свода посвящены работы: Була-хов М. Г.
Московский летописный свод конца XV в. как памятник русского литературного языка. — В
кн.: Начальный этап формирования национального языка. Сб. статей. Под ред. Б. А. Ларина.
Л., 1961; Ильенко В. В. Диалектная лексика в языке общерусских летописных сводов XV-XVII вв.
Автореферат канд. дисс. Л., 1961. Прим. ред.
Не так уж сложно представить процесс образования национального
языка, если исходить из положения, что его основой был именно язык
письменный, язык литературы, что он прежде был языком письменности.
Однако мне такое положение кажется исторически неверным, а потому и
весь процесс образования национального языка представляется
неизмеримо более сложным, чем простое постепенное отмирание
наиболее далеких от народной речи старославянских элементов и
проникновение в литературный язык элементов языка разговорного.
Основным, определяющим надо считать тот процесс консолидации,
объединения разговорного языка, какой проходил в связи с развитием и
обогащением литературного языка, но без прямой от него зависимости.
Литературный язык и разговорный язык, как общий, так и диалекты
(областные или профессиональные), постоянно взаимодействовали.
Несомненно, не только живой язык воздействовал на язык письменности,
но и литературный язык влиял на разговорный, в том числе и на
многообразные диалекты. Но все-таки различие, и очень существенное,
между составом литературного языка ХѴ-ХѴІІ вв. и живым разговорным
языком Москвы, больших городов и сел, как он отражается в некоторых
жанрах письменности, было еще очень значительно. Поэтому
необходимо рассматривать основной процесс сложения национального
языка не как историю письменного литературного языка, а как историю
народных говоров и общего разговорного языка.
После монголо-татарского завоевания в ХѴ-ХѴІІ вв. народные говоры
значительно меняются. Уже в киевский период началось разрушение
старых племенных диалектов, так как некоторые племена при
образовании феодальных княжеств раздробились. Другие племена в силу
неблагоприятных исторических, политических, экономических условий
распались, и мы о них почти ничего не знаем. Как указывал еще проф. В.
О. Ключевский1, не более чем в двух феодальных княжествах из 12 или 13
сохранились в более или менее полном составе старые племенные
диалекты. В Новгородском княжестве, например, сохранился диалект
племени словен, а в Галиц-ких княжествах — диалекты волынян, или
дулебов (это, по-видимому, одно и то же племя в разные времена), и
хорватов. Диалекты остальных княжеств образовались из осколков языков
различных племен. В результате возрастающей борьбы южных княжеств с
кочевниками—тюрками, или турками, в их диалекты проникает все
1
См.: Ключевский В. О. Курс русской истории, ч. 1. М., 1908, с. 161.
больше иноземных элементов. У нас до сих пор слово турки употребляется преимущественно как название одной народности турецкой
группы — анатолийских турок. Но иногда ему придают и более широкое
значение как определение народов турецкой группы, и это надо признать
286
целесообразным. Одно время для различения частного и общего
значений слова турок употребляли заимствованное из немецкого языка
слово тюрк (Тіігке) как общеродовое, а слово турок — как видовое. Из
контекста всегда ясно, о каких турках говорится — о турках как о большой
группе народов и языков или о турках как об одном маленьком народе.
Ассимиляция значительных групп кочевников (турецких по
происхождению) на юге и юго-востоке определяла также состав и
характер развития так называемых южнорусских диалектов, которые
легли в основу украинского языка и некоторая часть — в основу
южновеликорусского наречия русского языка. Не менее интенсивная и
длительная
массовая
ассимиляция
народов
угро-финского
происхождения на востоке и северо-востоке определила историю так
называемых восточных диалектов (вятичей, северян и кривичей).
Наконец, на западе и северо-западе помимо смешения племенных
диалектов на территориях новых княжеств имело также место скрещение
с иными племенами, в результате этого — образование некоторых новых
языковых элементов, особенно в лексике. Здесь источником чужеязычных
элементов были главным образом языки балтийской группы. Скажем,
почти целиком исчезли, растворившись в белорусском и самых западных
северновеликорусских диалектах, языки ятвягов (старое племя литовской
группы) и некоторой части латгальцев, как называет их летопись, т.е. юговосточных латышей. Вместе с ятвягами и латгальцами, по-видимому,
исчезли в более раннее время вместе с языками и другие племена
балтийской группы, названия которых остались нам неизвестными.
Все это вело к образованию значительно более крупных по территории распространения и по количеству носителей диалектов ХІѴ-ХѴІ
вв. (по сравнению с диалектами VIII—XI вв.). От чужеязычных вкраплений
и примесей новые диалекты приобрели своеобразный колорит. Причем
иноязычных элементов, существенно различных на северо-востоке и
востоке, на западе и северо-западе, на юге и юго-востоке, было довольно
много.
Соприкосновение с языками финской группы оставило след в
диалектах нашего северо-востока. В общем языке укоренились очень
немногие слова из финских языков, например, хмель (из финск. Ьшпаіа)
или чьмель, которое дало потом шмель (восходит к финск. кітаіаіпеп).
Но гораздо больше финских заимствований сохранилось в северных
диалектах; скажем, многие названия рыбы вошли через торговый оборот
в наш общий язык сравнительно недавно: сиг, сёмга, навага, севрюга. В
северных диалектах и кое-где в Приволжье известно также название
речного судна лойва или лай-ва (из финск. Іаіѵа), а в архангельских и
поморских говорах залив называют салма (из финск. ваіші). В северных
же говорах распространено слово конда — 'особенно добротная
сухостойная ель' (из финск. попка), отсюда прилагательное кондовый
(хотя это слово употребил и А. А. Блок, его нельзя считать общим).
В северных документах московской эпохи встречается много финских
слов для обозначения элементов местности, скажем, сель-га — 'высокое
место среди болот' (от финск. 8е1ка), согра — 'болотистая равнина',
курья — 'залив, бухта', а также названия рыболовных снастей: харвалин,
кибры, керевод. В более позднее время, уже не в московскую эпоху, в
общий язык через народную речь вошли такие слова, как нарты, ягель (а
в народную речь они проникли еще раньше). Связи с языками
балтийской группы точно так же сравнительно немного дали слов в
общелитературный язык, гораздо больше в народные говоры. В
общелитературном языке укоренились такие слова литовского
происхождения, как янтарь (от литов. ^іпіагак)1, дёготь (от литов.
а!е§йІа$), пакля (от литов. ракиіок), ковш (от литов. каи$а$), ендова (от
литов. іпа!аи|а, іпгіав). Но в народной речи этих заимствований
неизмеримо больше. Здесь мы находим, скажем, такие слова, как клуня
(от литов. кійопак), корста — 'гроб' (от литов. Каг8Іа8); кое-где корста
встречается в виде керста (от финск. кігаіи), оно, по-видимому, является
общим и финским, и балтийским, и севернорусским диалектам. В
народной речи, главным образом белорусской, известны еще такие
заимствования из литовского языка, как валандаться — 'шататься без дела'
(от литов. ѵаіапоіа), гультяй — 'лежебока, лодырь, лентяй' (от литов.
§и1ёіі — 'лежать'), лайдак — 'бездельник' (от литов. 1а;о!дка8), жлукта —
'деревянное корыто, в котором бучат белье' (от литов. 2ІйкІа$, гійктів).
Некоторые литовские слова проникли очень далеко; например, акад.
См.: Ларин Б. А. О слове янтарь. — В кн.: Сборник статей, посвященных акад. Я. М.
Эндзелину. Рига, 1958. Прим. ред.
1
А. И. Соболевский отметил литовское слово твань — 'наводнение' в
Тульском крае. Широко известно не только в западных, но даже в курских
говорах слово андорок (или андорак) — 'женская юбка со множеством
складок'; по происхождению это слово немецкое, но форма нд указывает
на литовское посредство. В жиз-дринском говоре есть слово канаклы
(вместо колокола), а в староукраинском — дойлида 'плотник' (от литов.
о!аі1іа!ё). Можно было бы указать и на огромное воздействие русского
языка на финский и литовский, гораздо более значительное, но сейчас
288
наша задача определить именно то, что явилось новым в московскую
эпоху в русских народных говорах.
Мы рассмотрели иноязычные примеси в северных, северо-западных, а
также северо-восточных говорах, которые свидетельствуют об
ассимиляции значительной части иноязычных слов в процессе
распространения русской колонизации в Восточной Европе. Рассмотрим
теперь состояние южнорусских говоров киевской эпохи, т.е. украинских и
южнорусских говоров нашего времени. Их носители общались с
половцами, печенегами и другими кочевниками южнорусских степей и
имели оживленные длительные связи с Византией.
Византия, как мы помним, оказала немалое воздействие на древнейший тип нашего литературного языка. Почти вся церковная терминология и значительная часть нашей средневековой научной и
философской терминологии византийского происхождения. Естественно,
и в народную речь, т.е. в общий язык, вошло некоторое количество
византийских слов: огурец, свёкла (в этой связи хочу вам напомнить, что
культура целого ряда овощей в основном перенесена с юга), повидимому, капуста, оладья, известь, аксамит ('шелк'), корабль, якорь,
полати, литавры, саван, хандра, фонарь, бандура, кутья — 'культовый
вид снеди' (кашица из пшеницы на медовом отваре, употребляемая
главным образом под рождество и на поминках), названия множества
красок: левкас — род жидкой шпаклевки, мел с клеем для подготовки
под окраску и позолоту рам, охра, сурик, лазурь, сандарак, олифа. Это
все слова греческого происхождения. Украинский язык имеет
значительно больше греческих заимствований, чем общерусский язык,
русские западные и северо-западные диалекты.
Очень немного в украинских южных говорах слов иранских,
оставшихся от скифского периода. К ним относятся хата — 'особого вида
постройка, жилище', балаган, бирюк (вошло в русский язык со
значением 'одинокий волк'), булат — 'сталь', бумага, десть — 'мера
бумаги'. Иранского же происхождения слова нефть, рай, топор, собака
и др.
Наконец, большое количество тюркских заимствований. Из
украинского языка в русский вошли слова табун, ватага, кандалы,
буланый. В старом языке из лексики, которая исчезла, например, в
«Слове о полку Игореве» встречаются тюрке, оротьма, кащей —
'пленник', чага — 'невольница'. Из тюркских же языков происходят слова
стакан (более древнее достакан), башмак, войлок, деньга, изюм (тюрке,
іігііт — 'виноград'), кайма, каюк — 'лодка-однодрев-ка', тюк, тюфяк,
таган, таз. Из общих слов надо отметить еще жесть (это уже более
позднее заимствование, вошедшее и в литературный язык), набат, сурок.
В последнее время известный тюрколог Ж. Дени довольно основательно
доказал, что общеславянское слово порты тоже тюркского
происхождения, отсюда портянки, портной1. Довольно поздно, уже в
московскую эпоху, в русский язык вошли такие слова, как кутерьма,
лачуга, тесьма, утюг, улан. В народных говорах еще надо отметить азям,
баклага, баранта, батман — 'мера веса', бешмет и т. п.
В результате этой перегруппировки диалектов, смешения и скрещения с языками соседних народностей в ХІѴ-ХѴ и даже XVI в. образуется все более отчетливое расхождение в общей лексике северных
говоров — новгородских, псковских, смоленских, полоцких — и южных —
московских, рязанских, тульских, орловских, курских. Скажем, северная
письменность, начиная с летописи, отражает такие специфические
северные элементы лексики, как шогла — 'мачта', более раннее шегла и
еще более раннее шьгла (слово это есть в языках польском и
скандинавских), но на юге мачту обозначают словом дерево. (На западе
рядом с шогла встречается щогла, но это, по-видимому, полонизм.) Или:
на севере белку называют словом векша, а на юге — вѣверица. Но и тут и
там параллельно употребляются и более древние русские слова бела и
белка.
Северная лексика: зобница, зобня — 'корзинка'; заворы — 'изгородь;
волога — 'приправа к пище'; верешь или вершь — 'УР°" жай зернового
хлеба, хлеб на корню'; звук — 'хлам, мусор после постройки'; тировати
1
Дени доказал, что это слово происходит от турец. рігіі — 'рвань, отрепье' (см.: Дмитриев
Н. К. О тюркских элементах русского словаря. — В кн.: Строй тюркских языков, М., 1962).
— 'проживать, пребывать'; обилие — 'урожай'; меженина — крайняя
скудость, голод' (неверно толкуют как 'восстание, бунт'); острамок —
'стог'; скудельница — 'кладбище, место погребения'; угошити —
построить'; собина — 'имущество, собственность'; оков — 'мера сыпучих
тел, ведро', в таком же примерно значении пуз, кадь — 'мера веса' (повидимому, скандинавского происхождения); берковеск — 'мера веса,
примерно 10 пудов' (от шведск. Ьіаегко — '400 фунтов'); морские
термины: буса — 'род судна'1, паузок, карбас, кипа; ребела — 'морские
разбойники, пираты'; шкипер (скандинавское заимствование).
Южная лексика: армяк (тюрке), кафтан, алтын, каторга — 'название
корабля', юк (более позднее вьюк), однорядка — 'одежда', рухлядь —
'меховая одежда'. Специфически южнорусскими надо считать и такие
290
слова, как барсук, гать — 'мост через болото', кры — 'льдина', укроп,
окроп — 'кипяток', пахати — 'возделывать землю для посева', пашня (на
севере орать, так как пахать в северных говорах употребляется в
значении 'подметать'), хлуд — 'коромысло', огорнуть — 'окутать', волна
— 'шерсть', тесло — 'топор', тесляр — 'плотник', бретьяница — 'погреб
для хранения меда'.
Заметно различается военная, судоходная, рыболовецкая терминология на севере и юге. Я отмечал некоторые финские по происхождению названия рыболовных снастей. В военном деле следует
говорить также о различии терминологии старой, по преимуществу
северной, и новой, идущей из южных говоров. К старым терминам надо
отнести такие выражения, как изодетися оружием — 'добыть оружие,
вооружиться'; взяти на щит — 'взять, захватить осажден: ный город с тем,
чтобы потом его разграбить'; пустити на вороп — 'броситься в атаку';
всести на конь — 'отправиться в поход'; возво-лочити стяг — 'объявить
начало боя'; сбити в мячь — 'расстроить боевой строй врага, окружить
его со всех сторон и заставить сбиться в одну кучу'; свинья — 'особый
боевой строй, изобретенный прибалтийскими рыцарями'2; гнати
изгономъ, идти изгономъ — 'преследовать по пятам'; городокъ —
'боевое сооружение в полевом сражении' (термин более поздний); заѣздъ
— 'кавалерийский рейд, внезапный набег' (термин более позднего
времени); ходити торонемъ — 'совершать внезапные набеги'; твердити
градъ — 'строить каменные или земляные укрепления вокруг города'.
Итак, мы проследили два направления в развитии диалектов мо1
Вот описание Ледового побоища в Новгородской I летописи: «И узрѣша иныи полчищь
свинью великую, которая бяша вразилася въ возникы Новгородьскыѣ».
сковской эпохи: с одной стороны, сохранение с несущественными
изменениями основ старого общего языка при посредстве языка
книжного, литературного; с другой стороны — образование областных
общих разговорных языков на основе скрещения старых сначала
племенных, а потом и старых феодальных диалектов, особенно в эпоху
собирания Московского государства. При формировании областных
языков заметную роль в обогащении языка играет смешение и скрещение
с чужими языками.
Третий процесс, относящийся уже к более позднему времени — к ХѴІХѴІІ вв., — это процесс наиболее интенсивного взаимопроникновения и
концентрации старых диалектов. Он в полной мере соответствует
ликвидации феодальной раздробленности и образованию единого и
мощного Московского царства, быстрому росту городов и городского
населения, времени создания основ капитализма, капиталистических
отношений.
Для городов Московской Руси, значительно более многочисленных,
чем во времена Киевской Руси, был характерен существенно новый состав
жителей: ремесленно-торговое население составляло уже подавляющее
большинство. Язык ремесленников и торговцев в ХѴІ-ХѴІІ вв. и является,
таким образом, основой общего языка Москвы и других городов
Московского царства; постепенно он вытесняет крестьянские диалекты и
становится общенародным национальным языком. Нигде, конечно, и не
могло быть лучших условий для сглаживания наиболее резких
дифференциальных черт отдельных диалектов и для создания общего
единого языка, обогащенного элементами словаря и в известной
(меньшей) мере элементами грамматической системы старых, довольно
сильно различающихся между собой феодальных диалектов. Именно в
городах возле Москвы концентрировалось население из всех старых
уделов, прежде всего в силу того, что московские князья всеми средствами
стремились после подчинения, присоединения того или иного
феодального княжества переманить оттуда как можно больше
ремесленников, а купцы и сами, стремились к Москве — либо
переселиться навсегда, либо завязать тесные связи с Москвой и бывать там
как можно чаще. Эта тяга к Москве, несомненно, определилась довольно
отчетливо уже в XVI-XVII вв. и именно в ремесленно-торговой среде.
А с другой стороны, из Москвы расходились по Руси высококвалифицированные специалисты в любой области; московские ремесленники,
купцы, военные, чиновники распространяли тот общий язык, какой
сложился в Москве, в самых отдаленных периферийных областях. Но,
повторяю, этот процесс характеризует уже последний этап сложения и
образования национального языка — вторую половину XVI в. и XVII в.
Еще в конце ХѴ-начале XVI в. наша письменность отражает
существование различных, далеких друг от друга диалектов.
Скажем, немногие общие элементы лексики, фразеологии, синтаксиса
«Псковской судной грамоты» (1467)1 были известны в Новгороде, но
большинство было характерно только для Псковской области. Например,
титяга — 'веревка, употребляемая при упаковке сена на возу'; кромский
тать — специфический псковский термин — 'вор, который ворует в
Псковском кремле'; князю судницу дати (судница — 'грамота о
1
См.: Псковская судная грамота. Спб., 1914. Изучению языка Псковской судной грамоты
посвящены исследования: Мжельская О. С. Местная лексика в асковской деловой
письменности ХІѴ-ХѴ вв. Автореферат канд. дисс. Л., 1956. Кандаурова Т. Н. Из истории
древнепсковской письменности. (Смешение букв а, я, а—е(ь) в псковских памятниках XIV в.).
— «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1962, № 184; Капралова С. Г. Изучение древних псковских
памятников ХІѴ-ХѴ вв. и Псковская судная грамота. — «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1954,
292
т.
33, вып. 3; ее же. Из наблюдений над словарным составом Псковской судной грамоты. — Там
же. Прим. ред.
2
Губа — административно-территориальная единица.
несудимости'); позовник — 'чиновник, который вызывает в суд'; рядница
— 'письменное изложение сделки в торговых или имущественных делах';
поможет — 'победит в судебном поединке'; изорник — 'бывший смерд,
крепостной крестьянин'; исады — 'рыбачья слобода у берега и
рыболовные угодья при ней' (правда, потом это слово попало на Волгу,
но для XV в. оно было типично псковским); жене и детям откличи нет
— 'отказа нет'; скрута — 'приданое невесты'; стулиться — 'скрыться
должнику, не выплатив долга'; доличати — 'уличать'; суплетка —
'торговый договор'. Другие термины, как я уже сказал, известны на
небольшом сравнительно пространстве и за пределами Псковской
области: корец — 'мера сыпучих тел и жидкости'; зажога — 'поджог';
сочи-ти — 'вести судебный иск'; старосты губские — 'должностные лица
в губе'2; корчма — 'питейное заведение' (сначала северо-западное слово,
потом оно вошло в широкий обиход).
В этот же период, с конца XV по XVII в., весьма интенсивно развиваются украинский и белорусский языки. Если в рукописях XIV в.
можно обнаружить только незначительные черты фонетического и
грамматического порядка, которые указывают на будущий белорусский
язык (в Минском пергамене второй половины XIV в. отмечены мена
напряженных ъ, ъ — ы, и, мягкое р, изредка «аканье», новые дифтонги на
месте ѣ, отвердение л, ц, ж, окончания глаголов 3-го лица единственного и
множественного числа -тъ, -тся, суффикс наречий -дѣ, но почти не
отмечено никаких белорусизмов1), то в ХѴІ-ХѴІІ вв. белорусский язык
отражен в целом ряде памятников белорусской письменности.
Точно так же украинские грамоты XIѴ-ХѴ вв. отличаются от севернорусских лишь немногими малозаметными фонетическими и грамматическими чертами. Даже по небольшому отрывку из украинского
Пересопницкого евангелия середины XVI в. сразу видно, как ярко отражается в этом тексте украинский язык, не говоря уж об оригинальных
сочинениях, которые появляются на Украине в ХѴІ-ХѴІІ вв. в огромном
количестве. Вот отрывок из притчи о блудном сыне:
онь почаль недостатокь тръпѣти и шодши прислаль къ единомоу
чловѣку живучому въ ономь том мѣстѣ который же то послаль его до
села своего абы пасль свинѣ, а онь южь бы быль рад насытити чрево
свое от рожець (або млутомь, або отрубями) который едали свинѣ, але
и тыхъ никто не хотѣль ему дати.2»
«А
Текст показывает, что формирование украинского языка в тот период
шло очень интенсивно. Объясняется это тем, что на Украине, так же как и
в Московском государстве, именно с конца XV в. начинается чрезвычайно
активная колонизация среднего Приднепровья и Левобережья, которые
до того были в большом запустении. Колонизация шла в основном с
запада, с Галичины, и в меньшей мере с севера. Эти вновь заселенные,
достигшие экономического расцвета области Украины стали местом
образования украинского национального языка.
Увеличение населения, рост городов, торговли и промышленности и
здесь определяли создание единого общенационального языка. Я
См.: Драй-Хмара М. Фрагменти Мінського пергаменового апракоса XIV в. — «Вісты Укр.
АН», 1931, т. 1.
1
2
См.: Житецкий П. И. О переводах Евангелия на малорусский язык. Спб., 1906.
напомню известную формулу из «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф.
Энгельса, она прекрасно подтверждается всей историей и русского и
украинского, и белорусского языков. «Впрочем, в любом современном
развитом языке естественно возникшая речь возвысилась до
национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка
из готового материала, как в романских и германских языках, отчасти
благодаря скрещиванию и смешению наций, как в английском языке,
отчасти благодаря концентрации диалектов в единый национальный
язык, обусловленной экономической и политической концентрацией»1.
Язык памятников, отражающих «второе южнославянское
влияние»
В истории любого литературного языка мы наблюдаем то большее или
меньшее сближение с разговорным языком, то их расхождение, иногда
достигающее такой степени, когда можно говорить о противоположности, о полной обособленности литературного языка от
разговорного. Одним из наиболее ярких примеров такого крайнего
различия является язык Московской Руси ХѴ-ХѴІ и начала XVII в. Это
может показаться непонятным, даже удивительным, если вспомнить, что
именно в ХѴ-ХѴІІ вв. происходило образование национального языка.
Нельзя сказать, что ход этого процесса достаточно ясен и что причины
резкого расхождения литературного языка и общего разговорного языка
кем-нибудь удовлетворительно объяснены. Не думаю, что это удастся и
мне, но, во всяком случае, я изложу все те соображения, какие, по моему
мнению, могут объяснить этот этап в истории русского литературного
языка.
294
К концу XIV и к XV в. относится в истории русского литературного
языка так называемое «второе южнославянское влияние». Надо сказать,
что на протяжении XIX в. это явление получало различные объяснения, а
в последнее время была даже попытка полностью отрицать значение
«второго южнославянского влияния» или свести его к минимуму.
Впервые о «втором южнославянском влиянии» заговорили при
изучении рукописного наследия ХІѴ-ХѴ вв. Исследователи наших
богатых рукописных библиотек обратили внимание на изменение
внешнего облика рукописей, на иные способы их украшения и
1
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2, т. 3, с. 427.
оформления, на изменение орфографии и в известной мере языка
рукописей в ХІѴ-ХѴ вв. по сравнению с памятниками письменности
предыдущего периода да и с рукописями последующего времени. Эти
новшества и отличия рукописные книги той поры делали похожими на
рукописи болгарские и сербские XIV и первой половины XV в. В разных
библиотеках обнаружено большое количество таких рукописей, пометы в
которых ясно свидетельствуют об их южнославянском происхождении,
т.е. о том, что эти книги были привезены в Московскую Русь из Болгарии
или Сербии. Наконец, заметную роль в истории русской церкви играли
эмигранты с Балканского полуострова, что позволяло искать причины
«второго южнославянского влияния» именно в деятельности ряда
крупных церковников и писателей, приехавших в Россию из балканских
государств. Однако нельзя упускать из виду, что именно XIV в. и самое
начало XV в. были временем наибольшего проникновения этих
южнославянских новшеств в московскую письменность, а завоевание
балканских государств турками, падение Византии, Болгарии, Сербии
относится уже к более позднему времени, ко второй четверти — середине
XV в. Значит, эмиграция южнославянских деятелей культуры и церкви в
связи с разгромом Болгарии и Сербии не могла быть причиной «второго
южнославянского влияния», она могла только продлить его. Поэтому
справедливо другое объяснение. Причину «второго южнославянского
влияния» видят как раз не в разгроме и падении южнославянских
государств, а в том расцвете наук и письменности у балканских славян,
который характеризует последнее столетие перед турецким завоеванием,
т.е. XIV в.
«Второе южнославянское влияние» ХІѴ-ХѴ вв. выразилось в изменении внешнего вида памятников нашей письменности, прежде всего
их орфографии и в известной мере графики. Появляются новые
начертания букв, приближающие русское письмо к древнегреческому. И
это объясняется не непосредственным знакомством с греческими
рукописями, которое имело место лишь в очень узком кругу книжников
и высших церковников, а именно через южнославянскую письменность,
давно уже принявшую новые, по сравнению с первым периодом развития
славянской письменности, начертания, тождественные греческим. Вместо
старого начертания е, которое сохранилось до сих пор, — греческое Е;
вместо хорошо известного л появляется и все шире распространяется
греческая а; появляется новое начертание букв л и м — л и л\, тоже
восходящее к греческому; появляются греческое и вместо ѵ и ГП, ГГ
вместо т; ш, которая почти исчезла, а если встречалась, то в сильно
измененном виде, воскрешается в первичном греческом начертании;
появляется ^ вместо пс и ^ вместо КС
Новыми являются и начертания, не связанные с греческим письмом,
но также объясняемые южнославянским воздействием. Так, например, с
XIV в. у нас пишут рь вместо старых ър или ьр; распространяется также
круглое написание в вместо прежнего острого, ломаного в; появляется э,
неизвестное русской письменности, опять-таки под влиянием
южнославянского письма; ч появляется вместо старого т" (раньше была
«чаша», теперь «получаша»); воскрешается забытый с XIII в. знак л. вместо
у, причем, как сказано в одном из руководств, «красоты ради, а не
истины», т.е. буква совершенно ненужная, но нарядная; вместо ставшего
обычным в нашей письменности стройного "ѣ появляется Л, («ять
хромой»), и отсюда вырабатывается и», который долго держался в нашем
письме. Вместо ъі (ер + и) появляется лишенное всякого оправдания ы
(ерь + и). Наконец, вместо Є, употреблявшегося до «второго
южнославянского влияния» в конце слова и для йотованного е,
появляется начертание стоячее <о или даже изредка встречается
перевернутое назад э, которое раньше не отличалось от простого е и
только при Петре I было впервые использовано для обозначения е
нейотованного, что сохранилось в нашей азбуке до сих пор.
К тому, что было сказано о греческих буквах, надо прибавить, что с
этого времени у нас начинают широко употребляться Ѳ и ѵ, которые
просуществовали до декрета 1918 г.
Помимо этих частных изменений начертания ряда букв, надо отметить еще одно общее существенное явление. Подобно тому как
заимствованные из греческого алфавита буквы внесли новый стиль в
русскую графику (до появления этих букв русская графика характеризовалась остроугольностью и прямоугольностью, а сейчас ей
свойственна округлость начертаний), изменился общий вид рукописей
296
вследствие перенесения основных, дифференциальных элементов букв с
верха строки книзу или на середину строки. Скажем, буква и писалась Н,
а теперь И, т. е. различительный штрих с вершины опустился книзу.
Буква н писалась раньше N. опять-таки различительный элемент был
вверху буквы. Буква л писалась раньше Ж, т.е. теперь уплощилась чаша и
опустилась. Буква ю писалась ГО, а юс малый 1Я\; теперь все
определительные элементы опускаются книзу (ю, (Л). Это, конечно,
значительно меняет внешний облик рукописей.
Внедряются несколько шире, чем раньше, и идеографические
элементы письма: око начинают изображать Ѳ, а очи — ©©; для слова
зело употребляется знак
который напоминает извивающуюся змею;
слово окрест обозначало начертание ©, т. е. буква о и в середине крест
(иногда еще ©). Так, заменили полные написания слов Адам знаком @,
человек — ©. С этого времени появляется знак, который продержался до
революции: Т в значении 'почивший' (этот крест ставился перед именем
покойного). Наконец, идеографическое же написание принимается для
ряда числительных, так начертание а, окруженное венчиком из крестиков,
называлось «ворон» — и это было обозначением 10 миллионов. А
начертание [я] называлось «колода» и обозначало 100 миллионов. Повидимому, это был предел счета для того времени, поэтому мы
встречаем: «Как 10 воронов, так колода. Аминь.»
Стоит еще отметить, что обогащается пунктуация. До XIV в. наши
рукописи знают точку как знак, примерно соответствующий запятой,
затем двоеточие для обозначения более долгой паузы и точку с запятой,
соответствующую нашему знаку вопросительному. В XIV в. появляется
запятая в том же значении, в каком мы ее употребляем; меняются
функции точки, точки с запятой и двоеточия, приближаясь постепенно к
современному значению.
Более существенны были изменения в орфографии. Прежде всего
предлагается писать і перед гласными. В древнейших рукописях і
употреблялось только в определенных словах, например, Иісус и затем
как раз после восьмеричного и, а не перед ним (с XIV в. пишут іи).
Становится правилом совершенно чуждое русскому произношению и
отражающее только диалектное произношение немногих говоров
южнорусских славян написание сіа, великаа (без йо-тованного а), моа
(вместо сия, великая, моя), или вражіа, умѣаше, всеа (это
употреблялось до Петра I), еа (вместо ея), воніаху, съоуз (вместо союз).
Под влиянием сербского языка, где сочетание глухих с плавными дало в
это время слогообразующий плавный сонант, появляются написания
3.
влъкъ, длъгъ (еще чаще дльгь), плънъ, чрьньць — 'чернец' и др.
Становится правилом писать юсы в конце слова и в корнях. С этого
времени мы имеем такие написания, как МАСО — 'мясо', джх^ ~ 'ДУХ>
когородицж — 'богородицу'. После плавных начинают строго и
последовательно писать ѣ: прѣдъ, прѣльсти, плѣнъ (вместо слова
полонъ, которое было очень распространено раньше). Широко
заменяется старое русское ч на щ, т.е. опять восстанавливается в
литературном языке нощь (вместо ночь), плеща (вместо плеча).
Возвращается постепенно, к XVI в. старославянское сочетание жд, которое
в ХІІІ-ХІѴ вв. полностью исчезло. Вместо рожество, нужа, преже теперь
пишут рождество, нужда (или нжждд), прежде и т.д.
Конечно, нельзя представлять себе дело так, что орфографические
новшества распространились быстро, дошли до каждого грамотного
человека, как теперь у нас каждая языковая реформа сразу же становится
общим достоянием. Эти южнославянские нововведения широко
проявляются в церковной письменности, но почти совсем не проникают
(за исключением единичных случаев) в деловую письменность. В царских
грамотах соблюдается новая орфография (сіа, великаа, сочетание жд, щ,
ѣ), но грамоты, писанные в провинциальных центрах, в земских избах,
воеводских канцеляриях малых городов, долго сохраняют старорусскую
традицию. Только потому, что в лучших и богатейших библиотеках
подавляющее большинство рукописей было именно церковных,
богослужебных и дидактических, у исследователей работавших в
основном с этими источниками, и создалось впечатление, будто «второе
южнославянское влияние» в области письма и языка имело широчайшее
распространение и захватило якобы всю русскую письменность. Причина
этого явления — в большом подъеме литературной, научной
деятельности на Балканах в XIV в. Русские княжества в XIV в. находились
под тяжелым монголо-татарским игом (объединение русских земель еще
не завершилось), поэтому наша письменность в это время, и в
особенности церковная, несомненно, во всем уступала южнославянским
памятникам литературы и, естественно, искала в них опоры, поддержки,
вдохновения.
Известно, что в XIV в. наиболее интенсивными были связи Руси с
южнославянскими культурными центрами, прежде всего с южнославянскими монастырями. Почти все более или менее заметные
деятели литературы XIV и первой половины XV в. побывали или на
Афоне, где были богатейшие монастыри того времени, или в Охриде,
Ресаве или Трнове — крупнейших центрах южнославянской культуры.
298
Они изучали там и оригинальные южнославянские книги, и переводную
литературу, изготовляли для себя копии новых сочинений. Наконец, там
исправлялись переводы основных богослужебных книг, пострадавших от
переписки необразованными русскими писцами. Кроме того, почти все
монастыри да и глава церкви митрополит (впоследствии патриарх
московский) постоянно тратили огромные деньги на покупку рукописей,
составленных в южнославянских монастырях. В XV в. (в самом конце или
даже в начале XVI в.) оттуда стали привозить и первые печатные издания,
которые в известной мере способствовали началу русского книгопечатания в Москве.
После разгрома всех балканских государств турками эти давно
завязавшиеся и окрепшие связи с болгарскими и сербскими центрами
науки и литературы были использованы уже южными славянами. Не
видя возможности продолжать свою деятельность при турецком
господстве, стали переезжать в Киевскую, Литовскую, Московскую Русь
книжники и ученые. Наиболее известна большая и важная деятельность
митрополита Киприана (конец ХІѴ-начало XV в.) и Пахомия Серба
(середина XV в.).
Мне кажется, уже ясно, что усиление связи с балканскими странами
имело большое значение для поддержки религии, церковной
письменности в пору, наиболее тяжелую для русского народа, когда
единство веры было важной силой, побуждающей бороться с монголотатарским игом. В этом, конечно, положительное историческое значение
«второго
южнославянского
влияния».
Неправильно
было
бы
преувеличивать значение этих связей в общей истории литературного
языка, а также распространять действие «второго южнославянского
влияния» на весь XV и даже XVI в.
Со второй половины XV в. начинается другой процесс, который
.никем отчетливо не выделялся в истории литературного языка, но
который надо обособить от «второго южнославянского влияния». Этот
процесс можно назвать реставрацией старокнижных традиций в
литературном языке. В основном это реставрация старославянского
языка, но в известной мере и древнейшего русского литературного языка
домонгольской поры. Процесс реставрации был гораздо глубже,
значительнее, имел более существенное значение в истории
литературного языка, чем «второе южнославянское влияние». Никому не
придет в голову объяснять этот процесс какими-то внешними
причинами, зарубежными влияниями. Он, несомненно, местный и связан
с теоретическим обоснованием московского самодержавия. Некоторая
преемственная связь реставрации старокнижного языка со «вторым
южнославянским влиянием» объясняется тем, что после падения Сербии,
Болгарии и Византии Московская Русь осталась единственным
государством, где православная церковь пользовалась полной
поддержкой светской власти. Южнославянские церковники, которые в
XIV в. не раз высказывали мысль, что цитаделью подлинного православия
является славянская, а не греческая земля, легко перенесли эту теорию в
Москву. Называя московского царя единственным хранителем чистой
веры, они возложили на него миссию спасения порабощенных славян,
освобождения их от турецкого ига и восстановления православия на
Балканах. Однако и независимо от деятельности балканских иммигрантов
в Московии борьба московских князей за господство, за полное
подчинение феодальных земель была связана с усилившимся интересом к
обоснованию прав московского царя на великую историческую миссию
создания мощного государства, и это обоснование видели как раз в
преемственности власти византийского императора. Надо признать
весьма оригинальной теорию «третьего Рима». По этой исторической
концепции, избранным народом, поставленным во главе всей мировой
культуры, был когда-то древний Рим, потом Византия, а после падения
Византии стала Москва. Целый ряд русских литературных произведений
(в основном XV в.) всячески обосновывает теорию «третьего Рима»,
содействуя росту чувства национальной гордости, патриотизма,
уверенности в своей великой исторической миссии, которая была так
необходима России в ее тяжкой борьбе с Востоком, с Севером и Западом.
Чтобы закончить характеристику и оценку «второго южнославянского
влияния», я приведу небольшой отрывок из Софийской II летописи,
составленной в начале XVI в. в Москве, где после рассказа о неудачном
походе на Москву хана Большой орды Ахмата (1480) приписано
публицистическое обращение к русским людям. Этот отрывок из
Софийской II летописи показывает отношение русских книжников к
болгарам и сербам.
«О храбрим, мужествении сынове Русьстии! Потщитеся сохранити
свое отечество, Русьскую землю, отъ поганыхъ; не пощадите своихъ
головъ, да не узрятъ очи ваши плънения, и грабления святымъ церквемъ и домомъ вашимъ, и убиения чадъ вашихъ, и поругания женамъ
и дщеремъ вашимъ. Якоже пострадаша инии велиции славний земли
отъ Турковъ, еже Болгаре глаголю и рекомии Греци, и Трапизонь, и
Амория, и Арбанасы, и Хорваты, и Босна, и Манкупъ, и Кафа и инии
мнозии земли, иже не сташа мужествени, и погибоша и отечьство свое
300
изгубиша и землю и государьство, и скитаются по чюжимъ странамъ
бѣдни во истинну и странни, и много плача и слезъ достойно, укоряеми и поношаеми и оплеваеми, яко не мужествении; иже избъгоша
котории со имѣниемъ многиимъ, и съ женами и съ дѣтми, въ чюжие
страны вкупѣ со златомъ душа и твлеса своя изгубиша и ублажаютъ
тѣхъ, иже тогда умръшихъ неже скитатися по чюжимъ странамъ яко
бездомкомъ. Тако ми Бога видѣхъ своима очима гръшныма великихъ
государь, избѣгшихъ отъ Турковъ со имѣниемъ и скитающеся яко
страннии и смерти у Бога просящихъ яко мздовъздаяния отъ таковыя
бѣды; пощади, Господи, насъ, православныхъ Христианъ, молитвами
Богородица и всѣхъ святыхъ, аминь»'.
Конечно, не советы, речи и выступления болгар или сербов, а нужды
политической пропаганды обусловили этот возврат к традициям
древнейшего облика русского литературного языка. Существовало
убеждение, что наша древняя домонгольская письменность сохранила
православие в большей чистоте, чем позднейшая, эпохи монголотатарского завоевания. В такой форме русские люди того времени
осознавали огромное культурное значение русской письменности ХІ-ХІІ
вв. А с другой стороны, желание распространить свою власть, по крайней
мере, свой авторитет и влияние в других славянских землях, и прежде
всего у балканских славян, неизбежно приводило к мысли о
необходимости освободить русский литературный язык от всяких чисто
местных, московских особенностей, чтобы сделать его общеславянским
литературным языком. А так как старославянский язык в Х-ХІ вв. уже
имел такое общеславянское значение, то естественно было попытаться
превратить русский литературный язык в общеславянский с помощью
реставрации старославянских элементов. Однако нельзя упускать из виду,
что в XV в. или в начале XVI в. борьба за очищение книжного языка от
местных элементов просторечия ограничивалась небольшим кругом
литературы господствующего класса. Этот процесс реставрации, конечно,
оказал тормозящее, сдерживающее влияние, замедлил образование
национального языка.
Роль славянизации литературного языка особенно отчетливо
выступает при сравнении развития русского литературного языка с
развитием украинского литературного языка той же поры. Украинский
литературный язык развивался в очень тяжелых условиях польского гнета
и не имел никакой опоры в государственном аппарате; так как
1
Цит. по кн.: Поли. собр. русских летописей, т. 6. Спб., 1853.
господствующий
феодальный
слой
отрекся
от
народного
языка,
ополячился или латинизировался, литературный язык формировался в
основном в среде «третьего сословия», горожан, и потому в ХѴ-начале XVI
в. мы имеем литературный язык, уже полностью подчиняющийся
влиянию разговорного. Таким образом, на Украине в это время мы
наблюдаем теснейшее сближение литературного языка с общенародным,
разговорным, отмечаем появление национальной письменности, тогда
как у нас литературный язык, отражающий общенародный разговорный
язык, складывается лишь во вторую половину XVII в.
Разрыв между литературным и разговорным языком ощущался уже с
конца XV в., а в XVI в. нашел отчетливое выражение в целом ряде
документов и литературных произведений. К XVI в. относится, например,
такое заявление священника относительно текста сборника поучений
Иоанна Златоуста (константинопольского патриарха, видного идеолога
христианской церкви, оратора, проповеди которого в русских старых
переводах, начиная с XI в., были чрезвычайно широко распространены):
«Зѣло невразумительно не точию слышащимъ, но и чтущимъ, не точию
от мирянъ, но и от свя-щенникъ — иностраннымъ языкомъ тая
Златоустаго писания нари-цахуся.» Или монахи являются к известному
церковнику Зиновию Отенскому и заявляют, что не могут бороться с
еретиками, потому что не понимают того, что пишут эти еретики на
славянском языке. Когда Зиновий Отенский говорит им, что надо читать,
они отвечают: «Книгы писаны закрыты»1. Так говорят монахи, а что же
говорить о крестьянах или посадском люде!
С другой стороны, те немногие церковники, которые в полной мере
владели этим архаизированным языком, с презрением относятся к
народному разговорному языку. Один из монахов, переписывавших
житие в новом стиле и на новом славянизованном языке, сообщает, что он
пользовался старыми записками о жизни святого, которые писаны
невеждами «простою беседою». Эти записки, написанные простым
языком, книжник счел необходимым переработать, а тех, кто их написал,
назвать невеждами. Тот же Зиновий Отенский в ответ на предложение
перевести богослужебные книги на простой язык, заявил: «Мню же и се
лукавого умышление въ христоборцѣхъ или въ грубыхъ смысломъ, еже
1
См.: Отенский Зиновий. Истины показания к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.
уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народных рѣчей.
Аще же и есть полагати прилич-нейши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и
302
общая народныя
обезчещати».
рѣчи
исправ-ляти,
а
не
книжныя
народными
Наиболее передовые церковники, например, группа «справщиков»
священных книг, работавших под руководством Максима Грека,
попытались несколько упростить и облегчить язык старых переводов
церковных книг. Так, в «Толковой Псалтыри» они заменили (их потом
судили за это) ряд старославянских слов: векую на чего ради, выну —
всегда, ны — насъ, велий — великъ и т. д. Из этих поправок видно, что
самые обычные элементы старославянского языка большинству даже
грамотных людей были непонятны.
Соблюдалась в XVI в. и традиция особого произношения церковного
текста в сравнении с повседневной простой речью. В одной учебной
Псалтыри читаем: «Сие бо вельми зазорно и укорно, еже ять вместо ести
глаголати, такоже и есть вместо яти»1. Речь идет о том, что при обучении
чтению надо было заставить учеников усвоить неизвестное им из живой
речи особое произношение ѣ. Совершенно ясно (хотя бы из этого
свидетельства, да и из многих других), что в московской речи XVI в. ѣ и е
произносились совершенно одинаково, и это совпадение лучше всего
показывает, как велико было уже в XVI в. воздействие южнорусских
диалектов на московскую и тем самым на общерусскую речь.
Севернорусские диалекты до сих пор различают произношение ѣ и е, т. е.
на месте старого ѣ произносят либо и, либо е узкое, либо дифтонг, чего
нет на месте старого е. Но, как видим, вопреки общенародному
московскому произношению, при обучении чтению заставляли
произносить ѣ не так, как е. Тут не сказано, как же его произносили, но у
нас есть возможность ответить на этот вопрос. Традиция, идущая из
Киевской Руси, бережно сохраненная в севернорусских говорах, дожила
до XX в. у старообрядцев, которые, так же как этот учитель в Псалтыри,
при чтении церковных текстов требовали строгого различия букв ѣ и е: ѣ
произносили дифтонгически, а е — как простое е; например, тѣло, сѣмо
произносились с легким дифтонгом, смягчающим предыдущий
согласный: тіело, сіємо. Едва ли надо сомневаться, что именно такое
произношение ѣ насаждалось во всех школах в XVI в.
Точно так же церковники строго боролись с «аканьем». При чтении
церковных текстов «аканье» не допускалось, слова произносились на
1
См.: Псалтырь. М., 1645.
манер севернорусских диалектов со строго выдержанным о во всех
безударных положениях. Соответственно с этим строго выдерживалось е
в безударном положении.
По той же традиции, идущей из киевской эпохи, в церковных текстах
читали г не как взрывное, а как спирант: Ьосподь, Ьлава, блаЬо,
плаполить, святапо, Ьород. В этой черте данная древняя церковная
традиция как раз совпадала с южнорусскими говорами. Но на севере
детей приходилось переучивать, заставлять отвыкать от своего г и учиться
произносить Ь1. (Эта традиция у старообрядцев тоже дошла почти до
нашего времени.)
Только в конце XVII в. мы имеем доказательства полного признания
равноправия народного общемосковского произношения с древним
церковным произношением, которого держались высшие круги. В
отличие от целого ряда приказов о жестоких наказаниях дьяков за
малейшие отступления от принятой орфографии, Алексей Михайлович в
1675 г. издает приказ, в котором разрешает писать, «как кто произносит».
Он указывает, что можно писать и ѣ вместо е, и а вместо о, т.е. писать «по
природе тех городов, где кто родился»2. Этот момент мы и отметим как
момент максимального сближения литературного языка с народным или,
по крайней мере, признания его полноправности наряду с литературным
языком.
В XVI в. значительные изменения произошли и в грамматическом
строе, и в словарном составе русского языка. Напомню коротко
важнейшие изменения грамматического порядка. Как показывают
документы, написанные не очень образованными людьми, живой язык в
XVI в. уже не знал форм имперфекта и аориста (вместо них употреблялся
только перфект, как и в современном языке), уже не было форм
двойственного числа, не употреблялся супин.
1
Особенностям традиционного произношения посвящена кн.: Успенский Б. А.
Архаическая система церковнославянского произношения. (Из истории литургического
произношения в России). М, 1968. Прим. ред.
2
«Великий Государь... указаль и бояре приговорили: будеть кто вь челобитьѣ своемь
напишеть въ чьемъ имени или въ прозвищѣ не зная правописания вмѣсто о а или вмѣсто а о,
или вмѣсто ъ ь, или вмѣсто ь е, или вмѣсто и і, или вмѣсто о У и вмѣсто у о и иныя въ
письмахъ наречения подобныя тѣмъ, по природѣ ГБХЪ городовъ, гдѣ кто родился и по
обыкностямъ своимъ говорить и писать извыкъ, того въ безчестье не ставить и судовъ въ томъ
не давать и не розыскивать» (см.: Поли. собр. законов Российской империи, т. 1 (1649-1675).
Спб., 1830, с. 960).
Вместо старого глагольного окончания -ши во 2-м лице единственного
числа — ви диши — в живом языке уже было только -шь: видишь,
знаешь, любишь, а вместо старого -ся — молюся, боюся — появилось -
304
сь: молюсь, боюсь. Почти полностью исчезли бессоюзные соединения
при гипотаксической связи, но под влиянием разговорного языка
значительно увеличилось количество безличных конструкций. Утрачены
двойные падежи; вместо конструкции с двойным винительным падежом
распространяется конструкция либо с творительным, либо с дательным
падежом: постави мя по-помь вместо постави мя попа, или нарекли
ми есте собѣ отцемь вместо более древнего отець. Исчез, по-видимому,
хотя и ограниченно употреблявшийся в общем языке, оборот «дательный
самостоятельный». Стал исключительно редким и только книжным оборот с давнопрошедшим временем. Утрачено было строгое различие в
флексии основ на -у и -о.
Много утрат было и в лексике литературного языка. Отмечу хотя бы
несколько слов, которые безвозвратно ушли из литературного обихода:
корзно — 'верхняя теплая одежда'; бретьяница — 'погреб для меда';
сустуги — 'роскошная одежда, надеваемая в торжественных случаях';
детинець — 'центральная часть феодального замка, кремля'; забороло —
'вал, стена, башня замка'; ныръ, нырище — 'развалины'; прѣ — 'парус';
кубара — 'корабль, лодка'; вежа — 'дом, палаты, шалаш'; огнищанинъ
— 'богатый знатный человек, владелец дома'; гридь — 'княжеский воин';
крьнути — 'купить'; носадъ — 'корабль'; цѣрь — 'сера' и т. д.
Сильно изменились значения некоторых слов. Забылись старые
значения слов: заѣхати — 'разграбить, совершив набег'; проказа в
древнейшем языке значило 'вред, убыток', а позднее употреблялось
только в значении 'болезнь'; лобъ употреблялся в значении 'череп'; слово
дебрь ранее значило 'крутой берег, круча'.
В то же время возникают новые слова, о них я уже отчасти говорил.
Особенно значительным является пласт, заимствованный из восточных
языков — иранских, тюркских, кавказских. Тюркского происхождения
слова аманатъ — 'заложник, пленник'; алтынъ; лачуга (более древнее
алачуга); камка — 'шелковая цветная ткань с узором'; тамга — 'клеймо';
басма — 'изображение, рисунок'; ам-баръ; зендень — 'шелковая ткань';
зарба — 'одежда'; охабень — 'кафтан'; кумганъ — 'металлический
кувшин с носиком' и т.д. Под влиянием реставрации в языке появляется
множество сложных слов и восстанавливаются уже забытые
старославянские обороты и конструкции.
Я уже говорил, что в языке литературы Московской Руси не так велик
тот пласт, который можно связать непосредственно со «вторым
южнославянским влиянием», с одной стороны, и с другой стороны — со
стремлением руководящих общественных групп создать высокую,
авторитетную для всех славянских стран литературу. С новым стилем
можно связывать лишь жития и довольно богатую переводную
литературу ХѴ-ХѴІ и начала XVII в. Однако эти немногие памятники
заслуживают большого внимания, так как они оказывали заметное
влияние на развитие литературного языка вплоть до конца XVIII в.
То, что Ломоносов назвал по своей классификации стилей русского
языка «высоким стилем», является непосредственным продолжением
языковых и стилистических норм, выработанных в XVI в. Жития,
написанные в этом стиле, посвящены обычно русским князьям или
деятелям церкви. Цель их составления — укрепить мысль о
независимости, самостоятельности русской церкви, о наличии в ее
истории выдающихся деятелей, а поскольку канонизировали чаще
князей, чем церковников, то это служило и к возвеличиванию монарха, к
возвеличиванию Московского государства как преемника Византии,
богатого своими христианскими подвижниками, героями, святыми.
Для того чтобы представить новый стиль более конкретно, рассмотрим «Житие Стефана Пермского», написанное Епифанием Премудрым. Стефан Пермский — один из московских деятелей православия,
который поставил своей задачей обратить в христианство народ коми
(пермяков, как их тогда называли) и поэтому провел в Пермской земле
много лет, изучил коми-пермяцкий язык и создал для этого народа
азбуку, а затем перевел на коми-пермяцкий язык необходимые
богослужебные книги и основные библейские тексты. Для истории комипермяцкого языка деятельность Стефана Пермского имеет большое
значение. Епифаний Премудрый был учеником Стефана Пермского, свое
житие, в отличие от других, он написал с искренним увлечением,
большим пафосом, да и с немалым литературным талантом.
Первое, что поражает читателя «Жития...», — изобилие длиннейших
слов, образованных из двух-трех корней. Сложные слова, по-видимому,
очень редкие в древнейшем русском языке, стали у нас более или менее
обычными в эпоху первых переводов с греческого, в XI—XII вв. Однако
тогда они были вызваны необходимостью возможно точно передать
греческие сложные слова, так как старая византийская литература
отличалась огромным количеством сложно-составных образований. И
надо сказать, что переводчики древнейшей поры, видимо, чувствовавшие,
что этот тип словообразования в чем-то чужд русскому языку, нередко
передавали греческие сложные слова посредством двух-трех русских
самостоятельных слов. В тех случаях, когда они не могли передать эти
сложные слова по стилистическим, ритмическим соображениям
306
русскими словами, они оставляли в русском переводе кальки с греческого.
Но в эпоху «второго южнославянского влияния» и старославянской
реставрации сложных слов стало очень много, что связано с пристрастием
к сложным словам в южнославянской письменности, где они сделались
чем-то вроде показателя приподнятости, великолепия стиля.
Епифаний Премудрый усвоил этот же принцип и, желая придать
«Житию Стефана Пермского» черты высокого стиля, использовал не
только известные, традиционные сложные слова, но и множество слов
сочинил сам. Такие слова, как велегласный, страстотер-пець,
братолюбивый, законодавець, душеполезная бесѣда он мог усвоить из
литературы. Но надо сказать, что его современники уже начали вводить
неслыханные, небывалые раньше слова, скажем, ту-ченосный,
высокопрестольный. Епифаний Премудрый по этому пути пошел
дальше всех, и у него мы находим такие слова: добро-разумиченъ,
скоровычение,
приснопомнимый,
смыслудавець,
стражевожь,
многомутное (море), доброглашение и т. д.
Язык Епифания Премудрого в основном старославянский. Здесь вы
найдете и нощь (вместо ночь), и древо, и младо, и т. д. Но, с другой
стороны, здесь будет всегда ж вместо жд, как в древнерусской
письменности. Это показывает, что Епифаний Премудрый в такой же,
если не в большей, мере следует традиции древнейшей русской
письменности XI—XII вв., с которой он был хорошо знаком, чем новым
книгам, привезенным из Афона и балканских монастырей. На это
указывает наличие таких форм, как рассужая вместо рассуждая,
заблужаясь вместо заблуждаясь, преже вместо прежде, препровожу
вместо препровожду. Но он широко употребляет и формы, не
свойственные живому языку и характерные именно для старинного
книжного языка. Тут прежде всего надо указать на такие архаические
формы именительного падежа, как любы (вместо любовь),чисто книжное
словосочетание отрокъ доброразумиченъ, употребляются формы со
смягчением заднеязычных: втузѣ, стисѣ, мнозѣ; широко встречаются
наречия старославянского типа (вельми, присно, зѣло, таче), а также
формы имперфекта, причем употребляются все формы совершенно
правильно. Имперфект сохраняется вплоть до XVIII в., но уже с конца XVI
в. будут встречаться ошибки, неразличение отдельных форм. Однако
Епифаний Премудрый пишет еще в XV в., и у него формы имперфекта
употребляются безукоризненно: желаше, вхожаше, приставите,
прилежаше. В тех редких случаях, когда нужно употребить
множественное число, он опять-таки образует его верно бываху, почитаху,
моляхуся, грядяху.
Синтаксис «Жития Стефана Пермского» богат сложносочиненными и
сложноподчиненными
предложениями,
широко
используются
причастные конструкции, начиная с оборота «дательный самостоятельный».
«Въздрастьшу ему въ ДБВЬСТВГБ И ВЪ ЧИСТОТЕ И цѣломудрии и многы
книгы почитавшу, ветхаго и новаго завѣта, и оттуду расмотривъ житие
свѣта сего маловременное и скоро минующее и мимо ходящее, акы
рѣчнаа быстрина, или акы травный цвѣтъ, апостолу глаголющу: мимо
идеть слава мира сего, акы травный цвѣтъ, и усше трава и цвѣтъ ея
отпаде; глаголъ же Господень пребываетъ в вѣкы; и другому апостолу
глаголющу: всѣм намъ явитися подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, и еже въ святыхъ евангелиихъ Господу глаголющу: иже кто
оставить отца и матерь, жену и дѣти, братию и сестры, домы и имѣниа
имени моего ради, сторицею прииметъ, и животъ вѣчныи наслѣдить...
и прочая ина многа таковаа и подобна симъ, яже въ святомъ писании
лежащая, о семъ глаголющая»1.
Это одно огромное предложение, включающее по крайней мере
десять причастных оборотов. В нем отсутствуют предложения с личными
глаголами, которые мы по этому признаку могли бы считать основными,
управляющими синтаксическими центрами большого целого. Такие
предложения есть только в цитате «мимо идеть слава мира сего... и усше
трава и цвѣтъ ея отпаде», а в авторском тексте синтаксического центра
нет. Все предложение состоит из оборотов «дательный самостоятельный»
и оборотов с причастиями, которые мы сейчас называем обособленными
причастными оборотами. Это объясняется тем, что основой всего
периода является цитата, а все остальное — вводящее описание к ней, и
эта цитата рассматривается не как нечто дополнительное, а именно как
синтаксический центр всего периода.
Кроме таких сложных предложений с подчинением первой и второй
степени синтаксис Епифания Премудрого характеризуется еще широким
использованием описательных конструкций, состоящих из причастий с
глаголом, который нельзя назвать вспомогательным, а скорее надо
назвать связкой. Например, «И бяше умѣя глаголати треми языки». Здесь
сказуемое выражено тремя словами: бяше — имперфект, умѣя —
Цит. по кн.: Житие святого Стефана епископа Пермского, написанное Епифа-нием
Премудрым. Спб., 1897.
1
308
причастие, глаголати — инфинитив. Если бяше можно рассматривать
как вспомогательный глагол (это тоже не бесспорно), то, во всяком случае,
умѣя и глаголати являются полнозначными, вполне самостоятельными в
семантическом отношении частями сказуемого.
Наконец, характеризуя синтаксис сочинения Епифания Премудрого,
надо отметить изобилие союзов для выражения подчинительных
отношений.
Лексика «Жития Стефана Пермского» также в основном старославянская. Здесь много таких элементов, какие были совсем неизвестны в
общем языке, а также не были особенно широко употребительны в нашей
старой письменности. Ряд слов, несомненно, надо отнести уже к влиянию
южнославянской письменности. Скажем, сочетание грезнъ добродѣтели
— сложная фигура. Грезнъ — 'кисть, гроздь винограда'; это конкретное
понятие в сочетании с добродѣтельзначит'щедрый дар всяких
добродетелей'. Слово грезнъ встречалось в ХІ-ХІѴ вв. в церковнокнижных текстах, а сочетание грезнъ добродѣтели было для русской
письменности новым. Малоизвестное слово единъ калогеръ рядом
поясняется словом единъ чьрнець, прозвитера суща — саном
священника (последнее слово в указанном значении было сравнительно
ново). К старой книжной традиции относится: «Бяху бо в Перми
человѣцы... бѣсомъ моляху-ся, волшвениемъ одержими суще, вѣрующе в
бѣсование и в чарование и в кудесы» — слова волшвение, кудесьникъ
встречаются еще в «Повести временных лет». Другой пример: «добро же
бы было намъ, аще бы рака мощии твоихъ была у насъ» (рака —
'гробница').
Но все же, стремясь писать высоким книжным языком, Епифаний
Премудрый иногда (вероятно, скорее по недосмотру) допускает и слова
русские, например, перетолмачили — 'перевели', встречаются даже
обороты и выражения из обычного разговорного языка. Говоря о начале
распространения христианства среди пермяков, он пишет, что Стефан
Пермский яко биричь на торгу клича, т. е. ходил по селам пермяков и
кричал, как биричь — 'чиновник, объявляющий какой-нибудь новый
закон или распоряжение князя'. Или в другом месте, вспоминая о том,
как тяжко жилось Стефану Пермскому в Москве, Епифаний Премудрый
добавляет: «не тако бо тебе москвичи почтутъ, якоже мы, ни тако
ублажать» — 'не так тебя будут почитать москвичи, как тебя здесь
почитают'. Такого же характера «Знаем бо мы тѣхъ, имже и прозвища ти
кидаху, отнюду же нѣции яко и Храпомъ тя зваху» — 'распространяли по
адресу Стефана обидные прозвища'. В конце, когда Епифаний
Премудрый объясняет, как возник замысел жития, он о себе говорит: «А
самъ лѣнивъ живу». В другом месте он пишет о Стефане Пермском: «Да
что тя приглашу, пастуха ли нареку» или «быхомъ яко овца не имуще
пастуха», употребляя слово пастухъ вместо пастырь.
Нередко у Епифания Премудрого образы простого обихода в
известной мере связаны с фольклорной, песенной традицией, они
возникают вследствие ассоциаций его детства, юношества:
«Яко плугомъ, проповѣдию взоралъ еси, яко сѣменемъ учениемъ
словесъ книжныхъ насѣялъ еси въ браздахъ сердечныхъ, отнюду же
възрастають класы добродѣтели, ихъже, яко серпомъ вѣры, сынове
пермьстии жнутъ радостныя рукояти, вяжуще снопы душеполезныя,
и яко сушиломъ воздержаниа сушаще, и яко цѣпы терпѣниа млатяще
и яко въ житницахъ душевныхъ соблюдающе пшеницу».
Переводная литература той поры отличается даже для читателяспециалиста чрезвычайной сложностью и неясностью языка, особенно
переводы из богословских и научных сочинений. Знаменитый
дипломатический деятель, дьяк московского князя Дмитрий Герасимов
был одним из крупнейших переводчиков XV в. Он первым перевел на
литературный язык Московской Руси латинскую грамматику Доната,
употреблявшуюся на протяжении почти пяти столетий во всех странах
Западной Европы. Но нельзя сказать, что это был перевод на русский
язык. Язык перевода — в основном язык старославянский, русских
элементов там не больше, чем в «Житии Стефана Пермского». Читать эту
книгу так трудно, что надо удивляться, как все-таки могли многие русские
люди по этому учебнику изучать латинскую грамматику.
Не менее трудно изложены переводы богословских сочинений ряда
крупных византийских писателей. Наиболее ясным, легким и доступным
языком (но все же очень далеким от живого русского языка) переводили
житийную литературу. Возьмем перевод из «Великих Четий-Миней»
митрополита Макария (отрывок из «Жития святого отца Варлаама
Пустынника»):
«Над Эфиопьскою страною, глаголемою Индийскою, есть страна
Синаритидѣйская, в ней же пустыни велика. И ту живяху отци святыи пустынници, в них же бѣ мнихъ етеръ премудръ, божественнымъ
житиемъ и словомъ украшенъ и священничествомъ свершенъ, именемъ Варламъ. Вѣчная възлюбивъ паче временныхъ, паче же рещи
аггельскымъ житиемъ живыи, бдѣниемъ и молитвами, смирениемъ и
310
постомъ тѣло свое удручивъ, от всѣхъ удалився мнихъ. По той же
Сиридийстѣи пустыни хожение створивъ и въ препустую далнюю пустыню шедъ. Бысть ему откровение о сыну царевѣ Иосафѣ: и, сволкъ
ризы чернеческыя, облечеся в мирьскыя ризы, в лодью всѣдъ, прийде
въ царство Индийское»2.
Сложное предложение Вѣчная възлюбивъ... представляет собой цепь
причастных оборотов, в нем нет ни одного предложения с личным
глаголом, которое мы могли бы рассматривать как синтаксическое
главное. Это предложение состоит из четырех причастных оборотов;
второе, более короткое — По той же Сиридийстѣи пустыни... — из двух
причастных оборотов; наконец, в третьем предложении находим личный
глагол: Бысть ему откровение.... В этом небольшом переводном житии
XVI в. нельзя указать ничего, кроме формы сволкъ и слова лодья, что бы
свидетельствовало о влиянии живого русского разговорного языка. И по
лексике, и по грамматическому строю это целиком старославянский
язык. Единственное, в чем, может быть, проявилось стремление сделать
житие более доступным для читателя, чем другие старославянские
тексты, — это отсутствие наиболее сложных, наиболее забытых
архаических элементов старославянской лексики и синтаксиса.
Литературный язык второй половины XVI в.
Литературный язык Москвы середины и второй половины XVI в.
формируется на основе сложного сочетания старого и нового книжных
стилей с включением некоторых разговорных элементов. Нельзя сказать,
что наступает перелом в сторону демократизации литературного языка,
— это было бы преувеличением, хотя каждому исследователю,
естественно, хотелось бы подчеркнуть увеличивающееся с каждым
десятилетием пополнение средств литературного языка из разговорной
речи.
Более точное представление об изменениях литературного языка во
второй половине XVI в. можно получить, если выделить в литературе того
времени жанры, не совпадающие по языку. Именно со второй половины
XVI в. начинается противопоставление литературных жанров по языку.
Если раньше мы отмечали только расхождение между языком церковной
письменности и деловой, юридических документов, то теперь возникает
ряд новых литературных жанров, отнюдь не предназначенных для
Цит. по кн.: Великие Минеи Четьи, ноябрь, тетрадь 1, день 16-й. — В кн.: Памятники славянорусской письменности. М., 1910, стлб. 2647-2648.
2
широких народных масс и тем не менее все смелее использующих
элементы разговорного языка и отступающих от сковывающих традиций
языка церковного.
Прежде всего в этом направлении развивается так называемая
воинская повесть, т. е. оригинальные литературные сочинения, посвященные воинским подвигам русского народа. Один из ярких образцов
этого жанра — «История о Казанском царстве», прославляющая
казанские походы и победы Ивана Грозного. Даже из тех коротких
отрывков, которые я приведу, вы увидите, что автор этого историкобеллетристического сочинения вполне сознательно стремился писать на
том же языке, на каком написаны «Великие Четьи-Минеи» и «Житие
Стефана Пермского». Но тем не менее этот человек, связанный своей
профессией, всей жизнью не с церковными, а со служилыми,
дворянскими кругами, не в силах выдержать до конца высокий стиль, и
отсюда за старославянским обличьем все яснее и сильнее звучит русская
речь:
«Воеводы же съ пешцы ко граду приступльше и единемъ часомъ мало
трудни деветеры врата града изломиша, и во градъ внидоша; и вдруъ
съ теми царевичи поспешиста въ проломы, съ полки своими варварскими., внидоша во градъ полыми мѣсты... безбранно, и обои тя отъ
возгорѣния градъ отнята... Казанцы бо еще во страси мятущимся, и не
ведающимъ себе, и ума не собравшимъ; протчие же воеводы стоящи,
и времени ожидающи, и видевъше огнь угасше, по аеру вѣтромъ
разносимъ»3.
Вот вам и разрушение оборота «дательный самостоятельный»; другой
автор написал бы казанцемъ, а здесь употреблен именительный падеж,
сказуемое же выражено дательным падежом причастия.
По формам, по фонетике, по морфологии это старославянский язык.
Тут почти нет русских элементов: неполногласные формы, щ вместо ч,
аки (а не яко), формы аориста, много причастий, оборот «дательный
самостоятельный». Однако наряду с этим встречаются отдельные слова и
формы нетрадиционные. Например, союз яко: «И приидоша во градъ на
конехъ своихъ, яко грозныя тучи съ великимъ громомъ»; полые места,
проломы — лексика, связанная с такими реальными подробностями,
какие не могли быть переданы традиционными формами. Обратимся
еще раз к тексту: «Съ нѣкихъ же казан-цовъ сниде смертный страхъ и
3
Цит. по кн.: Поли. собр. русских летописей, т. 19. Спб., 1903.
312
охрабришася, сташа во вратехъ града и у полыхъ мѣстъ, сняшася съ
русью, и съ татары смешася сѣчемъ великимъ». Включение таких, я бы
сказал, не подлинных, а вновь созданных славянизмов, как сѣчемъ
великимъ (нужно было бы боем великим, а здесь создано неслыханное
раньше слово сечь мужского рода) — это попытка соединить русскую
речь со славянской.
Язык «Истории о Казанском царстве» может быть отнесен к книжному
стилю. Но в ряде сочинений, написанных позже, слияние русской речи со
старославянскими формами увеличивается. Процесс постепенного отхода
от идеи создания высокого общеславянского литературного языка мы
можем проследить на примере двух памятников XVI в. — переписки
Ивана Грозного и «Домостроя».
Так же, как и автор «Истории о Казанском царстве», царь Иван
Грозный стремился писать на самом великолепном, торжественном
книжном языке. Так же, как и тот, он знал много фразеологических
сочетаний, слов и форм старославянского языка, может быть, его начитанность в древних харатейных, т. е. пергаментных, книгах была даже
несколько большей, чем у автора «Истории...». Но, стремясь писать на
старославянском языке, он время от времени невольно калькирует
русскую речь. Иногда в порыве сильных чувств, чаще всего негодования и
гнева, он сбивается со старославянского языка на самое обычное
московское просторечие XVI в.
Вот он безукоризненно сочинил, например, такую фразу: «Почто, о
княже, аще мнишися благочестие имѣти, единородную свою душу
отверглъ еси?4» Тут и перфект со связкой, и звательный падеж, и
старославянский союз аще. Слово единородный в обычном употреблении (единородный сын) значит 'единственный рожденный в моем
роде'. Иван Грозный хочет сказать другое: 'самое дорогое, самое важное,
самое ценное, что в тебе есть', и он употребляет это слово так, как оно
использовано в псалмах.
Или: «Что даси измѣну на ней въ день страшнаго суда? Аще и весь
миръ приобрящеши, последи смерть всяко восхититъ тя». Употребить
слово замена он не решился и пишет так, как в тексте Евангелия: измену
на ней.
Дальше: «Ты же, тѣла ради, душу погубилъ еси, и славы ради
мимотекущия нелѣпотную славу приобрѣлъ еси, и не на человѣка
возъярився, но на бога воссталъ еси» — это почти цитата. «И еже воеводъ
4
Цит. по кн.: Переписка Князя А. М. Курбского с царем Иоанном Грозным. Пг., 1914.
своихъ различными смертьми расторгали есмя, — а божи-ею помощию
имеемъ у себя воеводъ множество и опричь васъ, из-менниковъ. А
жаловати есмя своихъ холопеи вольны, а и казнити вольны же есмя». По
мере того как раздражение, гнев царя растет, язык его постепенно теряет
свои пышные ризы. Глагол расторгали — 'рвали на куски, четвертовали'
в старославянской письменности не употреблялся, автор его сочинил.
Сюда же вторглись нестарославянские слова опричь и холопеи (если бы
он писал по-старославянски, то здесь было бы рабов).
Московское просторечие встречается в языке посланий Грозного
нечасто:
«...А иже обрящется въ супротивныхъ, еже выше рѣхомъ, то по своей
винѣ и казнь приемлютъ. А в ынѣхъ земляхъ самъ узришь, елико
содѣвается злымъ злая: тамъ не по здѣшнему! (...) А мукъ и гонения и
смертей многообразныхъ ни на кого не умышливали есмя; а еже о
измѣнахъ и чародѣистве воспомянулъ еси, — ино, такихъ собакъ вездѣ
казнятъ».
А дальше, когда царь издевается над князем Иваном Шуйским,
который из украденного в царской казне серебра заказал себе серебряную
посуду и велел на ней вычеканить имена своих предков,чтобы никто не
сказал, что это чужое, он уже совсем по-русски пишет: «...А всѣмъ
людемъ вѣдомо: при матери нашей и у князя Ивана Шуйского шуба была
мухояръ зеленъ на куницахъ, да и тѣ ветхи; и коли бы то ихъ была
старина, и чемъ было суды ковати, ино лутчи бы шуба переменити».
Конструкция шуба переменити (именительный падеж при инфинитиве в функции прямого дополнения) даже в деловом языке
считалась просторечной (дьяки никогда не допускали такого сочетания), а
Иван Грозный употребляет ее в торжественном стиле. Однако следует
сказать, что на 90% его сочинения выдержаны в традициях старого,
славянского стиля5.
В «Домострое» соотношение традиционных и просторечных
элементов другое. «Домострой» состоит из двух частей, очень резко
различающихся по языку. Первая часть, где излагаются обязанности
Сочинения Ивана Грозного не раз подвергались лингвистическому исследованию; см.:
Помигалова М. И. Лексика посланий Ивана Грозного (синонимика имен существительных).
Автореферат канд. дисс. Л., 1954; Рогова В. Н. Словообразовательная система русского языка в
XVI в. (по материалам публицистических произведений). Красноярск, 1972; Савицкая С. А.
Особенности языка посланий Ивана Грозного. — «Труды Одесского ун-та», 1953, т. 3 (сборник
филологич. фак-та). Прим. ред.
5
314
русского человека по отношению к церкви и царю, а также обязанности
детей по отношению к родителям и основы воспитания детей, написана
на церковнославянском языке. Выдержана она почти в такой же манере,
как сочинения Епифания Премудрого и писателей его времени: это
настоящий проповеднический язык:
«Аще бо отдаси дщерь без порока, то яко велико дѣло съвершивъ и
посрѣдь збора похвалитися; и при конци не постонеши на ню. Лю-бяи
же сына своего учащай ему ранъ, да последи о немъ возвеселиши-ся.
Казни сына своего измлада, и порадуешися о немъ в мужьствѣ; и
посредѣ злыхъ восхвалитися, и зависть приимутъ враги твоя. Воспитай
дѣти с прещениемъ и обрящеши от нихъ покои и благословение» 6.
Но вторая часть, в которой даются советы, наставления о ведении
двора, поместья, кухни, мастерских, об обращении с челядью, написана
целиком на общем московском разговорном языке. Там вы не найдете
ничего церковнославянского:
«А коли хлѣбы печи, тогда и платье мыти: ино с одного стряпня, а
дро-вомъ не убыточно, и дозирати, какъ рубахи красные моютъ, и
лучшее платье, и колке мыла поидетъ, и золы, и на колке рубашекъ; и
хороше бы вымыто и выпарено, и начисто вымыто, и изсушено и
искатано».
Здесь вместо егда употреблены русские союзы коли, ино.
«Домовиту человеку, мужу и женѣ, и у кого помѣстья, и пашни, селъ и
вотчины нѣтъ, ино купити годовой запасъ, хлѣбъ и всякое жито, зимѣ
на возехъ, а полтевое мясо, такоже, и рыбу всякую, и длинную осетрину на провѣсъ, и бочесную в годъ, и семжину, икру сиговую и черную,
и медь прѣсной и которая рыба в лѣто ставити и капуста, и тѣ суды
зимѣ в ледъ засекати, и питие запасное, глубоко, и покрыв лубомъ засыпати; или надобе летѣ, тогды свѣжо и готово».
Словом, сколько бы вы ни читали статей из второй части, вы встретите
только
русскую
обиходную
лексику.
Синтаксис
чрезвычайно
элементарный: обычно простое распространенное предложение со
6
ІДит. по кн.: Домострой по списку Общества истории и древностей российских. М., 1882.
многими подлежащими, иногда со многими сказуемыми
дополнениями — то, что как раз свойственно и разговорной речи7.
и
Деловая письменность Московского государства
XV-XVII вв. как источник для характеристики
московского говора
Во многих работах, посвященных истории русского литературного языка,
основным корнем, из которого развился национальный язык, а затем и
обновленный литературный язык, считают язык деловой, язык грамот.
Надо относиться к этому традиционному суждению не с полным
доверием, так как язык грамот ни в коем случае нельзя представлять себе
неизменным и однородным. В языке грамот существуют устойчивые
элементы, которые историки и юристы называют формуляром:
начальная формула и конечная формула. Скажем, почти все купчие,
дарственные грамоты начинаются формулой се язъ — 'вот я' и кончаются
формулой, в которой указывается, кто был свидетелями и кто скрепляет
грамоту своей подписью.
Существует также еще одна формула: бог, святая богородица и т. п. будут
защищать и помогать владельцу грамоты против всех, кто будет
оспаривать ее значение8.
Но эти формулы не определяют язык грамоты в целом, это все-таки
рамка. Не так уж много грамот, где формулы по объему представляют
нечто значительное. Обычно грамоты длинные с перечнем всяких
подробностей, и поэтому формулы здесь занимают ничтожное место, 510%. А все остальное? Надо сказать, что центральные части юридических
документов, где излагаются конкретные условия, фактический материал,
довольно наглядно отражают большие изменения, происходящие в
общем языке.
Когда мы завершали характеристику языка киевского периода, я уже
говорил о существенных различиях, какими характеризуются грамоты
Новгорода и Пскова, Полоцка и Смоленска, Галичины и Волыни. В эпоху
Язык «Домостроя» исследован в монографии М. А. Соколовой «Очерки по языку деловых
памятников XVI в.» (Л., 1957). Прим. ред.
8
О формуляре грамот см.: Дерягин В. Я. К вопросу об индивидуальном и традиционном в
деловой письменности (на материале важских порядных XVII в.). — В кн.: Русский язык.
Источники для его изучения. М., 1971; Волков С. С. Лексика русских челобитных XVII в.
(Формуляр, традиционные, этикетные и стилевые средства). Л., 1974. Прим. ред.
7
316
феодальной раздробленности именно язык грамот отчетливо отражает
формирование областных, местных языков и отсутствие единого, общего
для всей Руси, для всего русского народа литературного языка.
Московские грамоты ХІѴ-ХѴ вв. давно привлекали к себе внимание. По
немудрому рассуждению некоторых историков, в них надо было искать
элементы, на основе которых сформировался русский национальный
язык. Но при внимательном изучении мы испытываем некоторое
разочарование, ибо и эти ранние московские грамоты имеют обычный
формуляр, а в своем особом содержании они являются перечнем либо
топонимических терминов, либо названий одежды, утвари, так как эти
старшие грамоты московских князей представляют собой завещания, где
каждому из членов семьи,, начиная со старшего сына и кончая женой
(которая обычно на последнем месте), передается какая-то часть
имущества, точно называемого и исчисляемого. Эти документы не дают
материала для анализа синтаксиса, морфологии, поскольку грамотные
дьяки не стремились ни в какой мере отражать живую речь. Так, в
фонетике грамот живая московская речь почти не чувствуется. Только в
топонимике невольно проскальзывает «аканье», «еканье», т.е. черты,
свойственные московской речи и поныне9.
Таким образом, грамоты не могут служить исходным материалом для
характеристики московского говора, с одной стороны, по своему составу,
содержанию, а с другой стороны, потому, что деловой язык московских
грамот отражает живую речь чрезвычайно скудно, односторонне. И
позже язык документов московских приказов, следовательно, язык
царских дьяков, не может считаться надежным источником для изучения
общего разговорного языка.
Только некоторые документы, являющиеся,, собственно, исключением
из правила, дают довольно ясную картину тогдашнего просторечия. К
этой категории надо отнести прежде всего дела о преступлениях против
государя, так называемые «пытошные речи». Записанные московскими
дьяками, они только потому отражают непосредственное московское
просторечие, что от дьяков требовалась полная точность записи
показаний преступника, подвергавшегося пытке.
Преступления против государя считались настолько опасными, что
здесь не допускалось изложения хода дела своими словами; показания
' О языке московских грамот см.: Горшкова О. В. Язык московских грамот ХІѴ-ХѴ вв. (лексика и
фразеология). Автореферат канд. дисс. М., 1951; ее же. Фразеология московских грамот ХІѴ-ХѴ
вв. как характерная особенность делового стиля русского языка. — В кн.: Сборник статей по
языкознанию. Проф. МГУ акад. В. В. Виноградову. М., 1958. Прим. ред.
обвиняемого и свидетелей должны быть представлены царю в
исчерпывающе полном виде. И вот это обстоятельство для нас,
лингвистов, оказалось чрезвычайно важным, ибо в этих ужасных делах,
которые почти всегда кончались, если не казнью, то смертью обвиняемого
после пыток, сохранилось довольно много точных протокольных записей
разговорной речи и простых людей, к которым в большинстве
принадлежали обвиняемые, и людей из высшего сословия, к которым
принадлежали обвинители и свидетели10.
Вторым исключением, тоже весьма существенным, являются грамоты,
написанные представителями населения в качестве заявлений, так
называемые «явки». Писались они часто крестцовыми дьяками, т е
дьяками, стоявшими на перекрестках улиц и добывавшими свой скудный
хлеб грошами, получаемыми за то, что они настрочат кому-нибудь ту или
другую «явку» (такой крестцовый дьяк изображен в опере М. Мусоргского
«Хованщина»), Эти писцы иногда допускали элементы просторечия.
Наконец, в частных письмах, которых довольно много сохранилось от
XVII в., живая московская речь отражается гораздо лучше, чем во многих
десятках тысяч приказных дел.
У нас нет оснований считать, что московское просторечие могло
подвергнуться сильным и существенным изменениям в течение столетия
— с середины XVI до середины XVII в. или с конца XVI до конца XVII в.
Поэтому материалы XVII в., широко отражающие московское
просторечие, вполне могут быть использованы для того, чтобы
представить московскую речь XVI в. Вот я и воспользуюсь двумя
небольшими работами, написанными по этому вопросу: исследованием о
документах, связанных с восстанием Степана Разина, А. Г. Кириченко и
работой о московском говоре конца ХѴІІ-начала XVIII в. (на основе
исследования писем) К. В. Горшковой11. У обоих исследователей почти
полностью совпадают выводы, хотя материал взят совершенно разный: в
одном случае правительственные и провинциальные грамоты, связанные
Еще раз к характеристике этого источника Б. А. Ларин возвращается в статье «Разговорный
язык Московской Руси» (в кн.: Начальный этап формирования Русского национального языка.
Л., 1961). Прим. ред.
11
См.: Кириченко А. Г. Фонетические черты языка документов, связанных с восстанием С.
Разина. — «Наук. зап. Київського пед. ін-ту», 1948, т. 7, № 2; его же. Синтаксические
особенности документов, связанных с восстанием С. Т. Разина. — «Наук. зап.
Ворошиловградского пед. ін-ту», 1940-1941, т. 2-3; Горшкова К. В. Из истории московского
говора в конце XVII — начале XVIII в. Язык «Писем и бумаг Петра Великого». Автореферат
канд. дисс. — «Вестник МГУ», 1947, № 10.
10
318
с восстанием Степана Разина при царе Алексее Михайловиче; в другом
случае — письма и бумаги Петра Великого (конца XVII-начала XVIII в.).
Я остановлюсь на фонетических данных, которые очень показательны.
В обоих работах отмечается достаточно широкое отражение московского
«аканья»: савете, ани, вывалить, апальная. Об «аканье» свидетельствует
также ряд написаний с о вместо а: тотар, пристовали и др.), что обычно
свойственно «акающим» говорам. Отмечается замена и через е, и
наоборот: ездели, ранели, вотченик. Это опять-таки показывает, что
пишущий постоянно произносит и на месте е, и поэтому он всегда
старается писать е вместо и, чтобы не было ошибки. Отмечается и
«яканье»: яго, видям и др.
Графические признаки свидетельствуют о произнесении г взрывного,
о мягком суффиксе -си-. Губно-зубное в, которое переходит в ф на конце
слова, так и передается: двороф. Отмечен переход кт в хт (хто вместо
кто), кп в хл (х попу вместо к попу), кк в хк (х кому вместо к кому).
Исследователи попытались разобраться в том, что в фонетических
чертах можно считать южным и что северным. Все, что я перечислил,
надо признать южными чертами (кроме взрывного г); северных черт
очень мало. В области морфологии северными считают формы дворяня,
тотаровя, крестьяня. Северными же являются формы местоимения:
меня, тебя, себя, а также окончание 3-го лица глагола с т твердым:
идетъ, сидить, видитъ. Южной можно признать такую черту, как
винительный падеж прилагательных женского рода на -аю: страшнаю,
добраю, этаю. Совпадение ѣ и е является также чертой южной, тогда как
для северных говоров характерно различение их. Здесь же в некоторых
грамотах ѣ и е строго различаются, в других нет. Наконец, выделены
такие общие для севера и юга явления, как переход е в о: зажог, Семион,
острожок, людишок, меньшого.
Посадская письменность XVII в. — первая фиксация русского
национального языка
Конец ХѴІ-начало XVII в. — время, когда закладываются основы русского
национального языка. Для предыдущего периода мы отмечаем резкую
противоположность языка письменности и языка разговорного. Язык
письменности в подавляющем большинстве случаев был очень далек от
народного общего языка. Язык народности имел уже многовековую
историю, но эта история нам весьма мало известна, так как разговорный
язык только случайно и только в немногих памятниках отразился более
или менее непосредственно. Резкое изменение общеязыковой ситуации с
XVII в. заключается в том, что разговорный язык получает доступ в
письменность. Возникает целый ряд новых литературных жанров, очень
мало связанных со старым церковно-книжным языком и в основном отражающих язык разговорный.
Для того чтобы мог сложиться этот общий разговорный язык,
необходимо было покончить с феодальным строем. XVII век и характеризуется началом распада феодального строя. Наиболее отчетливо
становление новой социально-экономической формации проявляется в
истории русских городов. Города киевской эпохи и периода расцвета
феодализма — ХѴ-ХѴІ вв. — строились вокруг феодальных замков и были
сильно укреплены. Возле городов в слободах селились служилые люди,
находившиеся в полной зависимости от феодалов. В самом конце XVI в. и
особенно во второй половине XVII в. большие, а вслед за ними и меньшие
города перестают быть собственностью феодалов. Но чтобы этот процесс
совершился, необходимо было образовать монархию и изъять у мелких
феодалов в собственность царя земли, занятые городами. На этом этапе
все население городов подчиняется законодательным порядкам,
установленным царем. Одни получают место в городе за службу — это
«белые места», беломестное население; другие получают место за плату,
за оброк — это «черное», тяглое население. В городе новой формации
замок удельного князя теряет свое значение; центр городской жизни
теперь — посад. Посады разрастаются, в них живет основная масса
мелких ремесленников, которые сами и производят, и сбывают свою
продукцию. Лишь к концу XVII и в XVIII в. начинается процесс
дифференциации купечества, или торгового класса, от ремесленников.
В тот период, о котором мы сейчас говорим, торговцы и ремесленники
еще не противостоят друг другу, составляют единое посадское население,
именуются одним социальным термином «посадские люди». Посадские
люди — это прообраз зарождающейся буржуазии. На протяжении
одного столетия — со второй половины XVI и до второй половины XVII в.
— они приобретают такую значительную экономическую и
политическую силу, что им удается получить целый ряд привилегий.
Население больших городов оказывается уже лично свободным. Это не
дворовые ремесленники феодалов, как прежде, не холопы и не служки
того или другого двора, а свободные мастера и торговцы. И земля, и дома,
и предприятия, которые они организуют, теперь уже считаются не
имением царя, а их собственным достоянием.
320
Понятно, что такое глубокое изменение социальной природы
городского населения, его экономический и политический рост не могли
не привести к некоторому подъему культуры в этой среде. Посадские
люди для XVII в. являются самым прогрессивным общественным
элементом Московской Руси. Они создают свою письменность свою
литературу, в которой отражается живой общеразговорный язык. В силу
того что литературный язык новой формациигораздо более свободен, чем
письменность
предыдущего
времени,
от
церковно-книжных,
старославянских традиций и в силу того, что он совершенно сознательно
сближается или даже иногда совпадает с общим разговорным языком, мы
можем говорить о том, что посадская письменность XVII в. и была первой
фиксацией русского национального языка.
Источниками для изучения национального языка на его самом
раннем, начальном этапе формирования являются следующие памятники: «Русская торговая книга», целый ряд ремесленных, мастерских
книг, первые записи былин, песен, пословиц и сказок, т.е. народная
поэзия, и наконец, для периода конца ХѴІІ-начала XVIII в. сатирические
повести и памфлеты, а во второй половине XVIII в. старообрядческая
литература. Почти все эти источники, за исключением старообрядческой
литературы, подверглись более или менее обстоятельному изучению
только в советское время. В дореволюционной русской науке язык этих
памятников не анализировался ни в каких исследованиях по истории
русского языка.
«Русская торговая книга» была открыта и впервые издана в 50-х годах
прошлого века12. Однако дата возникновения этого сочинения уточнена
историками лишь в советское время, а первое лингвистическое
исследование о языке Торговой книги появилось в 1948 г. И. Н. Шмелева
произвела тщательные поиски в рукописных собраниях и прибавила к
известным четырем спискам еще восемь. Она восстановила всю
литературную историю этого памятника13.
Самыми ранними источниками Торговой книги были замечания
купцов, совершавших многочисленные поездки в зарубежные страны, о
Торговая книга издавалась трижды; см.: Временник Московского об-ва истории и древностей
российских, кн. 8. М., 1850; Записки Отделения русской и славянской археологии Имп.
археологического общества, т. 1. Спб., 1851 (изд. И. П. Сахарова); Сборник Муханова. Спб., 1866
(изд. Л. А. Муханова).
13
Результаты исследования частично опубликованы также в ее работах: Торговая
терминология XVI в. (по материалам Торговой книги). — «Уч. зап. ЛГУ», 1948, № 267, вып. 52;
Обогащение словарного состава русского языка в XVI в. за счет профессиональных слов. — В
кн.: Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961. Прим. ред.
12
товарах, какие можно найти на заграничных рынках, о ценах на них, о
качестве этих товаров. Другим источником Торговой книги были первые
систематические изложения основ счетной мудрости, т.е. начал
арифметики, столь необходимой для торговли.
Около 1575 г. (не раньше 1572 и не позже 1575 г.) составлена первая
редакция Торговой книги. Торговая книга распадается на три части: 1)
условия торговли с Ругодивом, т.е. с Нарвой; 2) условия торговли с
Холмогорами (место северного торга с англичанами и голландцами в
устье Северной Двины, где позже был построен город Архангельск); 3)
условия торговли с иностранцами в Москве. В конце книги излагались
основы счетной мудрости. Тщательный анализ книги показал, что
основная, древнейшая часть Торговой книги возникла в Москве, в посаде;
ее язык лишен какой бы то ни было диалектной окраски. Что касается
добавлений, вошедших во вторую редакцию Торговой книги, то они
главным образом сделаны в Вологде и Холмогорах, т.е. на пути
севернорусской торговли.
На основе исследования лексического состава Торговой книги можно
сделать вывод, что этот памятник отражает переход от старой системы
мер и весов к новой. Характерной особенностью старой системы была
неопределенность и переменчивость единиц измерения. Скажем, многие
товары измерялись на горсти, ткани — на локти, а иной товар измерялся
на «пузы» (большие корзины), на бочки; величина этих мерных единиц
была всегда разной. Таков традиционный набор ранних феодальных мер.
И вот Торговая книга вводит стандартизованные, точно установленные
меры. Вместо локтя — аршин, вместо пуза — берковец, вместо большой
гривенки или малых гривенок — фунт и т. д. Это принятие торговоремесленной средой новой системы мер и новой денежной системы стало
важным культурным и историческим событием. Торговая книга и должна
была пропагандировать единую новую систему мер и весов.
Торговая книга содержит множество названий товаров и сложных
способов их сортировки, но в то же время относительно небольшой запас
слов, определяющих процессы производства товаров и процессы
торговли. Эти три группы слов — названия мер и денежных единиц,
названия товаров и их сортов, названия процессов производства и
торговли — и составляют запас профессиональной лексики,
терминологии, которую ввела в русский язык посадская среда. Весьма
показательно, что свыше 400 терминов Торговой книги не были
зарегистрированы в словаре акад. И. И. Срезневского, иначе говоря, не
было известно памятникам русской письменности до XVI в. Меньшая
322
часть терминов Торговой книги представляют собой специализацию
значений слов общего языка, а большинство терминов совсем неизвестны
общему языку. Один пример стоит запомнить. Слово дюжина сейчас
стало достоянием общего языка. Впервые оно засвидетельствовано у нас в
XVII в. в списках Торговой книги. Но так как Торговая книга составлена в
конце XVI в., то, несомненно, появление этого термина надо относить к
70-м годам XVI в.
Второй важный источник, как я уже сказал, ремесленные, мастерские
книги. Здесь также встречается богатейшая специальная терминология,
впервые появившаяся в этих книгах и лишь в последующие века частично
вошедшая в общий обиход. Возьмем хотя бы один пример. Слово гиря,
сейчас всем известное, до конца XVI — начала XVII в. было специальным
термином технической литературы. Целый ряд таких технических
терминов не только не вошли в общий язык, но в дальнейшем навсегда
исчезли из русского языка. Укажу хотя бы слово малханъ, которое в
лечебных книгах значило 'мазь', в ремесленных книгах —
'кашицеобразная жидкая масса какого-нибудь вещества'. Как и в торговом
языке, в мастерских книгах мы имеем множество слов общего языка в
специальном значении. Скажем, хорошо известное слово веретено в
технической литературе употребляется в значении 'стержень, ось какогонибудь инструмента или машины'.
Для посадской литературы характерно изобилие слов иноязычного
происхождения. В торговле это множество наименований товаров;
например, зарва (или изорва, азорва), зендень, камка — восточные
ткани, дорогие бархаты и шелка; лундыш — 'английское сукно высокого
качества; смарагд, диамант — названия драгоценных камней. Одни
наименования хорошо известны (алмаз, рубин, яхонт, сапфир), другие
менее. Большинство названий драгоценных камней и тканей — это
греческие, персидские или тюркские слова. Скажем, смарагд — слово
греческое, изумруд — тюркское, рубин — романское, алмаз — арабское
и т. д.
В ремесленных книгах встречаются также термины, обозначающие те
необходимые для ремесленника снадобья, приспособления и
инструменты, которые приобретались чаще за рубежом и потому имели
обычно нерусские наименования. Например, наждак, нашатырь, ртуть
(теперь привычное слово, но пришедшее, по-видимому, с Запада);
названия таких примитивных приспособлений, как кувшин, который
заменял тогда сложную аппаратуру для выпаривания; киноварь, олифа,
бакан — названия красок или масел и т. д.
Хотя ремесленники и дробились на многочисленные профессиональные группы, но все же они были довольно универсальными
специалистами. В одной из ремесленных книг конца XVII в. упоминается
широкий круг специальностей — от золотыхъ дѣлъ мастера до
мѣховщика, скорняка — все это входило в круг знаний одного человека.
На обложке этой книги есть имя владельца: книга принадлежала
крестьянину. Многочисленные записи подобного рода говорят о том, что
грамота среди посадских людей и крестьян в XVII в. была широко
распространена, и если для первых веков нашей письменной традиции
мы знаем книги только княжеские и монастырские, то в XVII в.
большинство сохранившихся книг принадлежит именно людям
посадским и некоторая часть — крестьянам. Прочтем коротенькую
статью из этой ремесленной книги:
Указ как золото творит(ь) листовое
Возьми мѣду пресново з горошину а золото листа два и 6ол(ь)ши да
творити в раковинѣ перстом нагустѣ доколѣ сровняется и налити раковина воды полна и смѣшат(ь) перстом и налит(ь) трижды водою
свежею и останется золото и твори с комѣд(ь)ю и высуши и глади зубомъ звѣриным и будет добро и крѣпко.
Как видим, весьма лаконичные фразы, простая синтаксическая
структура, своеобразная повелительная форма, выражающаяся или
инфинитивом, или повелительным наклонением, и довольно сложная
иногда для понимания непосвященного человека рецептура. Совершенно
ясно, что эти пособия предназначались отнюдь не для обучения ремеслу
— секреты ремесла переходили от мастера к подмастерью; книга служила
мастеру как бы справочником, т. е. она рассчитана на специалиста,
который прекрасно представляет себе всю процедуру, такой коротенький
рецепт лишь напоминает все детали работы; для непосвященного же тут
очень многое остается не вполне ясным, и сейчас попытки археологов и
инженеров раскрыть некоторые секреты производства XVII в. не всегда
приводят к успеху.
Так как никто еще не исследовал ремесленные книги, то неизвестно, ни
сколько подобных рукописей сохранилось до нашего времени, ни каково
их взаимоотношение между собой. Несколько лет назад я начал собирать
этот материал, и мне удалось разыскать десять ремесленных книг; однако
это только начало работы, и совершенно ясно, что дальнейшие поиски
дадут еще более значительный материал. А пока я не мог воссоздать на
324
этом скудном материале историю литературы для ремесленников.
Можно утверждать только одно, что источниками этих мастерских книг
были, с одной стороны, средневековые византийские и романские
трактаты на греческом и латинском языках, которые в переводах
доходили до нас начиная с XII в., а с другой стороны — так называемые
«подлинники», т.е. руководства по церковной живописи (как составлять
краски, как работать художнику на разных материалах — на досках, на
коже, на металле, на сырой стене).
В теснейшей связи с мастерскими, ремесленными книгами стоят и
старые наставления о том, как подготовлять пергамент для рукописи и
бумагу для рукописи, как составлять чернила и краски для миниатюр как
переплетать книги, как производить тиснение на коже, переплете и т.д.
Наконец, некоторое преемство построении, формулировок, в
известной части и терминологии можно наметить между ремесленными
книгами и старыми лечебниками, первыми нашими медицинскими
трактатами, ибо в лечебниках, помимо названий болезней, были
подробные описания лекарств, рецепты для их составления, а также
описания тех растений, минералов, органических веществ, которые
используются для приготовления лекарств. Многие из этих веществ и
минералов были необходимы и ремесленникам.
Литературный язык второй половины XVII в.
Вслед за деловой и профессиональной письменностью появляется и
письменность художественная, которую уже можно назвать литературой
посада. Прежде всего я расскажу о сборнике пословиц XVII в., частично
примыкающем к старинным собраниям цитат из религиозных книг,
изречений древних философов, афоризмов, пословиц древнейшей поры.
Но эта традиционная часть сборника только помогала оправдать
совершенно новое содержание его, сделать более интересным для
широкого круга читателей14.
Я приведу несколько пословиц из этого сборника; в них ярко запечатлелась и иная, чем в церковных книжных пословицах, эпоха, и
другие социальные отношения, воззрения. «Пытки не будетъ, а кнута не
минуть»; «Голодъ не тиотка, пирожка не подсунетъ»; «Ты, язы-чекъ,
См.: Повести или пословицы всенароднейшия по алфавиту. — В кн.: Старинные сборники
русских пословиц, поговорок, загадок и проч. ХѴІІ-ХѴІП столетий. Изд. П. Симони. Спб., 1899.
14
смалчивай, я за тебя бѣдку плачивалъ»; «Бѣлые ручки чюжие труды
любятъ»; «Дубинка да спинка побраталися»; «Шито ожереле-ицо в два
молота на стуле». (Это горький юмор: человеку, которого пытали, на шею
надевали железный ошейник и заковывали его с дубиной, и в таком виде
узник мучился по многу лет.) «Артамоны ядятъ лимоны, а мы, молодцы,
едимъ огурцы» (пословица имеет в виду боярина Артамона Матвеева).
«Отрыгается маслицомъ — ви-дялъ коровей слѣдъ, не вчера, ужъ третей
день» — 'человек забыл, когда ел масло; он только вспоминает коровий
след, который видел три дня тому назад'; «Для штей люди женятся, а для
мяса замужъ ходятъ» — 'мужчина женится для того, чтобы жена ему щи
варила, а девка выходит замуж, чтобы в щах мясо было'. «Жена пряди
рубашки, а мужъ вей гужь»; «Лоскутъ крашенины да кус квашенины — и
сыт и одѣтъ»; «Ичется з голоду, а дрожится с холоду»; «Есть пирог —
едимъ, а нѣтъ ево — гледимъ»; «Щоткою головку, а плеткою молодку»;
«Корова черна, да молоко у ней бѣло»; «Долго спать — долгъ наспать»;
«Наша горница з богомъ не спорница, каково на дворѣ, таково и в ней»;
«Живи в тиши, а к намъ грамотки пиши» (грамотка — 'письмо'; в этой
пословице отразилось распространение грамоты). А вот девичья
поговорка: «Хотя коровка избыть, а серешки купить». Наконец,
купеческие или торговые поговорки: «Запросу в мошну не кладутъ»;
«Серьдитъ з горшки не ѣздитъ»; «Пожалѣть алтына, потерять полтина»;
«В копнах нѣ сено, а в долгахъ не деньги».
Эти пословицы прежде всего характеризуются полным отсутствием
религиозных мотивов, тогда как большинство старых пословиц так или
иначе были связаны с православным вероучением. С другой стороны, в
них довольно резко и отчетливо противопоставляются бедняки и богачи,
более или менее открыто выражается протест против эксплуатации
бедноты богачами и отражается повседневный быт бедного человека.
Язык пословиц характеризуется полным отсутствием старославянизмов; это народный русский язык во всем: в фонетике, в морфологии,
в синтаксисе, в лексике. Большая часть лексики пословиц несвойственна
старому книжному языку, и потому сборник ПОСЛОВИЦ XVII в. является
драгоценнейшим источником для изучения русского национального
языка на самом раннем этапе его развития. Характерно и то, что язык
пословиц (а их в сборнике около 3000), почти лишен диалектизмов.
Этому сборнику посвящена одна интересная научная работа 15. В. П.
См.: Фелицына В. П. Лексика русских пословиц XVII в. Автореферат канд. дисс. Л., 1952; её
же. К истории разговорной лексики (слова с суффиксами субъективной оценки в пословицах
XVII в.). — «Уч. зап. ЛГУ», 1960, № 267; ее же. Лексика русских пословиц XVII в. — В кн.:
15
326
Фелицына установила, что из нескольких тысяч слов, составляющих
пословицы, всего десятка полтора диалектных слов. Это такие слова, как
перепеча — 'род блина, сделанного из остатков': «Лѣсти с печки для
перепечки»; голикъ — 'веник', северное: «У гола голъ голикъ»; шульга —
'левая рука': «Не угодать, куды шулговатой стрѣлитъ»; залѣзть — 'достать,
добыть': «Залѣзъ богатство — забыл и братство»; бакулы — 'пустые
разговоры'; баламуть (слово, известное в украинском и белорусском
языках): «Баламуть любит кнутъ»; брила — 'губа', вологодское,
нижегородское: «ѣлъ смердъ блины, да засалилъ брилы»; нимакъ —
'порядочно, ничего себе', архангельское: «Аргамакъ и нимакъ да плохъ на
немъ ездок». Мало также слов грубых, бранных: брюхо, харя, рыло,
гузно, го-логузъ, пакостить и т.д., хотя их можно было ожидать в
большом количестве. Незначительность и диалектной и бранной лексики
пословиц совершенно ясно свидетельствует о том, что сборник этот был
создан для чтения, как памятник литературы. По-видимому, в сборник
попало только то, что казалось автору лишенным и областной, и
эмоциональной окраски, однако в некоторых случаях он включил такие
пословицы с «неудобными словами», какие, по его мнению, имели
особенно важное социальное значение. Внимательно изучая этот сборник,
мы ясно обнаруживаем тот же замысел, какой будет характерен для
сатирической литературы посадского периода, — осуждение и
разоблачение эксплуататоров.
В области словообразования характерно изобилие слов с уменьшительными или уменьшительно-ласкательными суффиксами, причем в
большинстве случаев слова с уменьшительными суффиксами не имеют
уменьшительного значения. Иначе говоря, они употребляются
исключительно в стилистических целях, выражают определенную
эмоциональную окраску. Например, «Голодъ не тиотка, пирожка не
подсунетъ» — здесь дело не в том, что пирог маленький, а в том, что
голодному он очень уж хорошим кажется. «Ты, язычекъ, смалчивай, я за
тебя бѣдку плачивалъ». Почему бедка, а не беда? Потому что этот
горький юмор должен быть как-то сдобрен. «Бѣлые ручки чюжие труды
любятъ» — здесь ручки — это холеные руки боярина, уменьшительный
суффикс выражает презрительную эмоцию. Или: «Дубинка да спинка
побраталися» — здесь отнюдь не уменьшительное значение.
Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961; ее же. Диалектные
черты в пословицах XVII в. — В кн.: Из истории слов и словарей. Л., 1963; ее же. Сопоставление
текстов «Моления» Даниила Заточника и сборника пословиц XVII в. — В кн.: Вопросы теории
и истории языка. Л., 1969. Прим. ред.
Для пословиц XVII в. характерно обилие таких глагольных видовых
образований, какие несвойственны были старому книжному языку:
лавливать, хаживать, плачивать, смалчивать, навидаться: «Заецъ уж
сѣдъ — навидался он бѣдъ»; накостить: «Не много на-гостил да много
накостилъ» — 'насорить, нагрязнить, напакостить'; лѣживать: «Хто не
сиживалъ на конѣ, тот не лѣживал и под ко-немъ»; перелизать: «Елизар
уж всѣх перелизалъ». Различные видовые оттенки, повторы, сложнейшая
система видовых обозначений, которые характерны и для народных
говоров, широко отразились в языке этих пословиц.
Я уже говорил, что в языке посадских людей много слов иноземного
происхождения, прежде всего западных и южных заимствований (из
украинского, польского языков), а также тюркских, иранских: «Блазенъ да
вязенъ розны умы: одинъ тачотъ, а другой плачотъ»; «Цвакъ на
полчетвертакъ»; «Горцавалъ панъ, да с коня спалъ»; «Будан две денги
данъ»; «Аргамакъ и нимакъ да плохъ на немъ ездокъ»; «Базар любить
Назаръ»; «Абаса в Перейде краса» и т. д., что указывает на общение
посадского люда с населением не только окраинных русских городов, но и
Речи Посполитой, татарских, тюркских земель.
Более высокая форма посадской литературы проявилась в двух
памятниках самого конца XVII в.: в «Повести о Горе-Злочастии»16 и в
целом ряде редакций «Сказания об Азовском осадном сидении донских
казаков»17. Я оставляю пока в стороне сатирическую литературу посада, к
которой вернусь позже.
Язык «Повести о Горе-Злочастии» характеризуется прежде всего
■весьма своеобразным соотношением традиционных церковно-книж-ных
элементов речи с живым разговорным общенародным языком1. В
«Повести...» множество старых церковно-книжных штампов: «Не
прельщайся, чадо, на злато, сребро, не збирай богатства неправого; [не]
буди послухъ лжесвидѣтелству; Еще, чадо, не давай очамъ воли; Не
прельщайся, чадо, на добрыхъ красныхъ женъ; Не думай украсти,
ограбити и обмануть, солгать и неправду учинить». Все это формулы
молитв, поучений из церковной литературы.
См.: Повесть о горе и злочастии, как горе злочастие довело молодца во иноческий чин. Изд.
П. К. Симони. Спб., 1903.
17
См.: Орлов А. Исторические и поэтические повести об Азове (взятие 1637 г. и осадное
сидение 1641 г.). М., 1906.
' См.: Давыдова М. К. Лексика «Повести о горе и злочастии». Автореферат канд. дисс. Л., 1953.
Прим. ред.
16
328
Вместе с тем достаточно широко представлена и прямая фольклорная
традиция: «Беспечальна мати меня породила, гребешкомъ кудерцы
розчесывала, драгими порты меня одѣяла и отшедъ подъ ручку
посмотрила, хорошо ли мое чадо въ драгих портах, а въ дра-гихъ портах
чаду и цѣны нѣтъ». Это прямо восходит к песням, былинам, возникшим,
наверное, за много столетий до создания «Повести о Горе-Злочастии».
Такие формулы, как чара зелена вина, меда сладкого, пива пьяного,
идет пир по чести, названой брат, серо горе горинское, ясныя очи,
белое лицо, чистое поле, тело белое, — это старые фольклорные
образы.
Преобладает в языке этого памятника, конечно, народно-фольклорная
стихия. Наряду с чередованием традиционных и народных элементов
здесь распространена контаминация, сложное сочетание и переработка
старых форм на основе двух разнородных языковых составов. «Житие мнѣ
богъ далъ великое, ясти-кушати стало нѣчево» — в едином предложении
сочетаются формулы языка разговорного ясти-кушати стало нѣчево и
церковного житие мнѣ богъ далъ великое. Или: «Прямое смирение
отринули и за то на нихъ господь богъ разгнѣвался, положилъ ихъ в
напасти великия, попустилъ на нихъ скорби великия и срамные позоры
немѣрныя». Здесь довольно трудно сказать, из каких элементов состоит
предложение, ибо смирение отринули напоминает нам книжный язык,
а рядом с этим — прямое смирение, что нехарактерно для старого
книжного языка; напасти великия — разговорное выражение, но рядом
с ним — попустил на них скорби великия. Или рядом с такой
формулой, как гнило слово похвальное, стоит похвала живеть
человеку пагуба.
Обилие нелитературной лексики показывает преобладание литературного языка нового типа. Здесь и такие слова, как собина —
'собственность, имущество': «Рубашка и портки — все скуплено и вся
собина у его ограблена»; легота, безпроторица: «Али тебѣ, молодець, не
вѣдома нагота и босота безмѣрная легота безпроторица великая? На себя
что купить, то прЬториться»; братчина: «Не ходи, чадо, въ пиры и въ
братчины». Здесь же и старинные элементы народного языка, не
находившие раньше отражения в литературном языке, такие, как
«Друговя к молодцу прибивалися, [в] род-племя причиталися» —
формула, восходящая еще к эпохе доклассового общества.
В грамматическом строе также надо отметить наряду с правильными
старыми грамматическими формами нарушения норм книжного языка.
Скажем, в склонении существительных мы имеем и еще традиционные
формы дательного падежа множественного числа: «любовнымъ своимъ
гостемъ и другомъ билъ челомъ; стало молот-цу срамно появитися
своимъ милымъ другомъ; поди на свою сторону къ любимымъ честнымъ
своимъ родителемъ, к отцу своему и къ матери; велѣлъ он бракомъ и
женитбамъ быть; не ходи, чадо, х костаремъ и корчемникамъ», и формы
новые, нарушающие нормы старой книжной грамматики: «не давай
очамъ воли; и по грѣхамъ молотцу учинилося». Встречается отклонение
от старой нормы в употреблении деепричастий йдучи, смиряючи,
умеючи и т.д., распространены народные формы сравнительной степени:
«бывали люди у меня, горя, и мудряя тебя и досужае; а нѣтъ меня, горя,
му-дряя на семъ свѣте».
В синтаксисе можно отметить характерное для разговорного, а не
литературного языка изобилие безличных оборотов: «ясти-кушати стало
нѣчево; какъ бы мнѣ, молотцу появитися; захотѣлося молотцу женитися;
стало молотцу срамно появитися своимъ милымъ другомъ».
Наконец, в сложных предложениях в «Повести о Горе-Злочастии»
также употребляются конструкции и союзы не книжного, а разговорного,
народного происхождения. «А что видятъ молотца люди добрые, что
гораздъ он креститися, ведетъ онъ все по писанному; А что видит
молодецъ [бѣду] неминучюю, покор[и]лся Горю нечистому, поклонился
Горю до сыры земли» — здесь а что вводит еще не дифференцированное
временно-причинное придаточное предложение. «И въ тотъчас у быстры
рѣки скоча Горѣ изъ-за камени, босо, наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки, еще
лычкомъ Горе подпоясано» — деепричастие скоча в роли сказуемого
характеризует народную речь и никогда не встречается в старом
литературном языке.
Наконец, последнее, на чем следует остановить внимание, — это
изобилие в языке «Повести о Горе-Злочастии» повторов: «Испей въ
радость себѣ и въ веселие; Я сяду стеречь и досматривать; Скажите и
научите какъ мнѣ жить; На чюжу страну, далну, незнаему; Молодецъ на
пиру не веселъ сѣдитъ, кручиноватъ, скорбенъ, не-радостенъ; скудость и
недостатки и нищета последняя! Не думай украсти, ограбити и обмануть,
солгать и неправду учинить; Пошелъ, поскочилъ доброй молодецъ по
круту по красну по бережку по желтому песочику»; разыскания
показали, что в фольклоре слово красный обозначало часто именно
'крутой, обрывистый'1.
Какое имеет значение и как должно быть истолковано изобилие
парных обозначений одного и того же признака, одного понятия? Это
явление, отмеченное не только в «Повести о Горе-Злочастии», но и в
330
пословицах, и в других памятниках, характеризует тот переходный этап,
когда отход от старого литературного языка и становление нового
литературного языка обязывали писателя сочетать новые элементы с
традиционными, оттенять и пояснять новые обозначения старыми. С
другой стороны, создание единого разговорного языка на базе нескольких
областных языков тоже приводило к накоплению в разговорном языке
синонимических вариантов. Ранняя пора образования всякого
национального языка характеризуется именно таким изобилием
синонимических обозначений. В период, когда единый язык еще не стал
общим достоянием, когда он только складывается и медленно начинает
вытеснять областные наречия, такие синонимические повторы являются
насущно необходимыми.
Наконец, рассмотрим языковой состав «Сказания об Азовском
осадном сидении донских казаков». «Сказание...» известно в нескольких
редакциях — от более близких к историческим воинским повестям с
книжным языком и до фольклорных, свободных от форм книжного
языка. Можно думать, что «Сказание...» возникло именно как изустное
фольклорное произведение и лишь потом было неоднократно записано и
литературно обработано.
' Имеется в виду неопубликованная работа С. М. Глускиной «История слова красный» (1939),
выполненная под руководством Б. А. Ларина. Прим. ред.
Язык этого памятника, так же как «Повести о Горе-Злочастии»,
характеризуется наличием некоторого количества славянизмов в
фонетике и морфологии: тысяща, на главу, хождаху, хощем, сребразлата, городские врата, в нощи, плѣнити. Но эти немногочисленные
традиционные элементы тонут в стихии разговорной речи. К
разговорному языку можно отнести многократные глаголы: не
снимывал, не стреливал, езживал, живал, имывал; широкое распространение относительных прилагательных типа разбойничий,
казачий; типичную посадскую лексику, военную терминологию:
солдаты, знамена, набаты, шеренги, мушкеты, пищали, шанцы,
пушки, ядра, верховой бой, низовой бой, бой огненный, стрельба
мушкетная. Своеобразно употребление слова промысел с военным
значением:
«А Азовъ город взяли мы у царя вашего турского не разбойничеством
и не татиным промыслом, взяли мы Азов город впрям дородством
своим и разумомъ для опыту, каковы его люди турские в городѣх онѣ
СИДБТИ. А мы сѣли в Азове людми малыми, роздѣляе с товарыщи
нарокомъ надвое, для опыту ж, посмотримъ мы турецкихъ умовь и
промысловь. А все то мы применяемся къ Еросалиму и Царю граду,
хочетца нам також взяти Царь град». — 'Овладев Азовом, мы изучаем
вашу технику крепостного строения и защиты, осады, с тем чтобы потом успешнее осаждать и штурмовать Царьград и Иерусалим'.
Лексика чисто народная, которую позже, в XVIII в., станут называть
просторечием, здесь также представлена: окроме, срамота, страшно
добре, не пужайте, ненароком, кручинивать.
Как и в «Повести о Горе-Злочастии», в «Сказании об Азовском
осадном сидении донских казаков» много синонимических повторов:
красный-славный Азов град; помощница, в бѣдах заступница и
молебница; срамота и стыд и укоризна; леса темные, дубравы
зеленыя; сила великая и неисчетная. Кроме того, для синтаксиса
«Сказания...» характерно наличие вопросов, оживляющих и прерывающих повествование, вводных слов: «Как от вѣка не наполните своего
чрева гладного? Кому приносите такие обиды великие и страшные
грубости? Согрубя вы такую грубость лютую, цего конца в нем дожидаете
себѣ? Не могут, чаю, с высоты города очи ваши видѣти другова краю сил
наших». Сложные предложения весьма разнообразны, но опять-таки
форма выражения синтаксических связей несвойственна книжной
традиции. Так, местоимение употребляется в роли члена: «А тѣх было собрано людей на нас черных
мужиков многия тысящи, и не бѣ числа и писма». Однако условная связь
выражается еще не союзными, а полнозначными глагольными формами:
«А есть ли из Азова сея нощи вон не выдете, не можете завтра живы
быти».
п
ГЛАВА 4
о
г ------------------------------------ ---------------------------------------- ^
1
Русский литературный язык
первой половины XVIII в.
Развитие литературного языка на национальной
основе в Петровскую эпоху
Петровскую эпоху считают рубежом Древней Руси и новой России. Для
целей периодизации всегда удобно подчеркивать признаки нового в
332
переходной эпохе и до некоторой степени затушевывать ее связи с
предыдущим периодом. Но нас сейчас интересует не разграничение
периодов истории языка, а то новое в языке, что появилось в конце ХѴІІначале XVIII в.
Крушение феодализма началось в конце ХѴІ-первой четверти XVII в.
Однако только в Петровскую эпоху этот процесс завершается. В XVIII в.
лишь сумасбродным фантастам приходит еще иногда в голову мысль о
возвращении к старому, к традициям, воззрениям московской эпохи.
Самым характерным для феодального общества периода его расцвета
было господство церкви, причем господство не только в делах веры и
даже не только в делах средневековой схоластической науки, но и в делах
мирских, в законодательстве, в хозяйстве, поскольку в ХѴ-ХѴІ да еще и в
XVII в. церковь была самым богатым феодалом. Крушение авторитета
церкви происходит при Петре I. Я напомню, что Петр только в детстве
покорно следовал всем обычаям царского двора — смирно выстаивал на
бесконечных богослужениях, по праздникам принимал у себя патриарха,
ездил на богомолье и т.д. Но уже в отроческом возрасте проявляется его
отрицательное отношение к церкви, ее служителям. А позднее Петр I
возглавил «все-шутейший и всепьянейший собор», что было уже
открытым глумлением над Святейшим собором. Своих близких друзей
он назначал на шутовские, но якобы священные должности, наряжал в
костюмы, пародирующие церковные облачения, устраивал шутовские
службы, имевшие внешнее сходство с культовым богослужением. Не
только боярство и духовенство, но даже часть простого народа осуждали
Петра за богохульство, глумление над верой. Не так давно были
разысканы памятники литературы второй половины XVII и самого
начала XVIII в., показывающие, что стремление освободиться от слепой
веры в авторитет церкви, от церковного господства охватило даже
низшие слои населения. Для историка языка эти памятники
представляют большой интерес, потому что в них наиболее наглядно
видно отмирание традиций старой книжной речи, старого книжного
литературного языка, который был в допетровскую эпоху самым
разработанным, совершенным типом русского литературного языка. В
этих сочинениях высмеивались в основном именно формы речи, а не
само существо церковной идеологии.
Литературный жанр пародии впервые появляется в XVII в. Нам уже
известно около десятка пародий XVII в., и я не сомневаюсь, что
дальнейшая работа над архивными собраниями рукописей еще обогатит
эту часть литературного наследия. Памятник, который назван его
издателем и исследователем «Праздник кабацких ярыжек», — это
пародия на церковное богослужение18. Но во всех рукописях (сохранилось три списка) он не имеет заглавия и до исследования В. П. Адриановой-Перетц назывался обычно «Кабак». Так вот, «Кабак» — самая
значительная, самая искусная пародия на богослужение.
Пародия на широко распространившиеся в XVII в. энциклопедические словари, которые именовались тогда «Азбуковниками» или
«Алфавитами», называется «Азбука о голом и небогатом человеке» 19. А на
судебные дела было написано две пародии: известная повесть о суде
Шемяки — «Шемякин суд», по-видимому, середины второй половины
XVII в. и «Сказ о Ерше Ершовиче» конца XVII в20.
В пародии на челобитную «Калязинская челобитная» или «Челобитная Калязинского монастыря крылошан» осмеивается монастырское безделье, пьянство21. Наконец, пародийное «Сказание о попе
Савве» представляет собой сатирическую повесть 22. Первые светские
повести, если не говорить о древней воинской повести, относятся к XVI в.
А уже во второй половине XVII в. на них появляется пародия. (Стоит
упомянуть, что к «Сказанию о попе Савве» обращался А. С. Пушкин,
когда писал «Сказку о попе и о работнике его Балде».) В языке всех
пародийных сочинений второй половины XVII в. старый книжный язык
высокого стиля положен в основу, но использованием контрастных
сочетаний с бранными, грубо-просторечными, неписьменными словами
и оборотами речи подчеркивается напыщенность и нежизненность
традиций старого литературного языка.
Начнем с рассмотрения пародии «Кабак». Для нее характерен один
довольно простой литературный прием: известные формулы молитв,
церковных возгласов, псалмов, которые все православные знали тогда
наизусть, повторяются в тексте почти целиком. Заменяется лишь однодва слова, в редких случаях половина слов, причем подбираются слова с
таким же числом слогов, с тем же местом ударения, как в опущенном
слове церковного оригинала, иногда даже слова с подобным звучанием.
Поэтому невнимательному человеку чтение такой пародийной
стихотворной строчки могло показаться чтением текста священного
писания. Во время богослужения, например, многократно повторяется
известная фраза из псалма: «Изведи из темницы душу мою». В «Кабаке»
См.: Адрианова-Перетц В. П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в.
М.—Л., 1937.
19
См. там же.
20
См. там же.
21
См. там же.
22
См. там же.
18
334
эта фраза пародирована так: «Изведи из непотребного пьянства душу
мою». Во время вечерней службы говорилось: «Сподоби, господи, в вечер
сей без греха сохранитися нам». В «Кабаке» читаем: «Сподоби, господи,
вечер сеи без побоев до пьяна напитися нам». А вот как передана в
«Кабаке» цитата из известной молитвы «Отче наш», так называемой
господней молитвы православных христиан (И остави нам долги наши...):
«И оставите должники долги наша, яко же и мы оставляем животы своя
на кабаке». Наконец, наподобие хвалебных молитв составлена похвала
кабаку:
«Величаем тя, кабаче, веселый и безкручинны, и чтем дурость твою и
со глупостию, ты бо купишь собины наша и велиш нам по миру скитатися. (...) Ты ми, кабаче, злыи учителю, ты ми нагота и босота, ты ми
сетование, не оставил еси в дому моем, чем одеятися, несытством
своим все прибрал еси, тем з гольянскими вопию ти: слава дурости
твоей, человеконенавистниче».
Эти отрывки показывают, как однородно построение сатиры (только в
немногих случаях встречаются отступления от формы церковных молитв,
от церковных чтений). В большинстве случаев это именно выворачивание
наизнанку хорошо всем известных молитвенных текстов.
Последующие пародии уже значительно отступают от формы,
принятой в «Кабаке». Однако в любой пародии используется прием
«пересказа» церковных текстов. «Сказание о попе Савве», например, так
же заканчивается похвалой, но здесь уже чувствуется поиск новых
литературных форм. Я приведу небольшой отрывок из этого
завершающего «Сказание...» икоса (жития святых обычно завершались
похвалой святому, которая называлась икосом). Тут надо пояснить, что
завершается житие Саввы тем, что его сажают на цепь в погреб, где он
должен сеять муку для патриаршей поварни.
«Радуйся шелной Сава, дурной поп Саво, радуйся, в хлебне сидя,
ставленически сидне! Радуйся, что у тебя бараденка выросла, а
ума не вынесла! Радуйся, глупы папенцо, [непостриженое
гуменце]. Радуйся, породны русак, а по делам воистинну дурак.
Радуйся, патриарша хлебня, видя тебя, такова сидня! Радуйся,
Савы шея, что цепь великая звеня и муки сея! Радуйся, вшивая
глава, дурной поп Сава, (...) Радуйся, Сава глупой, и всей
глупости твоей слава, и везде про тебя дурная слава».
Но в ходе изложения проделок и мошенничеств Саввы отступлений
от церковной речи довольно много. И потому в некоторых частях
«Сказание о попе Савве» не столько пародия, сколько яркая сатирическая
повесть, написанная живым разговорным языком. Следовательно, робко
начав с комического воспроизведения церковных формул, авторы
пародий постепенно совсем отходят от церковного языка и переходят к
тому новому типу литературного языка, языку посадских, о котором у
нас уже шла речь в связи с другими памятниками. В «Челобитной
Калязинского монастыря...» сочетаются элементы чисто пародийные с
элементами сатирического описания. Вследствие того что в ней
упоминаются имена архиепископа Тверского и Кашинского Симеона,
которому адресована челобитная, и игумена Калязинского монастыря
архимандрита Гавриила, возможно точно датировать это произведение
— между 1677 и 1681 гг. Зачин челобитной такой:
«Великому господину преосвященному архиепископу Симеону Тверскому и Кашинскому бьют челом богомольцы твои, Колязина монастыря крылошаня, черной дьякон Дамаске с товарыщами.
Жалоба, государь, нам, богомольцам твоим, того же Колязина
монастыря на архимарита Гавриила. Живет он, архимарит, не
гораздо, забыл страх божий и иноческое обещание и досаждает нам,
богомольцам твоим. Научил он, архимарит, понамарей плутов в
колокола не во время звонить и в доски колотить, и оне, плуты
понамари, ис колокол меди много вызвонили и железные языки
перебили, и три доски исколотили, шесть колокол розбили, в день и
ночью нам, богомольцам твоим, покою нет.
Да он же, архимарит, приказал старцу Уару в полночь з дубиною по
кельям ходить, в двери колотить, нашу братью будить, велит часто к
церк-ве ходить».
Такие жалобы на злоупотребление властью игуменов, на расхищение
монастырской казны, пьянство, жестокое обращение с монахами, на
истязание крестьян были тогда обычны, так что пока все написано так,
как если бы это была настоящая жалоба на нарушение порядков и
обычаев игуменом монастыря. Но уже следующая фраза выражена
другим языком, и вы сразу чувствуете сатирический, пародийный
замысел всего произведения: «А мы, богомольцы твои, в то время круг
ведра с пивом без порток в кельях сидим, около ведра ходя, правило
говорим, не успеть нам, богомольцам твоим, келейного правила
исправить, из ведра пива испорознить, не то что к церкве часто ходить и в
книги говорить».
336
Далее следует перечень того, чем желали бы богомольцы заменить
редьку вяленую и репу пареную. Этот перечень сильно напоминает
записи расходов на архимандритский стол:
«Да он же, архимарит, нам, богомольцам твоим, изгоню чинит: когда
ясти прикажет, а на стол поставят репу пареную да ретку вяленую,
кисель з братом да посконная каша на вязовой лошке, шти
мартовские, а в братины квас налевают да на стол поставляют. А нам,
богомольцам твоим и так не сладко: ретка да хрен, да чашник старец
Ефрем. По нашему слову ходил, лучши бы было для постных же дней
вязига да икра, белая рыбица телное да две паровые, тиошка б во
штях да ушка стерляжья, трои бы пироги да двои блины, одне бы с
маслом, а другие с медом, пшонная бы каша да кисель с патокою, да
пиво б подделное мартовское, да переварной бы мед».
Здесь за несколькими короткими формулами, известными из многих
тысяч челобитных, скрывается содержание, весьма далекое от обычных
судебных исков, жалоб, — правдивое описание монастырских порядков.
Несомненно, что и «Калязинская челобитная», и «Праздник кабацких
ярыжек», и «Сказание о попе Савве» написаны людьми, близкими к
церковникам. Адрианова-Перетц высказывает уверенность, что автором
пародии «Кабак» был какой-нибудь поп-расстрига или, может быть,
даже священник. Можно согласиться с таким выводом, потому что точно
и подробно знать весь порядок православного богослужения, кроме
церковников, могли очень немногие. Но остальные пародии — и
«Сказание о попе Савве», и «Калязинская челобитная» — едва ли могли
быть написаны церковниками. Те формулы церковной письменности,
которые встречаются в этих пародиях, были известны не только каждому
грамотному человеку, читающему церковные книги, но и любому
посадскому и крестьянину; они много раз на своем веку слушали
церковные службы, бывали в суде и знали хотя бы в пересказе жития
святых, а жития читались не только в монастырях, но и пересказывались в
семьях, отражаясь в известной мере также в фольклоре. Язык пародий —
и грамматические формы, и синтаксический строй, и богатейшая
лексика общего языка (который тогда называли просторечием), и
преобладание элементов общего языка во всех пародиях, кроме
«Кабака», — позволяет высказать уверенность, что эти пародии —
результат литературного творчества не церковников, а посадских людей1.
Борьба с церковными традициями, которую все шире ведут посадские, едва ли получила бы такое большое историческое значение, если
бы деятельность Петра I не была направлена в эту же сторону. Петр,
враждуя с патриархом русской церкви Адрианом, демонстративно
прекратил посещать церковь и исполнять церковные обряды. А когда
умер Адриан, Петр не велел выбирать нового патриарха. На некоторое
время заместителем патриарха был назначен Стефан Яворский, а после
его смерти учрежден Синод и объявлено об отмене патриаршества в
России.
До Петра I цари признавали себя послушными сынами церкви, без
благословения патриарха не приступали ни к одному делу. А Петр
' См. позднейшие исследования языка этих памятников: Аверьянова Г. Н. Особенности
синтаксиса сатирических произведений и повестей XVII в. Способы выражения сказуемого.
Автореферат канд. дисс. Л., 1955; Вишневская Г. П. Лексика и фразеология русской
демократической сатиры XVII в. Автореферат канд. дисс. Киев, 1970; Орлова И. А. Лексика
сатирических повестей XVII в. Автореферат канд. дисс. Л., 1956; ее же. Элементы разговорного
языка в сатирических повестях XVII в. — «Уч. зап. ЛГУ», 1958, № 243, вып. 42. Прим. ред.
сформулировал свою идею абсолютной монархии в такой формуле (в
Воинском уставе): «Его Величество есть самовластный Монарх, который
никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть
имеет свои Государства и земли, яко Христианский Государь, по своей
воли и благомнению управлять»23. Со времен Петра I церковь уже не
оказывает почти никакого влияния на ход государственных дел. В Синод
Петр поставил светского обер-прокурора, который должен был следить
за владыками церкви, обличать их отступления от законов и карать за
всякое неисполнение царской воли. Земли у монастырей отняли;
колокола перелили на пушки; оставшихся монахов заставили быть
санитарами и лечить раненых солдат или призревать инвалидов,
полностью потерявших работоспособность.
И в области языка борьба с церковью проводилась в то время из года в
год. Петр I произвел реформу алфавита; отказавшись от почти
тысячелетней традиции кирилловского полуустава, русские перешли на
новую гражданскую азбуку. Книгопечатание постепенно было
переведено на новый шрифт, а кириллица оставлена только для
церковных книг. Старая церковнославянская речь упорно держалась еще
в языке панегирической литературы, переводов, научных книг,
беллетристики. Переводы, научные книги живо интересовали Петра I.
Редактируя их, он требовал от переводчиков отказаться от
старославянского языка и писать языком Посольского приказа, т.е.
23
Поли. собр. законов Российской империи с 1649 г., т. 5. Спб., 1830, с. 325.
338
языком светским, наиболее свободным и далеким от церковно-книжной
традиции.
В отношении церкви прогрессивность преобразований Петра неоспорима, его реформы имели большое значение для подъема русской
культуры, освобождения ее от средневековых традиций. Однако неверно
было бы представлять дело так, что Петр I совсем не испытывал влияния
церкви. Церковники нового типа (такие, как Феофан Прокопович) были
близки к Петру. Прокопович стал одним из самых ревностных
пропагандистов реформ Петра. Каждая военная победа Петра I
отмечалась торжественными службами во всех храмах. Однако все это
отнюдь не означало поддержки церкви. На протяжении XVIII в. атеизм
широко распространяется и среди дворянства, и среди посадского,
торгово-ремесленного люда, и среди крестьянства. Так заканчивается
влияние церковнославянского языка на общенародный язык. А до
Петровской эпохи такое воздействие было довольно сильным и оставило
следы как в литературном, так и в разговорном языке, а также в
диалектах. Однако можно с уверенностью сказать, что следов этого
влияния было бы гораздо больше, если бы XVIII в. не положил конец
распространению церковнославянских традиций.
Основные реформы Петра I привели, с одной стороны, к созданию
централизованного государственного аппарата, с другой стороны — к
появлению покорного царю и крепкого по своему юридическому и
экономическому положению класса дворянства, и наконец, к
значительному росту «третьего сословия» — буржуазии, купечества и
ремесленного люда. Наиболее важным для всей дальнейшей истории
было именно последнее, хотя нельзя недооценивать и громадного
значения централизации государственного управления для сплочения
Руси и развития национальной культуры. Но основой этого
национального единства был все-таки не по-мещичье-дворянский класс, а
купечество и ремесленный люд. Напомню, что при Петре было основано
более 200 фабрик и заводов, около половины которых производили
чугун, железо, пушки, якоря и машины. Некоторые фабрики были уже
достаточно велики, например, на суконной фабрике в Москве работало
730 рабочих, а на полотняной — около 1200 рабочих. Вспомним, что до
Петра у нас было лишь несколько маленьких заводиков, основанных
иностранцами, где работало по 10-15 человек. И потому понятно, что
наследники Петра I изменили ему больше всего в этой его деятельности,
направленной к укреплению «третьего сословия», ибо оно шло за счет
некоторого утеснения старых привилегий дворянства.
Петр смело оказывал всяческую помощь купечеству. Он заставлял
купцов объединяться в «кумпанства», т. е. акционерные общества, давал
«кумпанствам» большие ссуды, иногда даже государственные пособия в
десятки тысяч. Петр отдавал купцам государственные фабрики и заводы в
собственность, понимая, что такой индивидуальный хозяин сделает
гораздо больше для подъема промышленности, чем невежественные и
бездеятельные государственные чиновники. Он позволил купцам владеть
землями, покупать земли вместе с крестьянами, которые должны были
работать на фабриках и заводах. Допустив самоуправление в городах для
верхушки купечества, Петр дал известную самостоятельность
купеческому сословию, создал для него единый орган управления во всей
империи. Все это способствовало значительному подъему народного
хозяйства, общей культуры посадских людей. Характерным примером
быстрого продвижения «третьего сословия» была деятельность И. Т.
Посошкова (1652-1726).
Биография Посошкова достаточно хорошо известна. В документах,
относящихся к ранним годам его жизни, он именуется оброчным
крестьянином (т.е. не земледельцем) села Покровского (это сейчас
московская улица Чернышевского). Отец и дед Посошкова — серебряных
дел мастера, да и сам Посошков хорошо изучил серебряное дело, как,
впрочем, и многие другие ремесла. Посошкова хорошо знал Петр I. Но
через несколько месяцев после смерти Петра Посошков был арестован и
умер в Петропавловской крепости.
Если бы мы знали только о разнообразной деятельности Посошкова
как изобретателя, мастера, купца, фабриканта, строителя, то и это
позволило бы считать его одним из крупных деятелей Петровской эпохи.
Но гораздо более известен Посошков своими литературными
произведениями. Прежде всего заслуживают внимания и изучения три
больших его труда. Первый из них — «Отеческое поучение сыну»24. Это
домострой начала XVIII в., написанный совершенно на новых началах и в
новом духе. Второй — книга «О ратном поведени-и»25, предлагающая
реформу армии. По мнению Посошкова, русская армия, в отличие от
иноземных, должна быть основана на индивидуальном мастерстве
солдата, его полной самостоятельности в бою.
См.: Посошков И. Т. Отеческое завещательное поучение посланному для обучения в дальние
страны юному сыну. М., 1842.
25
См.: Посошков И. Т. Соч., ч. 1. М., 1842.
24
340
Но самая прославленная работа Посошкова — это «Книга о скудости
и богатстве» (1721—1724)26. Законченную книгу Посошков представил
Петру I. Неизвестно, удалось ли царю прочесть ее. Но после смерти
Петра именно эта книга и послужила причиной ареста Посошкова.
Во вводной части «Книги о скудости и богатстве» Посошков просит
Петра не открывать никому его имени:
«Прошение ж мое величеству твоему предлагаю токмо едино, еже б
желание мое в дело произвелось, иного ж ничесого не требую, токмо да
не явится мое имя ненавистливым и завистливым людям, паче же
ябедникам и обидникам и любителем неправду, понеже не похлебуя [т.
е. не угождая] им писах. А аще уведят о моей мизирно-сти, то не
попустят мне на свете ни малого времяни жить, но прекратят живот
мой».
Слова эти оказались пророческими. До царя книга, очевидно, не
дошла, а Екатерина I и ее окружение признали автора достойным если не
смертной казни, то пожизненного заключения. И не удивительно, потому
что Посошков пишет об ограничении дворянско-по-мещичьего
своеволия, самодурства и бесчинства, обеспечении прав купцов и
мастеровых людей, оберегании крестьян от глумления и эксплуатации.
Он требовал уменьшения вдвое подушной подати, а это означало
сокращение основной доходной статьи государственного бюджета. Для
возмещения такого громадного, многомиллионного убытка Посошков
предлагал расширять промышленность и торговлю. Он считал, что
богатым может считаться только то государство, где богата не царская
казна, а весь народ, где богат каждый крестьянин.
Много говорится в «Книге о скудости и богатстве» о неправосудии, о
трусости и лености дворян, всячески уклоняющихся от военной службы
(вроде Ивана Золотарева, который дома соседям своим страшен яко лев,
а на службе хуже козы). Здесь же Посошков требует обучать крестьян
грамоте. И хотя он нигде не упоминает об освобождении крестьян, но
одно место в рассуждениях о крестьянстве заставило многих
исследователей конца ХІХ-начала XX в. считать его первым, кто заговорил
об освобождении крестьян. Посошков писал, что помещики временно
владеют крестьянами, потому что крестьяне принадлежат царю:
«Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради они не весьма
их и берегут, а прямой им владетель всероссийский самодержец, они
владеют временно». В государстве все принадлежит Царю, и он поручил
26
См.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1937.
помещикам управлять крестьянами, наблюдать, чтобы крестьяне
работали для государства.
Однако исследователь «Книги о скудости и богатстве» Б. Б. Ка-фенгауз
оспаривает это мнение27. Исходя из текста он прав, Посошков не говорит
об освобождении крестьян. Но идея о том, что крестьяне не являются
вечной собственностью помещиков, была, несомненно, революционной
для того времени. Мысль о принадлежности крестьян, как и всего в
государстве, царю была довольно абстрактной, соответствующей
идеологии абсолютной монархии, но Посошкову удалось идею
абсолютной монархии довести до самого широкого круга читателей.
Однако рассуждения Посошкова о необходимости учить крестьян,
открыть им широкую дорогу и в ремесло, и в торговлю позволяют судить
о том, что для него крепостнический строй не представлялся
неизменным, вечным. И в этом смысле Кафенгауз неправ, когда относит
Посошкова к числу ярых и непоколебимых крепостников. Кафенгауз
ссылается на то, что сам Посошков владел крестьянами, которые
работали у него на фабрике (у Посошкова были небольшие поместья и
около 150 крестьян). Надо сказать, что в делах Тайной канцелярии
сохранилось письмо племянника Посошкова, который управлял его
делами. В этом письме сказано, что крестьяне отказываются повиноваться
и ждут приезда самого Посошкова, ждут, что он освободит их от ряда
работ. Так что ярым крепостником Посошков, видимо, не был, если
крестьяне были уверены, что хозяин даст им льготы.
Книга Посошкова, поданная царю, не сохранилась в делах Тайной
канцелярии. По-видимому, Посошков оставил себе копию сочинения и с
нее в 30-х годах XVIII в. были сделаны еще одна-две копии, а затем эти
копии стали переписываться, и до нас дошло несколько списков «Книги о
скудости и богатстве». Одну из копий имел М. В. Ломоносов. Большой
интерес Ломоносова к книге Посошкова доказывается тем, что он
приказал сделать для библиотеки Академии наук новую копию, которая
сохранилась до наших дней. Вдохновленный книгой Посошкова,
Ломоносов задумал сам написать сочинение на ту же тему и примерно
«Мысль о полноте прав верховной власти на землю и крестьян и представление об
условности помещичьего владения нужны Посошкову не для указания на будущее
освобождение, а для обоснования своего проекта крестьянской реформы. Государственная
власть как верховный собственник должна озаботиться положением крестьянства. (...) Таким
образом следует признать, что Посошков, хотя и сделал попытку частичной постановки
крестьянского вопроса, оставался в своих проектах на почве современных ему феодальнокрепостнических отношений» (см.: Кафенгауз Б. Б. И. Т. Посошков, его жизнь и социальноэкономические воззрения. — В кн.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве, с. 66-67).
27
342
по такому же плану. Чтобы это стало достаточно очевидно, сравним
названия глав книги Посошкова и план книги Ломоносова:
План книги Посошкова
1. О духовности [т. е. о духовенстве].
2. О воинских делах.
3. О правосудии.
4. О купечестве.
5.
6.
7.
8.
9.
О художестве [т.е. о ремесле].
О разбойниках.
О крестьянстве.
О земляных делах [т.е. о земледелии].
О царском интересе [т.е. о
государственной экономике].
План Ломоносова
1. О размножении и сохранении
российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5.
О исправлении и размножении
ремесленных дел и художеств.
6.
7.
8.
О лучших пользах купечества.
О лучшей государственной экономии.
О сохранении военного искусства во время
долговременного мира.
Две трети названий глав совпадают. Из задуманной книги Ломоносовым была написана одна часть — «О размножении и сохранении
российского народа»28.
Изучал сочинения Посошкова и Л. Н. Толстой, особенно «О ратном
поведении», «Завещание отеческое» и «Книгу о скудости и богатстве». В
70-х годах Толстой хотел писать роман из эпохи Петра I, и главным
героем этого романа должен был быть Посошков. Сохранилось несколько
глав рукописи этого романа, где рассказано об обстоятельствах первого
ареста Посошкова после посещения им Андреевского монастыря, игумен
которого подал Петру I обличительную грамоту.
Во второй половине XIX в. сочинения Посошкова пропагандировал
Ап. Григорьев, но цензура не пропустила его статьи. И в наше время
деятельность Посошкова привлекает внимание историков, экономистов и
лингвистов. Язык Посошкова еще мало изучен. Лексике, точнее говоря
экономической терминологии, Посошкова была посвящена работа А. М.
Бабкина29. Нет сомнения, что еще не одно исследование будет посвящено
трудам Посошкова30.
См.: Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. М., 1950, с. 598-599.
См.: Бабкин А. М. Лексика «Книги о скудости и богатстве» И. Посошкова. — «Уч. зап. ЛГПИ
им. А. И. Герцена», 1948, т. 59; его же. Фразеология Посошкова (по материалам «Книги о
скудости и богатстве»). — Там же.
30
См.: Кирина Л. Я. Форма настоящего времени глаголов несовершенного вида и ее значение в
литературном языке XVIII в. (на материале «Книги о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова). —
«Науч. зап. Одесского пед. ин-та», 1959, т. 23; Маклер Р. С. Присубстантивно-относительные
28
29
Язык книги Посошкова — драгоценный источник для исследования
литературного языка начала XVIII в. Как и во всех других памятниках
посадской литературы, написанных уже на национальном литературном
языке его ранней формации, здесь довольно заметны элементы старой
книжной традиции, особенно там, где Посошков говорит о церкви,
например, в главе, посвященной духовенству: «Пресвитеру подобает быть
подобну апостолом христовым, чтоб они ни о здравии своем, ни о
богатстве, ни о пище своей тако не пеклися, како о спасении душ
человеческих, понеже бог всех погибших взыщет на них или: аще
презвитеры будут всех вер еретических силу знати и будут разуметь, чем
их обличить и чем от них оградить, то свое стадо могут от тыих волков
адъских охранити». Так, об ответственности духовенства за жизнь и
нравственное состояние народа Посошков пишет почти чистым, от начала
до конца выдержанным церковнославянским языком. Я не могу в этих
цитатах найти ни одного элемента не церковнославянского, кроме союза
чтоб, формы волков вместо волк в родительном падеже и формы
инфинитива на -ть (вместо -ти). Элементы церковнославянской традиции
встречаются и в других главах. Посошков употребляет иногда аорист:
при-смотрих, написах, дерзнух, предрекох и др., но редко, господствующими являются формы перфекта без связки. В «Книге о скудости и
богатстве» попадаются и неполногласные старославянские формы, но их
доля нисколько не больше той, какую старославянские элементы
составляют в нашем современном языке. Дань старославянскому языку
отдана и в лексике, но основой языка является все-таки не
старославянская, не книжная традиция, а живая разговорная.
На языке произведений Посошкова можно проследить основное
направление развития литературного языка в Петровскую эпоху.
Отмирание форм литературного языка старого типа происходило
медленно. Значительное количество произведений Петровского времени
еще написано на старом книжном языке, хотя и отличном от языка
Московского государства. Например, в сочинениях Прокопо-вича много
форм неполногласных, там, где тон торжествен, встречаются аорист (он
конструкции в произведении И. Посошкова «Книга о скудости и богатстве». — «Труды
Кутаисского пед. ин-та», 1966, т. 28; его же. Конструкции, совмещающие два значения:
местоименно-сотноси-тельное и присубстантивно-относительное, по произведению И. Т.
Посошкова «Книга о скудости и богатстве». — Там же, 1971, т. 34; Федорова М. Е. Суффиксальные существительные в «Книге о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Автореферат канд.
дисс. М., 1953. Прим. ред.
344
цитирует Цезаря: «Приидохъ, видѣхъ, побѣдихъ»31) и иногда причастные
формы как дань старому книжному языку. Вместе с тем язык
Прокоповича не чужд новому (он употребляети перфект, и полногласные
формы, избегает страдательных причастий) и даже иноязычным
заимствованиям, причем «лютерским», совершенно недопустимым для
книжников старого времени. Скажем, в «Слове похвальном о баталии
Полтавской» встречаются из старого языка рекбмъ, сей, единый (в других
местах одинъ), студ-ный, возмогший, возрастший и тут же — преславная
виктория, баталия32, причем и то и другое — показатели высокого стиля.
Таким образом, у Посошкова много элементов церковнославянских,
но элементов общеразговорного языка значительно больше. Характерна
фраза, которая часто цитируется историками: «Сие бо вельми нужно, еже
кои материалы, где родятся, тамо бы они и в дело происходили». Нужно
употреблено здесь не в церковнославянском значении 'очень трудно', а в
нынешнем; материалы родятся, в дело происходили — это термины и
выражения нового языка, в то же время сие, бо, еже, кои, тамо —
славянизмы.
Посошков скупо употребляет западноевропейские термины, хотя он
знаком с сочинениями на латинском, польском и немецком языках.
Убежденный в необходимости изучать иностранные языки, он тем не
менее стремится создать национальную русскую терминологию. Так,
понятие 'доход' он обозначает в основном словом доход, но также словами
прибыток, приплод, прибыль и характерным древнерусским словом
спорынья (ср. споро) — 'то, что легко приходит', а понятие 'ремесло' —
термином художество (иногда рукоделие). Рядом с расход встречаются
потеря, истрата, а вместо заимствованного капитал употребляется
пожиток и как синоним к нему заимствованное интерес.
Из нерусских слов Посошков легко пользуется теми, которые не входят
в книжный язык, но употребительны в торговом деле, особенно в
европейских государствах: личба — 'счет' пенязи — 'деньги', вага —
'важность, стоимость, вес', кортома — 'арендная плата'. Иногда это и не
термины. Например, пильно — 'внимательно', жадный — 'всякий',
мизирный (от лат. тІ8ег) — 'бедный, мелкий, ничтожный' пришли в
См.: Прокопович Ф. Слово похвальное о баталии Полтавской. Печатано въ
Санктъпитеръбурхѣ 1717 году месяца иулия въ 28 день, л. 6 об.
32
Ср.: Дашкова М. Ф. Иноязычные заимствования в «Словах и речах поучительных» Ф.
Прокоповича. — «Труды Воронежского ун-та», 1969, т. 83, вып. 4. Автор насчитывает около 250
заимствований разного рода. Прим. ред.
31
345
купеческий разговорный язык из Польши и через Польшу, как и союз
ажио, хотя он известен и западнорусским говорам. Больше иноязычной
лексики в наименованиях товаров
(кармазин — 'тонкое красное сукно', штофы — 'шелк'), в названиях
чинов, должностей и учреждений, с которыми приходилось иметь дело
купцам (бурмистр, канцелярия). Но все это отдельные вкрапления в
сложившемся русском языке.
С точки зрения книжного языка, в речи Посошкова много неологизмов, но в сущности все они были достоянием общего языка. «А
буде кой помещик, видя коего крестьянина семьяниста и лоша-деиста,
даст ему земли» (у кого большая семья и много лошадей) — это в полном
смысле слова в стиле и в духе народной речи. Или: «В Устрицком стану
есть дворянин Федор Мокеев сын Пустошкин, уже состарелся, а на службе
ни на какой и одиною не бывал».
Наиболее удачные произведения переводчиков и писателей Петровского времени характеризует такое же сочетание языковых
элементов, что и в сочинениях Посошкова. «Юности честное зерцало»33 —
блестящий перевод, причем переводчик писал очень свободно. «Младыи
отрокъ да не будетъ пересмѣшливъ, или дурацкимъ шуткамъ заобычаенъ;
И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкаетъ, яко бы въ трубу
трубитъ, или громко чхаетъ; Не хватай первой въ блюдо, не жри какъ
свиния, и не дуй въ ушное (суп), чтобъ вездтэ брызгало, не сопи, егда яси»
— здесь младыи отрокъ, да, сия, яко, егда, яси — славянизмы, но все
прочее — элементы разговорные и просторечные.
В «Книге, именуемой Брюсовской календарь», даны элементарные
сведения по астрономии с таблицами всех дней года 34. Здесь уже нельзя
сказать, что низкая тема требовала просторечного языка, а пишется так:
«Имѣетъ [отрокъ] широким рамы, плеча, высокую грудь, великия
хорошим глаза» (а не изрядные очи). Каждое книжное или новое слово
поясняется, обычно в скобках: рамы (плеча), до-модержецъ
(домоводецъ), непщевание (роптание), холер (гнѣвъ).
Конечно, далеко не все переводчики Петровского времени сумели
отойти от традиционного языка. Хотя Петр сам следил за работой
переводчиков, были переводы и неудачные. Многие историки языка,
исходя из плохих переводов, считали язык Петровской эпохи
неоправданно пестрым, характеризующимся нелепым смешением
33
34
См.: Юности честное зерцало. Спб., 1717.
См.: Книга, именуемая Брюсовской календарь. Спб., 1710.
346
славянских и заимствованных элементов. Это поверхностные выводы.
Верная оценка, языка Петровской эпохи должна опираться на лучшие
сочинения того времени, необходимо учитывать, на восприятие какого
читателя рассчитаны эти произведения.
В числе важных реформ эпохи Петра I, которые непосредственно
связаны с развитием языка, — и значительное расширение книгопечатания, и создание новой гражданской азбуки, и появление первых
русских газет. Начало книгопечатания в России относится к середине XVI
в. На Стоглавом соборе (1551) приняты реформы, унифицировавшие
церковные обряды; в связи с этим было признано необходимым бороться
с искажением церковных книг, в первую очередь богослужебных. Так как
церковные книги переписывались от руки часто невежественными
переписчиками, то в них накапливалось громадное количество ошибок,
грубейшим образом искажающих вероучение и обряды. И эта-то
необходимость устранить ошибки в богослужебных книгах и
способствовала учреждению типографии, в которой, за исключением
нескольких букварей и «Книги о ратном строении», печатались только
церковные книги.
Петр I, не препятствуя размножению церковной литературы, предполагал печатать и самые разнообразные светские книги. При нем были
изданы многочисленные учебники по арифметике, геометрии (кстати,
первой
книгой,
напечатанной
гражданским
шрифтом,
была
«Геометриаславенски землемерие»), по морскому и военному делу, двуязычные и трехъязычные словари, малые и большие грамматики, пособия по истории и географии. Новый гражданский шрифт был очень
похож на латинский шрифт. Но это сближение совершенно ошибочно
толковать только как увлечение иноземным образцом (чрезмерное, как
говорили не один раз историки). Надо справедливо оценить стремление
Петра к рационализации русского шрифта. Изменение начертаний букв
должно было способствовать большей удобочитаемости, сделать более
четкими различия букв между собой; кроме того, округлое написание
значительно облегчает письмо и приближает печатный шрифт к
письменному (печатный кирилловский полуустав и скоропись слишком
непохожи). Петр стремился не только к удобочитаемости шрифта, к
большей простоте начертаний, но и к экономии места (все буквы должны
занимать одинаковую площадь).
В отличие от многих других своих реформ, в этом случае Петр I не
торопился и вводил гражданское письмо осторожно, постепенно. Над
347
созданием азбуки по его поручению работал целый ряд лиц и в Москве, и
за границей более пяти лет. И только в 1708 г. в Голландии была
отпечатана новым шрифтом первая книга.
Газета «Ведомости», выходившая с декабря 1702 г., была переведена на
новый шрифт только в 1710 г., но вплоть до 1715 г. некоторые номера
газеты печатались еще церковнославянским шрифтом. Почему? Именно
потому, что переход на новый шрифт, не вызвавший затруднений у
широкообразованного читателя, дворян, знавших много языков, был
очень нелегок для крестьян и посадских людей. И вот, не желая терять
большое число читателей, хорошо знавших старое кирилловское письмо,
Петр приказал печатать наиболее важные номера газеты или двумя
шрифтами — гражданским и кирилловским, или одной кириллицей.
Церковные же книги печатаются кириллицей до сих пор.
Газеты на Западе возникают в конце ХѴ-начале XVI в. Теперь
достаточно хорошо выяснено, что газеты произошли из кратких сводок
наиболее важных новостей в области торговли и политической жизни,
которые выпускались в крупнейших торговых городах. Родиной слова
газета считают Венецию, потому что там рукописные сводки новостей
продавались за даггеМа (мелкая монета, вроде пятака). Ежедневными,
содержащими не только новости, но и некоторые важные и серьезные
материалы публицистического и политического характера газеты
становятся и в Европе, и у нас только в XVIII в.
Предшественниками газет в России были такие же сводки, которые
назывались у нас вестовые листы (иногда короче вести), а во второй
половине XVII в. их чаще называли иностранными словами авизии или
куранты. Копии этих рукописных известий сохранились главным
образом от второй половины XVII в., но есть сведения, что первые такие
вестовые листы в делах Посольского приказа были датированы 1621 г.1
Первоначально куранты предназначались только для двора и главным
образом для Посольского приказа, т.е. для дипломатов. В течение
нескольких десятилетий строжайше запрещалось разглашать те вести,
какие получал царь и его ближние бояре. Сохранились дела о жестоких
наказаниях дьякам, если пропадал вестовой лист. Но уже при царе
Алексее Михайловиче куранты начинают размножать и распространять
не только в придворных кругах, но и среди купечества.
' Позднее обнаружены и изданы и более ранние куранты; см.: Вести — Куранты. 1600-1639 гг.
Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. Прим. ред.
348
Куранты второй половины XVII в. как по языку, так и по содержанию
очень близки к первым номерам «Ведомостей» Петра I. Пока еще
языковой материал первых газет лингвистами не использован. Правда,
военной лексике курантов посвящена небольшая работа И. С. Хаустовой 35.
В этой статье показано, что на протяжении XVII в. уже сложилась и
достигла некоторой нормализации военная терминология русского
литературного языка. Военная терминология примерно на три четверти
русская, а на одну четверть заимствована из языков западноевропейских.
Это, в свою очередь, показывает, что переводчики курантов при описании
военных событий использовали богатую традицию древних текстов. Мы
встречаем там уже в окончательно определившемся терминологическом
значении такие слова, как оборона, приступ, вылазка, подкоп, сдача,
обоз (в значении 'лагерь'), названия фортификационных работ и
укреплений: городок, рогатка, вал, башня, шанцы; довольно сложные
артиллерийские термины: верховая пушка, верховой бой, нижний
бой, огненные ядра, гранаты и т.д.; старые и новые наименования воинских чинов: полковник, генерал, гетман; драгун, капитан, ротмистр, рейтар, солдат, вновь появляется термин рядовой.
В некоторых случаях терминология курантов отличается от
позднейшей терминологии. Там, скажем, еще не было слова флот, а
употреблялся караван, но уже вместо древнего термина разми-рье
пишется разрушение мира, а рядом со старыми вершить мир, ставить
мир употребляется более новый термин учинить мир, который
сохраняется в Петровскую эпоху. В это же время старые термины
договор, разговор постепенно заменяются новым переговоры —
'дипломатические переговоры'.
Петровские «Ведомости» выходили сначала в Москве, а с 1711 г. и в
Петербурге. С 1727 г. «Ведомости», переданные в ведение Академии наук,
выходят под названием «Санктпетербургские ведомости» (до 1917 г.). Для
составления первых газетных номеров использовались, как и в XVII в.,
покупаемые нашими купцами и послами за границей газеты больших
торговых городов Германии, Франции,
Эта работа была опубликована позже: Хаустова И. С. Из истории лексики рукописных
«Ведомостей» конца XVII в. — «Уч. зап. ЛГУ», 1956, № 198, вып. 24; см. также: Сахаров А. Л.
Лексика русской рукописной газеты 1621 г. Автореферат канд. дисс. М., 1967; его же.
Географические и политические наименования как характерная черта словарного состава
русской рукописной газеты 1621 г. — Сборник научных трудов Армянского заочного пед. инта», 1968, № 8, ч. 2. Прим. ред.
35
349
Италии, Швеции. Из этих газет выбирались наиболее важные для России,
интересные для русских читателей сведения, переводились и достаточно
строго редактировались (Петр сам редактировал почти каждый номер
«Ведомостей»). В конце ХѴІІ-начале ХѴПІ в. в западных известиях о
России распространялись всякие небылицы, достоверных сведений было
очень мало. Поэтому переводчики, встречаясь с таким материалом, либо
переиначивали его, либо полностью переводили, но тут же опровергали
факты; так же примерно приходилось поступать и редакторам. Однако
тщательному пересмотру подвергались и сведения о внутренних русских
делах. Петр основал газету не ради того, чтобы купцы были в курсе цен на
наиболее ходовые товары, знали, что там-то война и туда нельзя везти
товары. Целью «Ведомостей» с самого начала была пропаганда
Петровских реформ, защита чести русской армии и флота. Поэтому,
естественно, что сведениям о восстаниях, мятежах, о военных неудачах не
находилось места в газете. Только наличием отдела внутренней хроники
прежде всего и отличаются петровские «Ведомости» от курантов XVII в.
Однако -вскоре наряду с краткими сведениями о происшествиях,
событиях в газете появляются большие статьи публицистического
характера,
иногда
же
популярно
излагаются
или
просто
перепечатываются царские манифесты и указы.
За 25 лет сменилось три редактора «Ведомостей». До 1711 г. газету
редактировал известный ученый и издатель Ф. Поликарпов. (Он составил
греко-славяно-латинский букварь (1701), букварь и грамматику русского
языка, наконец, ему принадлежит много переводов.) За время его
редакторства была проделана огромная работа над языком «Ведомостей».
Медленно, с большим трудом газетная речь освобождалась от штампов и
шаблонов старого книжного языка и становилась все более простой,
понятной, близкой к разговорному языку.
После Поликарпова газету редактировали М. Аврамов, ас1719г. —
талантливый литератор и переводчик Петровской эпохи Б. Волков. Язык
газет времен редакторства Волкова уже совсем иной.
При Поликарпове материалы «Ведомостей» пестрят такими словами,
как токмо, седми, такожде, одержание, понеже и т.п., при выражении
отвлеченных понятий и в сфере основных служебных слов господствует
традиция церковного, книжного языка. И только сообщения о военных
делах свободны от славянизмов, да и то относительно. Скажем, начало
военной реляции (1708) выгляделотак: «Объявляемъ вамъ, како
всемогущий сего числа оружию нашему счастливую побѣду противъ
350
неприятеля короля шведского даровати послѣдующимъ образомъ
всемилостиво благоволилъ»36. Но дальше, когда описываются ход боя,
результаты боя, славянизмы уступают место распространившейся при
Петре военной терминологии:
«И к той отакѣ командировали генерала маеора от гвардии нашей
князя Голицына и с нимъ осмь баталионовъ пѣхоты из корпуса де баталии, да с лѣваго крыла от команды генерала фонъ Алларта, генерала
лейтенанта Флюка с тритцатью шквадронами драгунъ, которая
пѣхота, перебрався чрез тѣ посажи на то неприятельское крыло [в
котором болше пяти тысячь пѣхоты и нѣсколько тысячь кавалерии
было], мужественное нападение учиня, и оныхъ по жестокомъ бою,
которого съ полтора часа съ непрестаннымъ огнемъ было, храбро с
поля збила».
Но вот другое место:
«И еже ли бы кавалерия наша могла за трудными марастами къ тому
приспѣтъ и афанжировать, тобъ из оныхъ неприятелей ни единъ не
могъ спастися. Но понеже марасты препятиемъ тому были и вся неприятельская армея на тотъ нашъ деташоментъ афанжеровала, того
ради повелѣли мы помянутымъ нашимъ войскомъ по одержаний совершенномъ поля и виктории возвратится».
Здесь рядом с такими хорошо известными словами, как кавалерия
или армея (первоначально только армея, позже и армия), встречаются
афанжировать, деташамент. Прочтем еще один отрывок:
«Когда наша армея возбраня королю шведскому пасъ чрез рѣку Сожу
под Чириковымъ и Кричевым и видя его неприятелское обращение ко
Мстиславлю, переправясь паки Сожу и упредя неприятеля, стало на
посажѣ, на рѣчке, имянуемой Бѣлой Напѣ, разставясь по оной по
постирунком, дабы неприятелю ту посажу диспутовать».
В этом тексте не только специально военные термины, но и слова
общего употребления заменяются иностранными; так, вместо переход —
пас или посаж, вместо стоянка, место остановки — пости-рунк.
Конечно, сказывается преобладание в армии Петра иностранцев в
командном составе. Реляции о боевых действиях составляли командиры,
36
Цит. по книге.: «Ведомости» времени Петра Великого (1708-1719), вып. 2. М., 1906.
351
которые недостаточно хорошо знали русский язык и не проявляли
особого желания ему научиться.
Однако там, где источники не были в такой степени насыщены не
очень понятной Поликарпову военной терминологией, он добивался того,
что язык газеты становился почти общедоступным. Вот, например, как он
сообщает в 1708 г. о Булавинском восстании: «Донской казакъ воръ и
богоотступникъ Кондрашка Булавинъ умыслилъ во украинских городѣхъ
и въ донскихъ казакахъ учинить бунтъ. Собрал к себѣ нѣсколько воровъ и
единомысленниковъ и посылалъ прелестные писма во многие городы и
села».
В лексике кроме военной и морской терминологии выделяются еще
новые слова для обозначения должностей и учреждений Петровской
эпохи, конечно, заимствованные из европейских языков, потому что
новый государственный аппарат создавался по голландскому,
английскому или немецкому образцу37.
Крайне редко в языке «Ведомостей» употребляется аорист и совсем не
встречается имперфект. Перфект, как правило, употребляется без связки,
как и перфект страдательный: «С нашей стороны ранено два казака и
убито четыре лошади; Из того местечка взяты многие пожитки»38.
Формы двойственного числа нет. Сохраняются старые формы
дательного падежа: войском, городом, но встречаются уже и новые
формы: по письмам, в городах. Изредка употребляется древний
творительный (за противными ветры), однако эта форма держится в
разговорном языке, в народных диалектах, по-видимому, довольно долго,
См. позднейшие исследования лексики «Ведомостей»: Сахаров Л. М. Производственная
лексика в первой печатной газете «Ведомости» 1702-1727 гг. — «Уч. зап. МОПИ им. Н. К.
Крупской», 1963, т. 139, вып. 9; его же. Очерки словарного состава первой русской печатной
газеты «Ведомости». — «Уч. зап. Московского гос. заочного пед. ин-та», 1968, вып. 23 [о морской
терминологии]; его же. Очерки словарного состава первой русской печатной газеты
«Ведомости». Военная лексика и фразеология. — Там же, 1971, вып. 24; Хаустова И. С. Лексика
«Ведомостей» 1702-1703 гг. (Из истории формирования национального литературного языка и
его стилей). Автореферат канд. дисс. Л„ 1958; ее же. Лексикологическая характеристика
«Ведомостей» Петра I (по материалам лексики, связанной с военной тематикой). — «Уч. зап.
ЛГУ», 1958, №243, вып. 42; ее же. О лексической синонимии в литературном языке Петровской
эпохи (по материалам «Ведомостей» 1702-1703 гг). — В кн.: Начальный этап формирования
русского национального языка. Л., 1961; ее же. Редакторская работа над языком и стилем
Петровских «Ведомостей». — «Вестник ЛГУ», 1957, вып. 3, № 14; ее же. Из истории социальной
лексики «Ведомостей» 1703 г. — В кн.: Из истории слов и словарей. Очерки по лексикологии и
лексикографии. Л., 1963. Прим. ред.
38
См.: Кожина М. Н. Морфология глагола в «Ведомостях» Петровского времени. Автореферат
канд. дисс. Л., 1954. Прим. ред.
37
352
до начала XIX в. В местном падеже рядом с городах, письмах встречается
в городѣх, о дѣлѣхъ39.
Безличные обороты крайне редки. Предлоги употребляются иногда не
в русских конструкциях, а в калькированных с иностранного языка: от его
светлости (вместо его светлостью), в присланных письмах чрез почту,
восемь батальонов от команды генерала. Но это исключения. Как
правило, и предлоги и союзы (в основном русские: когда, что, чтобы,
как, так что) употреблены в соответствии с русской нормой. Союзы
старославянские почти совсем исчезли уже при Поликарпове.
В заключение я должен обратить внимание на то, что в обозрении
языка памятников Петровской эпохи мы отметили, с одной стороны,
убывающее значение старого церковного книжного языка, который
теперь употребляется или в церковной литературе, или в стилистических
целях, для создания возвышенности и торжественности тона. Основным
для подавляющего большинства памятников Петровской эпохи является
тот язык, который в Московской Руси именовался просторечием и
отражал общую разговорную речь.
Наконец, я отметил, когда говорил о пародиях, что в языке литературы встречаются и грубые, отнюдь не литературные элементы и
формы. Скажем, в «Азбуке о голом и небогатом человеке» читаем: «Люди
вижу что богато живут, а нам голым ничево не дают, чорт знаит их, куда и
на што денги берегут; Зевается у меня ротом весь день не етчи или
Щеголять бы я стал хорошенко и ходил бы я ще-петненько, да лих
нечим». Тут все, с точки зрения писателя московской эпохи, нецензурно,
непристойно, недопустимо в литературном языке; это грубое
просторечие. Таких примеров в пародийной литературе очень много.
Войдя в литературу, просторечные элементы разговорного языка
очень скоро станут обычными в определенных жанрах литературы,и о
таких сочинениях станут говорить, что они написаны низким стилем.
Иначе говоря, в Петровскую эпоху все три стиля — и высокий, и средний,
и низкий — уже созданы. Высокий стиль — это старый церковный язык,
средний — общий разговорный, а низкий стиль — грубое просторечие,
включающее диалектно окрашенную бранную лексику.
См. подтверждение этих наблюдений: Ладюкова А. Е. Из истории именного склонения в
русском литературном языке XVIII в. (Падежные формы имен существительных в Петровских
«Ведомостях»). Автореферат канд. дисс. Л., 1956. Прим. ред.
39
353
Значение трудов А. Д. Кантемира, В. Н.
Татищева, В. К. Тредиаковского в
истории литературного языка
Развитие русского национального языка в Петровскую эпоху имеет
совершенно исключительное значение. Хотя в XVII в. общий язык в новой
своей формации уже отразился в ряде памятников письменности, однако
эта письменность была еще незначительна по объему и социальному
авторитету. В Петровскую эпоху литература, использующая разговорный
язык, стала основной, была принята господствующими классами, что
способствовало
развитию,
обогащению,
усовершенствованию
литературного языка. Правда, Петровская эпоха бедна оригинальными
памятниками художественной литературы, в это время преобладали
сочинения научные и практические. Всем понятно, что формирование
национального языка в сфере научной, политической, государственной,
хозяйственной имеет, пожалуй, более решающее историческое значение,
чем разработка его в собственно литературе, беллетристике.
Становление норм нового литературного языка, разработка научной,
технической терминологии продолжались и после смерти Петра I.
Однако сравнительно небольшая часть дворянства отстаивала дело Петра
при его преемниках. Самым известным литератором, поэтом
ближайшего за Петровской эпохой времени был А. Д. Кантемир (17081744). Первые шесть сатир написаны Кантемиром в 1729-1731 гг. Они
принесли
поэту
популярность
у
читателей
и
недовольство
правительства40. Эти сатиры имели важное политическое значение и
представляли собой в большей степени памфлеты, направленные против
политических врагов, публицистику в стихах, чем опыты в создании
новых форм русской поэзии. Реализм образов Кантемира находил
полное соответствие в языковом стиле, какой, по тогдашней
терминологии, называли просторечным, а мы должны точнее называть
разговорной формой общего языка.
Один из исследователей творчества Кантемира Л. В. Пумпянский
выделяет в сатирах (не совсем правильно) большое количество слов и
словосочетаний, которые признает образцами грубого просторечия,
вульгаризмами1. Он пишет, что сатиры Кантемира дают превосходный
См.: Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы, т. 1-2, под ред. П. А.
Ефремова. Спб., 1867-1868.
40
354
материал для словаря русского просторечия 30-х годов XVIII в. Однако
характеристика политических позиций Кантемира и его идеологии,
данная Пумпянским, убедительно доказывает классовый, дворянский
характер борьбы поэта с противниками его идеалов. Как же свести концы
с концами? Передовой дворянин, убежденный в прочности,
незыблемости и совершенстве монархического строя с его жестким
сословным делением, пользуется в своей литературной деятельности
грубым просторечием, т.е. языком, как представляется Пумпянскому,
простонародья. Решая это противоречие, Пумпянский просторечие
Кантемира генетически связывает — с чем бы вы думали? — с
просторечными элементами церковной проповеди начала XVIII в.
Кантемир был выученик и последователь Ф. Прокоповича, крупнейшего проповедника своего времени. Среди его многочисленных слов и
поучений немало проповедей обличительного характера. По старым
церковным правилам, обличительные проповеди должны быть
портретными, проповедник обязан был рисовать в них портреты порока.
А так как порок нельзя изображать возвышенным или церковным
священным языком, то проповедники изобличали пороки грубыми,
низкими словами. Сатиры Кантемира представляют собой тоже
портреты, но написанные в стихотворной форме светским человеком. И
эти портреты, так же как у Прокоповича, не могли быть созданы иначе,
как с помощью просторечных слов.
Таким образом, объяснение противоречивости Кантемира, с одной
стороны, жанровое: сатира требует просторечия, а с другой стороны —
биографическое: тесная личная связь Кантемира с Про-коповичем. Но
едва ли кто-нибудь из историков языка может согласиться с таким
объяснением. Ведь почти вся письменность Петровского времени,
наиболее прогрессивная, с точки зрения церковных риторов и стилистов,
была сплошным просторечием. Те слова, какие в литературе XVI или
начала XVII в. представлялись низкими, грубыми и недопустимыми в
литературных произведениях, давно уже, задолго до Кантемира, на
протяжении 20, иногда 50 лет широко употреблялись, стали
нормальными и вовсе не просторечными. Писатель послепетровского
времени имел в своем распоряжении только средства общего
разговорного языка, а это неправильно называть просторечием.
Посмотрим, какое просторечие встречается у Кантемира и можно ли
согласиться с такой именно квалификацией его языка. Скажем, с доски
до доски — с точки зрения почитателей Карамзина, это, конечно,
355
просторечие, но для Петровской эпохи это нормальная, обычная и
вполне чистая литературная речь. «Живали мы преж сего не зная латыне,
гораздо обильнее, чем мы живем ныне; Вино дар божественный, много в
нем провору; Медор тужит, что чересчур бумаги исходит на письмо, на
печать книг, а ему приходит, что не в чем уж завертеть завитыя кудри» —
тут нет очевидных славянизмов в синтаксисе, лексике, грамматике, все это
русские слова, простые конструкции, но не просторечие.
Встречаются в сатирах слова и фразеологические обороты, несколько
более резкие и грубые, скажем: «Не ходил бы в серяке; Нутко сел в кости
играти; Лепить горох в стену». Здесь также нет никаких элементов
нелитературности. Если даже обратиться к таким выражениям, какие
современникам Кантемира могли казаться грубоватыми, скажем, под
брюхатым дьяком однокольны дроги; зубы скалить; глаза пяля, то и
им нетрудно найти широкие параллели в письменности, в мемуарах,
иногда даже в официальных документах Петровской эпохи.
Язык поздних сатир Кантемира, написанных в Париже в 1738-1744 гг.,
несколько иной: меньше резковатых выражений общего языка. Но это
объясняется, главным образом, нравоучительным, философским
содержанием поздних сатир. Таким образом, можно говорить о том, что в
литературных опытах первых послепетровских десятилетий уже
отчетливо намечалось некоторое разнообразие колоритов литературного
языка в зависимости от тематики.
Сатиры Кантемира при жизни автора не были напечатаны вследствие
обостренных отношений поэта с правительством. Впервые сатиры были
изданы лишь в 1762 г. Таким образом, читатель узнал их в то время, когда
в литературе и языке начался отход от реформ Петровской эпохи. Однако
сатиры Кантемира, известные только по Рукописным копиям, оказали
огромное влияние на передовых людей того времени, на писателей XVIII
в. и даже начала XIX в. По-настоящему творчество Кантемира было
оценено во времена А. С. Пушкина и В. Г. Белинского41.
Нельзя пройти мимо большой переводческой деятельности Кантемира, так как ряд новых слов, созданных поэтом в процессе перевода,
остались в русском языке. Многим читателям был знаком Кантемиров
перевод книги Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров»,
представляющей собой опыт популяризации астрономии начала XVIII
См.: Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей. Кантемир. — Поли. собр. соч. в
13-ти т., т. 8. М., 1955.
41
356
в.42 В этом переводе Кантемир ввел в русский обиход такие слова, как
понятие, наблюдение, плотность, начало (в значении 'принцип'),
средоточие (в астрономическом и физическом смысле), вихри (как
термин для объяснения происхождения мира).
Еще больше для обогащения русского языка сделал В. Н. Татищев
(1686-1750). В своих переводах и оригинальных трудах он настойчиво
стремился к созданию русской национальной научной, технической
терминологии. В 1736 г. писал: «...чужестранных слов наиболее
самохвалные и никакого языка не знающие секретари и подьячие
мешают, которые глупость крайную за великой себе разум почитают, и
чем стыдится надобно, тем хвастают»43. В этих словах ясно и четко
сформулировано отношение к излишеству в употреблении иностранных
слов, каким «грешили» и Петр I, и ближайшие его последователи.
Татищеву же принадлежат первые опыты составления словаря
русского языка. Известен не один словарь прежних времен до Татищева,
но это все были словари двуязычные или трехъязычные, словари для
перевода. В первых словарях, «Азбуковниках» пытались объяснить
малопонятные среднему читателю древние слова старославянского
происхождения, распространенные в старых книгах. Далее возникли
двуязычные словари: русско-польские, русско-шведские, позже руссконемецкие, русско-латинские и латинско-русские. Наконец, издается
«Лексикон треязычный» — греко-славяно-латинский букварь Ф.
Поликарпова. Такие словари должны были помочь изучить иностранный
язык, найти смысловые эквиваленты между иностранными и русскими
словами. Несомненно, работа над этими словарями позволяла точнее
определить значение русских слов через подбор синонимов и уяснение
соотношения их с иноязычными словами. Однако составители
яснил Антиох Кантемир 1730 году. Спб. 1740.
5
Цит. по кн.: Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка, ч.
2, вып. 2. М., 1948, с. 89.
иностранных словарей не задумывались над нормализацией, отбором
лексики русского языка. Наоборот, в поисках адекватного перевода чужой
речи они иногда сочиняли небывалые, чудовищные русские слова,
которые за пределы того или иного словаря не выходили, т. е. никто
никогда их не употреблял.
См.: Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла Парижской Акаде
мии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъ
42
357
Татищев первым составляет такой словник, который должен вмещать
самые
необходимые,
общеизвестные,
общеупотребительные
и
неоспоримые русские слова. Он предназначал этот словник для того,
чтобы, включая в него слова всех языков, известных в Российской
империи, составить многоязычный словарь языков народов тогдашней
России. Серьезно задумываясь над кругом самых необходимых, самых
важных слов, которые должны быть во всяком языке, он стремился к
выделению основной, незыблемой, наиболее ценной части в словарном
составе языка.
Несколько позже вступает в русскую литературу В. К. Тредиа-ковский
(1703-1768), но и его, так же как Кантемира и Татищева, называют
продолжателем и защитником дела Петра в 30-40-е годы ХѴШ в. Правда,
позже Тредиаковский изменит идеалам и симпатиям своей молодости и
станет одним из врагов петровских традиций, но юный Тредиаковский
был, несомненно, единомышленником и Кантемира, и Прокоповича, и
Татищева.
Если в литературе XVIII в. и были произведения, авторы которых
вышли из посадских и крестьян, то все же это была еще анонимная
литература, имен авторов из «третьего сословия» мы не знаем. И потому
иногда говорится, что Тредиаковский был первым разночинцем в
дворянской литературе XVIII в.
Сын астраханского священника, Тредиаковский был отдан отцом в
школу, основанную католиками-миссионерами. Там он изучил в
совершенстве латынь и французский, и это определило всю его
дальнейшую судьбу. Затем Тредиаковский убегает в Москву и поступает в
Славяно-греко-латинскую академию. В 1726-1730 гг. он живет в Голландии
и Франции, учится в Сорбонне. Первый литературный опыт
Тредиаковского — перевод аллегорического романа П. Тальмана «Езда в
остров Любви» (1730). Роман относился к литературе конца XVII в.,
которая в Париже уже считалась устаревшей.
Это была эротическая книга, но написанная в свойственной придворной
французской литературе того времени условной, символической манере.
В России роман имел громадный успех. Нашему дворянству после
средневековых повестей, после ученых, нравоучительных и исторических
сочинений, к чтению которых старался приучить русских Петр I,
легкомысленная, игривая книжка пришлась как нельзя более по вкусу. В
письмах к Шумахеру, секретарю Академии наук, от которого зависела
публикация перевода, Тредиаковский подробно рассказывает о том, как
358
он стал модным писателем, как его наперебой приглашали из одного
дома в другой, заставляли читать книгу, просили списки, а когда роман
был издан — печатные экземпляры; книга понравилась при дворе, ее
похвалили даже некоторые представители духовенства, хотя нашлось и
немало суровых критиков44.
Молодой Тредиаковский был полон оптимизма в своем намерении
пропагандировать в России те воззрения на язык, литературу, те
литературные вкусы, какие он вынес из Парижа. Видя главных своих
противников в тех, кто защищает традиции допетровской православной
Руси, враждебен всему, что идет из Западной Европы, он был убежден,
что путем изучения французского языка, широкого ознакомления с
литературой и наукой Франции можно будет достичь быстрого
сближения с ее прекрасной культурой. В литературной борьбе, которая
началась у нас в 30-х годах и длилась почти до конца XVIII в.,
Тредиаковский занял сперва самую крайнюю позицию, призывал к
смешению книжного языка с просторечием. В предисловии к своему
переводу книги «Езда в остров Любви» он писал: «На меня, прошу вас
покорно, не извольте погневаться (буде вы еще глубокословныя
держитесь славенщизны), что я оную не-славенским языком перевел, но
почти самым простым русским словом» и продолжает: «...язык
славенский в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши читая
не разумеют»45.
Таким образом, поэт провозглашает полный отказ от славянских
традиций, призывает писать простым разговорным языком. Действительно, и в переводе романа, и в некоторых других сочинениях мы
видим, что Тредиаковский (как и Кантемир) стремится к обыденной,
разговорной фразеологии реалистического характера. Он охотно
употребляет поговорки, пословицы или подобные пословицам
выражения, даже грубоватые: «Охота пуще неволи; Полно браниться,
пора помириться; Со скуки я пропадал; Чему быть, того не миновать; С
копылья сбился автор; Сам ни шкиля, как говорят, не умеет». Элементы
общеразговорной речи встречаются у него постоянно: «А буде кто тому не
верит (союз буде); Правда, да я лих (только) оную переводил; Ежели
творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть
(союз ежели, тогда еще не общелитературный, не нормативный).
' См.: Куник А. А. Сборник материалов для истории Императорской академии наук в XVII в., ч.
1, Спб., 1965, с. XIV.
45
Тредиаковский В. К. Соч., т. 3. Спб., 1849, с. 649.
359
Однако внимательный читатель легко заметит, что просторечие (как
тогда говорили) используется только для стилистической окраски, оно
цитатного характера, почерпнуто из записной книжки писателя, это вовсе
не его естественная, обычная речь. Такой вывод следует из того, что
просторечные элементы довольно редки и часто являются там, где мы их
совсем не ожидаем; с помощью просторечия автор пытается более
доходчиво выразить мысль, уже однажды высказанную другим, несколько
более высоким, книжным стилем. Гораздо более характерны для языка
ранних сочинений Тредиаков-ского неологизмы, причем неологизмы
славянского типа: глубокос-ловныя славенщизны, речеточцем хотел
себя показать, глупос-ловием моим, безъизвестие, неразгласно.
Все это объясняется тем, что подлинной близости у Тредиаков-ского с
народом, даже со средним городским классом, никогда не было. Вырос он
в духовной семье, значит, с детства привык к старому московскому
литературному языку; потом жизнь за рубежом, знакомство с
европейскими языками. Но под влиянием передовых людей того времени
ему во что бы то ни стало хотелось участвовать в становлении
национального языка (он пишет: «Может статься, что вы не будете
довольны разумом моих виршей. Того ради, прошу, хотя оных рифмы за
благо принять, ибо они весьма во всем прямые русские»'). Это стремление
показать себя русским и побуждало его включать в свои сочинения
элементы разговорного языка средних классов. Было бы, конечно,
преувеличением сказать, что, кроме славянизмов и таких фольклорных
вставок из народной речи, в произведениях Тредиаковского не отразился
общий язык. Однако чем дальше, тем влияние разговорного языка все
меньше.
1
Тредиаковский В. К. Соч., т. 3. Спб., 1849, с. 650.
Язык Тредиаковского в гораздо большей мере характеризуют галлицизмы, элементы, усвоенные из французского языка и более или менее
удачно переданные русскими средствами. Он использует, скажем, такие
конструкции: «Мы нашлися близко одного острова (буквальный перевод
французской фразы); Чрез несколькое время страдал ('в продолжение
некоторого времени'); Я способно могу доказать математическим
методом, что я правду сказал (фраза соответствует французскому языку)».
Изредка, переводя, он употребляет и некнижные слова: «По моей воли я
знал и стонать и плакать, как то лутчему чинить веема надлежало, но в
любви притворяться довлеет немало. И знать, где быть в печали, и где
360
нада такать (такать — 'потворствовать своей возлюбленной')».
Тредиаковский довольно трудно и не очень удачно переводит слова
французского галантного стиля: сояиеНегіе ('кокетство') — глазолюбность;
то-сіекгіе ('девичья скромность') — очесливость; ѵгаі ріаіхіг ('полное
наслаждение') — прямыя роскоши; реіііх $оіп$ ('маленькие заботы') —
малые прислуги46.
Прожив десяток лет в России и поняв, куда его заведет близость к
поклонникам дела Петра, а может быть, испытав на собственной спине
тяжкое положение человека, который идет против течения,
Тредиаковский довольно быстро отказывается от всех реформаторских
мечтаний. В «Разговоре об ортографии» он подробно излагает свои новые
взгляды. Но надо сказать, что более кратко, хотя не столь четко, он их
выразил еще в 1735 г. в речи при открытии Российского собрания
(собрания переводчиков при Академии наук). Он говорил тогда, что
работа Российского собрания должна быть направлена на очищение
русского языка на основе изучения языка царского двора и духовного
красноречия47. Теперь, в 1748 г., когда эти новые мысли, благонамеренные
и сулящие ему безбедную жизнь, окончательно прояснились в его голове,
он определяет свою позицию так: «С умом ли общим употреблением
называть, какое имеют деревенские мужики, хотя их и больше, нежели
какое цветет у тех, которые лучшую силу знают в языке? Ибо годится ль
перенимать речи у сапожника или у ямщика? А однако все сии люди тем
же говорят языком, что и знающие»; «большая часть людей не пахотники,
но учтивые граждане, а искуснейшая; не неучи грубые, но науками
просвещенные, обе ж не две разные, но одна и та ж, что до важности. Ибо
лучше полагаться в том не знающих и обходительством выцвеченных
людей, нежели на нестройную и безрассудную чернь»1.
Поэтому и в переводах, и в оригинальных литературных произведениях Тредиаковского позднейшей поры исчезают и те немногочисленные элементы общего разговорного языка, какие он охотно
использовал в молодости. Его язык становится все более тяжеловесным,
таким, какой он называл «глубокословныя славенщизны». Правда, даже в
предисловии к роману «Езда в остров Любви» мы встречаем постоянно
сие, неполногласные формы, даже один раз оборот «дательный
самостоятельный»: «Отходящему от них встре-тилася мне на дороге одна
См.: Благой Д. Д. История русской литературы XVIII в. М., 1946, с. 102.
См.: Тредиаковский В. К. Соч., т. 1, с. 257-268.
Там же, т. 3, с. 214,220.
46
47
361
жена весьма пригожа», но там это была только дань старой литературной
традиции. В позднейших сочинениях Тредиаковского, например в «Трех
рассуждениях о трех главнейших древностях российских», мы имеем
почти такой же язык, как у церковных проповедников: «Я предприемлю в
сем перьвом разсуждении показать с довольною вероятностию, что
словенский язык первенствует пред тевтоническим». Язык этой книги
характеризуют слова, общие русскому и старославянскому языкам, но в
том значении, в каком они свойственны не русскому языку, а только
древним переводам: в последния времена Израильтеския работы, где
работы — 'рабство, порабощение'. Он употребляет здесь и редкие для
русского разговорного языка грамматические формы, например, краткие
причастия прошедшего времени: пришедъ, такие причастные и
деепричастные формы, как дая (вместо дающий), такие формы, как всуе,
прочетъ и др.
Не удивительно, что теперь Тредиаковский не только перестал быть
модным писателем, но стал всеобщим посмешищем дворянских
литераторов; он стал персонажем комедий, эпиграмм. Современные
исследователи стремятся объективно разобраться в противоречиях в
творчестве поэта, опираясь при этом на доброжелательные слова,
сказанные о Тредиаковском Пушкиным.
В оценке литературных опытов Тредиаковского современники были
правы; нас же привлекают его научные и переводческие работы. Он начал
свою переводческую деятельность как штатный переводчик Академии
наук и не волен был выбирать, что переводить. Но в зрелые годы
академик Тредиаковский уже переводит только то, что считает
необходимым ввести в русскую литературу. Его большой заслугой
является перевод политико-аллегорического романа Д. Барклея
«Аргенида», написанного в XVII в. (в нем автор пытался давать советы
монарху). Такой же политический, нравоучительный смысл имела и
поэма Тредиаковского «Тилемахида», построенная целиком на книге Ф.
Фенелона «Приключение Телемака». Наконец, переводя книги по древней
истории, Тредиаковский хотел противопоставить всем низостям и
подлостям чиновничье-монархического режима в России древнюю
римскую и греческую вольность и народоправство. Однако тяжеловесный
язык, сложнейшие периоды, нарочито (как думают некоторые
исследователи) нарушенный нормальный порядок слов — все это
чрезвычайно затрудняло чтение, делало доступными переводы
Тредиаковского только для немногих, наиболее образованных людей.
362
Научные работы Тредиаковского имеют историческое значение.
Прежде всего это известный трактат «Новый и краткий способ к
сложению российских стихов», в котором изложены причины, побуждающие отказаться от старого силлабического стиха и перейти на
новую систему стихосложения, основанную на правильном чередовании
ударных и неударных слогов, силлабо-тоническую. Но Тредиаковский
остановился на полпути, не сумев довести реформу стиха до конца. Это
сделал М. В. Ломоносов и в своих теоретических сочинениях, и в
творческой практике. Причина здесь была та же, в силу которой
Тредиаковскому не удавалось писать простым русским языком, хотя он и
стремился к этому. Основой тонического стихосложения была традиция
народной песни, народного стиха. Для Тредиаковского фольклор был
таким же выученным, довольно далеким и в значительной мере чужим
материалом, как старославянская или иноязычная книжность. Ломоносов
вырос в крестьянской среде и с детства знал народное творчество.
«Разговор об ортографии», напечатанный в 1748 г., представляет
огромный интерес для историка русского языка, потому что содержит
сведения о русском произношении той эпохи. Однако позиция
Тредиаковского — защита фонетического принципа в правописании как
основного и наиболее подходящего для русского языка — ошибочна. Она
была отвергнута еще его современниками. Этот трактат важен лишь как
исторический документ, отразивший определенный момент развития
русской теории правописания, но его теоретическое содержание весьма
несостоятельно.
В последние годы жизни Тредиаковский написал трактат, который
был опубликован лишь после его смерти, «Три рассуждения о трех
главнейших древностях российских» («О первенстве сла-венского языка
пред тевтоническим», «О первоначалии россов» и «О варягах руссах
славенского звания, рода и языка»). Эта книга сейчас представляет
интерес разве только для того, чтобы показать, как развились история и
филология с конца XVIII — начала XIX в. Основой аргументации
Тредиаковского, кроме цитирования польских, латинских, греческих и
других авторов с полным доверием к каждому их слову (а во второй
половине XVIII в. критика исторических документов стояла уже в
европейской и русской науке достаточно высоко — труды Татищева, хотя
были написаны на несколько десятилетий раньше этого трактата, были
гораздо выше в отношении критики исторических источников), но весьма
произвольной трактовкой, служит этимология местных названий,
363
этнических терминов, собственных имен (амазоны, сарматы, скифы,
варяги и др.)48. (Я должен с огорчением сказать, что не так давно проф. П.
Я. Черных выступил с этимологией слова варяг, очень близкой к
этимологии Тредиаковского49.)
Приведу, например, любопытное замечание филологического
порядка, в частности объяснение нескольких народных этимологии
русского языка. «Равно как солдатство наше из Раст-Таг (КавИа^ — Б. Л.)
немецкого слова, значащего отдохновения день, сделало по нашему
роздых, неупотребительное прежде слово, соглашающееся токмо звоном
с Раст-Таг; или как простолюдины читаделлу, ита-лиянское слово,
называют по своему чудоделом для сходства ж в звоне (пользуясь
сходством звучания)»50.
На деятельности Тредиаковского ярко сказалась перемена в политических и социальных отношениях середины XVIII в. — отход от
политики Петра и его сторонников, стремившихся создать крепко
сплоченное государство под господством деловых людей. Дворянство в 4060-х годах достигло большого успеха в том, чтобы вернуть себе прежние,
допетровские привилегии, освободиться от обязательной службы,
принудительного
образования,
закрыть
доступ
к
высоким
государственным должностям разночинцам, усилить эксплуатацию
крестьян и отнять все те права, какие сумело добыть при Петре
купечество и мастеровой люд. Эта политическая реакция, тяжело
отразившаяся на положении среднего сословия, буржуазии, сказалась и
на развитии национального языка. Снова, как и в допетровскую эпоху,
дворяне выступают за резкое различие языка господ и холопов. Это
стремление правящих классов противопоставить себя по языку народу
проявляется в галломании, в отказе от национального языка, в том, что в
быту дворяне все больше переходят на французский язык. Реакция
сказывается и в новом походе духовенства против прогрессивной
литературы, против науки, против светской литературы XVIII в.
Литературы на общенародном национальном языке становится все
меньше, а книг церковных или написанных на жаргоне дворян все
больше.
См.: Тредиаковский В. К. Соч., т. 3, с. 317-540.
См.: Черных П. Я. Этимологические заметки. Варяг. — «Филологические науки», 1958, №
І.Прим. ред.
50
Тредиаковский В. К. Соч., т. 3, с. 325.
48
49
364
Ломоносов в середине XVIII в. борется, как и Кантемир, как и Татищев,
как и молодой Тредиаковский, за внедрение в науку, литературу
разговорного, общего всему народу языка. Однако дело Ломоносова в
полной мере было завершено только в эпоху Пушкина 51.
Роль М. В.Ломоносова в развитии русского
литературного языка
Короче всего можно определить значение трудов М. В. Ломоносова,
сказав, что он был подлинным продолжателем дела Петра I. Петр
крутыми мерами, иногда жестокими, но почти всегда крайне необходимыми сумел покончить со следами средневековья на Руси.
Неприкрытая борьба с церковью, стремление расширить изучение
естественных наук и тем поднять промышленность, технику, военное
дело, наконец, большой интерес к искусствам — все это отстаивал Петр. И
все это с большой убежденностью и талантом пропагандировали
продолжатели дела Петра, в том числе А. Д. Кантемир, В. К.
Тредиаковский, но более всего М. В. Ломоносов (1711-1765).
В буржуазной науке довольно долго была распространена такая
концепция: Ломоносов — придворный поэт, идеолог елизаветинского
«просвещенного» (в кавычках, потому что он был весьма мало
просвещенный) абсолютизма; Ломоносов — идеолог реакции, которая
характеризует середину и вторую половину XVIII в. Такую ложную точку
зрения разделял даже Г. В. Плеханов52. Сильное влияние этой концепции
сказывается и в работах некоторых советских ученых. Например, проф. П.
Н. Берков в книге, посвященной литературной полемике Ломоносова,
Сумарокова и Тредиаковского, дает неправильную оценку и
характеристику деятельности и роли Ломоносова (хотя эта книга
См.: Аверьянова А. П. Рукописный лексикон Татищева. — «Уч. зап. ЛГУ», 1957, № 197, вып. 23;
Веселитский В. В. Из наблюдений над языком А. Д. Кантемира. — В кн.: Процессы
формирования лексики русского литературного языка. М. — Л., 1966; Вомперский В. П.
Стилистическая теория В. К. Тредиаковского. — В его кн.: Стилистическое учение М. В.
Ломоносова и теория трех стилей. М., 1971; Калачева С. В. Сатиры Кантемира. Автореферат
канд. дисс. М., 1963; Тимофеев Л. И. Кантемир и развитие силлабического стиха. Реформа
Тредиаковского и Ломоносова. — В кн.: Очерки теории и истории русского языка. М., 1958;
Трунев Н. В. Кантемир в истории русского литературного языка. Автореферат канд. дисс. Омск,
1952. Прим. ред.
52
См.: Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Кн. 2. — Соч., т. 21. М.—Л., 1925, с.
141-151.
51
365
представляет научную ценность: в ней впервые использованы материалы
из архива Академии наук)53.
Однако деятельность Ломоносова как придворного поэта не должна и
не может ни в какой мере заслонять остальных его интересов и дел и
определять наше к нему отношение. Ломоносова надо прежде всего
сопоставлять с И. Т. Посошковым. И в том, что Петровская эпоха
породила двух столь замечательных ученых и общественных деятелей,
ярче всего проявляется положительное значение деятельности Петра I.
За несколько месяцев до смерти в черновике письма И. И. Шувалову
Ломоносов писал: «Много я молчал, много снес, во многом уступал. За то
терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились
россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти: пожил,
потерпел к знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». А вот как писал
о Петре I Посошков: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем
трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию
не много, он на гору аще и сам-десят тянет, а под гору миллионы тянут, то
како дело его споро будет?»; «... откуду ни посмотришь, нет у великого
государя прямых радетелей, но все судьи криво едут»54. Из письма
Ломоносова к одному из придворных вельмож: «За общую пользу, а
особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного
восстать за грех неставлю. (...) Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба
моего с непри-ятельми наук российских бороться, как уже борюсь
двадцать лет; стоял за них смолода, на старость не покину» 55. Ср. у
Посошкова: «Я от юности своея был таков и лутче ми каковую пакость на
себе понести, нежели, видя что не полезно, умолчати»56. В «Истории академической канцелярии» Ломоносов писал, что честь российского народа
требует, чтобы доказал он способности свои в науках, а не только в
военной храбрости.
Труды Ломоносова способствовали громадному сдвигу в развитии
почти всех наук. Несколько верных замечаний о значении Ломоносова
высказал А. С. Пушкин, хотя в целом он следует за А. Н. Радищевым, и
многие суждения теперь представляются нам данью времени. В эпоху
Радищева еще слишком памятна была та чрезвычайно острая полемика о
путях развития русской литературы и русского языка, какую вел
См.: Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750-1765. М.-Л., 1936.
Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1937, с. 179, 176.
55
Ломоносов М. В. Поли. собр. соч., т. 10. М. — Л., 1957, с. 554.
56
Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве, с. 281.
53
54
366
Ломоносов с литераторами своего времени. Пушкин, как и Радищев,
называет Ломоносова напыщенным поэто-м57. Но такое суждение,
основанное на одах Ломоносова, несправедливо, так как этот род
литературной деятельности, конечно, не был основным для Ломоносова,
он был вынужденным, как и сочинение надписей для иллюминаций и
рисунки вензелей для придворных фейерверков. Но все же ряд суждений
Пушкина стоит повторить.
«Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею, и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на
высокоторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением
говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке,
который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает...
Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении. Смотрите
письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.»58. Далее Пушкин приводит
письмо И. И. Шувалову, перечень работ Ломоносова и продолжает:
«Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина;
его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего
характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая
Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал
сатиры на
Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его
бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно.
Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирал
за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шле-цера, не смели при
нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с
Дмитрием Сеченовым по случаю Гимна бороде, не напечатанного ни в
одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости
поэта, как и о нетерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был
добродушен. (...) Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал
возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего
состояния (хотя, впрочем, по чину, он мог быть им и равный). Но зато
умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих
меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о
См.: Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург. — Поли. собр. соч., т. П. М., 1949, с.
249.
58
Пушкин. Поли. собр. соч., т. 11, с. 249.
57
367
торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому
Шувалову...»59.
Письмо, о котором упоминает Пушкин, написано по поводу
требования Шувалова помириться с Сумароковым. Ломоносов отказывается выполнить это требование. Надо сказать, что Пушкин
цитирует письмо неточно, сокращает, поэтому я приведу слова Ломоносова полностью: «Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И
только у господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Буде он человек
знающий, искусный, пускай делает пользу отечеству; я по моему малому
таланту также готов стараться, а с таким человеком обхождения иметь не
могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не
смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякия страсти ныне
вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земных
владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который
мне дал смысл, пока разве отнимет»60.
Пушкин пишет и о таком факте: «В другой раз, заспоря с тем же
вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я
отставлю тебя от Академии!» — «Нет, возразил гордо Ломоносов, разве
Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель
похвальных од и придворных идиллий!»61
Если бы при оценке трудов Ломоносова его критики исходили не из
поздравительных од, а из его борьбы за национальную русскуюкультуру,
борьбы за честь и достоинство русского народа, борьбы против суеверия и
мракобесия князей церкви, борьбы против вельмож, — тогда их оценка
была бы, конечно, более справедливой.
Суждение А. И. Герцена о том, что Ломоносов, уйдя с головой в науки
и достигнув в своих занятиях больших успехов, оторвался от народа, что
пропасть отделяла его от народа62, также неверно, потому что Ломоносов
всегда все свои труды предназначал не для знати, о духовных интересах
которой он был весьма невысокого мнения, а именно для народа. Он
неоднократно повторял, что русский народ в недалеком будущем еще
покажет себя, проявит свои громадные способности. А во многих
гуманитарных сочинениях Ломоносов наглядно показал, что его тесная
Там же, с. 253-254.
Ломоносов М. В. Поли. собр. соч., т. 10, с. 546.
61
Пушкин. Поли. собр. соч., т. 11, с. 254.
62
См : Герцен А. И. О развитии революционных идей в России. — Поли. собр. соч. в 30-ти т., т.
7. М., 1956, с. 227.
59
60
368
связь с крестьянством не порвана, что она осталась на всю жизнь. Читайте
внимательно «Российскую грамматику», и вы увидите, что большинство
примеров в любом ее разделе — в фонетике, морфологии, синтаксисе,
краткой стилистике, в общем введении — из крестьянской речи, из
народной речи, а не дворянской. А все разделы его записки «О
размножении и сохранении русского народа» посвящены жизни и быту
деревни, крестьян63. (Он пишет о диком обычае стариков жениться на
молодых девушках, который поощряется помещиками, о насильственной
выдаче замуж пожилых девушек за несовершеннолетних мальчишек,
опять-таки по произволу и воле помещика; он говорит о голоде,
сменяющемся диким разгулом на праздниках, что сокращает век
крестьянина, о диких злоупотреблениях священников своей властью и
авторитетом.) И в исторических сочинениях Ломоносова речь всегда идет
прежде всего о российском народе, о народных массах.
На первое место, конечно, необходимо поставить громадные научные
и философские заслуги Ломоносова, ибо он был основателем
материализма в русской философии, «передовую философию и науку о
природе он рассматривал как мощный рычаг в развитии производительных сил России, в подъеме материального благосостояния и
культурного уровня своего народа»64. Ломоносову принадлежит целый
ряд крупнейших научных открытий: 1) он первым открыл закон
сохранения вещества и движения (однако это открытие приписывается
Лавуазье, хотя приоритет Ломоносова доказан); 2) задолгодо других
физиков он сформулировал механическую теорию природы теплоты; 3)
он создал атомно-молекулярное учение, которое не утратило своего
значения до сих пор; 4) Ломоносов впервые правильно объяснил световые
явления в эфире; 5) он первым объяснил природу электричества; 6) его
трактат «О слоях земных» и сейчас еще представляет большой интерес; 7)
им созданы основы физической химии; 8) Ломоносов много содействовал
теоретической разработке проблем металлургии; ему принадлежат
теории происхождения металлов, минералов, нефти, угля, гор и морей.
Наконец, им впервые сформулирован тезис о том, что вся природа в
целом испытывает глубочайшие изменения. Ломоносов постоянно
стремился
применить
все
научные
достижения
в
практике
промышленности.
63
64
См.: Ломоносов М. В. Избр. философ, произвед. М. — Л., 1950.
Там же, с. 45.
369
Громадная реформаторская деятельность в области различных наук
привела Ломоносова к необходимости создать русскую научную и
техническую терминологию: «...принужден я был искать слов для
наименования некоторых физических инструментов, действий и
натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны,
однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее
будут».65 Он ввел в русский язык такие научные термины, как материя,
электричество, градус, атмосфера, термометр, воздушный насос,
возгорание, трясение, обстоятельство и т. д.
Нас, понятно, больше интересует деятельность Ломоносова в области
гуманитарных наук. И здесь, как и в естествознании, он сделал
поразительно много за свою короткую жизнь. Он составил учебник
истории для школ «Краткий Российский летописец с родословием» и
приступил к созданию многотомной русской истории, но успел написать
лишь первый том — «Древнюю Российскую историю» (до 1054 г.). Из
филологических сочинений надо отметить две работы по риторике, а
также «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»
(опубл. 1757). В этом трактате с классической четкостью сформулирована
его теория трех «штилей» (к ней мы еще вернемся). Интересовался
Ломоносов и российским стихосложением; теорию стиха он
разрабатывает в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) и
в «Российской грамматике» (1755, опубл. 1757). В рукописях Ломоносова
сохранилось много материалов, свидетельствующих о широте его
языковедческих и литературоведческих интересов. Остался, например,
перечень задуманныхим работ: 1) о сходстве и переменах языков; 2) о
сродных российскому языку и о нынешних диалектах; 3) о славенском
церковном языке; 4) о простонародных языках; 5) о преимуществах
российского языка, о чистоте и красоте российского языка; 6) о
синонимах; 7) о новых российских речениях; 8) о чтении книг старинных и
о речениях нестеровских, новгородских и пр. лексиконом незнаемых; 9) о
лексиконе; 10) о переводах. Найдены черновики сравнительной
грамматики славянских и других родственных языков.
Характерно, что почти в то же время, даже позднее, после смерти
Ломоносова, Тредиаковский в своих трактатах по истории русского
народа касается вопроса о родстве языков и пытается доказать родство
русского языка не только с языками славянскими, но и с языками
65
Ломоносов М. В. Избр. философ, произвед., с. 127.
370
древнееврейским и татарским66. Однако Ломоносов еще задолго до
работы Тредиаковского верно разграничил языки. Он говорит о родстве
русского языка со славянскими языками — польско-богемским (чешским)
и болгарско-моравским (сербским), — говорит о родстве с греческим и
латинским (что неоспоримо), с германскими и романскими языками,
происшедшими из латыни, с курляндскими языками (так называл
Ломоносов литво-латышские языки). Ломоносов совершенно точно
определил круг родственных индоевропейских языков. В числе
неродственных русскому языков он как раз называет древнееврейский,
татарский, финские языки. Таким образом, задолго до работ У Джонса и
Ф. Боппа Ломоносов установил родственные связи русского языка с
другими индоевропейскими языками. Вспомним, что он не был
языковедом и не имел возможности уделять вопросам лингвистики
достаточно внимания.
Перед составлением «Российской грамматики» Ломоносов как
опытный естествоиспытатель проделал большую подготовительную
работу экспериментального характера. Что побуждало его к этому? Вот
что он пишет в черновиках «Слова благодарственного...»: «Желание. 1. И
российское бы слово от природы богатое, сильное, здравое, прекрасное,
ныне еще во младенчестве своего возраста... растущее и укрепляющееся,
превзошло б достоинство всех других языков. 2. Желание, чтобы в России
науки распространились»67; «хотя они (россияне) знают язык и без
грамматики, однако главное понятие и правописание (нужно изучить). И
они свою пользу иметь могут потому, что хоть природное знание языка
много может, однако грамматика показывает путь доброй натуре» 68. В
первых же главах своей Грамматики Ломоносов заявляет, что основа его
работы — наблюдение над употреблением.
Еще в детстве Ломоносов потихоньку от взрослых, которые считали
зловредным его увлечение книгами, штудировал «Грамматику...» М.
Смотрицкого69.
См.: Тредиаковский В. К. Три рассуждения о трех главнейших древностях российских. —
Соч., т. 3. Спб., 1859, с. 319-540.
67 п
омоносов М. В. Соч., т. 1. Спб., 1847, с. 628.
68
Магіеі А. МісЬеІ Ьотопозоѵеі 1а 1ап§ие ІіКёгаіге ш$$е. Р., 1933, р. 39.
69
Я уверен, что ни один из нас не одолел бы этого огромного труда, по крайней мере, очень
скоро признал бы свою полную неспособность понять содержание этой премудрой книги. Я
могу так говорить на том основании, что читал эту книгу уже далеко не студентом, и все-таки
это было, пожалуй, самое мучительное чтение из всей древнерусской письменности и
литературы. Должен сказать, что мне и теперь приходится иногда трижды и четырежды
перечитывать какую-нибудь фразу Смотрицкого, и я не всегда уверен, что я ее до конца и как
66
371
Ломоносов вспоминал, что с Грамматикой Смотрицкого он не
расставался чуть ли не до тех пор, когда стал академиком, т. е. почти всю
жизнь. Эта Грамматика представляла собой отнюдь не учебник в нашем
понимании. Это целая энциклопедия гуманитарных наук: там изложены
и некоторые основы логики, и грамматика, и просодия, т. е. метрика, и
стилистика, и весьма обстоятельно правописание, и орфоэпия
старославянских текстов. Как понял это Ломоносов в зрелые годы, когда
он уже приступил к составлению «Российской грамматики», труд
Смотрицкого не явился результатом исследования славянского языка, а
был только попыткой влить русское содержание в греческую грамматику,
т. е. воспроизвести всю структуру — не только в основном, но и в деталях
— греческой грамматики и наполнить ее славянскими примерами.
Поэтому знакомство с Грамматикой Смотрицкого позволило Ломоносову
не только более верно понять древнерусские тексты, но прежде всего
быстро изучить греческий и латинский языки. Поэтому нас не удивляет,
что Ломоносов, поступив в Славяно-греко-латинскую академию, быстро
добился блестящих успехов по латыни и греческому — очень скоро стал
не только читать древних авторов, но и свободно писать и говорить на
латинском и греческом языках.
Освободиться от всех дурных традиций Грамматики Смотрицкого
было чрезвычайно трудно, или скажем так: легко было писать русскую
грамматику тому, кто не читал Грамматики Смотрицкого. Например, Г.
Лудольф, который не знал никаких славянских грамматик, в 1696 г.
составил хорошую русскую грамматику, правда краткую70. Он подошел к
русскому языку, как естествоиспытатель, — собрал материал,
систематизировал его — и получилась коротенькая, но верная
грамматика русского языка. Ломоносов, вероятно, не видел этой книги,
потому что издана она в Оксфорде небольшим тиражом и в Россию
дошло едва ли более десятка экземпляров, которые хранились в самых
крупных библиотеках или у богатых людей. А все грамматики, изданные
в России — после Смотрицкого и до Ломоносова, — рабски следовали за
формулировками, классификациями и всем построением книги
Смотрицкого. Несомненно, что преодолеть эту средневековую
следует понимаю. Этот трактат гораздо легче было бы читать, если бы он был написан на
латинском или греческом языке, потому что Смотрицкий из тех ученых, которые мыслили полатыни и по-гречески и переводили себя на славянские языки, причем довольно плохо.
70
См.: Лудольф Г. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. Подгот. к изд., пер., вступ, статья и
примеч. Б. А. Ларина. Л., 1937.
372
грамматическую традицию помогло знакомство с самыми удачными и
интересными грамматиками западноевропейских языков. Французская
философская всеобщая грамматика Пор-Рояля (1660) обусловила общий
план Грамматики Ломоносова. Однако Ломоносов ушел далеко вперед по
сравнению с Грамматикой Пор-Рояля. Французская лингвистическая
мысль поднялась до очень важного обобщения: до утверждения того, что
существуют какие-то общие начала в структуре всех языков человечества,
что возможно создать единую грамматику человеческого языка. Авторы
этой Грамматики стремились привести в соответствие логику с
грамматикой, мышление с речью, указать наиболее правильные и
простые, рациональные, безупречные способы выражения мысли и
отвергнуть все то, что в языках противоречит логике, противоречит
четким рациональным построениям.
Ломоносов пошел значительно дальше. Он понял, что в каждом языке
наряду с элементами общечеловеческими есть черты своеобразные,
заслуживающие такого же пристального изучения, такого же уважения,
как и единые, всеобщие нормы языка. И Ломоносов разделил свою книгу
на части — общую и специальную. В общей части рассматриваются
основные грамматические категории во всех известных Ломоносову
языках (а он знал их очень много), а специальная часть — русская.
Отмечая нередко несоответствие конкретного речевого материала
идеальным нормам мышления, Ломоносов не призывает, как
французские рационалисты, к ломке и переделке языка в угоду логике.
Он, например, отмечает, что категория рода в русском языке
нерациональна. Более или менее понятно название живых существ
словами мужского и женского рода, но совершенно неразумным
представляется различие родовых форм в наименованиях неодушевленных предметов или отвлеченных понятий. Однако, указав на это
несоответствие логики и грамматики, Ломоносов настаивает на том, что
необходимо усвоить конкретные особенности заполнения родовых
категорий в русском языке. Ему представляется лишенным серьезного
основания образование категории двойственного числа. Откуда
двойственное число в русском языке? Исходя из того, что в живом языке
его нет, народ его не знает, Ломоносов высказывает такое предположение:
не пришли ли формы двойственного числа из греческого языка через
переводы. Теперь историки русского языка так не думают, но методика
Ломоносова заслуживает полного нашего признания. Если какая-то
категория известна только древней письменности, не находит опоры ни в
373
каких современных народных говорах, то древность такой категории
может быть взята под сомнение. Вполне законно объяснить ее
воздействием другого языка через литературу. Но если бы в то время
была более разработана сравнительная грамматика славянских языков, то
наличие в них категории двойственного числа убедило бы Ломоносова в
том, что греческий язык тут ни при чем.
Первые наставления, посвященные вопросам орфографии и орфоэпии, могут быть правильно поняты, только если их изучать после
«Разговора об ортографии» Тредиаковского. Разумеется, Ломоносов
проштудировал очень внимательно работу Тредиаковского. И если мы
будем читать обе работы в исторической последовательности, то увидим,
что почти в каждом параграфе своего первого наставления Ломоносов
поправляет Тредиаковского или иронизирует над ним. И хотя
Тредиаковский всеми признается нашим первым филологом, а
Ломоносов почитался иногда (по крайней мере, в старой нашей истории
языкознания) за дилетанта в лингвистике, но тут все преимущества на
стороне Ломоносова. Во всех суждениях о нормах произношения и
правописания Ломоносов гораздо более прогрессивен, глубокомыслен и
проницателен, чем Тредиаковский. Скажем, Тредиаковский с ужасом
пишет: «...многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут:
проситца, молитца, вместо просится, молится»71. Из этого ясно, что
сам Тредиаковский именно так и произносил: ея (вместо ее), его (вместо
ево). А Ломоносов обязывает произносить почти так, как говорит народ, а
писать так, как требуется по разным соображениям.
Тредиаковский утверждает, что «умеющий человек несколько чужих
языков знает, что в каждом языке живущем есть два способа, как им
говорить. Первый употребляют люди знающие силу в своем языке; а
другой в употреблении у подлости и крестьян» и далее: «...и понеже
мужицкий и гражданский язык некоторые также мною одним
употреблением неправо называют; то я объявляю, что то токмо
употребление, которое у большей и искуснейшей части людей, есть точно
мною рожденное; а подлое, которое не токмо меня, но и имени моего не
разумеет, есть не употребление, но заблуждение, которому родный отец
есть незнание»72. В противоположность этому Ломоносов всегда и везде
ссылается на то, «как все говорят», имея в виду и простой народ, а не
только дворян.
' Тредиаковский В. К. Соч., т. 3, с. 223.
72
Тредиаковский В. К. Соч., т. 3, с. 208-209, 220-221.
374
Ломоносова упрекают часто в том, что он очень плохо справился с
классификацией глаголов, глагольных времен. Он насчитывает десять
времен русских глаголов — восемь от глаголов простых и два от сложных:
«§ 268. Времен имеют российские глаголы десять: осмь от простых да два
от сложенных; от простых: 1) настоящее — трясу, глотаю, бросаю,
плещу; 2) прошедшее неопределенное — трясъ, гло-талъ, бросалъ,
плескалъ; 3) прошедшее однократное — тряхнулъ, глотнулъ, бросилъ,
плеснулъ; 4) давнопрошедшее первое — тряхи-валъ, глатывалъ,
брасывалъ, плескивалъ; 5) давнопрошедшее второе — бывало трясъ,
бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ; 6) давнопрошедшее третие —
бывало трясывалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ; 7) будущее
неопределенное — буду трясти; стану глотать, бросать, плескать; 8)
будущее однократное — тряхну, глотну, брошу, плесну. От сложенных:
9) прошедшее совершенное, напр.: написалъ от пишу; 10) будущее
совершенное — напишу»73. Тут видовые категории не противопоставлены
категориям собственно временным.
Теперь лучше, чем во времена С. К. Булича и Е. Ф. Карского, мы знаем,
что категория вида русских глаголов развилась довольно поздно, и четкая
система выражения видов, видовых значений сложилась, по-видимому,
только к XIX в.; XVII в. ее еще не знает, это можно утверждать
категорически; XVIII в. был эпохой, когда система выражения видовых
значений русских глаголов только намечалась. Значит, Ломоносов в своей
Грамматике верно отразил то переходное состояние, когда формы
времени и формы вида еще не дифференцировались в полной мере. И
напрасно упрекают его за смешение этих категорий. В начальных главах
Грамматики сказано, что у русских глаголов три времени (настоящее,
прошедшее и будущее), а не десять; следовательно, Ломоносов не
смешивает
категории
вида и времени, а не видит еще
противопоставления форм вида и времени в конкретно существующей и
употребляющейся тогда в живом русском языке (при этом народном)
системе спряжений и отмечает как раз нерасчлененное выражение вида и
времени. Поэтому, указывая десять времен, он постоянно говорит о трех
— настоящем, прошедшем и будущем временах, но по-разному конкретизированных: прошедшее неопределенное, прошедшее однократное,
давнопрошедшее первое, давнопрошедшее второе, давнопрошедшее
третье, будущее однократное, будущее неопределенное, прошедшее
73
Цит. по кн.: Ломоносов М. В. Российская грамматика. — Поли. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952.
375
совершенное, будущее совершенное. Так что я считаю необоснованными
обвинения Ломоносова в том, что он не сумел разобраться в русских
глагольных временах и видах.
Насколько проницателен был Ломоносов в характеристике русских
грамматических форм показывает § 440 Грамматики: «Действительного
залога времени настоящего причастия, кончающиеся на щій,
производятся от глаголов славенского происхождения: вѣнчающій,
пишущій, питающій, а весьма непристойно от простых российских,
которые у славян неизвестны: говорящій, чавкающій».
В разделе синтаксиса Ломоносов делает очень тонкие замечания
относительно употребления имен. Но на этом я не буду останавливаться,
а задержу ваше внимание на различных употреблениях инфинитива.
Кроме основного значения инфинитива — как наименования действия
безотносительно к действующему лицу — он указывает на повелительное
значение: привести пред нас, пожаловать в чин, быть по сему (все
формулы взяты из высочайших повелений). Затем инфинитив
употребляется в сомнительном наклонении с приложением частицы ли:
бывать ли мне в отечестве,видать ли своих родителей. Существует
еще значение отчаяния: не бывать мне в отечестве, не видать своих
родителей. Неопределенное значение с приложением частицы было —
мне было говорить — имеет значение начинания, а быть с
приложением другого инфинитива значит принуждение: быть писать,
быть умереть. Эти формы, чисто народные, совсем не свойственные
языку дворянства, Ломоносов очень точно анализирует и определяет.
«Российскую грамматику» все должны прочесть. Просто стыдно
русскому филологу не знать этого замечательного трактата середины
XVIII в., который, несомненно, во многом опередил современные ему
грамматики западноевропейских языков и определил развитие русского
языкознания почти на сто лет.
В 1933 г. в Париже появилась книга А. Мартеля, где автор весьма
небрежно и часто просто неверно говорит о научной деятельности
Ломоносова. Он пишет так: «Трудно сказать, в чем было истинное
призвание Ломоносова, однако факт, что в науке он оставил след весьма
беглый, весьма скоро исчезнувший»74. Но затем Мартель утверждает, что
лингвистические исследования Ломоносова представляют, несомненно,
нечто совершенно исключительное и выдающееся в европейской науке
' Магіеі А. Міспеі Ьотопозоѵ еі 1а Іапдие Ііііёгаіге Ш55е. Р., 1933, р. 3.
376
XVIII в. Он считает, что Ломоносов чуть ли не на сто лет определил
состояние сравнительной грамматики индоевропейских языков, и
признает огромное значение «Российской грамматики».
Гораздо чаще, чем о «Российской грамматике» Ломоносова, упоминают у нас о его теории трех «штилей». Двоякого рода ошибки
накопились в комментариях к «Предисловию о пользе книг церковных в
российском языке». С одной стороны, ложнохвалебное отношение к
этому сочинению; говорится о том, что Ломоносов сделал великое
открытие, произвел громадную реформу в стилистике русского языка.
Другие утверждают, что смысл этой реформы был реакционный, что это
была попытка научно обосновать церковное красноречие, церковную
проповедь, преувеличить значение старой церковной письменности для
русского народа75.
На самом деле Ломоносов не совершил никакого открытия, ибо
теория трех «штилей» в славянском литературном языке была создана
еще в XVII в., а на Западе даже в XVI в. Ломоносов после окончания
Славяно-греко-латинской академии уехал на Украину, и там, в Киевской
духовной академии, он, изучая риторику и стилистику, познакомился с
учением о трех «штилях» славянского языка. В изложении Ломоносова
лексика, терминология теории трех «штилей» традиционны; новым
является лишь истолкование схемы76. Я обращу ваше внимание на
некоторые детали его рассуждения.
Деление на три стиля в старой риторике доломоносовского периода
ориентировалось на овладение особенностями литературных жанров, на
недопущение нарушений традиции использования языковых средств в
разных жанрах. Какой-то отзвук этого основного назначения схемы
сохранился и у Ломоносова. Он указывает, что высоким стилем надо
писать торжественные оды, героические поэмы, прозаичные речи о
важных материях; что в среднем стиле пишутся театральные сочинения,
стихотворные дружеские письма, эклоги, элегии; а низким стилем надо
излагать комедии, увеселительные эпиграммы, песни, прозаические
дружеские письма, описывать обыкновенные дела. Однако, как известно,
сам он не придерживался этого распределения стилей по жанрам, и ни
современники, ни преемники его не следовали этому строгому правилу.
См.: Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени, с. 178.
См.: Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка, ч. 2, вып. 2, с.
273-278.
75
76
377
Главная ценность этого трактата в том, что Ломоносов нашел форму,
чтобы спасти достижения Петровской эпохи в области культуры русского
литературного языка. Как вы помните, Петр I непримиримо боролся
против «славенщизны», против «темных» слов высокого «штиля»,
невразумительных переводов, против применения славянского языка в
формулировках законов, в военных донесениях и т.д.; он требовал писать
во всех жанрах простым и общедоступным языком. Ломоносов,
несомненно, готов был поддержать эту традицию, но не мог, потому что
он выступал в эпоху реакции против реформ Петра. Реставрация
феодальных понятий в литературном языке середины XVIII в. не
позволяла Ломоносову говорить об едином языке. Старославянский язык
снова пропагандировался как господствующий; в то же время Сумароков
и его сторонники пытались создать салонный жаргон дворянства, наполненный французскими, немецкими словами, заимствованными
остротами и каламбурами, и противопоставить его славянскому стилю
высокой литературы.
В таких исторических условиях Ломоносов объявляет, что в литературе нет и не может быть конкуренции между славянским и русским
языками. Славянский язык дал очень много ценного русскому языку,
вошел в него органически, но все же единственно возможным,
допустимым языком литературы является русский язык, а не славянский.
Поэтому в определении трех стилей речь идет только о том, в какой дозе
можно допускать славянский язык в сочинениях того или другого рода.
Цель Ломоносова — ограничить употребление славянского языка. Даже
определяя высокий стиль, он говорит о том, что и в нем нельзя
употреблять весьма обветшалых славянских слов, таких, как обаваю,
рясны, овогда, свѣнѣ. Правда, он также настаивает на необходимости
исключить из литературы слова бранные, грубые, но это вполне понятно.
Определение среднего стиля, наиболее подробное и обстоятельное,
совершенно ясно показывает, что именно средний стиль Ломоносов
считал основным, если не единственным, типом русского литературного
языка, имеющим будущее. Все его рассуждение и надо рассматривать как
пропаганду
среднего
стиля,
свободного
от
злоупотребления
славянизмами, очищенного от слов грубых, бранных, от вульгарного
словаря и фразеологии.
Я заканчиваю. По теории трех «штилей» сатира относится к низкому
стилю. Посмотрим, каков же языковой состав одной из наиболее ярких и
замечательных ломоносовских сатир — «Гимна бороде», написанного в
378
1757 г., когда Ломоносов особенно страдал от нападок церковников,
объявивших его чуть ли не антихристом за приверженность теории Н.
Коперника, за пропаганду физического объяснения явлений природы, в
чем отцы церкви видели — не без основания — проявление атеизма.
Не роскошной я Венере Не
уродливой Химере В имнах
жертву воздаю: Я похвальну
песнь пою Волосам, от всех
почтенным, По груди
распространенным, Что под
старость наших лет Уважают
наш совет. Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена77.
Как видим, выбор слов, построение фраз, фразеология отнюдь не
грубопросторечные. А ведь это образец низкого стиля. Наряду с
обычным языком: роскошная Венера, уродливая Химера и др. —
умеренно употреблены славянизмы: В имнах жертву воздаю.
О коль в свете ты блаженна,
Борода — глазам замена!
Люди обще говорят И по
правде то твердят:
Дураки,врали, проказы
Были бы без ней безглазы,
Им в глаза плевал бы всяк;
Ею цел и здрав их зрак.
Здесь опять стоят рядом блаженна, здрав, зрак и борода, дураки,
врали, проказы; такое сочетание с преобладанием обычной разговорной
речи Ломоносов считал характерным для среднего стиля.
Если кто невзрачен телом
Или в разуме незрелом;
77
Цит. по кн.: Ломоносов М. В. Избр. философ, произвед. М., 1950.
379
Если в скудости рожден,
Либо чином не почтен,
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!
Кроме взрачен, все остальное — простой средний русский язык. В
этом я вижу тоже ясное указание на то, что все рассуждение в
«Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» было лишь
тактическим ходом Ломоносова в защите русского национального языка
против
попыток
реставрации
старославянского
языка
как
78
господствующего в нашей литературе .
Указатель имен
Аванесов Р. И. 123 Аверьянова А.
П. 373 Аверьянова Г. Н. 345
Аврамов М. 358
Адрианова-Перетц В. П. 185, 341,
345
Александр Невский 186, 277
Алексей Михайлович 225, 309,
324, 356 АльМасуди 28 Аничков Е.
В. 214
Бабкин А. М. 351 БантышКаменский Н. Н. 201 Барклей Д.
371 Барсов Е. В. 183 Батый 164,276
Белинский В. Г. 189,365 Берков П.
Н. 374,385 Бестужев-Рюмин К. Н.
253 Билярский П. С. 21,260-262
Благой Д. Д. 369 Богданова В. А.
118 Боголюбова Н. Д. 121
Богородский Б. Л. 234
Болховитинов Е. 184,191 БоппФ.
379 Боровский В. И. 275 Боровский
Я. Е. 244 Брюкнер А. 185, 187, 239
Бубрих Д. В. 246 Буга К. 248
Булахов М. Г. 289 Буслаев Ф. И.
174,192,213,221,231
Бутович 3. И. 121
Бычков А. Ф. 246
ВалкС. Н. 117, 118, 285 Варлаам
Хутынский 118 Василевская Е. Л
117 Веселитский В. В. 373
Виноградов В. В. 7, 19, 210
Виноградова В. Л. 224 Винокур Г.
О теории трех стилей Ломоносова см.: Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В.
Ломоносова и теория трех стилей. М., 1971. Прим. ред.
78
О. 7 Вишневская Г. П. 345
Владимир Давидович 246
Владимир Мономах 7, 20, 23, 61,
63, 71, 86, 165, 168-182,190, 229,
230
Владимир Святославич 11,12, 27,
40, 60, 138, 142, 188 Волков Б. 358
Волкове. С. 322 Вомперский В. П.
373, 388 Воскресенский В. А. 174
ВостоковА. X. 192 Всеволод
Мстиславич 118 Всеволод
Святославич 221, 222 Всеволод
Ярославич 175
Герасимов Д. 315 Герцен А. И. 377
Гильфердинг А. Ф. 16 Глускина С.
М. 337 Голубовская Н. П. 84, 86
Горлин М. 185
Городцов В. А. 28
Горский А. В. 139
Горшкова К. В. 324
Горшкова О. В. 323
Греков Б. Д. 29, 56, 60, 84, 96, 116
Григорьев Ап. А. 351
Гринкова Н. П. 113
Гудзий Н. К. 185,215,219
Давыдов И. И. 191 Давыдова М. К.
335 Даль В. И. 234,239-242 Даниил
Заточник 20, 21,26, 63, 145, 186, 213,
214, 224-243, 251 Дашкова М. Ф. 353
Дени Ж. 294 Державин Г. Р. 375
ДерягинВ. Я. 322 Джонс У 379
Дитмар Мерзебургский 28
Дмитриев Л. А. 224 Дмитриев Н.
К. 294 Дмитрий Донской 212-213,
283 Донат 315 Драй-ХмараМ. 298
Епифаний Премудрый
Еремин И. П. 152,254
311-315
Жданов И. Н. 139 Житецкий П. И.
298
Зарубин Н. Н. 225,
Зиновий Отенский 307
226,
230
Иаков
140,203
Ибн-Фодлан 28
Ибн-Эль-Недимн 28
ИвакинП. М. 174
Иван III 225
Иван Александрович, псковский
князь 285 Иван Грозный 225, 281,
317-320 Игорь, Рюрикович 27, 29,
35, 36, 56 Игорь Святославич
185,188,191 Иларион 138-152, 154,
156, 165,
206, 257 ИльенкоВ. В. 289 Иоанн
Златоуст 307 Иссерлин Е. М. 236,
244 Истрин В. М. 22, 25, 32-40, 57,
59.
163, 226 ИстринаЕ.
С. 263
Калайдович К. Ф. 186
Калачева С. В. 373
Кандаурова Т. Н. 297
Кантемир А. Д. 362-367, 373, 374
Капралова С. Г. 297
Карамзин Н. М. 173,198, 201, 203,
212, 364 Каринский Н. М. 194198 Карский Е. Ф. 22, 64, 75, 78, 82,
99,
381
100, 262-267, 269, 384 Кафенгауз
Б. Б. 349-350 Каченовский М. Т. 21,
95, 184,189у
191
Киприан 18,304
Кирик 54
Кирилл (Константин) 21,28
Кирилл Туровский 54 КиринаЛ. Я.
351 Кириченко А. Г. 324
Клабуновский И. Г. 189 Климент
Смолятич 166 Ключевский В. О. 87,
88, 108 Кожина М. Н. 360
Колосов М. А. 192, 197 КорнееваПатрулан М. И. 64 Котков С. И. 356
Крымский А. Е. 126 Кудряшов К.
В. 219,221 Кузьмина В. Д. 189
Лаврентий 58,170-173,263
Лавровский Н. А. 34 Ладюкова А.
Е. 361 Ламанский В. И. 21 Лебедева
А. И. 248 Леже Л. 184 Леонтович Ф.
И. 89 Лер-Сплавинский Т. 247, 249
Лихачев Д. С. 162,185, 253-257
Ломоносов М. В. 7,20,21,136,311,
350, 391, 371-389
Лопатин В. В. 123
Лудольф Г. 381
ЛукаЖидята 140, 166
Лященко А. И. 199
Мазон А. 184-189,198, 222 Макарий
316 Макаров М. Н. 91 Маклер Р. С.
351 Максим Грек 18, 307
Максимович М. А. 21,190, 198, 239
Малиновский А. Ф. 183, 187, 201
Малышев 226 Маркс К. 189, 190,
299 МаррН.Я. 6 МартельА. 385
Матвеев И. И. 126 Матвеева-Исаева
Л. В. 130 МатьесенР. 172 МейеА.
268
Мейчик Д. М. 29 Менандр 35, 227
Мжельская О. С. 297 Миклошич
Ф. 34, 47, 49, 50, 53, 57 Миллер В. Ф.
15 Мстислав Володимирович 117
Мстислав Давидович 121 МусинПушкин А. И. 171,186, 187,
194, 198, 200, 201, 209, 212, 215
Муханов Л. А. 327
Напиерский К. Я. 121
Нестор 29, 30, 140, 152,154, 156,
203, 253, 257, 262 Никольский Н.
К. 10-12, 63, 157,
166, 253 Никон
102,257 Новиков Н.
И. 200
Обнорский С. П. 9, 19, 20, 22-25, 3234, 37, 38, 40-42, 44, 51, 53-55,
59,62, 63, 65-67, 74-78, 80, 87, 112,
113, 114, 118, 120, 129, 169, 172,
173, 175-178,193, 195-197, 200, 202211, 229-233, 240-245, 252, 272
Огоновский О. 198
Олег, князь 27, 29, 32, 35, 36, 49,
81,134
Оленин А. Н. 139
Ольга, княгиня 11,60,114,119
Орлов А. С. 169, 173, 190, 195, 196,
197, 334
Орлова В. С. 247
Орлова И. А. 345
Павлов-Сильванский Н. П. 91
Пахомий Лагофет (Серб) 18, 303
Перетц В. Н. 185, 198, 206, 226, 243
Петерсон М. Н. 209
Петр І 72,301,302,340,345-348,
351, 355, 357, 360, 362, 365, 367,
386, 373, 374, 386 Плеханов Г. В.
374 Погодин М. П. 16, 95
Покровская В. Ф. 226, 243
Поликарпов-Орлов Ф. П. 358, 360,
361, 365 Помигалова М. И. 320
Посошков И. Т. 348-354, 374, 375
Потебня А. А. 20, 190, 198, 265
Преображенский А. Г. 132, 239
Прийма Ф. Я. 184 Приселков М. Д.
29, 46, 56, 98, 189,
253, 256, 257 Прокопович Феофан
346, 352, 363,
366
Пумпянский Л. В. 363
Пушкин А. С. 7, 136,189, 341, 365,
370, 373, 375, 376 Радищев А. Н.
375 Расторгуев П. А. 216 Рогова В.
Н. 320 Розов В. А. 126 Розов Н.Н.
150 Романов Б. А. 117, 162,227
Рюрик 11 Рыбников П. Н. 16
Савицкая С. А. 320
Сахаров А. Л. 357
Сахаров И. П. 327
Сахаров Л. М. 360
Святослав 21, 190,246
Святослав Игоревич 15,27,32,36,
40, 42, 52 Селиванов ГА. 121
Селивановский С. А. 198, 201
Селищев А. М. 26, 117, 250
Сенковский О. И. 184
Серапион Владимирский 162-164
УнбегаунБ. О. 185 Ундольский В. М.
226, 230, 235,
Сеченов Д. 376
Сильвестр 10-11,257
Симони П. 331, 334
Скрипиль М. О. 244
Смирнов А. И. 192-194
Смирнова Е. С. 121
Смотрицкий М. Г. 380, 381
Соболевский А. И. 7, 10, 20, 22, 25,
26, 75, 100, 194,199, 231, 245, 246,
248, 293
Соколова М. А. 321
Сперанский М. Н. 183, 201
Срезневский И. И. 7, 9, 10, 13, 20,
27, 28, 30, 33, 34, 36, 59, 64, 96, 102,
103, 119, 192, 204,213, 239-242, 246,
255, 268, 328
Станг X. 125-130,132, 133
Стефан Пермский 311-315,317
Строев П. М. 227, 253
Сумароков А. П. 374-376, 386
Сумникова Т. А. 123
Тальман П. 366
Татищев В. Н. 64, 69, 253, 362, 365,
366, 372, 373 Таубенберг Л. И.
121 ТвороговО. В. 224,276
Тимофеев Л. И. 373 Тихомиров М.
Н. 60, 65, 66, 68, 73,
76, 108 Тихонравов
Н. С. 201 Толстой Л.
Н. 351 Толстой Н. И.
27
Тредиаковский В. К. 366-374, 379,
382, 383 Трубецкой
Н. С. 348 ТруневН. В.
373 Тупиков Н. М. 57
241,243
Успенский Б. А. 309
383
Фасмер М. Р. 248
Федорова М. Е. 351
Фелицына В. П. 333
ФенелонФ. 371
Феодосии Печерский 140,152-158,
164, 255, 261 Филин Ф. П. 250, 252,
272, 273 Фонвизин Д. И. 375
Фонтенель Б. 365 Фортунатов Ф. Ф.
20
Шахматов А. А. 9-11,13-20,25, 26, 29,
30, 33, 35, 40, 58, 69, 113, 114, 119121,247, 248, 252-257, 263, 272, 281,
282
Шлецер А. Л. 253,376
Шляпкин И. А. 227
Шмелева И. Н. 327
ШницерЯ. Б. 28
Шувалов И. И. 374-376
Эверс И. Ф. 29,33,67
Энгельс Ф. 189,299
Югов А. К. 215
Юшков С. В. 60,61,65,66,71-73,
76,79, 82, 84, 85, 115
Хаустова (Воронова) И. С. 357
Храбр 28
ЧерепнинЛ. В. 117
Черных П. Я. 372
Чернышев В. И. 216
Числов Ю. А. 268,270
Шарлемань Н. В. 218,219
Шафарик П. 34
ЯгичИ. В. 113
Яков, епископ полоцкий 129
Якобсон Р. О. 249 Якубинский Л.
П. 26,98,193,211, 268
Ярослав Владимирович 61, 227
Ярослав Всеволодович 227
Ярослав Мудрый 24, 33, 60, 61, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 85, 88, 98, 106,
116,139-141, 168, 175,178,190, 192,
279
Указатель слов
прокомментированных Б. А. Лариным
384
А 23, 120, 149, 180, 196, 232
АВИЗИИ 356 АВРААМЛЕ 148
АГАРЬ 144
АЖЕ (аж, ажь) 20, 65, 84, 99, 100
АЖИО 353
АЗ (азъ) 111, 152; се аз 118, 168
АЗОРВА см. зарва АЗЯМ 294
АКИ 318 АКСАМИТ 293
АЛАЧУГА см. лачуга АЛДАНЪ
КОЛѢ КЛЕКОВ 56 АЛИ 181
АЛМАЗ 329
АЛТЫН (алтынъ) 295, 310
АМАНАТ (аманатъ) 310 АМБАР
(амбаръ) 310 АНДОРОК
(андорак) 293 АПОСТОЛ
(апостолъ) 144 АПУБЬКСАРЬ 56
АРКУЧИ (а ркучи) 196, 197
АРМИЯ (армея) 359 АРМЯК 295
АРХАНГЕЛ (архангелъ) 144
АРХАНГЕЛОВ 148 АРШИН 328
АТМОСФЕРА 378 АТЬ 164
АФАНЖИРОВАТЬ 359 АЧЕ 23,
80, 178
АЩЕ 15, 23, 50, 119,149, 153,155,
157, 168, 178, 232, 262,319
БАГРЯНЫЙ 235 БАКАН 329
БАКЛАГА 294 БАКУЛЫ 333
БАЛАГАН 294 БАЛАМУТ
(баламуть) 333 БАНДУРА 293
БАНЯ 15 ВАРАНТА 294
БАРСУК 295 БАСМА 310
БАТАЛИЯ 353 БАТМАН 294
БАШМАК 294 БАШНЯ 357
БЕБРЯН (бебрянъ) 192,193,217
БЕДА (бѣда) 234, 334 БЕЖАТИ
(бѣжати) 182 БЕЗВОДНЫЙ
(безводнѣ) 234 БЕЗНАРЯДНЕ
234 БЕЗПЕЧАЛИЕ 234
БЕЗПРОТОРИЦА 336 БЕЗУМИЕ
234 БЕЗЪИЗВЕСТИЕ 368 БЕЛА
294 БЕЛГОРОД 86 БЕЛКА 114,
129, 294 БЕЛЫЙ: белое сословие
134 БЕРЕСТОВО 86
БЕРКОВЕСК (берковескъ) 132, 295
БЕРКОВЕЦ 328
БЕСЕДА (бесѣда): душеполезная
беседа 312
БЕШМЕТ
294
БЕЩИНЬЯ 44
БИРИЧ (биричь, борич) 56-58,
101, 315 БИРЮК 294
БЛАГОВЕРНЫЙ 144 БЛАГОЙ 15
БЛАЖЕ 153 БЛИЖНИЙ 111
БЛЮСТИ 178, 259 БЛЮСТИСЬ
(блюглиси) 247 БО 149, 353
БОБЫЛЬ 96 БОГАТЫЙ 230
БОГОРОДИЦА 144 БОГОСЛОВИЕ
144 БОЖИЙ: дом божий 146
БОЖНИЦА 118
БОЙ 107, 111; верховой бой 338,
357; нижний бой 357; низовой
бой 338; бой огненный 338
БОЛОГОДЕЛЪ 92
БОЛЯРИН см. боярин
БОРИЧ см. бирич
БОРОНЕНИЕ 53
БОРОНИТИ 53
БОРОШНО 45
БОРТЬ 93, 130
БОЯРЕ: светлые бояре 134
БОЯРИН (бояринъ) 88, 104,111,
117
БОЯРСТВО 104 БРАТЕН: жребий
братен 273 БРАТОЛЮБИВЫЙ 312
БРАТОНЕНАВИДЕНЬЕ
(братоненавидѣнье) 160
БРАТУЧАДО (браточадо, браточадъ) 87, 88, 92, 105 БРАТЧИНА
336 БРАШНО 31, 45, 152
БРЕТЬЯНИЦА 295,310
БРЕХАТЬ 199
БРИЛА 333
БРЮХО 333
БУДЕ 368
БУДУЩИЙ:
будущий
143,148
БУЕСТЬ 206, 234
БУЙСТВО 206, 234
БУЛАНЫЙ 294
БУЛАТ 294
БУМАГА 294
БУРМИСТР 354
БУСА 295
БЫЛЯ 385
БЫТЬ 127, 285, 385
век
ВАГ (вагъ) 132
ВАГА 353
ВАЖНЯ 77
ВАЛ 357
ВАЛАНДАТЬСЯ 292
ВАРЯГ 372
ВАТАГА 294
ВБАЧИТИ 131
ВДАЧЬ (въдачь) 115
ВДЕРНЬ (вдерень, одерень) 91;
продать вдерень 135
ВЕВЕРИЦА (вѣверица) 114, 294
ВЕДРО (вѣдро) 261 ВЁДРО 161
ВЕЖА 310
ВЕК (вѣкъ) 119; будущий век 143,
148
ВЕКША (вѣкъша) 114, 294
ВЕЛЕГЛАСНЫЙ 312 ВЕЛИЙ 308
ВЕЛИКИЙ: дождь велик 287;
сечь великий 252; великий
князь 134; пир велик 147
ВЕЛЬМИ 313
ВЕНО 130
ВЕРА (вѣра) 78; держать веру 143
ВЕРВЬ 92, 99, 100,115 ВЕРЁВКА
99 ВЕРЕД 16 ВЕРЕДИТЬ 193
386
ВЕРЕТЕНО 329 ВЕРЕТЬЕ 239
БЕРЕШЬ (вершь) 294 ВЕРСТА 262
ВЕРШИТЬ: вершить мир 357
ВЕРШЬ (верешь) 294 ВЕСЕБНОЕ
(вѣсебное) 132 ВЕСЕЛОВАТИСЯ
261 ВЕСТИ 356
ВЕСТОВОЙ: вестовые листы 356
ВЕЩЬ 238
ВЗЯТИ 259; взяти на щит 295
ВИДОК (видокъ) 76, 94, 104, 106,
117
ВИКТОРИЯ: преславная виктория
353
ВИНОГРАД (виноградъ) 15,160
ВИРА 77, 78, 97, 98, 111, 117, 249;
дикая вира 98 ВИРНИК
(вирникъ) 92, 98, 104 ВИРНОЕ 98
ВИТАТИ 31, 44 ВИХРИ 365
ВЛАСТЬ 16 ВЛОСТНЫЙ 133
ВНЕГДА 178 ВОЕВОДА 182, 238
ВОЗБОРОНИТИ 53
ВОЗВОЛОЧИТИ: возволочити
стяг 295 ВОЗГОЛОВИЕ см.
изголовие ВОЗГОРАНИЕ 378
ВОЗДЕРЖАНИЕ 155
ВОЗДУШНЫЙ: воздушный насос
378
ВОЗМОЧЬ 353
ВОЗМЯКНУТЬСЯ (възмякнутися)247 ВОЗРАСТИ 353 ВОЙЛОК
294 ВОЛНА 295 ВОЛОГА 241, 294
ВОЛОКА 117 ВОЛОКИДА 132
ВОЛОСТЬ 16,130,176
ВОЛОСЯНЫЙ 274 ВОЛШВЕНИЕ
314 ВОЛЬМИНА см. ольмина
ВОНЬЗАТИ 104 ВОРОЖБИТ
(ворожбитъ) 182 ВОРОП: пустити
на вороп 295 ВОРОТА 31, 41, 54,
153, 193 ВОСПОДАРЬ см.
господарь ВОТОЛА 274
ВОТОЛЯНЫЙ 274 ВРАГ 15
ВРАЖДА: увидить вражду 111
ВРАН (вранъ) 206 ВРАТА 153,
193, 206,338 ВРАТАРЬ 153 ВРЕД
15, 16 ВРЕМЯ 15, 16, 153
ВРЕТИЩЕ 239 ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
160 ВСЕСТИ: всести на конь 295
ВСКУЮ 308
ВСРОЖИТИ (въсрожити) 199
ВСУЕ 370
ВЫВЕРЧИ 51, 53
ВЫЕХАТЬ: землю выехать 131
ВЫЗЕТЯТЬ 132
ВЫЛАЗКА 357
ВЫЛЬЯТИ 234
ВЫМОВА 130
ВЫНЕЗТИ 104
ВЫНУ 308
ВЫСЛОБОНИТИ 132,133
ВЫСОКОПРЕСТОЛЬНЫЙ 312
ВЫХОДЫ 273
ВЫШГОРОД 86
ВЪДАЧЬ 115
ВЬЮК 295
ВЯЗЕБНОЕ 132
ВЯЛИЦА (въялица) 241
ГАЗЕТА
356 ГАТЬ
295
ГВАЛТ (гвалтъ) 130
ГЕНЕРАЛ 357
ГЕТМАН 357 ГИРЯ
329
ГЛАВА 30, 193, 206, 338
ГЛАВНЫЙ 15 ГЛАГОЛАТИ 157,
274,314 ГЛАЗ: глаза пялить 364
ГЛАЗОЛЮБНОСТЬ 369 ГЛИЦА
(глича) 133
ГЛУБОКОСЛОВНЫЙ: глубоко-
словная славенщизна 368
ГЛУПОСЛОВИЕ 368 ГНАТИ: гнать
изгоном 295 ГНЕВ (гнѣвъ) 354
ГНЕЗДО (гнѣздо): пардуже гнездо
219
ГОВЕНИЕ (говѣние) 80 ГОВОР
(говоръ) 218 ГОВОРКА 288
ГОВЯДО 92 ГОГОЛЬ 218
ГОЛВАЖНЯ 77 ГОЛИК (голикъ)
333 ГОЛОВА 92
ГОЛОВНИЧЕСТВО 97,98
ГОЛОВОВАЖНЯ 77
ГОЛОВЩИНА 130 ГОЛОГУЗ
(гологузъ) 333 ГОРЕ (горѣ) 270
ГОРОД (городъ) 31, 41, 44, 54, 115,
118, 193 ГОРОДИЩЕ 89
ГОРОДНИЧИЙ 131 ГОРОДОК
(городокъ) 295, 357 ГОСПОДАРЬ
(осподарь, восподарь) 119, 246 ГОСТИВСТВО
(гоститво) 147 ГОСТИНЕЦ
(гостинець) 130,131 ГОСТЬ 31,130
ГРАД (градъ) 31, 44; твердити град
296
ГРАДУС 378
ГРАМОТА 30; дерноватая грамота
135
ГРАМОТКА 332
ГРАНАТА 357
ГРЕЗН (грѣзнъ): грезн добродетели 314 ГРЕМЕТЬ 199
ГРИВЕНКА (большая, малая) 328
ГРИВНА: вязебная гривна 92;
сметная гривна 104, 107;
ссадная гривна 92, 104
ГРИДНИК (гридникъ) 77
ГРИДНИЦА 113,204 ГРИДНЯ
(грыдня) 95 ГРИДЬ 77, 93, 95,
104,113, 115,310 ГРОБ (гробъ) 143
ГРОМ: мал гром 287 ГУБСКОЙ:
губской староста 297 ГУЗНО 333
ГУЛЬТЯЙ 292 ГУМНО 162
ГУСЛИ 161
ДАВАТЬ: здровя давать 133
ДАТЬСЯ: даться на ключ 90, 91
ДАЖЬБОЖЬ (Даждьбожь) 211
ДАЙЛИДА 131
ДАЛЕЧЕ 235 ДАНЬ
118, 273, 274 ДАТЬ
(дати) 124, 259
ДАТЬСЯ (датися)
259 ДЕБРЬЗІО
ДЕВИЦА (дѣвиця) 236 ДЕВКА
(дѣвъка) 119 ДЕВЯТИНА 108
ДЁГОТЬ 292
ДЕЛО (дѣло): в дело
происходить
353
ДЕНЬГА
294
ДЕРЕВНЯ
121
ДЕРЕВО
294
ДЕРЖАТИ: держати веру 143
ДЕРНОВАТЫЙ 91; дерноватая
грамота, дерноватый холоп
135 ДЕРЮГА (деруга) 239
ДЕСНИЦА 100 ДЕСТЬ 294
ДЕСЯТИНА 108 ДЕТАШАМЕНТ
359 ДЕТИНЕЦ (детинець) 310
ДЕТСКИЙ 130 ДИАВОЛЬ
(диаволъ) 119 ДИАМАНТ 329
ДИВЬЯ 241
ДИКИЙ: дикая вира 98
ДОБРОГЛАШЕНИЕ 312
ДОБРОДЕТЕЛЬ (добродѣтель)
388
145; грезн добродетели 314
ДОБРОРАЗУМИЧНЫЙ 312; отрок
доброразумичен 313 ДОБРОТА
145
ДОБРЫЙ 145; добрый князь 238;
страшно добре 338
ДОГОВОР 357
ДОЖДЬ (дъжгь, дожгь, дъждь,
дъжчь) 248, 287; дождь велик 287
ДОЙЛИДА 293
ДОЙЛИДСКИЙ: дойлидские повинности 131 ДОЛБИТИ 242
ДОЛГ (долгь): погребнути долг 93
ДОЛИНАТИ 297 ДОЛОТИ 242
ДОЛОТИТИ 242 ДОМ (домъ): дом
божий 146 ДОМОВОДЕЦ
(домоводецъ) 354 ДОМОВЬ 45, 54,
269 ДОМОДЕРЖЕЦ
(домодержецъ)
354 ДОМОЙ
269 ДОПРЕЖЕ
15
ДОПРОВАДИТИ: допровадити до
монастыря 156 ДОПРОВОДИТИ
53 ДОРОГОБУЖ 86 ДОСКА: с
доски до доски 364 ДОСТАКАН
(стакан) 294 ДОСЫТИ 259 ДОХОД
353 ДОЯШЕТИ 151 ДРАГУН 357
ДРЕВОДЕЛ (древодѣл) 262
ДРУГОЙ: равно другого свещания
30
ДРУЖИНА 115; исполчить дружину 259 ДУБЬЁ 239
ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ:
душеполезная
беседа 312 ДЬЯКОН (дьяконъ)
262 ДЮЖИНА 329 ДЯДЯ 274
ДЯКЛО 132 ДЯТЕЛ 218
ЕВАНГЕЛИЕ 144,262
ЕГДА 149, 159, 178, 180, 321, 354
ЕГЛА 247 .
ЕДИН (единъ) 152, 157
ЕДИНЕЦ (единець) 157,162
ЕДИНОВЛАСТИЕ 274
ЕДИНОРОДНЫЙ 319
ЕДИНЫЙ 353
ЕЖЕ 119,353
ЕЖЕЛИ 368
ЕЗДОВОЙ 104
ЕЗЕРО 150
ЕЗЖИВАТЬ 338
ЁЛКА 247
ЕЛЬ 247
ЕНДОВА 292
ЕПИСКОП (епископъ) 262
ЕПИСТОЛИЯ 155
ЕПИТРАХИЛЬ 262 ЕСТИ (ѣсти)
80 ЕХАТЬ (ѣхати) 154
ЖАГЛО 247 ЖАДНЫЙ 131, 133,
353 ЖАЛОЩИ 199 ЖЕНКА
(жонка) 240 ЖЕРОГЛО 247
ЖЕСТЬ 294 ЖИВАТЬ 338
ЖИВОТ (животъ) 130, 143; при
животе 118 ЖИЗНЬ: жизнь
нетленная 143, 148,
212
ЖИТО 93, 239
ЖЛУКТА 292
ЖЛЯ215
ЖРЕБИЙ (жеребий) 130;
бросать жребий, жребий
братен 273
ЗАБОРОЛО
310
ЗАБОРЫ
294
ЗАГНЕТЬ 240 ЗАЕЗД (заѣзд) 295
ЗАЕХАТИ (заѣхати) 310 ЗАЖОГА
297 ЗАЙТИ 259 ЗАКЛАДЕНЬ 104
ЗАКЛИКАТЬ: закликать на торгу
101
ЗАКОН: закон русский 48, 51
ЗАКОНОДАВЕЦ (законодавець)
312
ЗАКРАИНА 121
ЗАКУП (закупъ) 71, 93, 103, 104,
115
ЗАЛЕЗТЬ (залѣзть) 333
ЗАМЕШКАНЬЕ 133 ЗАНЕ 179
ЗАПОВЕДЕТИ: заповедети на торгу 101 ЗАПОНА 274 ЗАРАЗИТИ
100 ЗАРБАЗЮ
ЗАРВА (азорва, изорва) 329
ЗАСАПОЖНИК 203 ЗАСИНА 242
ЗАСТЕН 242 ЗАСТЕНЬ (застѣнь)
242 ЗАТОЧЕНИЕ 156 ЗВЕРЬ:
лютый зверь 182 ЗВУК 294
ЗГОЛОВЬЕ см. изголовие
ЗДРОВЕ: здровя давать 133
ЗЕГЗИЦА 203
ЗЕЛО (зѣло) 155,313
ЗЕМЛЯ: орамая земля 121; землю
выехать 131; кормля от земли
261
ЗЕМНОЙ 145
ЗЕНДЕНЬЗЮ, 329
ЗЛАТНИК 30 ЗЛАТО
150, 193
ЗЛАТОЙ (златый) 222, 236
ЗНАМЕНИЕ 111 ЗНАМЯ 338
ЗНОБИТЬ 242 ЗНОЙ 161 ЗОБАТИ
102, 117 ЗОБАТЬ 242 ЗОБЕНЬКА
242 ЗОБНИЦА 102, 294 ЗОБНЯ
242, 294 ЗОРЯ 155 ЗРЕТИ 182
ЗУБЫ: скалить зубы 364
ЗЫВАТЬ 288
И 154, 180, 232
ИВЬЁ 239
ИГРИЩЕ 161
ИДЕЖЕ (идѣже) 149, 232
ИДОЛ (идолъ) 146, 148
ИДТИ 258; идти изтоном 295
ИЖЕ 111, 179,181,232
ИЗ (изъ) 177
ИЗБОЙ 240
ИЗВЕСТЬ 293
ИЗВОД (изводъ) 76
ИЗГОЙ 96, 97
ИЗГОЛОВИЕ
(зголовье,
узголовие,
возголовие) 242 ИЗГОН
(изгонъ): гнать изгоном,
идти изгоном 295 ИЗГРЕБИ
242 ИЗМАИЛ (Измаилъ) 144
ИЗОДЕТИСЯ: изодетися
оружием
295
ИЗООСТАТЬСЯ
118 ИЗОРВА см.
зарва ИЗОРНИК
297 ИЗУМРУД 329
ИЗЮМ 294
ИЛИ 23, 149 ИМЫВАТЬ 338
ИНО 178, 321 ИНОЧИМ
(иночимъ) 92 ИНТЕРЕС 353
ИСААК (Исаакъ) 144 ИСАДЫ
297 ИСКУСЕВИ 56
ИСПОЛЧИТИ:
исполчить
дружи
ну 259
ИСТРАТА 353
390
КАВАЛЕРИЯ 359
КАГАН 142 КАДЬ 295
КАЙМА 294 КАК 361
КАЛОГЕР (калогеръ): един калогер 314 КАМКА 310, 329
КАНАКЛЫ см. колокола
КАНДАЛЫ 294 КАНИЦАР 56
КАНЦЕЛЯРИЯ 354 КАПИТАЛ 353
КАПИТАН 357 КАПУСТА 293
КАПУСТНИК (капустникъ) 121
КАРАВАН 357
КАРБАС 295
КАРМАЗИН 354
КАРНА 215
КАТАПЕТАЗМА 274
КАТОРГА 295
КАФТАН 286, 295
КАЩЕЙ 294
КАЮК 294
КАЯЛА 219
КЕРЕВОД 292
КЕРСТА (короста) 240
КЕРСТА (корста) 292 КИБРЫ 292
КИНОВАРЬ 329 КИПА 295
КИСЕЛЬ 261 КЛЕПЦЫ 242
КЛОБУК: черный клобук 86
КЛОСНЫЙ 274 КЛУНЯ 292
КЛЮЧ: привесить ключ 135;
даться на ключ 90, 91;
рабство на ключ 90,
привязать к себе ключ 90 КМЕТЬ
(къметь) 199, 209 КНЯГИНЯ
(кнеиня) 286 КНЯЗЬ: великий
князь 134;
добрый князь 238
КОВШ 361 КОГДА
361 КОИ 353
КОЛБАСА 239, 240 КОЛБЯГ
(колбягъ) 85,86,100 КОЛБЯЖЬЕ 86
КОЛБЯЧИ 86 КОЛИ 124, 321
КОЛОКОЛА 293 КОЛОТИ 32,
242 КОМОНЬ 204
КОМОРА: комора
пострыгальная 131
КОНДА 292
КОНДОВЫЙ 292
КОНЬ 240; всести ка конь 295
КОПЬЁ 262
КОРАБЛЬ 262, 293
КОРЕЦ 297
КОРЗНОЗЮ
КОРМИЛЕЦ (кормилецъ) 71
КОРМИЛИЦА 71 КОРМЛЯ:
кормля от земли 261
КОРОМЫСЛО 15
КОРОСТА (керста) 240 КОРСТА
(керста) 292 КОРТОМА 353
КОРЧАГА 261 КОРЧМА 297
КОРЬ (корье) 119 КОСНЕТЬ
(коснѣти) 274 КОТОРА 204, 211
КОТОРЫЙ 111,232
КОШТОВАТИ 131, 133
КОЩИЕВ (кощиевъ) 204;
седло кощиево
207 КРАМОЛА 211
КРАСНЫЙ 337
КРЕСТ (крестъ): водить ко
кресту,
целовать крест 274 КРИВДА
(крывда) 130
КРНУТИ(крьнути)310 КРОВАТЬ
15 КРУЧИНИВАТЬ 338 КРЫ 295
КРЫЛО 259 КТО (къто) 232
КУБАРА 310 КУВШИН 329
КУДЕСНИК (кудесьникъ) 314
КУЛИГА 121
КУМГАН (кумганъ) 310
КУНА 108
КУНЫ 130, 155
КУПА 93, 103
КУПЛЯ 53, 130
КУРАНТЫ 356
КУРЬЯ 292
КУТЕРЬМА 294
КУТЬЯ 293
КЫКАТЬ 203
ЛАВЛИВАТЬ 334
ЛАЗУРЬ 293
ЛАЙВА (лойва) 292
ЛАЙДАК 292
ЛАКОМСТВО 131
ЛАТКА 261
ЛАЧУГА (алачута) 294, 310
ЛЕБЕДЬ 218 ЛЕВКАС 293 ЛЕГОТА
336
ЛЕЖИВАТЬ (лѣживать) 334 ЛИ
149 ЛИПЬЁ 239
ЛИСТ: вестовые листы 356
ЛИТАВРЫ 293 ЛИТИ: лити пушки
287 ЛИЦЕ 101 ЛИЧБА 353 ЛОБ
(лобъ)ЗЮ ЛОВИЩЕ 119,130
ЛОДЬЯ 262,316
ЛОЖЕСНО: заключи™ (отключите) ложесна 146 ЛОЗЬ (лозье) 119
ЛОЙВА (лайва) 292 ЛОКОТЬ 328
ЛОСКУТ (лоскутъ) 121
ЛОШАДЕИСТ 354 ЛОШАК
(лошакъ) 240 ЛУБЯНОЙ 242
ЛУКА: лука моря, Лукоморье 259
ЛУНДЫШ (лундышь) 329
ЛУТВЕНЫЙ 241 ЛУТОВЯНЫЙ 241
ЛЫЧАКИ 241
ЛЫЧНИЦА (лычьница) 241
ЛЮБЫ 312
Л ЮДИН (людинъ) 115 ЛЮТЫЙ:
лютый зверь 182 ЛЯДИНА 165
МАЛХАН (малханъ) 329 МАЛЫЙ:
мал гром 287: малые прислуги 369
МАСЛЕНЫЙ: масленая неделя 274
МАСТЕР (мастеръ) 287
МАТЕРИАЛ: материалы
родятся 353
МАТЕРИЯ 378
МЕДЛИТЬ 274
МЕЖДУ 211
МЕЖДЮ 211
МЕЖЕНИНА 295
МЕЖЮ211
МЕЗЛЕВА 131
МЕСТО: полые места 318; место
остановки 360 МЕСЯЧИНА
(мѣсячина) 31 МЕТЕЛЬНИК
(метельникъ) 77,
78,93
МЕЧНИК (мечникъ) 95
МЕЩАНЕ 134
МЗДА (мьзда) 76
МИЗИРНЫЙ 353
МИР
(миръ)
[община]
76,115,164;
свой мир 99 МИР построить
мира 53; ставить
мир, учинить мир, вершить
мир,
разрушение мира 357
МИРОДЕРЖЕЦ (миродержець)
274
МИТРОПОЛИТ (митрополитъ)
262
МЛАДОЙ: младой отрок 354
МНОГОМУТНЫЙ 312 МОВИТИ
130 МОВЬ 31
МОКЛОК (моклокъ) 241
МОНИСТО 239 МОРЕ (морѣ)
220,221 МОСТ 67, 68
МОСТНИК (мостьникъ) 131
МОСТОВНИЧИЙ 131
МОТЧАТЬ 288 МОЧЬ 165
МОЩИ 153
МРАК (мракъ) 150; идольский
мрак 146
392
МУЖ (мужь) 94; княжь мужь 88,
106, 117
МУРАЛЬ 131,287
МУСЕТИ (мусѣти) 131
МУШКЕТ 338; стрельба мушкетная 338
МЫТНИК (мытникъ) 77
МЫТО 77,79
МЯЧ (мячь): сбити в мяч 295
НА 177
НАБАТ 294, 338 НАБЛЮДЕНИЕ
365 НАВАГА 292 НАВАДИТЬ 118
НАВИДАТЬСЯ 334 НАВОЛОК
(наволокъ) 121 НАДОБЕ 31
НАДРАЗИТИ 100 НАЖДАК 329
НАИМИТ 92 НАКОСТИТЬ 334
НАПРАСНЫЙ 164 НАРТЫ 292
НАСОС: воздушный насос 378
НАСТАВ (наставъ) 93
НАЧАЛО 365
НАШАТЫРЬ 329
НЕБЕСНЫЙ 145
НЕБОЖНИК (небожникъ) 131
НЕГОВАТЬ (нѣговати) 201
НЕДБАЛЬСТВО 133
НЕДЕЛЯ: масленая неделя, сыропустная неделя 274
НЕКЛЮЧИМЫЙ: неключимый
раб 90
НЕНАДОБЕ (ненадобѣ) 240
НЕНАРОКОМ 338
НЕПЩЕВАНИЕ 354
НЕРАЗГЛАСНО 368
НЕТЛЕННЫЙ: жизнь нетленная
143,148 НЕФТЬ 294 НИВА 119,160
НИМАК (нимакъ) 333 НИЧИТИ
199 НОГА 209 НОГАТА 208, 209
НОЛНЫ 242 НОРОВ (норовъ) 240
НОС (носъ) 192 НОСАД (носадъ)
192, 310 НОЩЬ 305,312 НРАВ 15
НУЖДА (нужа)211, 303 НУЖНО
353 НЫ 229, 308 НЫР (ныръ) 310
НЫРИЩЕ 310
ОБАВАЮ 387
ОБАЧЕ 155
ОБИДА 98; за обиду 117
ОБИЛИЕ 238,295 ОБИЛОВАТИ
162 ОБНОВЛЕНИЕ 143 ОБОЗ
357 ОБОРОНА 357
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 378
ОБЧИИ: обчии ели 56 ОВЕН
(овенъ) 108,111 ОВОГДА 387
ОВОЩ (овощь) 15,31 ОВЦА
108,111
ОГНИЩАНИН (огнищанинъ)
71,
88,89,93,115,117,310 ОГНИЩЕ
89
ОГНЬ 89 ОГОРНУТЬ 295
ОГОРОД (огородъ) 121 ОГУРЕЦ
293 ОДЕРЕНЬ см. вдернь
ОДЕРЖАНИЕ 358 ОДЕРНИТИ
91 ОДИН (одинъ) 31,176, 353
ОДИНОЧЕСТВО (одиночьство)
176
ОДНОРЯДКА 286,295 ОЖЕ 23,
80, 179, 181 ОКОВ 295 ОКРОМЕ
338 ОКРОП 295 ОЛАДЬЯ 293
ОЛЕК (олекъ) 88 ОЛИФА 293,
329 ОЛЬМИНА (вольмина) 119
ОЛЯД (ляд) 58 ОПАЧИНА 55
ОПОСТРНЫЙ 131 ОПРИЧЬ 319
ОРАЛИЩЕ 121 ОРАМЫЙ:
орамая земля 121 ОРАТЬ 295
ОРОТЬМА (орътьма) 204, 294
ОРУДИЕ 79,125,156 ОРУЖИЕ
182; изодетися оружием 295
ОСЕННИЙ (осеньний): осеннее
полюдие 118 ОСПОДАРЬ см.
господарь ОСТАНОВКА: место
остановки
360
ОСТРАМОК 295 ОСУЖДЕНИЕ:
осуждение на поток 93 ОТ (отъ)
203, 230 ОТАР 103 ОТАРИЦА 102,
103
ОТЕНЬ 236 ОТЕЦ (отець) 310
ОТКЛИЧЬ: откличи нет 297
ОТОСЛАТИ 53
ОТРОК (отрокъ) 354; отрок доброразумичен 313 ОТРЯСТИ 143
ОТЧИЗНА 131 ОХАБЕНЬ 310
ОХРА 293
ОЧЕСЛИВОСТЬ 369
ПАКАТЬ 55 ПАКИ (пакы) 23, 55
ПАКИБЫТИЕ 143 ПАКЛЯ 292
ПАКОСТЬ 31, 43, 54, 55, 131
ПАКОЩИ 88, 117 ПАКША 55
ПАЛАТЫ (полаты) 15 ПАНОВЕ
134 ПАПОЛОМА 204 ПАРДУЖЬ
219 ПАРДУС 15 ПАРОПЦЫ 182
ПАРУС 15, 45 ПАС 360 ПАУЗОК
295 ПАХАТЬ 295 ПАШНЯ 295
ПЕНЯЗЬ (пеняжь) 353 ПЕРВЫЙ:
по первому слову 35
ПЕРЕГОВОРЫ 357 ПЕРЕДСЛАВА
56 ПЕРЕКЛЮКАТЬ 274
ПЕРЕЛИЗАТЬ 334 ПЕРЕПЕЧА 333
ПЕРЕТОЛМАЧИТЬ 315 ПЕРЕХОД
359 ПЕРЕЧЕС 242
ПЕЧИЩЕ 89 ПИЛЬНО 353 ПИР
(пиръ): пир велик 147 ПИЩАЛЬ
338 ПЛАЧИВАТЬ 334 ПЛАЩ
(плащь) 15 ПЛЕМЯ 148 ПЛЕН
(плѣнъ) 15, 303 ПЛЕЧА 303
ПЛЕЩА 303 ПЛИЩ 261
ПЛОТНИК 262 ПЛОТНОСТЬ
365 ПОВИННОСТЬ: дойлидские
повинности 131 ПОВОЗ (повозъ)
240 ПОВОЗНИЧАТИ 240
ПОВОЛОЧЬ 193 ПОГОСТ
(повоет) 119 ПОГРЕБНУТИ:
погребнути долг 93 ПОГРЕСТИ
274 ПОДВИЗАТИ 202 ПОДКОП
357
ПОДОБИЮ (по дубию вм. под
облакы) 202, 212,
213 ПОД
ОБЛАКЫ213
ПОДРУМИЕ 238
ПОДЪЕЗДНОЙ
104 ПОЖИТОК
353 ПОЖНЯ 119,
121 ПОЗДОРОВУ
53 ПОЗОВНИК 297
ПОЙТИ 258
ПОКЛАЖА (поклажда) 88
ПОКЛОНИТИ 154 ПОКОН
(поконъ) 93 ПОЛАТИ 293
ПОЛКОВНИК 357
ПОЛОЖИТИ: положити ряд 53
ПОЛОН (полонъ) 303
ПОЛОНЕНЫЙ 53, 193
ПОЛОНЯНИК (полоняникъ) 53
ПОЛОСА 121
ПОЛОТЬ 113
ПОЛСТЯНОЙ 242
ПОЛЫЙ: полые места 318
ПОЛЮДИЕ: осеннее полюдие
118
ПОМИЛИТИСЯ 88
ПОМОЖЕТ 297
ПОНЕЖЕ 358
ПОНЯТИЕ 365
ПООХРИТАТЬСЯ 181
394
ПОПОЛОНОК (пополонокъ) 91,92
ПОРАЗИТЬ 100
ПОРОДИТЬ 211
ПОРОЗДЕНЬ 153
ПОРТНОЙ 294
ПОРТЫ 294
ПОРТЯНКА 294
ПОСАЖ 360
ПОСЕТИТИ 143
ПОСКЕПАТИ 204
ПОСЛЕЖДЕ 150
ПОСЛУХ (послухъ) 94, 104, 106,
117, 142 ПОСПОЛИТЫЙ 133
ПОСТИРУНК 360 ПОСТРОИТЬ:
построить мир 53
ПОСТРЫГАЛЬНЫЙ: комора пострыгальная 131
ПОСЫЛЫВАТЬ 288
ПОТЕРЯ 353 ПОТКА
240
ПОТОК (потокъ): осуждение на
поток 93; на поток и разграбление 107
ПОТОЧЕНИЕ 155
ПОХАБНЫЙ 242
ПОХОРОНИТЬ 274
ПРАВОВЕРНЫЙ 144, 153
ПРАВОСЛАВНЫЙ 144
ПРАСТЕН (Прастѣнъ, Фрастѣнъ)
56
ПРАЩА 15
ПРЕ (прѣ)ЗЮ
ПРЕБЛАЖЕНЫЙ 155
ПРЕД (прѣдъ) 80, 302
ПРЕДТЕЧА 144
ПРЕЖДЕ 150, 303
ПРЕЖЕ 15, 303
ПРЕЛЕСТЬ (прѣльсть) 303
ПРЕЛЮБОДЕИЦА
(прелюбодѣица) 160
ПРЕМУДРОСТЬ: святая премудрость 146
ПРЕПОДОБНЫЙ 153,155
ПРЕПРОВОДИТЬ 312
ПРЕПУЩАТИ 150
ПРЕСЛАВНЫЙ: преславная
виктория 353
ПРИБЫЛЬ 353
ПРИБЫТОК 353
ПРИВЕСИТЬ: привесить ключ
135 ПРИВЕСТИ 247
ПРИВОДИТИ 151 ПРИВЯЗАТЬ:
привязать к себе
ключ 90 ПРИЙТИ: суд придет
182 ПРИПЛОД 353 ПРИПРАВА
288
ПРИСЛУГИ: малые прислуги
369 ПРИСНО 313
ПРИСНОПОМНИМЫЙ 312
ПРИСОП (присопъ): в присоп
93 ПРИСТУП 357 ПРИТЕРЕВ
(притеребъ) 121 ПРОДАЖА
98,104,107,117,118 ПРОЗВИТЕР:
прозвитера суща 314
ПРОИСХОДИТЬ: в дело происходить 353 ПРОК 102 ПРОКАЗА
30,310 ПРОЛОМ 318
ПРОМИЛОВАТЬСЯ 88
ПРОМЫСЕЛ 338 ПРОПАЖА 102
ПРОТОРИ 117 ПРОЧЕ 116
ПРОЧЕТ (прочетъ) 370 ПРУГ 160
ПРЯМОЙ: прямые роскоши 369
ПТИЦА 240
ПТИЧЬ (птиць) 205, 212, 236, 240
ПУЖАТЬ 338
ПУЗ 295, 328
ПУТЬ: чист путь 134
ПУШЕЧНИК 287
ПУШКА 338; верховая пушка,
лити пушки 357 ПЯЛИТЬ:
пялить глаза 364
РАБ: неключимый раб 90 РАБА
150
РАБИЧИЩ (рабичищь) 150
РАБОТЫ 370
РАБСТВО: рабство на ключ 90
РАВНО: равно другого свещания
30
РАВНООЧИСТИТЕЛЬ 144
РАВНОХРИСТОЛЮБЕЦ 144 РАЖ
ДАТИ 151
РАЗБОЙ (розбой) 80,107, 111, 240
РАЗГОВОР 357 РАЗГРАБЛЕНИЕ
107 РАЗМИРЬЕ 357
РАЗРУШЕНИЕ: разрушение мира
357 РАЙ 294 РАКА
314 РАМЫ 354
РАСТОРГАТЬ 319
РАСХОД 353 РАТАИ
203
РАЧИТЕЛЬНЫЙ 131 РАЧИТИ 131
РЕВЕЛА 295 РЕЗ 110
РЕЗАНА (рѣзана) 108, 208, 209
РЕЗАТЬ 209 РЕЙТАР 357 РЕЛЬ
(рьль) 119
РЕМЕСЛЕННИК (ремесленникъ)
71
РЕМЕСЛЕННИЦА 71 РЕПИЩЕ
(рѣпище) 121 РЕЧЕТОЧЕЦ 368
РЕЧИ 177, 274, 353 РОБ (робъ)
115,152 РОБЬ 115 РОГАТКА 357
РОД 144, 164
РОДИТЬСЯ: материалы родятся
280
РОЖДЕСТВО 303 РОЗБИТИ 176
РОЗБОЙ см. разбой
РОЗГЛЯДАТИ 176 РОЗНЫЙ 239
РОЗСТРОПНЫЙ 133 РОПТАНИЕ
354
РОСКОШЬ: прямые роскоши
369 РОСОЛА 84 РОСОХА 84
РОСОША 84
РОСПУЩЕНИ (роспужени) 218,
219
РОССИЯ 84
РОССОШЬ 84
РОСЬ 84
РОТА 83; идти роте 274
РОТМИСТР 357 РТУТЬ 329
РУАЛЬД (Руальдъ) 56 РУБИН
329
РУКОДЕЛИЕ 353
РУСАЛ 161
РУСИН 84 РУСИЧ
185
РУССКИЙ 84; закон русский 48,
51
РУСЬ 84
РУХЛО 53
РУХЛЯДЬ 295
РУХО 53
РУШИТИ 143
РЫЛО 333
РЯД: положити ряд 53; без ряда
90;
ряду створити
164 РЯДНИЦА 297
РЯДОВИЧ (рядовичь) 71,92,104,
114
РЯДОВОЙ 357
РЯСНЫ 387
САВАН 293
САЖЕНЬЕ 286
САЛМА 292
САМОВЛАСТЕЦ (самовластьць)
262
САМОДЕРЖЕЦ (самодержьць)
396
262, 274 САНДАРАК 293 САНИ:
на санях сидя 171, 182 САПФИР
329 САРРА 144
СБИТИ: сбита в мяч 295
СБРОДНИ 285 СБА ДА: в сваде 107
СВЕТЛЫЙ: светлые бояре 134
СВЁКЛА 293 СВЕРБЕТЬ 242
ОБЕЩАНИЕ (съвѣщание): равно
другого свещания 30 СВИНЬЯ
295
СВОБОН (слобон) 132,133
СВОД (сводъ) 101
СВЯТОЙ: святая премудрость 146
СДАЧА 357
СЕ 118; сеяз 168, 321
СЕБО 149
СЕБЯ см. ся
СЕВРЮГА 292
СЕЙ (сие, сия) 353, 370; о сем 55
СЕЛЬГА 292 СЁМГА 292 СЕМО
(сѣмо) 308 СЕМЬ (седмь) 358
СЕМЬЯНИСТ 354 СЕНАР-ПОЛЕ
(Сенаръ) 269 СЕНЬКА 57
СЕЧЬ (сѣчь): сечь великий 318
СЕЧЬ РОССКАЯ 84 СИГ 292
СИЗЫЙ (шизый) 195
СИНАЙ 144
СИНЕРОГ 57 СИНЕЦ
57 СИНИЙ 57
СИНКО 57 СИНЬКО
57 СИЦЕ 155
СКАЛИТЬ: скалить зубы 364
СКЛАДНАЯ (съкладная) 288
СКОМОРОХ 161 СКОРА 58
СКОРОВЫЧЕНИЕ 312
СКОРОТИТЬСЯ 212 СКОТ (скотъ)
76, 92, 274 СКОТИНА 119
СКРАТИТЬСЯ 212 СКРИЖАЛЬ
145 СКРУТА 297 СКУДЕЛЬНИЦА
295 СЛАВЕНЩИЗНА:
глубокословная
славенщизна 368
СЛАВОСЛОВИЕ
155
СЛАВУТИЧ (Словутиц) 192
СЛАДКИЙ 15 СЛЕБНОЕ 31
СЛОБОН см. свобон СЛОВЕНЕ
99 СЛОВЕНИИ 84
СЛОВО 192; по первому слову 35
СМАЛЧИВАТЬ 334
СМАРАГД 329
СМЕРД (смердъ) 71,99,115
СМЕРДЕТЬ 99
СМЕТАТЬ 104
СМЫСЛУДАВЕЦ
(смыслудавець) 312
СНЕМ (сънемъ) 143
СНИМАТЬСЯ 143
СНИМЫВАТЬ 338 СОБАКА 294
СОБИНА 295, 336
СОВОКУПИТИ 80
СОВОКУПИТЬСЯ 111 СОГРА
292 СОЗДАТИ 274 *СОЛ (солъ)
56 СОЛДАТ 338, 357
СОЛОМОНИДА (Соломанида)
286
СОПОТРУЖДАТИСЯ 53
СОРОМ 16, 176
СОСЛОВИЕ: белое сословие 134
СОЧИТИ 297 СПАС (спасъ) 144
СПАСЕНИЕ 144 СПОРЫНЬЯ
353 СПОТРУЖАТИСЯ 53 СРАМ
(страм) 15, 16 СРАМОТА 338
СРЕБРО 150, 193 СРЕДА (срѣда)
80, 270 СРЕДОТОЧИЕ 365
СРЕДСТВО 15
СРЕЧА 162
СРУБИТИ 274
СТАВИТЬ 125, 287; ставить мир
357 СТАДИЯ 262 СТАКАН
(достакан) 294 СТАРОСТА:
староста губский 297 СТАРЫЙ
142 СТАТИ 186 СТАФИЛЬЕ 238
СТЕНЬ (стѣнь) 145 СТИРТА 131
СТОЛ (столъ) 236, 237 СТОРОНА
53,176 СТОЯНКА 360
СТРАЖЕВОЖЬ 312 СТРАНА 193,
261 СТРАННИК 174, 261
СТРАНСТВОВАТЬ 261
СТРАСТОТЕРПЕЦ (страстотерпець) 312 СТРАШНЫЙ: страшно
добре 338 СТРЕЖАТИ 193
СТРЕЛИВАТЬ 338 СТРЕЛЬБА:
стрельба мушкетная
338 СТРЫЙ 274 СТУДНЫЙ 353
СТУЛИТЬСЯ 297 СТЯГ:
возволочити стяг 295 СУД: суд
придет 182 СУДНИЦА 297
СУЛИЦА 262 СУПЛЕТКА 297
СУРИК 293 СУРОК 293
СУСТРЕЧЬ (сустрѣчи) 247
СУСТУГИЗЮ СФАНДР 56
СФИРКА (Спирка, Спирков) 56
СЫНОВЕЦ (сыновечь) 222
СЫРОПУСТНЫЙ: сыропустная
неделя 274 СЯ 121,202; за ся31,45
СЯБР (сябръ) 130
ТА 180 ТАБУН
294 ТАГАН 294
ТАЗ 294 ТАКАТЬ
369 ТАКОЖДЕ
358 ТАК ЧТО 361
ТАМГА 310
ТАМО 353
ТАТЬ: кромский тать 297 ТАЧЕ313
ТВАНЬ 293 ТВАРЬ 145
ТВЕРДИТИ: твердити град 296
ТЕИ 286
ТЕЛО (тѣло) 308
ТЕНЬ (тѣнь) 145
ТЕРЕМ 15
ТЕРМОМЕТР 378
ТЕСЛО 295
ТЕСЛЯР 295
ТЕСЬМА 294
ТЕЧЬ 107
ТИ 54, 149, 155, 180, 229, 244 ТИ
ТАКО 155 ТИВУН (тивунъ) см.
тиун ТИРОВАТИ 295 ТИТЯГА
297
ТИУН (тиунъ) 77, 90, 106, 119,130,
104, 106, 240
ТО 180 ТО И
180 ТОКМО
358
ТОЛКОВИН
204 ТОПОР 294
ТОРОН (торонъ): ходить
торонем 295
ТРЕПЕТИЦА 240
ТРЕТЬЯК 117
ТРЯСЕНИЕ 378 ТУ
236
УБИЕНИЕ 111 УБИЙЦА
155 УБО 149 УБОЙ 111
УБОИНИЦА 155 УБОРОК
(уборокъ) 93,117 УВЕДЕТЬ
103 УГАНИВАТЬ 182
УГЛАДЫ (уклады) 273
УГОШИТИ 295 УЖА 31, 54
УЗГОЛОВИЕ см. изголовие
УЙ 274
УКЛАДЫ 273
УКРОП (окроп) 295
УКСУС 15
УЛАН 294
УЛЕБ (Глеб) 56
398
ТУЛ (тулъ) 204
ТУР 237 ТУРДУВ
56 ТУРКИ 291
ТУРОК 291
ТУЧА 287
ТУЧЕНОСНЫЙ 312 ТЩАНИЕ 155
ТЩЕСЛАВИЕ 144 ТЫЛЕСНИЦА
92,100 ТЫЛЕСНЬ (тылѣснь) 92,100
ТЫН (тынъ) 77,79,117 ТЮК 294
ТЮРК 291 ТЮФЯК 294
УМ (умъ) 195 УНЕИН (унеинъ)
173,174 УПИХАТИ 161, 162
УПОЛОВНЯ 241 УПРЕМУДРИТИ
274 УСОБИЦА 203 УСТАВ (уставъ)
93 УТОЛОЧЬ 161 УТЮГ 294
УЧАСТОК (участокъ) 121
УЧИНИТЬ: учинить мир 357
УШНОЕ 354
ФАРСИС (фарсисъ) 238 ФАРЬ 238
ФЛОТ 357
ФОЛЬВАРОК (фольварокъ) 131
ФОНАРЬ 293 ФУНТ 328
ХАЖИВАТЬ 334
ХАНДРА 293
ХАРАТЬЯ 30
ХАРВАЛИН 292
ХАРЯ 333 ХАТА
293
ХИТРЫЙ (хытрый) 235
ХЛЕБОЕДЬ (хлѣбоедь) 134 ХЛУД
295 ХЛЯБИ 161 ХМЕЛЬ 292
ХОДИТЬ: ходить торонем 295
ХОЛЕР 354
ХОЛОП (холопъ) 88,99,115,117,
319; дерноватый холоп 135
ХОРОБРЫЙ 237 ХОРОМ
(хоромъ) 117 ХОРЮГОВЬ 196
ХРАБРЫЙ 237
ХРАМ 15 ХРОМОЙ 274
ХРУСТ 160, 161
ХУДОЖЕСТВО 353
ХУДОЙ 235 ХЫДЫРЩИК
288
ЦВЕЛИТИ (цвѣлити) 199
ЦЕЖ (цѣжь) 261 ЦЕР
(цѣрь) 310 ЦНОТА 131
ЦНОТЛИВЫЙ 131
ЧАГА 204, 294
ЧАДИ 260
ЧАСТО 235
ЧЕЛЯДИН (челядинъ) 98
ЧЕЛЯДНИК 88,117
ЧЕЛЯДЬ 88, 98, 99, 115, 117, 119
ЧЕМЕРЬ (чемерица) 240, 241
ЧЕРВЛЕНЫЙ (чьрвленый, чрьленыи) 196
ЧЕРЛЕНЫИ (чрьленыи) 196, 235
ЧЕРНЕЦ (чьрнець) 314
ЧЕРНОРИЗЕЦ 160
ЧЕРНЫЙ: черные люди 134; черный клобук 86
ЧИ 198
ЧИСТЫЙ: чист путь 134
ЧЛОНОК (члонокъ) 133 ЧМЕЛЬ
(чьмель) 292 ЧТО 124, 361 ЧТОБЫ
361
ШАНЦЫ 339, 357
ШЕГЛА (шьгла) 294
ШЕЛОМ 205
ШЕРЕНГА 338
ШКИПЕР 295 ШКОДА
130, 132 ШЛЕМ
(шлѣмъ) 15 ШМЕЛЬ
292 ШОГЛА 294 ШТОФ
354 ШУЛЬГА 333
ЩИТ: взяти на щит 295
ЩОГЛА см. шогла
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 378
ЮК 295
ЮХАТИ 123
Я (язъ): се яз 321 ЯБЕДНИК
(ябедникъ) 95 ЯВИМЫЙ 151
ЯГЕЛЬ 292
ЯГОДНИК (ягодникъ) 121
ЯДРО 335; огненное ядро 357
ЯКО 155, 159,232,318,354
ЯКОЖЕ 149,155
ЯКОРЬ 45, 293
ЯНТАРЬ 292
ЯРУГА 199
ЯСИ 354
ЯСТИ 80, 152
ЯТВЯГ 56
ЯТКА 131
ЯХОНТ 329
Условные сокращения
В работе в основном используются общепринятые сокращения, слов,
но есть и сравнительно редко встречающиеся сокращения:
ОИДР — Общество истории и древностей российских при Московском университете
ОЛЯ — Отделение литературы и языка Академии наук ОРЯС —
Отделение русского языка и словесности Академии наук
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института
русской литературы (Пушкинский дом)
Содержание
От издательства ....................................................................................................... 3
Глава 1. Образование и начальный этап развития
литературного языка в эпоху Киевской Руси (ІХ-ХІ вв.)
Введение.............................................................................................................. 5
О происхождении русского литературного языка ................................... 9
Глава 2. Типы литературного языка Киевской Руси (XI—XIII вв.)
Договоры русских с греками ........................................................................ 27
«Русская правда» ............................................................................................. 64
Древнерусские грамоты .............................................................................. 117
Проповедническая литература ................................................................. 135
Сочинения Владимира Мономаха ............................................................ 165
«Слово о полку Игореве» ............................................................................ 182
«Моление» Даниила Заточника................................................................. 224
Язык летописей ............................................................................................. 245
Глава 3. Типы литературного языка Московской Руси (ХІѴ-ХѴІІ вв.)
Язык Московского государства .................................................................. 276
Язык памятников, отражающих
«второе южнославянское влияние» .......................................................... 299
Литературный язык второй половины XVI в ......................................... 317
Деловая письменность Московского государства ХѴ-ХѴІІ вв.
как источник для характеристики московского говора ....................... 321
Посадская письменность XVII в. — первая фиксация
русского национального языка.................................................................. 325
Литературный язык второй половины XVII в ........................................ 331
Глава 4. Русский литературный язык первой половины XVIII в.
Развитие литературного языка на национальной основе в
Петровскую эпоху ........................................................................................ 340
Значение трудов А. Д. Кантемира, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского в истории литературного языка ........................................ 362
Роль М. В. Ломоносова в развитии русского литературного
языка ................................................................................................................ 373
Указатель имен .................................................................................................... 389
Указатель слов...................................................................................................... 394
Условные сокращения ....................................................................................... 412
Учебное издание
ЛАРИН Борис Александрович Лекции по истории
русского литературного языка
Редактор К. Б. Васильев Верстка и дизайн
обложки М. К. Васильев Корректор Н. П.
Колдина
401
Издательство «Авалон» е-таіі:
аѵа!оп@рѵ7874.5рЬ.ес1и
Издательство «Азбука-классика». 196105,
Санкт-Петербург, а/я 192.
Подписано в печать 25.07.2005. Формат 60X907,6.
Гарнитура «Миньон». Печать офсетная. Усл. печ. л.
26. Тираж 3000 экз. Заказ № 2408.
Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный
двор» им. А. М. Горького Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям. 197110,
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА»
ОБРАЩАТЬСЯ:
Санкт-Петербург:
издательство «Азбуко»
тел. (812) 327-04-56, факс 327-01-60
«Книжный клуб «Снарк»
тел. (812) 103-06-07
ООО «Русич-Сан», тел. (812) 589-29-75
Москва: ООО «Азбука-М»
тел. (095) 150-52-11, 792-50-68, 792-50-69
ООО «ИКТФ Книжный клуб 36,6»
тел. (095) 540-45-44
т/н.сШЬЗбб.ги, сІиЬ366@апа.ги Екатеринбург:
ООО «Волео Книга»
тел. (3432) 42-07-75
ООО «Топ-книга»
тел. (3832) 36-10-28
тт.орі-кпіда.ги Калининград: Сеть
магазинов «Книги и книжечки»
тел. (0112) 56-65-68, 35-38-38 Хабаровск: ООО
«МИРС»
тел. (4212) 29-25-65, 29-25-67
_Ьоок@Ьаоктігз.кпѵ.т
Челябинск: ООО «ИнтерСервисЛТД»
тел. (3512) 21-33-74, 21-26-52 Казань: ООО
«Таис»
тел. (8432) 72-34-55, 72-27-82
@Ьопсогр.ги
Новосибирск:
5аІе
ЫІ5
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Украина:
ООО «Азбука-Украина», 04073 г. Киев
Московский пр., 6 (2 этаж, офис 19)
тел. (+38044) 490-35-67
@аіЬоока.пеІ
Израиль: «Спутник» (Кфор-Собо)
тел. + 972-9-767-99-98
5аІе
гакаі@ъриЫк-Ъоокѣ.сот Германия:
Коталог
«Аврора», Франкфурт-на-Майне
тел. (069) 37564252; аѵгога@(еІго:.пеІ
ШТЕІШЕТ-МАГАЗИН
Все книги издательства в Іпіегпеі-магазине «ОЗОН» Ыір://тт.огоп.ги/
КНИГА — ПОЧТОЙ
ЗАО «Ареал». СПб., 192242, а/я 300; тел.: (812) 174-40-63;
тт.огеоісот.ги; е-таіі: ро&Ьоок@огео1.сот.ги _________________