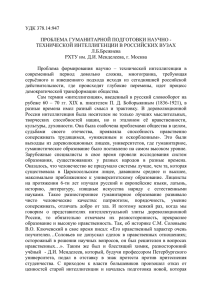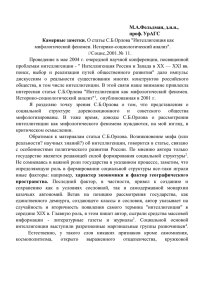Сергей Рой - Sergei Roy'
advertisement
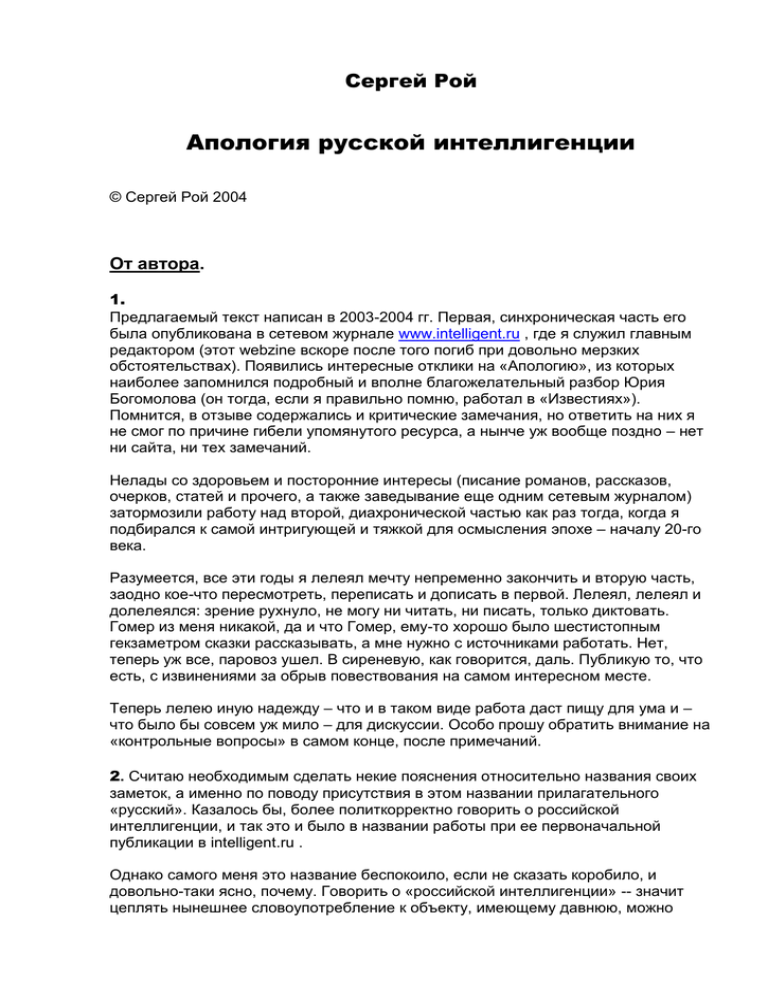
Сергей Рой Апология русской интеллигенции © Сергей Рой 2004 От автора. 1. Предлагаемый текст написан в 2003-2004 гг. Первая, синхроническая часть его была опубликована в сетевом журнале www.intelligent.ru , где я служил главным редактором (этот webzine вскоре после того погиб при довольно мерзких обстоятельствах). Появились интересные отклики на «Апологию», из которых наиболее запомнился подробный и вполне благожелательный разбор Юрия Богомолова (он тогда, если я правильно помню, работал в «Известиях»). Помнится, в отзыве содержались и критические замечания, но ответить на них я не смог по причине гибели упомянутого ресурса, а нынче уж вообще поздно – нет ни сайта, ни тех замечаний. Нелады со здоровьем и посторонние интересы (писание романов, рассказов, очерков, статей и прочего, а также заведывание еще одним сетевым журналом) затормозили работу над второй, диахронической частью как раз тогда, когда я подбирался к самой интригующей и тяжкой для осмысления эпохе – началу 20-го века. Разумеется, все эти годы я лелеял мечту непременно закончить и вторую часть, заодно кое-что пересмотреть, переписать и дописать в первой. Лелеял, лелеял и долелеялся: зрение рухнуло, не могу ни читать, ни писать, только диктовать. Гомер из меня никакой, да и что Гомер, ему-то хорошо было шестистопным гекзаметром сказки рассказывать, а мне нужно с источниками работать. Нет, теперь уж все, паровоз ушел. В сиреневую, как говорится, даль. Публикую то, что есть, с извинениями за обрыв повествования на самом интересном месте. Теперь лелею иную надежду – что и в таком виде работа даст пищу для ума и – что было бы совсем уж мило – для дискуссии. Особо прошу обратить внимание на «контрольные вопросы» в самом конце, после примечаний. 2. Считаю необходимым сделать некие пояснения относительно названия своих заметок, а именно по поводу присутствия в этом названии прилагательного «русский». Казалось бы, более политкорректно говорить о российской интеллигенции, и так это и было в названии работы при ее первоначальной публикации в intelligent.ru . Однако самого меня это название беспокоило, если не сказать коробило, и довольно-таки ясно, почему. Говорить о «российской интеллигенции» -- значит цеплять нынешнее словоупотребление к объекту, имеющему давнюю, можно сказать многовековую историю, в которой он фигурировал именно как русская интеллигенция. В определенный период к ней был прилеплен лейбл «советская интеллигенция» -- явный нонсенс, так как интеллигенция в тот период, особенно к концу его, была чуть ли не поголовно антисоветской, не переставая быть в то же время русской. Есть и иные соображения. Помнится, некий генералиссимус говорил о себе: «Я – русский грузинского происхождения». (Слава Богу, он не сказал «Я – русский интеллигент», это было бы уж чересчур.) В свете этого мне представляется, что диагноз «русский интеллигент» приложим ко множеству лиц самого разнообразного происхождения – просто по факту их неотличимости от других лиц, самим образом своего существования оправдывающих такой диагноз. Возьму в качестве примера одного из своих любимейших писателей – Фазиля Искандера. Разумеется, Фазиль Абдулович – абхазец по происхождению, этого никто не может у него отнять; это – такая же примета его личности, как форма носа и прочего, хотя и много более существенная. Однако по способу существования Ф.А. – именно русский писатель (причем блистательный) и ipso facto русский интеллигент (кому угодно, может добавить «абхазского происхождения»). Некоторые говорят о русскоязычных писателях, и не только писателях, а обо всех подряд. У меня сказать такое язык не поворачивается – хотя бы потому, что это просто неверно. Если идти по этой тропке, то надо говорить не только «русскоязычный», но и «русскокультурный» (возможно, с примесью иных культур), «русскогражданский», «русскоментальный», наконец. Вспоминается – возможно, не к месту и неточно – довлатовское: «Говорили – еврей, еврей, а оказался пьющим человеком». Кстати, вот вам еще один пример – Сергей Довлатов. Мама армянка, папа еврей, а Сергей Донатович – типичный, можно сказать стандартный русский интеллигент, ко всему прочему пьющий – себе на погибель, нам на горе. Все ж таки два литра водяры в день – перегиб, летальная доза; говорю это на основании глубокого проникновения в предмет, но это в скобках. Примеров вроде упомянутых здесь – неисчислимое множество; каждый может привести свои, покопавшись в памяти либо просто оглянувшись вокруг. Надеюсь, сказанным достаточно оправдывается употребление этого прилагательного в названии работы. Разумеется, все было бы проще, и объяснений не потребовалось бы, пиши я по-английски. Озаглавил бы Apologia for the Russian Intelligentsia, и все тут: английское Russian не делает нашего различия между «русский» и «российский». И правильно делает, что не делает. Ни к чему это, в нашем случае. 3. Далее – несколько замечаний по форме изложения или, если использовать набившее оскомину слово, о его формате. Здесь я буду отталкиваться от критики этого аспекта сочинения одним из моих толковейших корреспондентов (он, кстати, упомянут и в тексте работы как успешный бизнесмен, «который на досуге написал толстую книгу, где досконально разбирается с Гегелем и многими прочими по вопросу о времени, смерти и бессмертии», см. 1.7.1). Вот что пишет этот уважаемый мною критик о форме или манере моего изложения: «несколько слабовата в работе сведенность акцентов, ощущение есть разбросанности любой мысли брызгами по всему тексту вместо разведения мыслей по квартирам, группам и главам. Я бы тематизировал каждую главку прямо-таки акцентируя ее главное рассуждение ударно и обязательно закругляя, чтобы виделись начало и конец как спаянные в звено цепи, а у Вас (по ощущениям читателя, не утверждаю, что так воистину) один шнурочек вытягивает, притом виясь и вихляя, за собой случайным узелком следующий, а звено остается неметаллическим, незамкнутым, непропаянным». Для меня такие упреки особенно чувствительны из-за сохранившейся еще со времени занятий теоретической лингвистикой и семиотикой тяги к более формализованному, квазиформальному дискурсу – в противоположность аморфным рассуждениям. Между прочим, и в данной работе есть намек на то, как можно было бы построить, скажем, типологию, разбиение множества, покрываемого туманным, неэксплицированным понятием интеллигенции, на классы, подклассы и т.д. с помощью аппарата, давно разработанного в структурной лингвистике – таких инструментов, как дифференциальные признаки, оппозиции, нейтрализация оппозиций, и пр. (см. 1.1.1). В общем, выбор был простой: типология описанного типа с ее атрибутами формальной строгости и объективности или апология, отягченная всеми недостатками этого типа дискурса – субъективность, даже ангажированность позиции и аморфность изложения, то есть все то, что так въедливо и по делу описал мой критик. В оправдание своего выбора могу помянуть завет Некрасова: стиль должен отвечать теме. А тема уж больно животрепещущая. На кону, собственно, вопрос о существовании интеллигенции – есть она? Нет ее? Быть ей? Не быть ей? В каком виде быть – или не быть? Не спорю, и о таких вещах можно рассуждать отстраненно, объективно, накалывая предметы рассмотрения на булавочки концептов. Однако такое возможно лишь в том случае, когда сам субъект рассуждения, или Наблюдатель (тут мелькает тень Эйнштейна) внеположен универсуму дискурса – а так ли это? И может ли так быть, если этот самый субъект-наблюдатель мается откровенной экзистенциальной дурью: кто я есмь? Интеллигент я или просто место, где когда-то был интеллигент, а ныне непонятно что – потому как мне все уши прожужжали: интеллигенции нет, она была и сплыла; значит, и меня как такового нет и быть не может. И родные мои и близкие, их тоже вроде бы нет – а они вот они, и имеют насчет факта своего существования и образа своего существования вполне определенную позицию. Вот и посудите сами: имея такую мотивацию, можно ли было делать выбор в пользу хладнокровного построения типологии или какого иного конструкта, концепции, на которые столь щедра литература вопроса. Такая задача просто не ставилась. Цитированный выше критик, похоже, это понимает: «несколько хаотично все скомпоновано, если судить научно (а запах текста, скорее, вызывающе антинаучен, то есть ангажирован), и все написано очень заводно, браво, с огоньком, нескучно. Совместить несовместимое, короче, не удалось, но непонятно, стояла ли такая задача, судя по запаху – нет». Именно так: не стояла. Упрек моего критика можно свести к такой формуле: Ваша «Апология» есть апология, а это нехорошо, потому как такой выбор влечет за собой полемичность и некую мозаичность, разбросанность в высказывании собственной позиции. Со всем этим я сердечно соглашусь, но с существенной оговоркой или поправкой: позиция моя действительно высказана мозаично и разбросанно, но вряд ли можно усомниться в том, что (а) она, эта позиция, есть, имеет место быть; (б) эта позиция – вполне отчетливая, определенная; (в) она же и внутренне непротиворечива, строга в той мере, в какой это достижимо в высказываниях на естественном, неформализованном языке. Относительно полемичности и, возможно, даже некоей публицистичности текста. Все это наличествует. (Кстати, первая часть «Апологии» была опубликована в intelligent.ru с подзаголовком «Полемические заметки». Именно заметки, и именно критико-полемические, а вовсе не изложение своей собственной концепции по пунктам, как это хотелось бы моему критику.) В слове apologia – греческий префикс apo-, употреблявшийся, среди прочего, со словами, обозначавшими не только защиту или оправдание, но и просто ответ. Так что моя «Апология» есть ответ в чисто этимологическом смысле -- реакция на разного рода мнения и построения, высказывавшиеся по теме. Про российскую интеллигенцию написано невероятно много, но качество написанного по большей части удручает. Такое впечатление, что всяк пишущий воображает, что «закрыл тему», накидав несколько мыслей или псевдомыслей либо построив «концепцию». Это очень злило, подмывало с этим разобраться (и это -- еще один мотивационный фактор, определивший «формат»). Имея в виду, что по форме мои заметки суть разбор чужих взглядов, мнений, определений, построений и т.д., вроде бы можно сказать, что они имеют дело не с интеллигенцией как объектом (о чем в тексте иногда так и говорится), а с отражениями ее в разных писаниях – в синхронии и диахронии. Но и это не совсем так и даже совсем не так. Дело в том, что способ аргументации в данной работе не сводится к раскрытию внутренних противоречий и нелепостей критикуемых позиций, приведение их к абсурду, хотя и это имеет место. Ход мысли, на который я по большей части полагался – это argumentum ad hominem, обращение к находимому в непосредственно данном жизненном опыте индивидов и групп индивидов, апелляция к очевидному. И вот, в процессе критики разных нелепостей или неточностей сам собой, так сказать от противного, складывался собственный взгляд автора на то, чем была, есть или должна быть интеллигенция, выкристаллизовывалось определение интеллигентности, вырисовывался образ интеллигента – подлинного или симулякроподобного. Определения понятий интеллигенция, интеллигент, интеллигентность нащупывались, таким образом, по формуле «это – не то, что утверждает x, y, z, а вот то-то и то-то», исходя из очевидностей жизненного опыта. 4. В заключение этого несколько затянувшегося вступления хочу высказаться о некоторых явлениях в том слое, который по привычке зовут интеллигенцией, получивших развитие буквально в последние год-два и потому совершенно не затронутых в моем сочинении – по той простой причине, что они в то время отсутствовали как феномен именно общественной жизни, а не факты чьих-то биографий. Буквально в прошедший 2012-й год самоконституировался некий слой, зовущий себя «креативным классом» и заявляющий о себе наиболее громко политически – в оппозиции «режиму». Имею в виду Болотную площадь, публичные прогулки с белыми лентами на лацканах и прочие демонстрации, а также километры писаного в блогах и печатных СМИ и несчетные часы говоримого по радио и ТВ. Забавно наблюдать, что как раз в смысле креативности в материях политических у этого класса дела обстоят весьма хило. Ведут они себя в точности по лекалам, опробованным уже не раз и не два в цветных революциях в Сербии, Грузии, на Украине, в Киргизии: привязывают свой протест к выборам, точнее к своим представлениям о том, каким этим выборам следовало бы быть (а именно таким, как в незабвенных девяностых, когда они, эти нынешние креативные, имели 80 процентов и более телевизионного эфира); скандалят с полицией; даже «балаклавы» позаимствовали со стороны. Перекрасить оранжевую революцию в снежную, нацепить белые ленты вместо оранжевых – на этом креативность как-то затухает. На таком фоне Артем Троицкий в наряде презерватива являет собой образчик истинного творчества, но тут вопрос – в какой мере это угрожает режиму. Такой же вопрос возникает, когда слушаешь рифмованную публицистику г-на Быкова, вроде таких вот строк: Да, так и будет длиться это В краю баранов и овец. Идти в политику, имея – и бесстыдно высказывая – такое отношение к электорату как к стаду баранов и овец, можно только в одном случае: если такой «политик», говорящий за целый класс, на победу в политической борьбе легальными средствами не рассчитывает даже в мечтах, а рассматривает все действо, и свою роль в нем, как клоунаду. Ну, и еще как на способ кормления: если верить радио Коммерсант-FM, упомянутый господин «делает бешеные бабки», продуцируя тонны таких словес. Платят ему, само собой, члены «креативного класса», которые сами делают такие же бабки. И именно это – умение делать бабки – и есть конституирующий признак этого класса, а вовсе не креативность в каком-то более или менее внятном смысле этого слова. И уж, конечно, вовсе не интеллигентность: у субъекта, хоть каким-то боком претендующего на интеллигентность, духовное все же должно довлеть над материальным; во всяком случае, народ так наивно полагал до недавнего времени. Теперь это убеждение креативные господа выколачивают из народной головы вполне наглядно и эффективно. Член «креативного класса» (обозначим его для краткости к-член) есть в первую очередь жлоб. Соответственно «креативный класс» есть сообщество жлобов par excellence. Интеллигент есть не-жлоб, он – анти-жлоб. Определение негативное, но, как представляется, вполне внятное разуму россиянина. Если спросить, как они, креативные наши, собираются свергать кровавый путинский режим демократическим путем, т.е. апеллируя к электорату, к тем самым «баранам и овцам», ответ будет простой: да никак. Похоже, у них один ответ, одна надежда – «заграница нам поможет», причем в первую голову материально: жлоб есть жлоб. Что ж, заграница эту надежду посильно оправдывает, Конгресс США денежку выделяет исправно, хотя и не в таких размерах, как хотелось бы реципиентам (см. в качестве небольшого примера статью Эда Лозанского в http://www.ng.ru/politics/2013-02-25/3_kartblansh.html ). Ольга Крыштановская припечатала этот «креативный» класс своим термином – поп-элита. Из наблюдений над такой «элитой» складывается довольно твердое убеждение (не мною первым высказанное): пока этот класс и его оппозиционность олицетворяет Ксюша Собчак с ее полутора миллионами евро, рассыпанными по всей квартире, режиму Путина опасаться решительно нечего. За Путина будут все те же 63 процента «баранов и овец», плюс 10-15, по лени или занятости не пошедших на выборы. Те самые 70+ процентов, которые перебиваются с хлеба на квас на зарплату в 4-5 тыс. рэ и боятся потерять и это. У них креативность Ксюши и иже с ней не вызывает ничего, кроме омерзения и ожесточения. Известное дело, мужички с нижнетагильского завода даже предлагали Путину приехать и разобраться с этим классом («в рамках закона», во что, честно говоря, верится довольно слабо). Креативности или, проще, мозгов у «креативного класса» не хватает даже на то, чтобы сообразить простую вещь: пока массам до них нет никакого дела, они могут играть в бирюльки цветной революции, сколько им влезет. Между клоунадой и реальной жизнью миллионов точек соприкосновения ничтожно мало, в основном через телеящик. Но стоит тронуть зарплаты и пенсии этих самых масс – а это неизбежно при смене нынешнего режима на чаемый «креативным классом» более либеральный, сопровождаемый поголовной приватизацией и глобализацией – как грянет бунт, описанный еще бессмертной пушкинской фразой. И что тогда? Да очень просто: Sauve qui peut, такой будет не слишком креативный лозунг поп-элиты. Естественно, будет некоторое количество таких, которые ne peuvent pas, но мне лично их как-то не очень жаль. Раньше надо было думать, и желательно головой, а не прочей анатомией. Был уже один такой буревестник, покрупнее Быкова, Акунина, Парфенова и прочих вместе взятых; все кудахтал – «Буря, пусть сильнее грянет буря!» Ну, она и грянула. Пришлось на Капри спасться – да не спасся. Позвольте еще высказать пару довольно общих соображений относительно пары интеллигенция – власть. Если опираться на ассоциации, отложившиеся в языке относительно понятия «российский интеллигент», если смотреть на него в исторической и очень общей перспективе, то получается, что русский интеллигент – это действительно индивид, настроенный по отношению к власти неизменно критически и негативно. Однако негативизм этот весьма вариабелен, варьирует в широком спектре от полной пассивности и аполитичности (плюс погруженность в «малые дела») до революционаризма. При этом революционеры, вроде бы интеллигентные, при очках и в шляпе, не стесняются называть всю остальную интеллигенцию «говном» (Ульянов-Ленин), но оттого не избавляются от неких родимых пятен худших сортов интеллигенции – вроде экзальтации, психической неуравновешенности, сосредоточенности на себе любимом/ой. Вот этот сорт интеллигенции, последышей Ленина --Троцкого, мы и наблюдаем ныне в облике «креативного класса». Другая черта типичного российского интеллигента в исторической перспективе и по языковым ассоциациям – чувство вины перед «народом», из которого он, интеллигент, вышел (из семинаристов до революции, напрямую из рабочихкрестьян после, в результате реально имевшей место культурной революции) и о котором он полагает своим долгом проявлять заботу, окормлять духовно и материально. Для Ленина же и его фракции в интеллигенции не только прочая интеллигенция – говно, но и народ – лишь средство к достижению цели, такой же навоз и перегной, как говно-интеллигенция. Если это средство чего-то бузит, не понимает благородных целей революционной элиты, к нему позволительно применять террор вплоть до газов, которыми Тухачевский окормлял крестьян на Тамбовщине. В этом смысле, в отношении к народу, нынешняя поп-элита – опять-таки прямая наследница Ильича и Троцкого: то и дело слышишь от этих «креативных» словечко «быдло». Даже в печати не стесняются его употреблять (Новопрудский, Милов – из того, что помню), не говоря уж про блоги – там обещают развешивать быдло на фонарях и деревьях на много километров. В языке, как упомянуто, утвердились определенные ассоциации со словом «интеллигентность», и под нее вот такой «креативный класс» никак не подведешь. Не влезают. Помимо революционаризма в отношении власти и презрения к быдлу, нынешний «креативный» класс имеет еще один общий признак с Лениным, а того более с Троцким: пренебрежение не только к народу, но и к стране. У тех, давних, это выливалось в готовность сжечь Россию в пожаре мировой революции. У этих, нынешних, все мельче и пошлее: грантососание, непременные визиты в Вашингтон и в посольство США к м-ру МакФолу, известному спецу по цветным революциям; статейки о неизбежном распаде России в академических журналах; атака на РПЦ под разными предлогами. На последнем факте стоит, пожалуй, остановиться несколько подробнее. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не видеть, что нынешний вал атак на РПЦ хорошо организован и скоординирован. В этих атаках все средства хороши: хулиганская выходка прошмандовок в соборе Христа Спасителя, богомерзкие выставки «актуального искусства», умные рассуждения в печати, по радио и на ТВ об опасной деятельности РПЦ по подрыву светского характера российского государства (недавно имел удовольствие слушать такие обличения РПЦ из уст моего бывшего коллеги по «Московским новостям», г-на Лошака, на телеканале «Совершенно секретно»). В нынешнем своем подслеповатом состоянии, не имея возможности читать, я много слушаю радио – БизнесFM, СитиFM, КоммерсантFM, ВестиFM, КПFM, ФинамFM и пр. И я давно потерял счет тем передачам по этим радиоканалам, в которых прокручивается ad nauseam история про дорогие часы на руке патриарха и их отражении в стекле на столе. Здесь же озвучивается и многое другое – вплоть до публичных предложений (проектов) начисто ликвидировать РПЦ (от господина, который фигурирует в тексте настоящей работы как Политтехнолог (см. 1.4)). Короче, идет напряженная, массированная работа по промыванию мозгов с целью подрыва одного из институтов российского государства. По этому поводу имею сказать следующее. По рождению и воспитанию я – атеист и даже вольтерьянец, воспитан на издевательских творениях Лео Таксиля (Leo Taxil), очень широко в нашей стране распространенных в атеистическую советскую эпоху. В то же время я, смею надеяться, наделен малой толикой здравого смысла и могу по достоинству оценить кампанию, развязанную вполне определенной компанией людей и учреждений. Цепочка силлогизмов здесь очень простая, ее понимание не требует каких-то особо изощренных интеллектуальных усилий. Если и есть какая-то опасность, то это – опасность отторжения в силу избитости этих истин – которые, однако, не перестают от этого быть истинами. Россия – государство; она может продолжать существовать как единое целое только в таком качестве. В этой России есть государствообразующая этническая общность – русский народ. Этот народ создал, в процессе исторического развития, некие институты, которые опять-таки можно считать государствообразующими: бюрократию, армию, полицию, системы образования и здравоохранения, инфраструктуру и прочее. Так уж исторически сложилось, что Русская православная церковь от веку была одним из этих государствообразующих институтов и продолжает оставаться в таком качестве поныне. Это с особой силой сказалось в худшие для церкви и страны времена, в войну, когда к ней вынужденно обратился за поддержкой сам тиран, бешеный ее гонитель. Так вот, вполне можно быть атеистом, высказывать, где надо, свои взгляды на фантазмы вроде потустороннего мира, воспитывать в этом духе своих детей и т.д. – и в то же время относиться к церкви с пониманием ее роли (напомню, исторически сложившейся) в жизни миллионов людей, тех самых, которые и есть государствообразующий народ России. Соответственно ничего, кроме жесткого неприятия не может вызвать похабная кампания, организованная (прошу обратить особое внимание на этот момент – явно организованная и спонсированная, ибо время на радио и ТВ ох как дорого) вполне определенными силами. Которым мощное российское государство и его институты – как кость поперек горла. Возвращаюсь к основной линии изложения. Понятное дело, я здесь аргументирую бессистемно и поверхностно, но это все можно взять глубже и системнее, и тогда «креативный» класс предстанет во всей своей голой неприглядности. Не уверен, право, что такой анализ так уж необходим. Народ чует чужесть этих к-членов нутром и в особых доказательствах не нуждается. Это с одной стороны. С другой - ни сам этот класс, ни его западные грантодатели никаким доказательствам и аргументам не поверят и оные отринут. У них своих, хорошо оплачиваемых специалистов по пропаганде и контрпропаганде достаточно; много больше, во всяком случае, чем могут выставить силы, полагающиеся на бесплатных энтузиастов вроде Роя и ему подобных. Повторюсь: моя позиция, при всех моих потугах на объективный анализ – это позиция ангажированного человека. Неангажированные люди не пишут апологий, пишущий апологию не может быть неангажированным. Эта ангажированность, доходящая в моем отношении к псевдоинтеллигенции, или «креативному» классу, до омерзения, имеет в моем случае давние истоки. Я, разумеется, не жил во времена Ленина-Троцкого, но диссидентуру 60х, 70х, 80х – прямых предтеч «креативного» класса – знаю и знал хорошо. Я, разумеется, фрондировал всю жизнь, иначе какой из меня интеллигент. Я даже могу точно датировать начало своей фронды – 1950-й год. В этом году, если кто помнит, И.В.Сталин издал брошюрку, превозносившуюся тогда как фундаментальный труд «томов премногих тяжелей». Не могу удержаться от того, чтоб не рассказать в этой связи байку, которую услышал гораздо позже. Директор Института языкознания, естественно, интересовался мнением работников своего института о том гениальном творении, но однажды напоролся на такой ответ: «А что, особых глупостей там нет». Не знаю, как Б.А. Серебренников выкрутился тогда из этой ситуации, да и не в этом дело. А дело в том, что четырнадцатилетний я нашел-таки в том труде некие глупости или несообразности и наполнил целую ученическую тетрадку их критикой. Тетрадка вместе с моим тайным дневником была выкрадена одноклассницей и попала в руки училки по истории, что стоило моим родителям ранних седых волос. Вот тогда я впервые столкнулся с феноменом, который впоследствии не раз меня выручал: никто не хочет скандала. Ведь, допусти училка огласку, в виноватых оказался бы не только несовершеннолетний балбес, но и педколлектив, его взрастивший. Кончилось тем, что я сжег и критику, и дневник – как сейчас помню, в дупле орехового дерева – и перешел в тайных своих записках исключительно на английский. Надеюсь, читатель простит старику эти воспоминания – уж больно они забавны. Так вот, фрондировал я всю жизнь, как и вся интеллигенция вплоть до самых высокопоставленных ее представителей; исключение составляли лишь самые тупые или, скажем, недалекие, но какие из них интеллигенты. Однако границу между своей фрондой и взглядами, а того больше типом поведения ярых, завзятых диссидентов ощущал очень отчетливо, как ощущал отчетливую неприязнь к ним и с их стороны ко мне. Там стояли два пограничных столба: (1) пренебрежение, часто презрение, со стороны диссидентов к России и ее народу, доходящие до клинической русофобии; это очень заметно было у многих самиздатовских авторов, часто в грубой, хамской форме (см. А.Л. Янов и мою полемику с ним в Johnson’s Russia List); (2) нечистота личного поведения: ребята откровенно жировали на подачки западных журналистов и иных засланных казачков, с которым я бывал лично знаком и деятельность которых наблюдал непосредственно. Кое-кто из той диссидентуры садился, это так, но было и множество избежавших неприятностей и даже этими неприятностями, когда они случались, бравировавших и стригущих с них купоны. А ведь были еще и орлы, подрабатывающие и на ваших, и на наших, ой были. Бульон, который сварили те диссиденты, послужил идеологической подпиткой сил, сваливших в конечном счете Советский Союз (я сейчас только об идеологии; главное, разумеется, лежало совсем в другой плоскости -- в экономике). Правда, когда подошло веселое перестроечное и постперестроечное время, их самих откинули далеко в сторону: на наших собирухах в 89-м году максимум, что они могли предложить – это написать еще одно письмо мировой общественности, обличающее, скажем, Горбачева. Это была уже просто шутка юмора, на фоне массового движения. Им в те дни просто предлагали освободить трибуну – скучно было слушать их жвачку. Но их (и моя, и моя) пропаганда антикоммунизма сделала свое дело, в точности по Зиновьеву: целились в коммунизм, свалили историческую Россию. Теперь вот, буквально на наших глазах история вроде бы повторяется: «креативный» класс бьет по «путинскому режиму», а повалит Россию, на этот раз уже с концами. Все мы помним, конечно: история если и повторяется, то уже как фарс. Что мы сейчас и наблюдаем, эти пляски вполне карикатурных фигур. Кишка у них тонка свалить Россию. Нечего им предложить людям, кроме повтора проклятых девяностых. Спасибо, наелись ельцинщины. Путинский режим если и повалится, то из-за собственной двойственности. Он ведь и суверенитет России хочет сохранить (читай: не дать своим активам раствориться в транснациональных корпорациях и так потерять над ними контроль), и Западу как-то потрафить, ибо именно на Западе их детки, счета и недвижимость. Такая у них национальная (вполне себе анти-национальная) идея, раздвоенная, аки язык змия. Есть в этом режиме и весьма зловещие, просто предательские элементы типа Медведева-Дворковича, откровенно распродающих Россию (ср. историю с Ванинским портом). Что со всем этим делать – вопрос совсем из другой оперы. Вряд ли в том, что так академично называется историческим процессом, какую-либо роль сыграют разборки на тему – что есть интеллигенция, что таковой не является, и есть ли она вообще. Но такая уж планида интеллигента – без самокопания ему и жизнь не мила, без нее он уж и не совсем интеллигент вроде… Sergei Roy Safonovo Hills 20121106 sergeiroy@yandex.ru backup: sergeiroy@yahoo.com www.sergeiroysbooks.de 0.1-4. Введение в тему Справляющие поминки по русской интеллигенции в общем укладываются в две обширные группы – с грустью ее отпевающие и радостно пляшущие на ее гробе. И те, и другие смотрятся как организаторы поминок по чему-то живому; здесь мы попытаемся показать, что и отпевание, и пляски несколько преждевременны. 0.1. Жива ли российская интеллигенция и есть ли тут проблема. Время от времени приходится читать и даже слышать из «ящика», что российская интеллигенция умерла (вариант: вот-вот умрет; вариант: перестала быть интеллигенцией; вариант: потеряла право называться интеллигенцией; вариант: испытывает трудности с самоидентификацией; вариант: потерпела жизненный и мировоззренческий крах; список можно продолжить). Мнения эти зачастую исходят от людей весьма образованных и в этическом плане вроде бы вполне достойных, то есть интеллигентных (хотя бы в обыденном, общеупотребительном смысле этого русского слова) и по-видимому относящихся к той самой группе, существование которой они отрицают или подвергают сомнению. Имеет место, таким образом, некое противоречие, парадокс; как сказал бы интеллигент (или, чтобы не путаться в терминах с самого начала, просто мыслящий субъект/личность), ситуация проблематизируется. От этого упомянутый субъект испытывает интеллектуальный – и не только интеллектуальный, см. ниже – дискомфорт и естественное желание проблему както разрешить или «снять», на гегелевский манер. Не скрою, что данная проблема затрагивает автора этих строк в первую очередь личностно или, скажем так, экзистенциально; правда, не в форме «Быть или не быть?» (еще чего не хватало), а что-то вроде «В конце концов, я есмь х или не есмь х?» где х – субъект с атрибутом «интеллигент», ибо если нет интеллигенции, то и бытие в качестве интеллигента становится по меньшей мере сомнительнымi - и оттого дискомфорт. Наверно, это можно понять. Посудите сами. Человек прожил довольно-таки долгую жизнь именно под вывеской интеллигента, или, говоря по-нынешнему, сроднившись с этим брендом. Про него говорили не просто «лингвист, доцент, поэт-переводчик, журналист, писатель, главред и т.д. такой-то», все это довольно пресно и прозаично, но еще при этом называли – иногда прямо в глаза или в печати – «интеллигентом», «рафинированным интеллигентом», «либеральным интеллигентом». И это было, грубо говоря, приятно. Ведь если следовать сложившемуся в русской языковой культуре узусу (ну, просто словоупотреблению), назвать кого-то интеллигентом – это вроде как медаль повесить, скромную такую медаль, совсем не орден с алмазами, а что-то вроде солдатской «За боевые заслуги», в просторечии «бэ-зе», если кто помнит. И вот человека лишают звания, медаль отбирают, а потому естествен крик возмущенной души: «За что? На каком таком основании?» Но это, как говорится, «с одной стороны». Есть, есть, однако, и другая сторона, и она у нас у всех постоянно перед глазами или, скажем так, под ногами. Забавы ради проиллюстрируем ее парой примеров из журнально-газетной текучки. «Водитель сквозь стекло что-то орал. Я указал на полосы под моими ногами: дескать, имею полное право. Он продолжал орать, машина двигалась на меня. Я стоял. Вот бампер уже почти уперся мне в колени. Дверь открылась, высунулась дама неожиданно интеллигентной наружности. --Ты че, пьяный, ..., или дурак, ...? – закричала дама, каждое слово перемежая матом. – Вали давай, ..., пока не переехала!»ii Нет нужды доказывать, что писатель, по роду службы, берет типические характеры в типических обстоятельствах; к тому же каждый может припомнить нечто аналогичное из своей пешеходной практики, не говоря уж о трамваях. Второй пример – из российского ТВ, и пусть уж читатель судит сам, насколько он типичен. Вот что Владимир Поляков пишет в «Литературке» о программе «Дом-2» на ТНТ: «Мои многочисленные попытки посмотреть в исследовательских целях хотя бы одну передачу провалились: срабатывает «тошнотворный рефлекс». Бесконечное зрелище чего-то телепромискуитетного ведет самодовольно гламурная дщерь покойного главного демократа Санкт-Петербурга и члена Совета Федерации от Республики Тыва Ксюша Собчак. Не публичный ли «Дом»?!» iii Нелепо было бы отрицать существование и, возможно, количественное преобладание таких дам (и джентльменов) «неожиданно интеллигентной наружности» в российском образованном классе или, как они сами любят себя называть, элите (упомянутая В. Поляковым семья и вовсе состоит из «особ, приближенных к императору»; куда уж элитнее). Собственно, примеры – это так, для оживляжа; в жизни, чтобы увидеть это, достаточно открыть глаза, и взгляд непременно упрется в какого-нибудь Филю, в похабень либо похвалу бандитизму, фашизму и прочей нечистоте на книжных лотках, и прочее. Все это так, но есть ли тут проблема? В известном мысленном эксперименте проф. Преображенский и из дворняги ухитрился сотворить нечто человекообразное; его бы, это существо, побрить, постричь, надушить, приодеть, подгримировать, поднатаскать – и вполне сошло бы за «лицо неожиданно интеллигентной наружности». За ним потянулся бы континуум, сплошь из переходных типов, на другом конце которого вполне можно поместить привычную и не потерявшую очертаний, несмотря на теоретические споры о ее существовании, фигуру российского интеллигента, а между крайними точками (не будем уточнять, где) нашлось бы место и Ксюше Собчак. Все вроде бы проще простого: есть настоящие, «модельные» интеллигенты, а есть и подражания и подделки; при достаточной практике отличить первые от вторых не составляет особого труда. Проблема если и есть, то она чисто техническая. Но тут чувствительный к логике читатель может заметить, что мы потихоньку описали круг и вернулись к вопросу, или вопросам, заявленным в начале: а существуют ли они сами, эти «модельные» интеллигенты? Или правы авторы, начисто отрицающие само их существование кроме как в виде ископаемых в саркофагах книжных шкафов или в аллювиальных отложениях быта? 0.2. Интеллигенция явочным порядком. Вообще-то в математике, чтобы доказать, что множество существует (или что оно не пусто), достаточно предъявить хотя бы один экземпляр этого множества. Конечно, жизнь – не математика, социальные группы и дефиниции групп постоянно «плывут», а индивиды («экземпляры») вообще находятся в непрерывном броуновском движении. За каждым не уследишь – вот он только что был в заданном классе, а завтра переметнулся или вообще взял и помер, и поди рассуди, можно его наградить медалью Интеллигента посмертно или, наоборот, лишить звания ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Так что в лучшем случае здесь можно говорить о нечетких множествах (fuzzy sets), да и то не стоит: математической ясности никогда здесь не добиться, и нечего об этом понапрасну жалеть. Действительно важные вопросы, хоть в математике, хоть в свете здравого смысла, остаются все те же: а можем ли мы предъявить хотя бы один экземпляр «модельного» интеллигента? Можем ли мы предъявить множество таких экземпляров, вкупе составляющих интеллигенцию? А если да, то откуда эти назойливые разговоры о смерти интеллигенции, более похожие на попытки похоронить нечто живое, но не совсем приятное авторам уничижительных рассуждений? Каковы мотивы ведущих эти разговоры? Ну и т.д. – тут много вопросов накатывает. Будь я более кокетлив, эксцентричен или, как теперь любят говорить, провокативен, я бы предложил довериться следующему, логически несколько ущербному силлогизму: «Я – интеллигент. Я существую. Следовательно, интеллигенция существует». Но даже в этом ходе есть определенный непровокативный, вполне прозаический смысл: этот силлогизм могут повторить, положа руку на сердце, при самом строгом отборе, десятки людей, которых я знал за свои семьдесят с лишним лет, начиная от интеллигентов дореволюционной выделки (мой родной дед родился в 1870 году и дожил до 95 лет, его младший брат, который меньшевик, умер в возрасе 104 лет; а ведь были и около- и внесемейные соприкосновения, о коих не могу теперь вспоминать без судороги умиления) и кончая интеллигентами самой последней формации, которых, согласно новейшим воззрениям, вроде и быть не должно. Более того, есть уверенность, что любой из них может предъявить существенно больше экземпляров интеллигентов, про которых точно известно, что они – именно интеллигенты и наверняка принадлежат множеству, называемому интеллигенцией. Далее, вокруг каждой точки одного круга интеллигенции можно описать еще и еще окружности; так качественное убеждение в существовании интеллигенции подкрепляется количественно – во всяком случае, умозрительно, в порядке мысленного эксперимента. Помимо таких выкладок на основе собственного жизненного опыта, убеждение в существовании интеллигенции в качестве живого, не вымершего социального типа подкрепляется и обыденной речевой практикой (упрек: «А еще интеллигент!» или «Да какой он интеллигент!», resp. «Вот, настоящий русский интеллигент!»). Можно привести также свидетельства массовой культуры; одно наудачу взятое исследование в этой области показывает: «С точки зрения массовой культуры, востребованность интеллигенции состоит в защите слабых, а также в том, чтобы установить стандарт справедливости и поддержать веру в справедливость. В какой-то мере ценности идеализированных масс-культом интеллигентов сближаются с ценностями народников 19-го века. Формируется новый тип интеллигента – интеллигента сильного, способного защитить и себя, и других, не поступившись, тем не менее, своими моральными принципами»iv. Разумеется, ценность такого рода свидетельств не стоит преувеличивать: герои масс-культа – те же сказочные персонажи. Однако и просто отмахнуться от этих свидетельств нельзя: социальная потребность в таких героях обрисована вполне убедительно. Сказка ложь, да в ней намек... Опять же в нормальной, не-масс-культовой литературе и прочих видах искусства то и дело мелькают фигуры интеллигентов, типичных и не очень. Откуда-то же они туда попали? Уж не из жизни ли? И даже относительно авторов таких произведений закрадывается робкое подозрение – а не интеллигент ли он/она? Что-то очень похоже, хотя бы силуэтом... Да и в «ящике» временами (правда, не слишком часто) собираются группы индивидов, про которых зрители говорят: «Ну вот, опять заведут свои интеллигентские разговоры (resp. бодягу)», и чаще всего не ошибаются: нутром чуют. 0.3. Литература вопроса. Но вот, убедившись, так сказать, наощупь, в том, что интеллигенты – вот они, «существуют – и ни в зуб ногой», и вроде нет и предмета для дискуссии, наблюдаем параллельно и другой упрямый феномен: существует и мощно разрастается литература, отрицающая в той или иной форме, по разным поводам и с разной степенью ярости, развязности, терминологической ясности и аргументированности существование интересующей нас «прослойки», «социальной группы», «антропологического типа», «субкультуры», «социального института», «монашеского ордена» и т.д. Литература эта настолько уже обширна, что подробный разбор ее в рамках статьи оказывается невозможнымv, и нам придется ограничиться кратким анализом наиболее репрезентативных точек зрения. Такие репрезентативные позиции мы обозначим условными метками: Суровый Обличитель, Пессимист-экстремист, Ницшеанец, Политтехнолог, Постмодернист, Вестернист, Объективный Судья, Философ, Грустный Констататор, Карнегианец, Клинический Случай, Самобичеватель, Путаник, и т.д. Разумеется, мы не претендуем на полноту охвата всех позиций и даже на исчерпывающий анализ тех, что затронуты ниже: нам важно рассмотреть само качество приводимой аргументации и сколь возможно честно убедиться в том, что она не опровергает очевидного факта, обозначенного в п. 0.2. Ну, а если опровергает – принять и посыпать главу пеплом, а также разорвать одежды. Все работы нашей (предположительно) репрезентативной выборки взяты из современной, то есть постперестроечной (с начала 1990-х), литературы. 0.4. Задачи. Догмат. Методы. Хотя наш текст носит откровенно апологетический характер (в духе сказанного в пп. 0.1, 0.2), мы предполагаем внимательно присматриваться к объему и содержанию понятия интеллигенции в рассматриваемом материале, а также к выделяемым разными авторами типами интеллигенции. Во-первых, прошлое чтение подсказывает, что в употреблении этого термина наблюдается порядочный разнобой и путаница (то есть некая «нетерминологичность»), а это нехорошо, и хотелось бы нащупать некий method in this madness. Во-вторых, есть надежда таким образом получить более отчетливую экспликацию данного понятия и, может быть, даже проникнуть в суть интуитивно ясного явления – надежда, за которой отчетливо просматривается не слишком и скрытая цель самоопределения и оправдания собственного существования. В-третьих, не ставя себе задачи построения строгой типологии данного явления на гипотетико-дедуктивных, индуктивных или каких-либо еще основаниях, полезно каждый раз отдавать себе отчет в том, о каких таких типах, разрядах, категориях интеллигентов или иных лиц идет речь. Таким образом, предполагается рассматривать интеллигенцию и как данный в жизненном опыте феномен, и как теоретическую конструкцию (точнее, целый веер таких конструкций). Автор считает своим интеллигентским долгом предупредить, однако, что и то, и другое проходит под знаком интеллигентской веры. Воспитанный в этой вере, автор естественно склонен к ее апологии, к самозащите и защите своих «корелигионистов» (прошу прощения за неловкую кальку с англ. сoreligionists). Правда, здесь есть искупающий момент: она, интеллигентская вера (во всяком случае, в том варианте, что был вдолблен автору в голову с младых ногтей), требует беспощадно-критического, не зависящего от чьих-либо мнений и внешних обстоятельств анализа всего на свете, включая собственные основания этой веры и собственный статус интеллигенции в меняющемся мире, в контексте материальных, социальных и духовных изменений. Требует, в общем, постоянного оправдания смысла собственного существования, форм существования, поведения и т.д. Основной догмат этой веры – примат духа над материей, а «дух есть свобода, творческая активность, смысл, интеллект, ценность, качество и независимость, прежде всего независимость от внешнего мира, природного и социального. Духовное начало в человеке означает определяемость изнутри в отличие от того состава человеческой природы, который определяется извне. Как существо духовное, человек есть существо активное, творческое, свободное»vi, ну и т.д. Несмотря на расплывчатость и, прямо скажем, некую размашистость, нестрогость бердяевского определения базисного понятия, придется пока довольствоваться им – в надежде, что дальнейшее изложение прояснит нашу позицию. В порядке подстрочного примечания сразу стоит объясниться, что о примате духа мы говорим в чисто личностном, субъективном плане, а не в смысле пресловутого «основного вопроса философии», который остается далеко-далеко в стороне. Методы нашего исследования, если можно так его назвать – это интроспекция и «включенное наблюдение», то есть наблюдение изнутри наблюдаемого объекта. Несмотря на их очевидную ограниченность, эти методы имеют и преимущества перед «объективным» насаживанием жучков на булавки: жучки немы (или не мы – кому как нравится), а мы очень даже говорливы. Иногда слишком. Вторая часть предлагаемой работы («Мифология») также служит как апологетике, так и экспликативным задачам. Тот факт, что синхронический срез у нас предваряет диахронический нарратив, объясняется намеченным в п. 0.1 экзистенциальным мотивом: если падет основная посылка насчет нынешнего существования интеллигенции, то и разбираться в истории (или, если откровеннее, мифологии) интеллигенции особого смысла (кроме чисто академического, не имеющего отношения к «вере») нет. 1. Интеллигенция в синхроническом срезе. Критика критики 1.1. Суровый Обличитель. Начнем, более или менее наудачу, с критики интеллигенции Суровым Обличителем – скажем, Игорем Золотусскимvii. Его статья – страстная и правдивая филиппика, под каждым абзацем которой мог бы подписаться и автор этих строк. Ибо что ж тут возражать: определенная часть российской интеллигенции крупно выиграла от изменений в стране после 1991 года. В уровне собственной свободы (и даже целого набора свобод), в престиже (в собственных глазах), а того более в материальном отношении в силу близости к власти и денежным тузам, «олигархату» (при очевидном сращивании, вплоть до неразличимости, этих сил – политических властителей, экономических тузов плюс криминалитет). Правда, Золотусский бичует не всю интеллигенцию, а лишь ее «элиту», «которая пришла с Горбачевым, кантовалась при Ельцине и теперь прилепилась к Путину. Ее дистанцирование от народа стало чертой эпохи. Даже в советское время так не было. Сегодня элита жестко сосредоточилась на собственных нуждах, далеких от нужд большинства. Мы сделались свидетелями свирепого эгоизма «избранных»». Как говорится, умри, Игорь Петрович, лучше не скажешь. Я бы возразил лишь немного насчет тех, которые «прилепились к Путину». За десяток лет, прошедших до прихода Путина, то есть в ельцинскую эпоху (если это позорище не стыдно именовать эпохой), та интеллигенция, о коей идет речь, успела прочно «прилепиться» к баронам двух сортов – региональным и финансовоиндустриальным. Она кормится из их кормушек, а Путину им особо предложить нечего – разве что думские и прочие места в структуре «режима» (но набор этих мест жестко ограничен) да цацки на грудь (которые получателя ни к какой лояльности не обязывают). Так что есть определенный резон, скажем, в утверждениях, что процентов 80 наших СМИ – в той или иной мере антипутинские, и даже те, что работают на госканалах, не упускают случая помахать спрятанной до поры до времени фигой. Я уж не говорю о закупленных в допутинские времена; те с утра до ночи верещат о репрессиях, откате, разгроме демократии, тоталитаризме, авторитаризме и прочих ужасах. Перекупить их нет никакой возможности (даже если бы у кого-то была охота): гадить на Россию – слишком высоко ценимый на международном рынке товар, и цена его к тому же резко повышается, когда он сделан «беспристрастным очевидцем» из местных. От «элиты» Золотусский отличает интеллигентов, находящихся «внизу», которые «честно выполняют свой долг. Библиотекари, учителя, врачи, работники музеев (святые люди) по-прежнему служат народу и, иногда голодая, помогают ему. Имена их никому не известны, но я не знаю, что стало бы с честью нашего сословия, если б не они». Эти «святые люди», собственно, и составляют интеллигенцию, а то, что называет себя элитой, в собственном, историческом смысле интеллигенцией уже не является, потеряв право на это достойное имя ввиду явного похабства своей жизненной позиции – таков, фактически, вывод из статьи И.П. Называть «элиту» интеллигенцией можно, пожалуй, лишь по укоренившейся речевой привычке или из жалости. Этой дихотомией можно было бы удовлетвориться, если бы нас волновали чисто лингвистические или концептуальные вопросы. Однако выше мы достаточно четко обозначил свой интерес, который предпочитаем называть экзистенциальным: А нам-то что делать, тем, которые и не шкурники, и не святые люди, а более или менее обеспеченные (по российским меркам) нормальные профессионалы? Как нам оправдать свое существование под привычным стягом интеллигента? Пройдя суровую школу выживания и сохранения интеллигентской девственности при Советах, пусть хоть за счет мимикрии, но главным образом за счет хребтом заработанного профессионализма и сопутствующей ему независимости (хотя бы минимальной или вообще иллюзорной), мы ухитрились сохранить эту свою позицию и в постсоветские времена. Но вот беда: нынче все это – совсем не резон для самодовольства и успокоенности; ведь червь точит; вернулось чувство вины перед народом (или, скажем скромнее, морального дискомфорта), начисто отбитое в советские времена. Тогда ведь все – или большинство – были более или менее равны в необидном люмпенстве (за исключением той, прошлой элиты – которая, надо ли об этом напоминать, в значительной мере перетекла в нынешнюю). Золотусскому хорошо, он вот обличительный артикль написал и тем облегчил душу. Можно еще много таких написать, но ведь главное – чтобы толк какой-то из этого вышел. А где он, этот толк, в чем его искать... Вот Вячеслав Савватеев откликнулся на статью И.П. в той же «Литературке»viii. У него, правда, дихотомия несколько иная, чем у Золотусского: интеллигенция делится на либеральную (явно недостойную имени интеллигенции) и патриотическую, автору симпатичную. Что последняя должна делать? А вот что: «ей необходимо осознать свое предназначение, «сосредоточиться», организоваться. Надо выработать конкретную программу действий, найти и выдвинуть яркого, харизматического лидера, способного объединить все здоровые силы общества». Ну и т.д. и т.п., см. предвыборную программу практически любой партии. Впрочем, в том же абзаце оказывается, что ничего этого особо не нужно, а следует положиться на КПРФ, и все будет хорошо: у нее же есть и «конкретная программа», и лидеры один другого харизматичней – хотя при чем тут интеллигенция и интеллигентность, остается не совсем ясным. Как бы ни ненавидеть продажных либерастов и «дерьмократов», для нас разница между ними и г-ном Зюгановым примерно та же, что между зеленым чертом и желтым: чума на оба их дома. Мы тут про интеллект и порядочность волнуемся, а вы нам про т-ща Зюганова. Сольемся, мол, в колонны и пойдем делать социалистическую контрреволюцию. Спасибо, не надо. Мы же совсем недавно (по историческим меркам) капиталистическую революцию накликали, никак стыда не оберемся еще за то деяние. В общем, суровое обличение – это прекрасно; кто виноват – тоже более или менее ясно, если покопаться в собственной совести: сама же интеллигенция и виновата (тут даже «святые люди» к антикоммунистическому перевороту руку приложили, это я вам говорю как очевидец и посильный участник). А вот на второй проклятый вопрос ответа не просматривается. То, что предлагает т-щ Савватеев, нафталинчиком припахивает. Что ж, будем искать дальше. 1.1.1. Методологическое и терминологическое замечания. Уже из первого рассмотренного нами подхода к нынешней интеллигенции ясно, что говорить о ней как об однородной социальной группе совершенно невозможно. слишком очевидно ее расщепление на подгруппы, объединенные, пожалуй, лишь нестрогим, обыденным употреблением слов «интеллигенция», «интеллигент» -некто складно («культурно») говорящий и читающий книжки, особенно если в очках и в шляпе. Впрочем, это уже старо: шляп теперь не носят, а очки носят все, у кого зрение не в порядке. Чтобы придать дальнейшим рассуждениям хотя бы минимальную строгость, прибегнем к обычному в таких ситуациях логическому трюку – расщепим понятие интеллигентности на собственно интеллигентность и квазиинтеллигентность. Собственно интеллигент обладает всем набором дифференциальных признаков интеллигента: образованность, профессионализм, свободомыслие, критичность мышления, этичность поведения. Квазиинтеллигент характеризуется ослабленным набором дифференциальных признаков, сводящимся иногда до профессионализма и только, либо до образованности и только, и т.д. Такое расщепление полезно в том смысле, что в этом понятии находится место и интеллигентам – «чистым» профессионалам, и интеллигентам-конформистам, и иным разновидностям вроде рассмотренных здесь и далее: они всего лишь квазиинтеллигентыix. Независимо от того, насколько это проясняет дело, мы избегаем таким образом неинтеллигентных и неблагозвучных ругательств вроде «образованщина», «образованцы» (А.И. Солженицын). Пользуясь концептуальным аппаратом структурализма (такими инструментами, как упомянутые выше дифференциальные признаки, оппозиции дифференциальных признаков, корреляции, нейтрализации и т.д.), можно разработать разветвленную универсальную типологию интеллигенции вместо грубого деления на интеллигенцию и квазиинтеллигенцию. Мы здесь такой задачи не ставим по той же причине, по которой синхронический аспект проблемы рассматривается до диахронического: неразумно строить типологию объекта, когда дискутируемым является само его существование. Вот разберемся с проблемой существования, тогда, может быть... 1.2. Пессимист-экстремист. Как бы оправдывая поговорку (пессимист – это хорошо информированный оптимист), И.В. Бестужев-Лада пишет: «Вы считаете, что сегодняшние «интеллигенты» отличаются [от интеллигентов прошлого] в лучшую сторону? Начитаннее? Порядочнее? Совестливее? Это доказано каким-нибудь исследованием? Мне, наоборот, приходилось знакомиться с количественными и качественными доказательствами того, что на протяжении минувших десятилетий (и особенно последнего) шел процесс тотальной деморализации населения (деморализация в буквальном переводе на русский – оподление). Тотальной деинтеллектуализации (оглупления). Тотальной патопсихологизации (остервенения)»x. Конечно, если в стране идут такие процессы, и они действительно «тотальны», если есть соответствующая статистика, то о сохранении интеллигенции и речи быть не может. Все тот же жизненный опыт подсказывает, однако, что ничего истинно тотального под луной не бывает, что это всего лишь гипербола – неприятная, подчеркивающая массовидный характер явлений, но все же гипербола, что бы там ни говорила статистика (про которую тоже есть одна злая поговорка). Ради эффекта остранения (по Шкловскому) возьму пример из жизни государства, тоталитарнее которого трудно что-то придумать – нацистской Германии. Сожалею, что не могу дать точную сноску, но я когда-то держал в руках толстый томик немецких анекдотов – о ком бы вы думали? О Гитлере. Анекдотов, имевших хождение в Германии в зените его «тотального» обожания той самой нацией. Другой пример, скорее всего, столь же мало известный, из того же периода: уставное приветствие в немецкой армии (“Heil Hitler!”) частенько звучало как более близкое солдатской душе “Halb Liter!” (свидетельство участника событий в частной беседе). Что называется, morituri te salutant: идущим на смерть ни к чему было поддерживать миф о тотальности. В общем, все утверждения о тотальности чего бы то ни было в человеческом обществе – любом – следует принимать со щепоткой соли, не иначе. Практически ничего не знаю про Северную Корею, но ведь и оттуда бегут – вряд ли завзятые тоталитаристы. Тезис о тотальном освинении советской интеллигенции (восходящий к суровообличительной статье Солженицина 1974 годаxi) опровергается не только разнообразным жизненным опытом, но и некоторыми весьма толковыми теоретическими соображениями (предложенными, например, Ольгой Баллой xii), а также нестыковками в самом тексте Бестужева-Лады. Так, он пишет: «Понятие «интеллигентность» намного конструктивнее «интеллигенции как совокупности интеллигентов»... Мне лично приходилось встречаться с пастухами, шоферами, официантами, грузчиками, которые по всем статьям были интеллигентнее министра, генерала, писателя, художника». Насчет пастухов, официантов и пр. могу сказать лишь, что Бестужеву-Ладе крупно повезло, но это мимоходом. По его же тексту оказывается, что интеллигентные люди (для краткости, интеллигенты) все же не перевелись – вопреки тому, что автор говорит о старой (дореволюционной) интеллигенции: «Этих людей больше нет на свете. И они не оставили потомства». Очень даже оставили – и физически, и духовно, причем второе особенно важно. Дело в том, что интеллигенция (или, если угодно, отдельные интеллигенты) – продукт при определенных условиях самозарождающийся, чему сам БестужевЛада, несомненный интеллигент с не очень интеллигентскими корнями, может служить хорошим примеромxiii. Для этого в известной мере чудесного (в религиозном смысле) эффекта достаточно пытливого, самостоятельного ума, российской совестливости, российской действительности и еще одного фактора, который я за неимением лучшего термина назову рукоположением – встречи с «истинным русским интеллигентом» или с кем-то, кто таковым считается. Если Бестужев-Лада станет утверждать, что у него такой встречи не было, мне трудно будет ему поверить. А если она была, ему легче будет поверить в то, что и у других людей были такие встречи, и что с заголовком своей статьи он немного погорячился... 1.3. Ницшеанец. Начну прямо с финального вывода нашего Ницшеанца, г-на Парамонова: «Картина гибели России, рисуемая интеллигентами, – это проекция собственного интеллигентского нисхождения, исчезновения интеллигенции как класса, как социально институализированного слоя – ницшеанской касты жрецов. Сегодняшняя истерика интеллигенции – предчувствие собственного конца, а не пророчество о конце России и русского народа»xiv. В нынешних (точнее, десятилетней и более давности) стенаниях интеллигенции (Солженицына, Зиновьева, Максимова, академика Лихачева) о нравственной деградации российского общества в эпоху гайдаро-чубайсовской революции Парамонов прозревает тоску по утраченной ею, интеллигенцией, власти над умами и сердцами: «Интеллигенция ныне не востребована – в качестве духовного учителя и морального наставника, интеллигенция как класс. Книги продолжают издавать, но нет в них прежнего авторитета. А писатель, как было сказано Солженицыным, всегда был в России вторым правительством. Вот в чем дело: власть утрачена, а не гонорары, и сладчайшая из властей – духовная». Тут столько, простите, отнюдь не ницшевой, просто дешевой мути, что не знаешь, куда бить в первую очередь. Значит, так: властители дум теряют «сладчайшую из властей», волей к которой держится целый жреческий, интеллигентский класс, и оттого он испытывает апокалиптический ужас. Простите, г-н Парамонов, а сколько их у нас, этих властителей дум, а? Нет ли толики правды в том неоднократно выраженном мнении, что со смертью Д.С. Лихачева их тут вообще не осталось? Ну хорошо, жив еще «жрец» Солженицын – но он же только «представитель целого слоя, громадного и до сих пор в общем-то авторитетного, -- русской интеллигенции». И что же, этот «класс» поголовно – жрецы, мающиеся ницшеанской «волей к власти»? Все они – «носители аскетического идеала»? Все «претендуют на духовную власть, а духовность отождествляют со слабостью, с телесной и даже бытийной немощью, со всяческим несчастьем, нехваткой, недостачей и нуждой»? Всем им «требуется зафиксировать несчастье как норму бытия»? Из чего, из каких ницшеанских щепочек сконструировал г-н Парамонов этот жреческий класс – в России, Бог ты мой, в той самой России, в которой мы жили, живем и знаем как облупленную... В перестроечной России те самые интеллигенты – парамоновские «носители аскетического идеала», нахлебавшись по самое «не могу» советских «несчастий, нехваток, недостач и нужды», первым делом рванули на Запад и вообще за рубеж, пусть хоть в Турцию или Израиль – если не навек там поселиться, то хотя бы посмотреть, понюхать и пощупать, бормоча все то же, что и десятки лет тому назад: «живут же люди»... У меня до сих пор нейдет из головы рассказ об одном таком «жреце и аскете», который попал в супермаркет, кажется в Сан-Франциско, долго бродил с широко раскрытыми глазами, потом уронил такую задумчивую сентенцию: «Ну, если при коммунизме будет хоть одна десятая вот этого всего, то я – за коммунизм». Вскорости он сообразил, что коммунизм тут уже ни при чем, а нужны рынок и демократия, и потащил в них весь честной народ – не из какой-то там дурацкой воли к власти или аскетизма, а единственно из желания пожить «как люди», в первую очередь самому, и уж если получится, то и «народу». Как раз народу повезло при этом не очень, да и интеллигенции как «громадному классу» тож (насчет тех, кто выиграл, см. у Золотусского). Но случилось это вовсе не из-за врожденного их «аскетизма», «воли к власти» и прочей дури, а стараниями квазиинтеллигентов вроде Гайдара, о котором Парамонов отзывается исключительно в превосходных степенях: «Гайдар ни в коем случае не интеллигент, он спец, эксперт, техник-прагматик; ни в коем случае не идеолог...» Ну, это в точнейшем смысле слова пальцем в небо: тома уж написаны про то, как Гайдар чисто по-большевистски, тупо, на зависть своему психованному рубакедеду, ломал через колено экономику страны именно в угоду кондовой идеологии – «невидимая рука рынка все расставит-де по своим местам». Причем сделает она все это в пару шоковых лет, при сверхмонополизированной структуре экономики, при невозможности конкуренции, при отсутствии юридических и гражданских институтов, создающихся десятками, если не сотнями лет, и т.д. и т.п. Дурь, дурь и дурь – то ли идеологическая, то ли просто животная какая-то. Все это вещи уже до оскомины известные, и в их свете ницшеанским завитушкам Парамонова – грош цена на том самом олигархически-криминальном рынке, что учудили Гайдар с Чубайсом и благодарные им Новые Русские, в малиновых пиджаках и без. Нелюбовь интеллигенции к богатым (а за что их любить, это компрадорское ворье?) Парамонов каким-то хитрым финтом увязывает с ее же, интеллигенции, нелюбовью к свободе. Теперь, по прошествии более чем десятка лет раздолья «свободы» в отсутствие институциональных механизмов, обеспечивающих не то что моральные сдержки, а хотя бы примитивный полицейский порядок, о котором еще Пушкин мечтал, парамоновские обличения моралистов-интеллигентов и читать неловко. Глупо, прямо скажем, читать вот такое: «Жрецы не нужны в секуляризованном свободном обществе, строящем комфортную жизнь не только для выдающегося художника Окуджавы, но для всех». (Вообще-то в России пинать Окуджаву только интеллигенту-расстриге вроде Парамонова позволительно; что поделаешь – этическая составляющая понятия интеллигенции, то бишь совесть, элиминирована у него начисто, см. ниже про Постмодерниста). Свободное общество, хоть секуляризированное, хоть религиозное (как в Израиле или той же Америке, в которой так любо жить г-ну Парамонову), не является из воздуха, из заклинаний про свободу или из ругани насчет стариков-интеллигентов, на которую спец наш Ницшеанец. Надо долго пыхтеть, чтоб что-то такое построить, и без «моралистов»-интеллигентов, без их нудных напоминаний о совести, о том, что к гробу карман не приделаешь, получается «комфортная жизнь» вовсе не для Окуджавы и его слушателей, а для многоликих «губернаторов Чукотки». Они, может, и не читали поучений Парамонова (вроде: «Собственные соображения настоятельно диктуют иную – противоположную, неинтеллигентную – линию поведения»), но придерживались такой «линии поведения», что у добрых людей по всему миру – волосы дыбом, а Чикаго тридцатых годов в сравненьи выглядел, как милый киндергартен. В общем, Борис Парамонов, хоронящий интеллигенцию и славящий «спецов» и свободных индивидов (из коих самыми свободными «чисто конкретно» почему-то оказались ворье и бандиты), -- ни дать, ни взять тот персонаж, что покрикивал на кладбище: «Таскать вам не перетаскать!». Ну чем не ницшеанец. 1.4. Политтехнолог. Много шуму одно время наделало хлесткое, агрессивное по тону интервью Глеба Павловского про «урановый могильник российской интеллигенции»xv. Вот образчик стиля: «Интеллигенция – такая сущность, вид безумия, небескорыстного, кстати, и вместе с тем страшно интересная одержимость: человек хочет великого, готов рисковать жизнью и не забывает ни на минуту, что он на сцене истории, поглядывая то и дело в сторону императорской ложи. Он мыслит, погибает – и об этом непрерывно трезвонит, рассылая извещения в четырёх копиях. Одна копия обязательно отправляется вверх – в Зимний, в Кремль либо в Уайт Хауз, смотря по обстоятельствам. Все письма на одну тему – вот видишь, царь, из-за тебя я, мыслящий тростник, погибаю, а ведь, в сущности, должен бы сидеть с тобой рядом на троне!» Первое, что приходит в голову при чтении такого откровения – да ведь перед нами прочувствованный, выстраданный автопортретxvi! А если мы того не поняли, так автор нам тут же втолкует: «Я этого же роду-племени», причем заодно объявит и о собственной кончине: «Сегодня, собственно говоря, феномена нет уже. Правда, взамен него тоже ничего нет. Скорее есть набор аксессуаров, обрубков и фрагментов советской интеллигенции. Хотя поле обрубков еще шевелится и покряхтывает». «Феномена нет» -- так вроде и толковать не о чем. Однако интервью длится и длится, захлестывая иногда за такие всемирно-исторические берега, что вчуже голова может пойти кругом. Тут дело вот в чем. Политтехнолог – это такое существо, которое чувствует себя в мире провокаций, интеллектуальных и прочих, как тюлень в воде, а вот на суше, среди простодушных людей с нормальной логикой и психикой, за ним как-то и наблюдать неуютно; не знаешь, куда он на своих ластах-культяпках пошлепает и что за трюк выкинет. Притворимся, однако, что правила «культурного» диалога одни для всех, и люди говорят вещи, чтобы утверждать или опровергать нечто интеллигибельное, а не набить себе цену, спровоцировать безобразную сцену, «проверить оппонента на вшивость», обрушить на него компромат, привести аудиторию в состояние интеллектуального коллапса какой-нибудь заумью, или что там еще в загашнике у политтехнологов имеется. В этом предположении попробуем внести хоть какой-то – простейший, хронологический – порядок в размашистые изречения Политтехнолога, расположив их по историческим эпохам: (1) дореволюционной, (2) советской, (3) перестроечной, (4) постперестроечной, плюс (5) текущий момент. 1.4.1. Насчет «посмертного определения» интеллигенции Политтехнолог полторы секунды скромничает («Я не уверен, что готов к этому»), но тут же выдает экспромт-фейерверк, начиная с времен Петра: «...интеллигенция была такой же важнейшей индустрией русской власти, как медельинский картель для Колумбии. Русская власть в принципе была программной властью, после Петра – всегда. Царь был культуртрегер и западник по положению, и Зимний был проектным штабом западников... Интеллигенция – это был специальный институт, я бы сказал, внутреннего культурно-политического освоения России. Институт колонизации иноверцев, инокультурных, иноязычных, иноэтничных и иноэтичных. Он всегда был направлен на других, не осуждая ни в коем случае себя». Русская интеллигенция – институт колонизации... Браво, Политтехнолог. Да за такую идею любой славистический центр зацелует допьяна, утащит в кусты. Это ж сколько диссертаций можно высосать, с фактами и цифрами, период за периодом, один другого гаже. С кого начать? Фонвизин, Радищев, Новиков... Колонизатор на колонизаторе. Один Радищев чего стоит. Про него так и пишут: «В Илимске он занимался также лечением больных, вообще старался помочь чем кому мог и сделался, по свидетельству современника, «благодетелем той страны». Его заботливая деятельность простиралась верст на 500 вокруг Илимска». Ну лицемер. Дай ему волю, он всю Сибирь колонизовал бы. А уж декабристы! Тех вообще была масса, да еще с женами-декабристками и детишками. Ну и что с того, что в кандалах. А они морально колонизовали, всяких там иноэтничных и иноэтичных. Им бы туда еще политтехнолога – жаль, не та эпоха. А Герцен с Огаревым, а Бакунин с Кропоткиным? Тем труднее всего пришлось – надо было колонизовать Европу, по секретному заданию царя-культуртрегера. Что еще? Да хоть бы 1874 год взять, массовый исход юных колонизаторов «в народ» – чем не медельинский картель. Жаль, не дали им развернуться, пересажали к чертовой матери, а потом снова колонизовать послали, все ту же Сибирь. Царь лучше знает, что где кому колонизовать. На то он и западник. Что бы это ни значило. Вот такая историософия с историографией. Хоть садись и переписывай всю историю русской интеллигенции (да что там – всей России) заново, в свете новейших указаний Политтехнолога всех времен и народов. Сомнение, правда, берет: а не имеем ли мы в упомянутом экспромте всего лишь еще один автопортрет? Так сказать, «Политтехнолог, опрокинутый в прошлое». Сходство просто разительное. 1.4.2. Насчет советского периода сказано совсем немного, но и сказанное тоже зовет к пересмотру всего того периода: «Интеллигенция – это общество как корпорация, формирующая собственный состав путем инкорпорирования. Она способна разрастаться, не становясь при этом открытой. Оставаясь замкнутой и непрозрачной, она может стать многомиллионной, как КПСС. Ленинская партия, например, – это, собственно говоря, одна из инкарнаций русской интеллигенции. ВКП(б) – самый успешный интеллигентский проект, хотя не самый гуманный». Интересно все же, когда этот «интеллигентский проект» ВКП(б) был наиболее успешен – уж не во времена ли ленинского призыва? Брали-то от сохи и от станка; вчера ты еще «класс-гегемон», а сегодня – интеллигентская инкарнация и прослойка, так, что ли? В таком разе Хрущев – просто интеллигентский бодхисатва, вот только слово «педераст» так и не выучил до конца дней своих, все как-то иначе выскакивало в искусствоведческом раже. Ну и разумеется, подписывать расстрельные списки на десятки тысяч живых людей – самое интеллигентское дело, какой интеллигент от такого откажется. Остальное про советский период – внутридиссидентские разборки шестидесятников-семидесятников, снова и снова сбивающиеся на автопортрет: «Вот я, например. К тому времени я был белой вороной в Движении. Моя полемика начала 1980-х на тему диссидентского нигилизма, мое отречение от Движения после этого на суде...» и т.д. и т.п. Кому интересны были эти мучения и отречения, кроме КГБ и кремленологов, непонятно. Любой живший в те времена помнит, что интеллигенция тогда фрондировала практически поголовно, но, вопреки утверждению г-на Политтехнолога, только исчезающе малая часть ее (та, что пишет себя сейчас с большой буквы) поглядывала в сторону императорской ложи, трезвонила о себе и рассылала копии протестов в White House (а если точнее, иностранным корреспондентам в Москве, которые без этих писем профессионально совсем засохли бы) и в Кремль. Я двадцать лет преподавал в вузе (пока не выперли), беспрерывно мотался по конференциям и симпозиумам, знал сотни, если не больше, своих коллег, и отчетливо помню преобладающий спокойно-брезгливый тон в отношении к власти: «У них своя компания, а у нас своя». Плюс убеждение, что «скоро этот социализм пойдет на убыль» -- тому было достаточно подтверждений из жизни. Этого вполне хватало. У Политтехнолога была иная, героическая биография, с отречениями на суде и прочими вывертами. Но, право, не стоит из-за этого перетаптывать историю, изображать дело так, будто ничего за пределами диссидентской тусовки не было, кроме «интеллигентской корпорации ВКП(б)» и прочих призраков. 1.4.3. Перестройка. Вот это было бы наиболее интересно, если бы не шибало с такой силой синдромом мегаломании: ««Век» мыслился нами как штабная структура, созданная интеллигенцией для контроля за возобновившимся историческим процессом. Поэтому он оказался в центре многих заговоров перестройки. Именно путём заговора и формировалась «обойма гласности», она же – номенклатура будущей власти. Когда в 1987-м году принимались ключевые решения, они действительно принимались интеллигентами, фактически в кругу, предельно близком к кругу «Века»». Честное слово, когда читаешь эти политтехнологические бредни про «контроль за историческим процессом», вспоминается толстовский образ ребенка, который едет в карете, дергает там за какие-то тесемочки и воображает, что правит лошадьми. Любуйтесь: вот Собчак в результате заговора выдавил, не допустил к власти «Петю Филиппова». Вот в результате другого заговора происходит «надувание фигуры Ельцина». Еще заговор – и в президенты не пускают ни Буковского, ни Солженицына: «Таких людей, как Буковский и Солженицын, – кем их можно было вытеснить? Вытеснить их можно было только другими сильными фигурами. Отсюда пошла игра на втягивание Ельцина. Кто это делал? Конечно, интеллигенты! Попов, который Ельцина терпеть не мог и даже писал об этом в прессе». Вот-вот. Если б не Попов, то двухсоттысячные митинги на Манежке орали бы не «Ель-ЦИН! Ель-ЦИН!», а совсем другие фамилии (какие?). Но вот что-то не срослось, «штабная структура интеллигенции для контроля за историческим процессом» сплоховала, и не стал Володя Буковский президентом, убыл потихому за бугор. Непонятно, как Политтехнолог такое допустил. Тут он мне ужасно напоминает Федора Бурлацкого. Послушать того, так он всегда оказывался ровно в той точке, где определялся пресловутый всемирноисторический ход событий, и если в этом ходе было что-то приличное, то это заслуга идей Ф.Б., а если нет, то виноваты те, кто его не послушалxvii. Политтехнологи – они на вид вроде люди как люди, им бы еще чувство самоиронии ввести, хотя бы подкожно – цены бы им не было. 1.4.4. В новейшую, постперестроечную эру, после 1991 года, интеллигенция умерла, но не совсем, ибо наступил «посмертный момент развития русской интеллигенции. Это десятилетие, смешно признаться, и было воплощением всех мессианских чаяний русской интеллигенции, в большей даже степени, чем Октябрь... Методом Останкино интеллигенция десять лет имела население во все окна. ... интеллигенция не просто построила систему управления массовым поведением, она из этого извлекла доход для себя самой. И в валюте, что немаловажно. Но самое потрясающее – она полностью реализовала интеллигентную пропагандистскую парадигму отношения с народом и властью. Народ – быдло, зато «массовая аудитория», готовая слушать. Царь – негодяй и пропойца, зато ограждает нас от ярости народной и тоже послушен, собака. Таково краткое резюме интеллигентной политики». Вот теперь понятно, что такое «интеллигенция по Павловскому»: телевизионные клоуны, которым платят в валюте и которые воображают, вместе с теми, кто им платит, что они контролируют исторический процесс. Им дела нет до того исторического процесса, в коем варится народ, «быдло», включая ту, другую интеллигенцию, которая не светится в ТВ. У него, у «быдла», свои задачи (как бы выжить, семью прокормить), свои эсхатологические чаяния (как бы не было войны, гражданской или еще какой), свое отношение к ворью и клоунам (неизменное «у вас, сволочей, своя компания, а у нас своя»). И нечего врать про какой-то потрясающий успех этой клоунады. Ведь в 96-м выбирали из двух таких зол, что не знаешь, которое хуже, и насчет убедительной победы царя-пропойцы до сих пор существуют сугубые сомнения. Злые языки тогда утверждали, что Зюганов просто сдрейфил, испугался своей победы. Кто знает, кто знает… 1.4.5. А что имеет место теперь? А теперь, согласно Павловскому, интеллигенция окончательно умерла, хотя и непонятно, почему: «ящик» вроде попрежнему исправно работает, и там крутятся какие-то лица, вроде бы даже более интеллигентные на вид, чем ТВ-киллеры прошлых лет. Но эта загадка решается элементарно. Павловский решил: «Всё, я больше не хотел иметь дела с этой публикой – ни бичевать их, ни учить. Их просто надо было отодвинуть от власти раз и навсегда, и все тут». Понятно? Павловский отодвинул интеллигенцию от власти, и ее, интеллигенции, не стало. Умерла так умерла. Нет, что ни говорите, этот наш Политтехнолог – интереснейший психологический (или психиатрический, это уж кому как) феномен. Эдакий экзотический выброс из времен диссидентуры: его собственная социальная группа, страта, прослойка интересует его лишь в одном отношении – в отношении к власти: против власти, при власти, у власти, над властью и прочие предлоги. В других отношениях, сама по себе, как часть народа, она его не волнует, она для него не существует, стоит ее «отодвинуть» -- и она просто умирает, хотя еще «шевелится и покряхтывает». Подозрение насчет непорядка в ментальном хозяйстве г-на Политтехнолога неизбежно возникает при знакомстве с его предсказаниями о возможном возрождении окончательно умершей интеллигенции: «Должны появиться новые роли, новые хорошо знакомые массовые фигуры – домашний врач, священник, учитель и участковый. В сумме эта группа ролей делает неуместной фигуру интеллигента». «Новые», но притом «хорошо знакомые» -- это можно оценить, хотя бы в порядке бреда, но невозможно взять в толк, почему врач (хоть домашний, хоть участковый, хоть профессор клиники) и учитель, которые от веку считают себя интеллигентами, должны появиться в какой-то новой роли, призванной сделать «неуместной фигуру интеллигента». Одна может быть разгадка: дело идет к концу интервью, и человек окончательно заговорился – тем более, что вернувшаяся интеллигенция у него «в этот раз въедет на голубых танках ООН». Представляете себе картинку: наш участковый отоларинголог въезжает к нам во двор на голубом танке ООН... Тут самое время кликать санитаров – пока Политтехнолога не призвали на консультацию в Кремль. А впрочем, пусть его зовут. Каждый Кремль имеет того Политтехнолога, которого заслуживает. Только чем заслужила интеллигенция такого вот критика? Наказание явно не по грехам. Российская интеллигенция с самого своего зарождения и во все эпохи была «прослойкой» не между «трудящимися классами», рабочими и крестьянами, а между народом и властью; представительствовала (удачно или не очень) перед властью от имени народа. У Политтехнолога же получается, что главная задача «интеллектуалов» -- быть при власти, «контролировать исторический процесс». А уж в чью пользу контролировать – остается за кадром, разве что вдруг из-за рамки в кадр вползет голубой танк ООН. Забавно было бы посмотреть, далеко ли этот танк доползет; ползали тут уж всякие... 1.5. Постмодернист. Собственно, постмодернистов нынче – как собак нерезаных, но насчет вытеснения интеллигенции интеллектуалами «в эпоху постмодерна» самым залихватским образом высказывается Александр Дугинxviii, личность в политологии столь же неподражаемая, как г-н Жириновский в практической политикеxix. Его аргументация, если это можно так назвать, -- самая удобная в том смысле, что легче всего приводится к абсурду, будучи по самой своей сути абсурдистским плетением словес. Основной тезис Постмодерниста таков: эпоха модерна была и сплыла, а вместе с ней и фигуры интеллигента и ученого; теперь у нас на дворе постмодерн, а при нем самая главная фигура – интеллектуал. 1.5.1. Итак, в чем разница между интеллигентом и интеллектуалом? По Дугину, «интеллигент занят поиском смысла жизни, бытия, общества. Он увлечен разгадкой моральной, этической, онтологической и эстетической проблемы. Эта проблема довлеет над ним, составляет суть его бытия и его действий. В отличие от интеллигента интеллектуал постмодерна полностью свободен от этой проблематики... Он свободен от этических и эстетических коннотаций». Должно признать, что здесь, по крайней мере, все четко: вычтите из интеллигента совесть, и получите «интеллектуала» в смысле Дугина – каковой теоретической конструкции действительно соответствуют некие реальные жизненные процессы (выше названные Бестужевым-Ладой «оподлением»). Правда, помимо дурного запаха, исходящего от этой конструкции, в ней есть и существенные концептуальные и жизненные изъяны. Взять определение интеллигента как субъекта, целиком поглощенного поисками смысла жизни. Из грубой жизненной практики известно, что за такие поиски платят плохо (философы, например, и те подрабатывают по большей части преподаванием), а остальным интеллигентам приходится заниматься ими в свободное от добывания хлеба насущного время. Жизнь заставляет работать (некоторые говорят «пахать»), заниматься интеллектуальным трудом, быть профессионалом-интеллектуалом в первую очередь, и уж потом, после работы, искать этот самый смысл или смыслы в своей интеллигентской ипостаси (если человеку не повезло и работа не составляет смысла его жизни). Так что чистый интеллигент, занятый исключительно разглядыванием своего метафизического пупа – это балетный поручик Киже, а в реальной жизни имеем интеллигентов-интеллектуалов-профессионалов. Из такого многоликого субъекта совесть вычесть затруднительно хотя бы потому, что он – в первую голову профессионал: наряду с другими факторами (талант, конкуренция, другие жизненные обстоятельства) именно совесть делает его профессионалом, а не халтурщиком. Если же профессионал начисто «свободен от этических и эстетических коннотаций», причем такая свобода от совести и пр. покрывает и то дело, которым он занимается, то про него вряд ли скажут, что он в первую очередь интеллектуал; скорее назовут бездельником, сукиным сыном или чемнибудь похлеще. Еще ущербнее представляется определение «интеллектуала» à la Дугин (пожалуй, и вправду стоит обозначить этого субъекта особым термином – «интеллектуал Дугина»). Такой интеллектуал «не ищет смысла, он оперирует со смыслами... Он как DJ сводит различные смысловые модели, различные теории и концепции в общий интеллектуальный ритм. Он интересуется различными системами смыслов, но прохладно отстранен от каждой из них. В отличие от интеллигента он безразличен к пафосу интеллектуальной системы; понимая в общих чертах разные и подчас противоречивые интеллектуальные модели, он не выносит никакого предпочтительного суждения относительно оценки их содержания». Иными словами, интеллектуал Дугина «прохладно» паразитирует на смыслах, генерированных другими – только кто ж эти «другие»? Ясное дело, те самые искатели смыслов, с которыми Постмодернист только что разделался как с чем-то отжившим, ископаемым. Тут встает такой вопрос: а почему бы интеллигенту, породившему или нашедшему некий смысл (модель, интеллектуальную систему и т.д.), не послать этого ди-джея куда подальше и самому не ввести свое детище «в общий интеллектуальный ритм», и сделать это профессионально, дельно, на совесть? Вообще-то и вопроса такого не возникает ввиду полной самоочевидности ответа: генераторы смыслов именно этим и занимаются по роду своей основной деятельности, ибо породить новый смысл может только субъект, осведомленный о продуктах деятельности других генераторов смыслов и включенный таким образом в глобальную симфонию смыслопорождения. Постмодернисты-ди-джеи при этом остаются там, где им самое место: на дискотеках популяризаторства. Пожалуй, нечто похожее на «интеллектуалов Дугина» мы имели лишь в советские времена, когда все смыслы были заданы с точностью до страницы и абзаца в писаниях «классиков», и тогдашним интеллектуалам только и оставалось, что «вводить их в общий интеллектуальный ритм», то есть испуганно повторять и осторожно перетасовывать цитаты, переставлять их с места на место, из контекста в контекст и более или менее удачно иллюстрировать. Печально, что в нынешнюю эпоху бурного порождения смыслов идет столь же бурная генерация постмодернистских бессмыслиц; что делать – издержки производства. 1.5.2. Следующее разграничение, вводимое Постмодернистом, касается ученых и интеллектуалов: «Отличие интеллектуала от ученого в следующем: ученый ищет истину, инвестирует свою жизненную энергию в постижение того, какова реальность. Интеллектуал постмодерна считает «истину» чем-то излишним, выносит ее за скобки. Это лишь преграда, помеха, энтропия. Истина и поиск ее неэффективны, они отвлекают от главного. Интеллектуалу научная истина безразлична. Он обращается к ней только «иронически»». Тут прежде всего непонятны основания другой дихотомии – интеллигент vs ученый. В российской культуре ученый и есть типичнейший интеллигент, и если лишать его такого звания, то нужны какие-то основания; вместо этого имеем одни постулаты и изречения с горы Синай. Ну хорошо, интеллигент ищет «смыслы», а ученый – истину; но истина разве может быть не осмысленной? Истина, она что – обязательно бессмыслица? Паки убеждаемся, что генерация бессмыслиц – прерогатива Постмодерниста. Чему он дает немедленное подтверждение, обозвав истину энтропией. В нормальном, непостмодернистском мире научные истины ценятся именно за то, что они вносят порядок в окружающий нас природный и социальный хаос, являются сгустками негэнтропии, а тут им ни за что, ни про что навешивают противоположный знак. Некругло получается. Студентам за такое неуд ставят. Но самый главный вопрос, конечно, таков: а что именно делает интеллектуал Дугина с истинами, помимо того, что обращается к ним «иронически» (между прочим, небезопасное занятие: за ироническое отношение к некоторым истинам, скажем, исторической науки – например, связанным с 9 мая – неблагодарные слушатели могут ведь и физиономию отполировать). С чем он работает? С неистинами? С ложью, стало быть? Или с конструкциями, про которые неведомо – истина они или ложь? Но ведь во лжи и уличить могут, и в суд потащить, а образования неопределенной природы (то ли истина, то ли враки) могут подвести в самый неподходящий момент при столкновении с грубой реальностью, которая имеет обыкновение все же беспощадно тестировать натягиваемые на нее схемы на предмет ложности/истинности. И, как и в случае со «смыслами», непонятно, почему ученые, продуцирующие истины, должны бесстрастно наблюдать, как какие-то фигляры играют с их драгоценными истинами в свои постмодернистские бирюльки. Коррелировать истины, находимые разными учеными, и есть прямая и наиважнейшая задача самих ученых, проводящих существенную часть времени в диалогах меж собой, в ревнивом выяснении, не вышел ли кто на корпус вперед в вечной гонке за истиной. Более того, многократно замечено было, что филиация идей и состоит по большей части в том, что один ученый высказывает нечто обратное добытому другим – и получает в результате важный результат, особенно если истина, от которой отталкиваются, есть значительная, великая истина. Так что не видно тут щелки, в которую мог бы пролезть наш Постмодернист со своими ироническими заморочками. 1.5.3. Вывалив эту кучу определений про интеллигентов, ученых, интеллектуалов, Постмодернист дальше несет совершенную уже ахинею про телемассы («Телемассы открывают жадные жаркие зрачки и созерцают ничто. Телемасс нет»); про людей, живущих в интернете (которые, по Дугину, «не соображают, как интеллектуалы» -- я бы, напротив, сказал, что есть масса сетевиков, которые соображают логичнее и более информированно в своих областях, чем «сингулярии» типа Дугина); про глобализацию («Отныне реально только то, что показано по TV. То, что не показано, того попросту нет. Вот так, коллеги».) Ну что тут скажешь. Меня вместе с несколькими миллиардами иных человеческих особей, слава Богу, никогда не показывали по ТВ, а мы – реально существуем; насчет же вас, дорогой коллега, мы вовсе не уверены – мало ли на какие чудеса компьютерной анимации способно ТВ. Ну и дальше нечто совершенно уж завиральное про евразийский проект: «Евразийская интеграция может быть осуществлена легко, просто и без всяких проблем, как только мы примем методики постмодерна», то есть «соединим евразийских интеллектуалов в одном месте, например, в Астане, сажаем на пароходик, плывущий по Ишиму, и заставляем их сингулярности интегрироваться...» При хорошей кормежке на пароходике кто-то с кем-то, может, и интегрируется, а вот в реальной жизни народов путь к интеграции их стран потруднее будет. Попробовал бы наш Постмодернист интегрировать предлагаемым им пароходным методом не всю Евразию, а для начала хотя бы Армению с Азербайджаном… Вывод из всего этого один: пока на сцене кувыркаются коверные типа Постмодерниста, существованию интеллигенции по крайней мере с этой стороны ничего не угрожает. Можно, конечно, скинуть картонный гроб с надписью «Интеллигенция» в воды Ишима или куда-нибудь еще – нас от этого не убудет, особенно если постараться тем временем заняться вещами посущественней. 1.6. Вестернист. Для обозначения следующего типа критиков можно было бы обойтись русским словом «западник», но это только внесло бы путаницу. В российской истории были разные западники (см. вторую, диахроническую часть настоящей работы), но до таких крайностей, которые отстаивают нынешние вестернисты, не договаривался никто. Западники прошлого все же видели в России некую самобытную цивилизацию, которой предстоит проделать, mutatis mutandis, тот же путь, что и западному миру. Нынешние же вестернисты видят в России деградировавшее, пустое нечто или даже ничто (см. ниже), на которое немедленно должна быть наложена (и уже накладывается) западная матрица. В частности, весь массив писаний одного такого уничижителя российской интеллигенции, г-н Гудкова, проходит под знаком дихотомии «европейский (западный) интеллектуал vs российский интеллигент». Первый член этой оппозиции являет собой средоточие всевозможных приятностей и достоинств, а второй до того отвратителен, что его как бы и нет или быть не должно. Ну просто как девочки и мальчики; одни сделаны из sugar and spice and all that’s nice, а нехорошие другие – из frogs and snails and puppy dogs’ tails. О-хо-хо, если бы это было так же смешно, как у Mother Goose... 1.6.1. Возьмем интервью Льва Гудкова «Новой газете»xx. Начало – смелее не придумаешь: «Давайте определимся, что это такое — «интеллигенция». Задолго до Советского Союза, в XIX веке, это было фантомное явление...» Признаться, я хотел было начать нулевую главку данной работы с утверждения, как мне казалось, неоспоримого: сейчас вот, мол, возникли разночтения и колебания – есть интеллигенция, нет ее; насчет истории же никаких таких сомнений быть не может – была она, как пить дать была; люди были, да еще какие люди, богатыри – не мы, на виселицу шли за убеждения, на каторгу и т.д. И вот весь мой исторический запал – прахом: «фантомное явление», и все тут. Вроде зеленых человечков с НЛО. А вы пробовали спорить с теми, кто верит в этих человечков? То-то же. И насчет интеллигенции перспективы те же. Фантом, и все дела. Про интеллигенцию «в «послесталинском» смысле – то же самое, один к одному: «Ее не было. Просто путались реальные дела с тем, как себя характеризовали люди, претендовавшие на роль интеллигенции. Они называли себя совестью нации, еще как-то. Но реально, кто же тогда осуществлял в советское время пропаганду, обеспечивал идеологический уровень?» Ловите ход мысли? Все мы, «претендовавшие» -- и те, кто на партсобраниях мирно отсыпался в задних рядах или сочинял похабные частушки на членов президиума; и те, кто читал ночами полного Розанова из бабушкиного сундука; кто перепечатывал самиздат; кто сидел, наконец, по котельным и дворницким, сочиняя программы переустройства мира, а кто и по лагерям – все мы стройными рядами «обеспечивали идеологический уровень». А задай г-ну Вестернисту вопрос про миллионные тиражи «Московских новостей», «Огонька» и пр., когда пришло их время – уверен, сочинит еще какой-нибудь фантомный ответ, и интеллигенция снова будет ни при чем. Вопрос журналиста: «Что сегодня вкладывается в понятие «интеллигенция»? Ответ: «Ровным счетом ничего». Ясно? В стране, согласно Росбизнесконсалтингу, 14,8 миллиона работников интеллигентных профессий, а значат они, по Гудкову, «ровным счетом ничего». Это ж надо так наловчиться составлять социологические опросники, чтобы получать такие веселые картинки. Впрочем, чуть ниже оказывается, что «ничего» Вестерниста следует понимать в смысле «ничего, кроме вреда»: «Посмотрите на те книжки, которые выпускает сегодня, к примеру, московская профессура, -- искушение глобализма, вызовы России и т.д. Это все консервативная защита национальной идеи с образом врага, Запада, с угрозой инородцев — евреев, мусульман. Кто вносит эти идеи мирового заговора, геополитической угрозы? В массовом сознании этого нет. Это делают те, кого мы по инерции называем интеллигенцией. Понимаете, это слово, это понятие есть и во Франции, и в Германии. Там интеллигенция — это критически настроенная часть интеллектуального сообщества, которая обеспечивает постоянную рефлексию, дискуссию по поводу происходящих событий. Это — нормально…» Вот так. Российская интеллигенция – это исчадие ада, и хотя «ее нет» и она «ничего не значит», она умудряется заражать своими комплексами жертвы, ксенофобии, своим ressentiment, аж 55 процентов невинного населения России (по данным самого Вестерниста). НАТО марширует на восток, Россию окружают по периметру кольцом военных баз, Бжезинский подводит под это дело свою, теоретическую базуxxi, антироссийская истерика полыхает во всю в Прибалтике, Грузии, Молдове, среди западенцев и правителей Украины, щедро подкармливаемая за счет американского налогоплательщика – а Вестернист стоит на своем: виновата российская интеллигенция. Это она, подлая, вносит в массы идею геополитической угрозы. 1.6.2. Во всей этой логорее любопытнее всего убеждение Вестерниста, что уж где-где, а на Западе с интеллигенцией, точнее, с интеллектуалами, все в порядке. Никаких социологических исследований он там, естественно, не проводил, но в блистательных качествах тамошних интеллектуалов, обеспечивающих «постоянную рефлексию», убежден свято. Интересно, заглядывал ли он хотя бы одним глазком в такой ресурс «постоянной рефлексии» о России на Западе, как Johnson’s Russia List? Каждый божий день там вывешиваются десятка два-три статей, собранных из разных СМИ, в которых на Россию выливаются такие ушаты дерьма, что самому г-ну Гудкову до них, как до луны. Если это – «постоянная рефлексия», то что тогда есть планомерная, хорошо скоординированная информационная и психологическая война? Дело дошло до того, что д-р Бланко Миланович задался вопросом – а что бы это могло значить и с чего такая остервенелость? Последовала дискуссия в JRL, в которой и автору сих строк довелось поучаствовать объемистой статьейxxii. А между тем война, настоящая propaganda warfare, все идет и идет, и ведется она в одни ворота той самой «критически настроенной» (а на поверку безнадежно зомбированной и просто купленной) «частью интеллектуального сообщества», которая столь восхищает г-на Вестерниста. И не надо говорить, что JRL – это американский ресурс (A project of the Center for Defense Information (CDI)), а в Европе все иначе, сплошная рефлексия. Почитайте европейскую Süddeutsche Zeitung на досуге – вот где «постоянная рефлексия»! А того лучше – ознакомьтесь со взглядами еврофилософа Андре Глюксмана, тем более что их нам во всю мощь вколачивают наши собственные доброхоты одной с Вестернистом ориентации. Те самые, что способны, как и Глюксман, одновременно ненавидеть Путина за Чечню и обожать Буша Jr. за то, что он сотворил с Ираком. 1.6.3. В чем не откажешь г-ну Вестернисту, так это в последовательности. Я раскопал его статью тринадцатилетней давностиxxiii, где он с таким же наслаждением, что и нынче, оттаптывается на российской интеллигенции и превозносит западных интеллектуалов. Статья была явно написана по горячим следам августовской революции, и вот как Вестернист воздает нашей интеллигенции должное: «Благодаря упорной социальной критике, интеллигенция разрушила слой массовой идеологической лояльности в советском обществе, но одновременно упразднила и смысловую почву собственного существования. Долгожданная свобода парализовала интеллигенцию, не готовую к иной деятельности, не разделяющую тех ценностей, которыми живут западные интеллектуалы»xxiv. Ошибочка вышла, г-н Вестернист: часть здешней «интеллигенции» (включая и студентов, и режиссеров провинциальных театров, и даже одного математикаакадемика – а может и больше, кто их знает) очень даже разделяла эти западные ценности. Буквально через пару лет мы их видим эмбриональными олигархами, потом еще пара лет – и цветет семибанкирщина и всякое такое помельче. Вот кто воспользовался «долгожданной свободой» на всю катушку. А интеллигенцию, достойную этого именования, парализовала не «долгожданная свобода», а собственная совесть, не позволявшая внаглую тибрить госсобственность, да удаленность, из санитарно-гигиенических соображений, от центров власти, где эту самую собственность раздавали на халяву. Так что ни о каком «упразднении смысловой почвы собственного существования» речи быть не могло: и социальной критики «большого хапка» хватало, и помимо критики никто с интеллигенции ее основных обязанностей – учить, лечить, книжки писать да всякие железки проектировать – не снимал. Кстати о социальной критике. Эта ведь наша жалкая, затурканная интеллигенция, которая вообще «ничего не значит», своей критикой и иными делами свалила тысячелетний коммунистический рейх (в чем некоторые до сих пор каются). А какими подвигами отметились богатыри -- западные интеллектуалы? Ну, попихались без особого вреда для здоровья с ажанами на баррикадах 68-го года; мосье Глюксман до сих пор на эту тему в героях ходит. Ну, похипповали, утвердили свободную любовь, гомосексуализм, исподтишка педофилию, политкорректность и мультикультурализм на смех курам. А что в сухом остатке? А в сухом остатке все тот же безудержный консюмеризм без намека на тормоза, да еще глобализация, то бишь мировая гегемония одной, отдельно взятой, маловысокоинтеллектуальной, одуревшей от сознания собственной троглодитской силы страны и путь в цивилизационный тупик, вперед, к мировой экологической катастрофе. Вот и все мировые достижения господ западных интеллектуалов. И что было бы, если бы в России на очередном переломе ее истории была не та интеллигенция, которая была, а западные интеллектуалы с их невероятными ценностями? Ну, прокукарекали бы они про эти ценности – а дальше что? Надели бы они интеллектуальный намордник на вал криминала? Удержали бы сорвавшиеся с цепи хищнические инстинкты номенклатуры и прочих приближенных к царю-пропойце? Усовестили бы откатывающиеся в махровый нацизм этнические «элиты»? Вот насчет национализма особенно интересно. В чем смысл такого упрека г-на Вестерниста: «Среди первоочередных проблем, к которым должны были бы быть готовы и общество, и специалисты, я бы назвал национальные. Но ответов нет, или они явно недостаточны»xxv. Какой можно было «дать ответ» прибалтийским интеллектуалам, борцам за демократию, свободу, права человека, братавшимся с бывшими эсэсовцами в своей ненависти к «оккупантам»? Приличный российский интеллигент дал в то время единственный ответ, который мог дать – сердечно поддержал борцов. Поддержал -- и до сих пор растерянно стирает с физиономии плевки от тогдашних прибалтийских соратников по борьбе за демократию и права человека; до сих пор не снискал за это ни полслова одобрения со стороны западных интеллектуалов. Дальше, какой ответ или совет мог бы дать гудковский рефлексирующий интеллектуал расплодившимся киллерам, этому необходимому инструменту первоначального накопления? «Не убий», брателло? Так как же не убий, когда на дворе свобода, в Чечне вон головы режут, и мосье Глюксман головорезов одобряет – а мы что, рыжие… И такая вот чепуха по всем пунктам критики. 1.6.4. Впрочем, все подобные вопросы задавать Вестернисту бесполезно. Давным-давно он составил себе, в противовес никчемному русскому интеллигенту, идеальный портрет идеального индивида современности – западного интеллектуала (очевидно, по западным же источникамxxvi) и с тех пор только добавляет к нему мелкие ангельские штришки. Поколебать его уверенность в достоверности нарисованного образа вряд ли возможно, но, как говорится, попытка не пытка. Помочь в этой многотрудной задаче может следующее обстоятельство. Г-н Вестернист любовно конструирует упомянутый ангельский образ на многих страницах эдакого панегирика Идеалу методом аморфных рассуждений, в которых собственные теоретические аргументы подкрепляются другими мыслительными аргументами собственного же изготовления да редкими ссылками на авторитеты вроде Макса Вебера или Фридриха Ницше. При этом он старательно избегает каких-либо иллюстраций, привязки к конкретным данным о конкретных лицах или группах, что для социолога даже и странно. Не удивительно, что при попытке заземлить эту идеальную конструкцию, сопоставить ее с наблюдаемым «по жизни», очаровательное сооружение начинает, грубо говоря, сыпаться на глазах. Начнем in medias res, прямо с середины, с одного из многих определенийпанегириков западному интеллектуалу: «интеллектуал – не просто высокообразованный человек, но специфически образованный, культивирующий в себе особую чувствительность к внутренним – моральным, логическим, доктринальным – коллизиям и ценностным противоречиям. Его отличает болезненная, даже невротическая неспособность принять «готовые ответы», общепринятые точки зрения или интерпретации, если они не устраняют антиномичности додуманного до логического предела вопроса (Ницше называл это «интеллектуальной честностью»)... интеллектуала делает интеллектуалом именно опыт парадоксальности мышления, развиваемый особой университетской дрессурой и обучением. Он включает не просто технику саморефлексии, методической критики и анализа, но и историю форм иронического существования, навыки систематической релятивизации любых категорических суждений – непременное условие антидогматической профилактики»xxvii. И еще, и еще, все в том же духе, прямо слеза умиления прошибает, а презренная «популистская интеллигенция» походя получает пинки за то, что она в таких ситуациях способна лишь на «истерическую агрессию или умственную редукцию к упрощенным схемам и концепциям». Спасу нет – до чего мило выглядят западные интеллектуалы на расстоянии и в теории. А вот в реальном мире имеем такое свидетельство русского интеллигента, прожившего среди этих интеллектуалов практически всю свою жизнь: «во Франции (и возможно – в США)... люди, когда хотят чего-либо не знать, умеют это делать безнаказанно. Достаточно сказать, что даже в 1960-х годах, то есть после разоблачения «культа личности», член компартии и знаменитый писатель Луи Арагон выпустил свой монументальный труд «История СССР», пользуясь документацией сталинского периода, а Ж.П. Сартр, в своей книге о Жене, пишет о Н.И. Бухарине как об изменнике и враге народа, солидаризуясь опять-таки со Сталиным. Оба автора не могли не слышать о переменах в советской России после XX съезда, но они их игнорируют: так для них проще, у них нет ни времени, ни интереса для пересмотров идеологий и переоценок ценностей»xxviii. Вот такие образцы «интеллектуальной честности» и «невротической неспособности принять «готовые ответы»» дают нам не просто западные интеллектуалы, а crème de la crème среди них, включая Сартра, на которого Лев Гудков мощно опирается в своей «Попытке апологии субъективности». И не надо нам говорить, что это – отдельные досадные исключения на фоне поголовной, кристальной «интеллектуальной честности» и «иронического существования» основной массы интеллектуалов. Свидетель упрямо говорит об обратном: «Мы были сотни раз поставлены перед фактами, образчиком которых может служить письмо-запрос Роллана к Горькому [о преследованиях интеллигенции в сталинском Союзе]... Когда Горький ответил, что преследований никаких нет, многие из писателей эмигрантов пытались докричаться до европейской общественности, но перекричать Горького им не удалось, и в последующие годы – 25 лет – ни в Европе, ни в Америке интеллигенция в преследования писателей компартией не верила»xxix. Не просто не верила, а отказывалась даже слушать о всяком таком неприятном; ни один значительный журнал или газета во Франции так и не опубликовали письмо «Писателям мира» от анонимных советских интеллигентов, одной ногой уже стоявших в Гулаге. И все это, надо полагать, исключительно из неспособности западного интеллектуала принять «общепринятые точки зрения», благодаря университетской дрессуре и прочему такому... Можно еще напомнить нацистский кульбит Мартина Хайдеггера, пропагандистские труды Эзры Паунда во славу Муссолини, книжку самого главного ирониста Бернарда Шоу The Rationalization of Russia (1931, переиздана в 1964), где начисто отрицаются преследования интеллигенции при Сталине, и много, много сходных подвигов знаменитых западных интеллектуаловxxx. Да что там тридцатые-сороковые. Попробуйте теперь вот рассказать тому же Андре Глюксману про геноцид русскоязычных в Чечне в 1990-94 годах. Его формула интеллектуальной честности и не такое выдержит, за нее, пожалуй, и Ницше не пришлось бы краснеть: «Все то вздор, чего не хочет знать Андре Глюксман...» Про ироничность и прочие невротические свойства великого множества авторов, которые постоянно фигуряют в Johnson’s Russia List, людей типа Leon Аron, и говорить как-то глупо. Чтобы по достоинству оценить «интеллектуальную честность» западных интеллектуалов, достаточно почитать хотя бы пару статей о России в Washington Post, не зря называемой Pravda on the Potomac. Вот где нахлебаешься упертой, зоологической русофобии quantum satis… Повторяю, не знаю, как г-ну Гудкову, а мне из-за природного двуязычия и в силу профессиональных занятий десятки лет пришлось постоянно, ежедневно общаться с западными интеллектуалами разного калибра. Имея этот жизненный опыт, могу руку дать на отсечение, что его убеждение насчет «парадоксальности мышления, развиваемого особой университетской дрессурой и обучением» тамошних интеллектуалов прямо противоположно находимому в повседневной действительности. Абсолютное большинство этих субъектов по части зашоренности, доходящей до зомбированности, могут дать сто очков вперед любому замшелому сталинисту. На эту тему я мог бы книгу написать, если б это не было так скучно. Просто не смешно даже. Ну вот пример. Я почти двадцать лет прожил на Кавказе, активно общался с местными, дружил с ними (это называется – быть чьим-то кунаком), десять лет лазил по горам, пока не разбился, до сих пор чуть не каждый год туда езжу, общаюсь с самой разной публикой, а в Дагестане даже имею родственников среди аварцев. Вроде бы должен что-то знать о предмете. И вот как-то раз битых несколько часов я пытался втолковать элементарные истины о тамошней ситуации двум профессорам-славистам из Штатов, супружеской паре, у которой я прожил несколько месяцев, работая с ними над одной книгой. Однако у них на все были свои, готовые ответы, и их убеждения в конце беседы не изменились ни на йоту. Наоборот, мне дали ясно понять, что я со своим российско-интеллигентским умишком в принципе не могу усвоить правильных, западных подходов к проблеме. И надо ж было так случиться, что через короткое время мне попал в руки номер Newsweek – и я нашел там эти их убеждения во всей первозданной красе, слово в слово. Ну, и что писал Newsweek? Да обычный собачий бред, поверхностный треп журналиста, знающего, что надо писать, чтобы угодить своей публике и издателю. А между тем мои собеседники цитировали его на полном серьезе, словно истину в последней инстанции – прямо как внештатный лектор общества «Знание» «Правду» в сельском клубе. А ведь знакомые мои были вовсе не преподаватели из какого-нибудь заштатного скотоводческого колледжа на Оклахомщине: звезды первой величины в тамошней славистике, оба fully tenured professors не где-нибудь, а в UCLA. Этот случай мне особенно врезался в память как раз потому, что то были западные интеллектуалы высокого полета, мои хорошие знакомые и местами очень милые люди. Но вот было у них некое blind spot, слепое пятно, та самая зашоренность, существование которой столь пафосно и многоречиво отрицает г-н Гудков: все, что говорится и мыслится там у них, на Западе, по самому факту своего происхождения, прописки, заведомо выше и правильнее любых точек зрения, мнений, позиций, теорий и прочего, имеющего хождение вне Запада. Некая форма white supremacy, понимаете ли. Не зря я вспомнил тогда Жванецкого: Какое может быть у человека собственное мнение, если у него нет московской прописки? Замените московскую на западную – et voila! И еще мне живо припомнились вещие слова Данилевского: «Европа не знает [России], потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению»xxxi. Видно, века проходят, а отношение Европы/Запада к России не меняется ни на йоту. Рассказанный выше эпизод с Кавказом – это еще так, семечки. Приходилось мне полемизировать американскими «интеллектуалами», у которых это убеждение в собственном превосходстве – по праву какого-то первородства, что ли – доходило до откровенного расизма. Невольно в голову приходила мысль -открыто третировать собственных негров политкорректность не позволяет, да и в морду можно схлопотать, так хоть на русских, этих новых негров, отыграться можно. И плевать на политкорректность, мультикультурализм, толерантность и превозносимые Гудковым ценности вроде интеллектуальной честности. Intellectual honesty my foot, г-н Гудков. Почитайте мою полемикуxxxii хотя бы с одним таким «интеллектуалом», которому много больше личит задорновское «тупой американец»… Нет, друзья, на поверку, «по жизни», все оказывается довольно просто, и не надо вешать нам на уши всякие мучные изделия про ихнюю «технику саморефлексии, методической критики и анализа». Лишнее это все, и не только в отношении к России, а за что ни возьмись. А почему, по какой такой причине – тоже, как говорится, не бином Ньютона. Воспитанный с младых ногтей, разлитый в воздухе шовинизм, получается, такая штука, от которой никакая саморефлексия (если она имеет место, в чем опять-таки «по жизни» возникают суровые сомнения) или университетская дрессура не спасает. Кстати об университетской дрессуре на Западе, особенно в Штатах, о которой у Льва Гудкова ну совсем уж какие-то утопические представления. Цель и средство, the be-all and the end-all этой дрессуры, не только университетской, а чуть ли не с kindergarten – постоянное строгое ранжирование, натаскивание объекта (отнюдь не субъекта) дрессуры на занятие первых либо близких к первым мест: первый ученик, второй ученик, третий, ну и т.д. до конца списка. И такая дрессура прививает – вполне успешно – стремление к продвижению, к первенству среди сверстников, в конечном счете – к успеху, а вовсе не к интеллигентскому самокопанию и «преодолению внутренних коллизий». Это г-н Гудков наблюдал скорее «ближе к дому», closer to home, так сказать, и зачем-то включил среди достоинств конструируемого им идеального западного интеллектуала. Об истинных свойствах коего он, как видим, не имеет сколько-нибудь близких к реальности сведений. 1.6.5. Подойдем к этому вопросу через еще одну, несколько длинноватую цитатупанегирик: «Целостность миру... придает не святость издавна бывшего, не объективность традиции, какого-то учения, идеология, религиозная догматика и проч., но автономный, то есть не зависящий от каких-либо внешних авторитетов индивид, который обречен полагаться лишь на собственное, субъективное понимание происходящего или прошлого. Европейское, «взрослое» отношение к реальности означает способность человека вносить ясность в поток событий (настоящего или истории), наделять действительность смыслом и значением, субъективно упорядочивать и понимать самое по себе иррациональную и бесконечно многообразную реальность (включая и чужую душевную жизнь). Для воспитанного так интеллектуала не может быть вопроса, который время от времени терзал наших литературных героев: «В чем смысл нашей жизни?» Скорее он мог бы звучать таким образом: «Если факт смерти непреложен, то какой смысл я могу внести в свою жизнь?» Иначе говоря, жизнь интеллектуального героя выстраивается как проект его биографии...» При этом ««этика убеждений» (то есть преданности тому или иному вероучению, идеологии, философской или эстетической системе, научным положениям) уступает место «этике ответственности» -- сознанию личной ответственности за последствия своих идей, слов, действий, так как другой опоры для ориентации в мире у интеллектуала ни среди звезд, ни среди людей нет»xxxiii. Любуешься на этого самодостаточного индивида – мерило всех вещей, и так и хочется задать ему вопрос из какого-то старого нашего фильма, устами грубияна Шукшина: «Простите, а что вы имеете предложить, молодой человек, кроме собственных соплей?» Из каких таких соплей – простите, источников – возникает это «собственное, субъективное понимание происходящего или прошлого»? У этого интеллектуала что, ни мамы, ни папы не было, ни дедушки с бабушкой, которые преподали бы ему первые уроки насчет того, что хорошо и что плохо? Сдается мне, что «собственное, субъективное понимание» не такое уж собственное и субъективное, а скорее всего внушенное в раннем возрасте (методом импринтинга) жлобство, разлитое в самом воздухе западного общества. Но вот, похерив этику убеждений, интеллектуал всецело приемлет этику личной ответственности. Весьма похвально – однако возникает один маленький вопрос: ответственности перед кем? Да перед самим собой же, черт побери, какие тут могут быть вопросы, когда нет для интеллектуала ни убеждений, ни «внешних авторитетов», ни идеологии, ни философии, никакой другой опоры «ни среди звезд, ни среди людей» – один солипсистский «проект биографии». При такой установке, разумеется, всякие вопросы насчет смысла жизни – сентиментальная чушь, даже в той форме, которую ему придает г-н Вестернист: «Какой смысл я могу внести в свою жизнь?» Это – всего лишь камуфляж другого, настоящего вопроса-императива: «Как мне добиться успеха?» -- ибо сам вопрос о смысле жизни ни в какой форме не возникает. Ответ на него дает не пресловутая «саморефлексия» и «университетская дрессура» (о ней см. выше), а давление как раз той «духовной» атмосферы в обществе, от которого западный суверенный субъект-интеллектуал, согласно нашему прекраснодушному Вестернисту, абсолютно независим: смысл жизни – в шкурном успехе. В реальной практике вопрос «Как мне добиться успеха?» встает в еще более конкретных формах: Как оказаться в лагере победителей – вовремя «вскочить в поезд», jump on the bandwagon? Как задавить, обойти etc. конкурента? Как найти дырку в законе? И так далее – сейчас мы и у себя в России наблюдаем весь веер этих вариантов «проекта биографии», что в жизни, что в медиа, что в искусстве. А нам тут рассказывают сказки про невротическую «технику саморефлексии». Да с этой техникой никакой успешный «проект биографии» невозможен – пока будешь рефлектировать, затопчут к чертовой матери. Отсюда и склонность западного интеллектуала к самозомбированию: не тратя мозговых ресурсов на разрешение парадоксальных ситуаций, о которых нам рассказывает сказки г-н Вестернист, этот субъект очень даже склонен принимать «готовые ответы», подчас самые дикие и не выдерживающие никакого столкновения с реальностью, только потому, что они инструментальны – помогают строить успешный «проект биографии». Тут всяко лыко в строку: если соседи вокруг поголовно шовинисты – пожалуйста, и мы водрузим на лужайке дома флаг и будем хоть каждое утро приносить ему клятву – Pledge of Allegiancexxxiv; если для жизненного успеха нужна санкция потусторонних сил – пожалуйста: 94 процента американцев (понятное дело, интеллектуалов в том числе) провозглашают себя верующими в Богаxxxv. Самая знаменитая интеллектуалка американского истэблишмента, Кондолиза Райс, вообще, похоже, имеет непосредственный выход на Всевышнего, который диктует ей и ее боссу по прямому проводу, где добро, где зло и что по этому поводу надо делать – где-то проплатить, где-то побомбить, где-то, в каком-нибудь высоком ареопаге, врать с непрошибаемо-цинковой мордой. 1.6.6. Но Бог с ней, с этой Кондолизой. У нас своих проблем хватает. По мне, главная среди них вот какая. Жлобов и шкурников среди российской интеллигенции (то бишь квазиинтеллигенции) во все времена было предостаточно; особенно они расплодились в советские времена (см. «Образованщину» Солженицына). Нынче же они не просто плодятся как тараканы. Все гораздо хуже. Под этот процесс подводится теоретическая база: дескать, российская интеллигенция сошла (вот-вот сойдет, должна сойти и т.д., см. начало памфлета) со сцены, а на смену ей, по мере того, как Россия догоняет Запад, идут интеллектуалы, скроенные, как говорил Федор Михайлович, «по новому штату». Так-то оно так, только тут по крайней мере одна загвоздка с этими прозападными интеллектуалами: они до того прозападные, что сам собою возникает вопрос – а на кой ляд они нужны России, если им не нужна Россия? Если она нужна им лишь как фон для успешного «проекта биографии», а не как отечество (уж простите возвышенное слово, само сорвалось)? Их «суверенизация» как абсолютно свободных и ни от кого (кроме их западных или западно-ориентированных боссов) не зависимых субъектов имеет ту же природу, что и бандитская попытка суверенизации Чечни: слабость России, деградация российского общества в переходный период, «разруха в головах», и если бы только в головах. Одно остается: верить, что придет время, когда Россия, как тот пушкинский дядюшка, «уважать себя заставит», и вестернистам вновь придется сменить ориентацию и поднять другой флаг. Что ж, им не привыкать: лишь бы субъект проекта биографии уцелел и процветал, а в полях «этики убеждений» хоть трава не расти. Не их это этика. 1.7. Объективный Cудья. 1.7.0. Выбор nom de guerre для данного типа критики подсказан заглавием работы, наиболее отчетливо его представляющей – «Приговор» Георгия Кнабеxxxvi. Помимо категоричности приговора, работа Объективного Судьи обладает еще очевидными достоинствами систематичности и постоянной апелляции к фактам из сегодняшнего жизненного опыта (в отличие от идеальных построений г-на Вестерниста, см. выше). Оппонируя такой позиции, можно надеяться охватить основной массив относящихся сюда проблем и при этом остаться в кругу феноменологически данных и экзистенциально переживаемых событий, из которых, как справедливо отмечает Объективный Судья, и состоит история. Основной тезис работы проф. Кнабе таков: в последние годы ХХ века на интеллигенцию «надвинулись испытания, которые оказались несовместимыми с самой её сущностью. Они возникли из сложившейся к тому времени новой цивилизации и новой культурно-исторической атмосферы, и поэтому преодолеть эти испытания русская интеллигенция не могла, да и не должна была. То были испытания долларом, утратой самоидентификации, обесценением научной истины. Исход этих испытаний знаменовал завершение её исторической роли и её исчезновение с арены русской истории»xxxvii. Признаюсь, со столь отчетливой аргументацией просто приятно работать. Нужно только вплотную разобраться в сути, попробовать ответить на естественно возникающие вопросы: действительно ли русская интеллигенция не выдержала трех указанных Объективным Судьей суровых испытаний? Действительно ли она бесповоротно провалилась на этих экзаменах? Если при разборе появятся какието обоснованные сомнения в реальности такого провала, нам придется, в лучших юридических традициях, толковать эти сомнения в пользу обвиняемого (-ой). 1.7.1. Испытание первое – долларом. Для интеллигенции примат духовных ценностей над материальными аксиоматичен – таков исходный пункт рассуждений Объективного Судьи. И до, и после катастрофы 1917 года интеллигенции удавалось выдерживать давление «безжалостного чистогана» (Маркс), а вот после 1991 года случилось нечто настолько ужасное, что из-за него интеллигенция сломалась и давления этого не выдержала, изменила указанной выше аксиоме. Материя победила дух: «Фундаментальные и традиционные нормы интеллигентного поведения ― подход к общественным проблемам на основе совести, к научным решениям на основе анализа и истины, к художественным явлениям на основе убеждения ― оказываются подверженными в этих условиях искажающему, но и решающему влиянию выгоды и личной заинтересованности»xxxviii. Грубо говоря, жлобизм торжествует. Звучит вроде убедительно и даже убийственно, но вот дальше начинается самое интересное – факты из жизни. «Корчащемуся от боли человеку врач скорой помощи ― т.е., казалось бы, интеллигент по определению ― отказывается сделать обезболивающий укол, пока ему не опустили в карман халата конверт с тремястами рублями». В этой точке я просто не могу не вспомнить, что вот я-то сам не писал бы этих строк, если бы не другие «интеллигенты по определению», которые, когда мне и жить-то оставалось пару недель, починили мне дырявое сердце, потом еще выходили – и все за зарплату, о которой их западным коллегам рассказывать без густой краски стыда просто невозможно; это прямо к вопросу о примате чего-то над чем-то. И так со всеми иллюстрациями Объективного Судьи; на все его примеры можно привести контрпримеры. Он пишет о торговле отметками в учебных заведениях; я могу рассказать о коллеге, который сел в тюрьму за такие же подвиги, но не после 1991, а задолго до, чуть ли не в 60-х. Он пишет об отказе от дружеских отношений, которые перестали быть практически полезными, и об искании дружбы с полезными людьми, а мне мерещится опять-таки, что он описывает нравы не девяностых или нынешние, а кондово-советских лет (помните термин homo equivalentus?). С другой стороны, мне очень близко знаком один субъект (назовем его С.Р.), который в 1998 году два месяца прятал в своей квартире друга из мира большого бизнеса – его тогда активно разыскивала одна областная прокуратура, купленная одним большим банком (в конце концов, он не вытерпел, вышел на улицу, и там его и повязали, но это уже совсем другая история). Пока мы ведем разговор на таком вот качественном уровне, ни примеры, ни контрпримеры ничего не доказывают. Нужны очень тонкие социологические исследования, чтобы получить доказательные данные. Очень может быть, что они покажут сужение сферы норм поведения, характерные, скажем, для советской интеллигенции (только какого периода? Они ведь такие разные) по сравнению с современными нормами. Но, во-первых, полное исчезновение такой сферы не только маловероятно, а просто не подтверждается индивидуальным жизненным опытом (см. выше); а во-вторых, такое поведение просто не может исчезнуть из этоса нашего социума (как не может исчезнуть, скажем, идея социализма – хотя бы в виде смутной тоски по социальной справедливости) и пребудет в нем значимым фактором. Оставаясь в рамках общих рассуждений, не подтвержденных социологическими данными, полагаем, что «искажающее влияние выгоды и личной заинтересованности» всегда было существенным фактором как для русской интеллигенции, так и для любого другого слоя. «Все люди – люди, а кто не человек, да будет ему стыдно», сказал когда-то Коцюбинский. Это было верно и для дореволюционной интеллигенции. Объективный Судья поминает Маркса с его миром «безжалостного чистогана» -- а ведь именно в этом, капиталистическом мире и существовала русская интеллигенция, которую мы теперь вспоминаем как эталонную. Выписав некую историческую загогулину, Россия вновь оказалась в этом самом мире (пусть и существенно изменившемся – но ведь в лучшую сторону, как нас постоянно уверяют!). И почему вдруг именно сейчас интеллигенция должна из этого мира исчезнуть? Основной аргумент Г.С. Кнабе в этом отношении, похоже, таков: «Экономическая система, получившая название рыночной экономики в её специфически российском варианте конца ХХ века, предполагала (и предполагает) выравнивание потребностей и цен по западноевропейскому уровню при уровне доходов интересующей нас сейчас группы населения несравненно более низком. Дабы выжить и оставаться интеллигенцией, от этой группы потребовалось преодолевать возникший разрыв. Поскольку же традиционные, специфически интеллигентские виды деятельности необходимых средств для этого не давали и не дают, разрыв должен был покрываться за счёт активности иного характера, с традициями интеллигенции несовместимой». Ну, во-первых, специфически российский вариант рыночной экономики (известный, среди прочих кличек, как бандитский капитализм) вовсе не вечен и довольно быстро эволюционирует; даст Бог, в обозримом будущем изменится во что-нибудь более или менее приличное. Но это так, подстрочное примечание. Главное в утверждении Г.С. Кнабе – это те аспекты, которые я могу «примерить на себя» (дьявол, как всегда, в таких вот деталях): о выравнивании цен и потребностей по западноевропейскому уровню. Я не знаю в точности, что там «предполагает» рыночная экономика; я вижу только, что потребности моего, вполне интеллигентского круга если и расширились, то вовсе не до западноевропейских стандартов. Есть квартира, дача, машина – и хорошо; нет дачи и машины – еще лучше, голова меньше болит, что машину сопрут, а дачу вандализируют. Если угодно, интеллигент и теоретическую базу подведет под такое свое мироощущение: сошлется либо на традицию нестяжательства, заложенную в русской православной религии и вообще в российском этосе, либо на еще более древнюю аристотелеву доктрину: каждый должен иметь ровно столько, сколько потребно для благополучной жизни (это если не вспоминать киников и Сократа). Вечная погоня за золотым теленком в этих этических традициях выглядит как преглупое и недостойное занятие или, скажем так, занятие, достойное лишь жлоба, мещанина, шкурника, морального урода и интеллектуального унтерменша. Потому и непохоже, чтобы интеллигенты, менее обеспеченные, чем другие граждане, упомянутыми кардинальными благами чувствовали себя ущербными, ущемленными и пр.; интеллигентский и просто российский этос (кому нравится, может назвать его интеллигентским снобизмом) все еще силен. Для интеллигента по-прежнему из потребностей главная – книги да теперь еще Интернет, для себя и для детишек. О ценах на книги могу говорить с уверенностью: вот когда российские цены на них действительно дорастут до западноевропейских и американских, тогда и можно будет говорить о катастрофе. А пока сравните «Москву» на Тверской и Zwemmer’s на Кузнецком. Чтобы протолкнуться в толпе в первом, нужны стальные локти, а Zwemmer’s больше похож на захудалый музей в дальнем закоулке – редкие шаги редких посетителей, которые любуются на корешки и очень редко что-то покупают. Так что в смысле книжек держимся пока, а Интернет вообще скоро будет к нам из электрической розетки поступать; есть такие идеи. А кроме книг и Интернета, в запасе всегда «роскошь человеческого общения», мало зависящая от уровня доходов – европейский он или вполне себе российский. Возьмем далее утверждение о том, что «специфически интеллигентские виды деятельности» не дают необходимых средств для преодоления разрыва между западноевропейскими ценами и потребностями, и разрыв должен «покрываться за счёт активности иного характера, с традициями интеллигенции несовместимой» (с самим этим разрывом все не так страшно, см. выше, но пока примем и это допущение). Опять-таки этот тезис из разряда тех, что по-английски называют sweeping, чересчур размашистыми. Конечно, все мы знаем о бывших работниках НИИ, ставших челночниками. Однако учтем следующее. Во-первых, и в советское время были стройотряды, что не мешало сохранению интеллигентской касты (даже по Кнабе); а во-вторых, ведь и нынче основная масса интеллигентов как лечила, так и лечит, как учила, так и учит – или я неправ? Здесь опять-таки нужны социологические исследования. Но и без них достоверно известно, что не всегда перемена деятельности выжигает в человеке его «интеллигентское нутро». А если «интеллигентское нутро» у кого-то и выжжено – ну, значит таково было его качество, что ж тут поделаешь. Даже ограниченный жизненный опыт показывает, что перемена «активности» вполне совмещается с традициями интеллигенции. Знаю банкира, манеры, образ мыслей и даже привычки которого никак не изменились с тех пор, когда он был старшим научным сотрудником – разве что теперь он еще и со всей страстью собирает картины, патронирует галереи, чего за ним раньше не водилось; да еще стесняется своего охранника. Знаю успешного бизнесмена, который на досуге написал толстую книгу, где досконально разбирается с Гегелем и многими прочими по вопросу о времени, смерти и бессмертии (уже было два издания). С другой стороны, человек может вовсе не менять рода активности – скажем, оставаться журналистом как до, так и после 1991 года – но назвать его, кропающего «джинсу», заказуху, русским интеллигентом как-то язык не поворачивается. Здесь имеем примерно тот же случай, что и с «дамой неожиданно интеллигентной наружности» в п. 0.1 и длинным рядом сходных типажей. Слов нет, в общем-то и Маркс, и Объективный Судья правы: бытие, черт бы его побрал, действительно определяет (или, скажем так, страшно давит на) сознание. Давление обстоятельств действительно может исказить, деформировать интеллигентское сознание и интеллигентскую этику, а то и оставить от них рожки да ножки. Но применительно как раз к интеллигенции это правило регулярно дает сбои (я употребляю слово «правило», ибо говорить о нем как о законе, имеющем силу закона естественно-исторического, то есть не знающего исключений, явно нелепо – факты вопиют). Число исключений из этого правила интуитивно ощущается как значимое (в математико-статистическом смысле, хотя как раз статистики-то и нет, одна интуиция). Бытие (представленное хотя бы тем же давлением доллара) встречает сопротивление, которое не только высвечивает, но и формирует примарную роль волевого, духовного и интеллектуального измерений человеческой личности и целой социальной группы. Будем исходить из трюизма: человек (или группа) всегда, в каждой новой ситуации, требующей ответа, находится в ситуации выбора – поддаться давлению обстоятельств, сопротивляться ему или выбрать еще какую-нибудь более хитрую стратегию поведения. В этом смысле я не вижу особой разницы между дореволюционной, советской или постсоветской ситуацией интеллигенции. Вот поэтому вызывает недоумение такой, например, тезис Объективного Судьи: «В советских условиях отклонение от норм, которыми она должна бы руководствоваться, на практике могло быть вынужденным и потому совместимым с внутренним их признанием, т.е. могло не порождать сомнений в валентности самого интеллигентского кодекса. В постсоветских условиях такое отклонение как бы свободно избирается и потому предполагает уверенность в его, этого отклонения, естественности и целесообразности, а, значит, и в несущественности интеллигентского кодекса, в его устарелости, несоответствии духу времени и т.д.»xxxix. Тут прежде всего бросается в глаза явное противоречие сказанному страницей ранее о том, что в постсоветское время этический код интеллигенции подвергся деформации именно в силу давления «экономической системы, получившей название рыночной экономики», то есть внешних обстоятельств, несовместимых с внутренней сущностью интеллигенции – а тут вдруг оказывается, что такие деформации «свободно избираются». Но главное, конечно, не такое текстуально демонстрируемое противоречие в изложении, а самый этот тезис про то, что-де в советское время отклонения от кода поведения были вынужденными, а тут вдруг стали свободно избираемыми. Ведь этот переход по значимости подобен перемене магнитных полюсов Земли – и с чего бы такому скачку произойти? Разговор вроде идет об испытании интеллигенции долларом – но ведь это испытание внешнее, в том же ряду, что и испытания голодом, страхом, карьерными соображениями и пр. в советскую эпоху; откуда же и почему именно теперь появилась эта свобода выбора в пользу неинтеллигентного поведения? Что, искушение долларом сильнее угрозы физической гибели или рабского существования в ГУЛАГе? Непонятки какие-то. Помимо всего прочего, непохоже, чтобы всю интеллигенцию подряд так уж усиленно искушали, чтобы она могла напрочь забыть старые заветы и обиды и свободно поддаться искушению этим самым долларом. Определенная часть интеллигенции льнет к власти – точно так же, как она льнула к ней и при коммунистах. Но ведь это – вполне ограниченная каста, политическая «элита», квазиинтеллигенция, как мы ее условились называть (вроде разобранных выше случаев с Политтехнологом, Постмодернистом, Вестернистом и пр.), а не вся и не собственно интеллигенция. Последнюю, как уж неоднократно замечено, нынче кормят «по остаточному принципу» -- тем же манером, что и при Советах и, наверно, при царе Горохе. И выживает она точно таким же способом, что и при Советах и при царе: за счет профессионализма, того самого, без которого не стоит никакое общество. Именно он дает интеллигенции достаточно независимости и свободы духа, чтобы наблюдать кувыркания разнообразных коверных на социально-политической арене c застарелой, въевшейся в плоть и кровь смесью брезгливости и иронии. 1.7.2. Испытание утратой идентификации. Исходная точка рассуждения Объективного Судьи по данному пункту формулируется так: «Условием существования любой культурно-исторической целостности является идентификация: определенное количество людей осознаёт место, занимаемое в обществе тем слоем, к которому они принадлежат, видит его отличие от других слоёв, отличие того кода, в котором данный слой себя выражает, от кода, в котором выражают себя другие, и обычно склонны воспринимать такую принадлежность и такой код как ценность»xl. Дальше мысль Объективного Судьи идет таким путем: с середины 90-х годов в обществе произошли существенные изменения, которые разрушили интеллигентские коды и стерли различия между интеллигентами и неинтеллигентами; в результате интеллигенция, надо полагать, исчезла вся до последнего могиканина. Прежде чем рассматривать означенные социальные изменения, полезно задаться вопросом – а существовал ли реально единый код, по которому самоидентифицировалась вся интеллигенция до середины 90-х? Уже из сказанного выше (а того более из заметок по истории интеллигенции во второй части работы) ясно, что в явлении, смутно очерченном обыденным употреблением относящихся сюда языковых выражений, выделяется некое ядро – «интеллигенция в собственном смысле» -- и квазиинтеллигентная периферия. При этом коды, в особенности этические коды, по которым происходит самоидентификация ядра и периферии, существенно различны. То, что Объективный Судья говорит об утере самоидентификации, могло бы быть приложимо к периферии и не затрагивать ядра. Из аргументации автора следует, однако, что и ядра-то никакого не осталось. Посмотрим, насколько эта аргументация убедительна. Суть доводов Объективного Судьи такова: общественные силы, из контраста с которыми и из связи с которыми интеллигенция возникла – суть власть и народ; до середины 90-х границы между этими тремя членами – власть, интеллигенция, народ – были четкими, а после этого рубежа указанные границы расплылись: «социокультурно-значимое отличие интеллигенции от обеих этих сил семиотически нейтрализуется». Слов нет, с середины 90-х в социальном устройстве России кое-что действительно изменилось; вызывает некоторое изумление, однако, что из схемы Объективного Судьи выпало самое существенное из этих изменений: ведь нынче на место описанного трехчлена фактически во весь рост встал четырехчлен: власть – капитал – интеллигенция – народ. Власть капитала непонятным образом из схемы проф. Кнабе выпала – а ведь это страшная власть, подчиняющая себе и власть политическую, и власть «властителей дум», чему мы имеем массу свидетельств. Однако будем говорить о том, что в схеме Объективного Судьи есть, а не о том, чего в ней нет. Сначала об отношении и соотношении интеллигенции и народа. Народ Объективный Судья делит на две части: (а) ту, что занята в производительном труде и (б) ту, что занята в сфере товарного обмена, услуг, денежного обращения и зарубежных связей. По Кнабе, «народом в собственном, социокультурном и культурно-историческом смысле, является, как известно, именно первая часть». Каюсь, парентеза насчет «как известно» меня не касается: о таком любопытном делении на народ и ненарод слышу впервые. До сих пор мне казалось, что народ – это все, что не есть власть, включая в известном смысле и интеллигенцию; тут неизбежно вспоминается платоновское «Без меня народ неполный». И куда же при таком делении девать действительно сильно выросшую с середины 90-х «вторую часть»? Вряд ли она попадает во власть или капитал. Обозначить ее как «полународ»? Возможны резкие возражения со стороны самих членов категории (б). Или назвать их «полуинтеллигенцией»? Тогда почему «полу-»? Интеллигенция с момента своего возникновения пополнялась за счет разных социальных слоев; почему тогда не за счет брокеров или, скажем, служащих турагенств, если они и в самом деле интеллигентны? Если нет, то для них заранее припасена рубрика «квазиинтеллигенция». В общем, что-то тут не клеится с нейтрализацией различий между народом и интеллигенцией. Тем более, что и народ категории (а) никуда не девался. Говорить о его резком сокращении надо бы на основе какой-то статистики, а не импрессионистски; но даже при сокращении, даже при резком сокращении кто-то же продолжает рубить уголек, варить сталь, качать нефть, пахать землю и пр. И что-то нет данных за то, чтобы Россия семимильными шагами двигалась в постиндустриальное общество. Напротив, много, горько и вполне оправданно говорится о том, что в результате гайдаро-чубайских реформ страна откатилась на положение сырьевого придатка «первого мира», в коем строить это самое постиндустриальное общество несколько затруднительно. В любом случае при нынешнем порядке вещей до нейтрализации различий, скажем, между профессурой и теми же сталеварами все-таки по-прежнему далековато: коды (включая те, которые очень даже на слуху – лингвистические) слишком разнятся. Теперь об отношении интеллигенции и власти. Здесь Объективный Судья констатирует разрастание с рубежа восьмидесятых-девяностых той категории граждан, которую, если без обиняков, следует назвать интеллигентской обслугой власти. Собственно говоря, большая часть относящихся сюда проблем обсуждена выше, в главках о Постмодернисте, Ницшеанце, Вестернисте и др. Очевидный вывод из сказанного там следующий: разрастание этого класса лиц – по большей части вестернистов-интеллектуалов – вовсе не означает гибели «ядерной» интеллигенции; количественное увеличение слоя «бывших интеллигентов» совсем не доказывает нейтрализации различия между собственно интеллигентом и членом упомянутой обслуги. Если угодно, такие различия лишь обостряются, материализуясь во всех тех атрибутах обслуги, о которых красочно пишет Объективный Судья и которых не найти у «нормального» интеллигента: «ждущие на улице возле служебных помещений частные автомобили, интерьеры с коврами и «евро-окнами», повышенные гонорары и зарплаты, усиленная охрана, заполняющие коридоры прилавки и киоски с продовольственными и промышленными товарами повышенного качества и пониженной цены». Как сказала Зоя Космодемьянская, «Всех не перевешаете!», что можно теперь переиначить на «Всех не купите!» Да и нужды такой у власти нет, покупать все 14,8 миллионов народу интеллигентских профессий. Накладно, да и ни к чему. Напротив, у власти частенько возникает потребность именно эту категорию населения – несчастных «бюджетников» – слегка пощипать, ассигнования на науку урезать, здравоохранение пустить на самопрокорм, библиотеки-музеи позакрывать и т.д. Что роет еще более глубокий ров между обслугой и общипываемыми интеллигентами. Какая уж тут «нейтрализация различий». Следует отметить еще один момент, нами ранее не затронутый. Кто-то давно уж заметил, что выражение «бывший интеллигент» имеет примерно такой же смысл, что и «бывшая овчарка». То есть никакого смысла. Переходя из «ядерной» интеллигенции в категорию интеллигентской обслуги, индивид чаще всего просто оказывается в ситуации «двойного сознания»xli, хорошо нам знакомого со времен советской власти, когда, по словам незабвенного Остапа Бендера, человек с десяти до четырех был за Советскую власть, а с четырех до десяти – очень даже против. Измена интеллигентскому коду ощущается индивидом именно как действие, противоречащее интеллигентской этике, что вызывает гамму переживаний чисто интеллигентского свойства – вины перед самим собой, своими идеалами, старыми друзьями и т.д. Разумеется, все это касается только индивидов, действительно впитавших интеллигентский кодекс, а не лиц, с младых ногтей воспитанных как интеллектуалы-вестернисты: о них и разговору нет. Еще одно замечание про обслугу: помимо профессий, требующих от индивида некоей идеологической ангажированности (искренней или притворной, по принципу double-think), в эту деятельность вовлечена масса народу, от которой никакой такой вовлеченности не требуется. Простейший пример – переводчик, который видит всю глупость или мерзость переводимого текста, но вполне может утешить себя тем, что он всего лишь добросовестно отбывает номер за хорошую плату, тогда как до его интеллигентского нутра никому нет дела (особенно в обществе, любящим называть себя свободным, открытым и пр.). Насколько искренне (нелживо) такое самоутешение, зависит, разумеется, от массы конкретных деталей конкретной ситуации, и потеря или сохранение интеллигентской самоидентификации определяется множеством выборов каждого индивида в каждой такой ситуации: он может отказаться от своей деятельности (резко или под благовидным предлогом) или продолжать участвовать в ней. Рисовать же положение дел такими широкими мазками, как это предлагает Объективный Судья (разрастается класс интеллигентской обслуги – значит, исчезает интеллигентская самоидентификация) нам видится слишком примитивным решением проблемы. Необъективным, если хотите. И последнее об отношениях интеллигенции и власти; пожалуй, самое важное. Ну хорошо, власть рекрутирует из рядов интеллигенции свою интеллектуальную обслугу, как это делается во всем мире, от западных демократий до тираний типа северокорейской. Но в любом обществе при этом сохраняется объективная потребность в оппонировании власти, конструктивном или не очень – иначе общество попросту загнивает и коллапсирует (тут за примерами далеко ходить не надо: был СССР – и нету). В нынешних российских условиях такая потребность никуда не исчезла, а с развитием гражданского общества, на которое возлагается столько надежд, удовлетворение этой потребности должно принимать все больший размах. Как в биологии функция порождает орган, так и в социальном организме потребность (спрос) порождает предложение – и кто еще способен в наших условиях удовлетворять этот спрос, осуществлять такое оппонирование, как не интеллигенция? О, могут, конечно, и вестернисты-интеллектуалы – но на свой манер и в свою пользу, точнее, в пользу закупившего их капитала, как это мы нынче наблюдаем сплошь и рядом, особенно в медиа и смежных областях (момент, совершенно выпавший из рассуждений Объективного Судьи, как уже отмечено выше). Оппонировать же власти в пользу народа (и заодно свою собственную), кроме как интеллигенции, некому. Как только интеллигенция уходит с этого поля, власть, капитал и их обслуга манипулируют массами, как хотят. В последнее время мы насмотрелись на эти картинки вдосталь. 1.7.3. Испытание исчезновением истины (постмодернизмом). Здесь Объективный Судья ведет речь «о приговоре, вынесенном историей над нынешним, итоговым состоянием» интеллигентской образованности, традиционно реализуемой в научной или преподавательской деятельности. Приговор этот звучит так: «Решающим элементом указанной деятельности, придающим ей этический смысл и делающим интеллигента интеллигентом, всегда являлся поиск и пропаганда доступной и доказуемой истины, её аргументация и проверка. Истину человек для себя открывает, или, узнав её от других, так же принимает её как истину для себя, но при этом она остаётся истиной в той мере, в какой она не исчерпывается своей субъективностью, а представляет собой некое общее достояние, убеждение. Взаимосвязь и взаимоопосредованность субъективности и объективности, т.е. личности и целого, выступают здесь особенно очевидно и непреложно. Между тем, исходная основа становящейся к концу века универсальной цивилизации постмодерна, а, следовательно, и познавательной парадигмы, для постмодерна характерной, как раз и состоит в отрицании этой взаимосвязи и взаимоопосредованности, в результате чего сомнительным и прогрессивно исчезающим стало и само понятие истины»xlii. Спору нет, интеллигент, не имеющий убеждений, то есть не переживший неких истин экзистенциально и не убежденный в том, что эти истины объективны, не есть интеллигент: менять свои убеждения по принципу куда ветер дунет (или чего изволите) либо тупо, некритически придерживаться явно обветшавших, вошедших в противоречие с изменившейся реальностью «истин» -- неинтеллигентно. Это вполне очевидно и тривиально. Так же очевидно, что такая внутренняя установка несовместима с тем, что называется постмодернистской парадигмой, которую проф. Кнабе описывает следующим образом: «Ее коренные исходные положения состоят в том, вопервых, что высшей ценностью признается свободное самовыражение человеческой личности («я»), и в том, во-вторых, что недопустимой признается любая норма, не принятая этим «я» для себя внутренне. Соответственно протест вызывает всё, признанное принятым, привычным и, очевидно, доказуемоистинным – от правил орфографии до требований закона или требований приличия. В научной области – по крайней мере в гуманитарной – одним из результатов такого положения стала свобода умозаключений, выражающаяся в полной субъективности выдвигаемых построений и произвольности выводов. В постмодернистском дискурсе доказательство перестает быть обязательным, а факты – системными. Достаточно ассоциаций, сопоставлений, догадок»xliii. Истолкования термина «постмодернизм» столь же путанны и хаотичны, сколь и само явление: было бы именно в духе этой «парадигмы» заявить, например, что приведенные выше определения Объективного Судьи – не более, чем его субъективное мнение, и утверждать что-либо альтернативное. Я вовсе не намерен прибегать к такому постмодернистскому трюку, вполне принимаю эти определения, но хотел бы добавить и свои впечатления, вынесенные – нет, не скажу из изучения, а из ошарашенного приглядывания к этому тренду (в литературе и жизни) и некоторым следствиям из него вроде пресловутой PC, political correctness. На мой взгляд, стержень постмодернизма – в атомизации и децентрации человеческого универсума. Мир видится как множество атомов-субъектов, каждый из которых равен любому другому и столь же суверенен, как и этот любой другой. В этом хаосе нет (или не должно быть) иерархии, ранжирования и прочих «репрессивных» штучек. Иначе говоря, господствует приятное убеждение «Я равен Наполеону» или «Я равен Платону». Правда, любое другое «я» может заявить то же самое, и в сумасшедшей логике постмодернизма все эти высказывания окажутся истинными. Ибо универсум высказываний субъектоватомов основан на тех же принципах децентрации и атомизации, что и универсум субъектов: здесь тоже нет ранжирования по степени истинности, каждое высказывание столь же истинно, как и любое другое – если на то есть согласие изрекающих эти «истины» оракулов. Все это очень любопытно и даже, пожалуй, может быть предметом исследования, в том числе исторического – как реакция на тоталитаризм или на «невыносимые» условия бытия образованной буржуазной молодежи в золотой клетке победившего консюмеризма, толкнувшая эту самую молодежь на игрушечные баррикады 1968 года и на тропу хиппи. Здесь вопросов нет: хиппи, он и в науке хиппи (по крайней мере, в гуманитарной, как осторожно поправляется Г.С. Кнабе), и так он себя в ней и будет вести; кто бы сомневался. Но ведь Объективный Судья каким-то образом связывает распространение этой парадигмы (и даже, шире, целой цивилизации постмодернизма) с исчезновением интеллигенции, привязанной, надо полагать, исключительно к цивилизации модерна (а также, следует думать, до-модерновых формаций) и долженствующей улетучиться вместе с последней. Никак иначе нельзя понять утверждение, что, мол, к концу (двадцатого) века цивилизация постмодерна и его познавательная парадагма становятся «универсальными» (см. выше). Раз эта цивилизация универсальна, то других нет или не должно быть и скоро действительно не будет – других прочтений этой тезы я не вижу. Такая постановка вопроса упирается в здравый смысл, как коса в камень. Ни природный, ни социальный мир не построены по «принципам» постмодернизма; они просто не могли бы существовать на этих принципах. У природы есть высшие и низшие формы, человек не равен ни инфузории-туфельке, ни даже гиене, что бы ни говорили защитники прав животных. Никакой защитник этих самых прав не втолкует вожаку волчьей стаи, что иерархия – это нехорошо, что все равны друг другу. Волчара уверен, что он равнее других, и он прав: без его жестокого и мудрого руководства стая передохнет или ее перестреляют индивиды, опять-таки не достигшие постмодернистских высот духа. В человеческом мире ситуация еще хуже для постмодерниста: политика, экономика, социальные уклады построены исключительно по принципам иерархичности, ранжирования индивидов, организации их в сложные и сверхсложные системы – о чем тут говорить. Армия, полиция, строительство, транспорт, любая сфера практической деятельности держится только на организации, на логистике, на негэнтропии, и любимый постмодернистами хаос означает быструю смерть и общества, и индивидов – и постмодернистов, и тех, кто об этих постмодернистах слыхом не слыхивали. Репрессия полезна, функциональна – иначе человечество никогда не изобрело бы полезных вещей вроде экзогамии; хотелось бы посмотреть на постмодерниста, который нарушил бы этот вид репрессии и женился на матери, сестре или дочери. Реально «постмодернистская цивилизация» может существовать лишь в некоторых выгородках нормальной человеческой цивилизации, назови последнюю хоть модерном, хоть иным каким словом, только в печь не сажай. Такие выгородки находим, скажем, в искусстве, где, простите за англицизм, anything goes – все сойдет; и в так называемых гуманитарных науках, где тоже временами творится черт знает что – парапсихология какая-нибудь, или марксизм-ленинизм советского извода, или историческая хронология по Фоменко. Полагать, что постмодернистские принципы могут выйти из этих выгородок в широкий мир и подчинить его себе, трансформировать в иную цивилизацию, нет ни малейших оснований – ввиду несовместимости этих принципов и тех, на которых фундирован жесткий, реальный природный и социальный универсум. Постмодернистская парадигма предполагает ироничную игру с истинами – но невозможны ни ироничная теория относительности, ни юмористическая квантовая физика, ни трепанация черепа, которую ради игры («перформанса») кому-то захотелось бы проделать садовой пилкой на живом человеке или даже животном. В действительности даже в этих выгородках постмодернистским подходам ставятся жесткие пределы, когда речь заходит о получении знаний, имеющих выход в практику – в психологии и психиатрии, в политологии, даже в литературоведении, завязанном на издательскую деятельностьxliv. Когда речь идет о том, засадить ли индивида в сумасшедший дом или оставить на свободе, не до иронии и не до поголовного равенства всех всем – нужно мнение профессионала, основанное на достоверных истинах, а мнением очередного «Наполеона Бонапарта» и его родственников придется несколько пренебречь. В пределах описанной выгородки остается фраппировать публику «актуальным искусством» (скажем, консервированным слоновьим дерьмом или групповым совокуплением в зоологическом музее), строить «альтернативную историю» и пр. Собственно, последние несколько страниц работы Объективного Судьи посвящены предмету, который он знает лучше многих прочих – исторической науке (хотя выводы из своих рассуждений он переносит на всю науку и даже на всю цивилизацию). Однако именно эти страницы производят престранное впечатление. Так, Г.С. Кнабе дает отменную формулировку внутренней, необходимой связи между частными, специальными исследованиями конкретных исторических материалов и их переживанием исследователем как нравственной личностью и гражданином: «Научно-исследовательская деятельность, направленная на выяснение объективной, частной и доказуемой истины, лежит в другой плоскости, нежели политическая ангажированность, направленная на достижение определённых социальных целей. В практическом жизненном поведении тех или иных учёных они могут сочетаться или не сочетаться произвольно и объясняться частными жизненными обстоятельствами. Но в недрах общественного организма они для духовно развитой личности вообще и для русского интеллигента в первую очередь оказываются нерасторжимо связанными, ибо производны от постоянно, остро и субъективно переживаемых им глубинных проблем общественного развития. Такое переживание окрашивает взгляд человека, направленный на общественно-историческую реальность, и взгляд учёного, направленный на проникновение в её внутреннюю структуру»xlv. Истинность этого взгляда далее подтверждается примерами из деятельности таких корифеев, как Теодор Моммзен, Михаил Ростовцев и Юрий Лотман (причем говорится без обиняков: «Примеры такого рода бесконечны, ибо коренятся в природе науки» (курсив мой. – С.Р.)). И вот, казалось бы, непреложно доказав истину (которая, впрочем, и так ощущается как самоочевидная), Объективный Судья проделывает внезапное постмодернистское сальто-мортале и заявляет фактически, что все это вздор, а вот «диалектика переживаемой истории и научной ее трактовки» диктует нечто противоположное: «Диалектика переживаемой истории и научной её трактовки заложена в самом бытии учёногоинтеллигента, с равным акцентом на обоих словах. Разделение политической ангажированности и академического «профессионализма» есть оборотная сторона их внешнего смешения ― дань цивилизации постмодерна, где личная убеждённость и общественная ответственность, ответственность перед объективной истиной и субъективно пережитой ценностью, где «Я» и Целое сосуществуют, не проникая друг в друга» (там же). Вывод столь же неожиданный, сколь и легковесный, если учесть, что единственное, на чем он держится – это ссылка на пресловутую «цивилизацию постмодерна», о которой достаточно сказано выше. Связь между экзистенцией и трансценденцией онтологична, «коренится в природе науки» (что сам Объективный Судья показал вполне убедительно), и расчленить их не получится никакими ссылками на постмодернистскую цивилизацию (которая, в конце концов, есть всего лишь словесное выражение вроде «шибболет» -- оно что-то значит для посвященных, вот и пусть себе ковыряются в своей постмодернистской песочнице). Раздельное сосуществование «Я» и Целого возможно лишь в виртуальном постмодернистском мире, имеющем весьма отдаленное отношение к реальному. Как заметил один неглупый англичанин, смысл (meaning) возникает, только когда в нем есть me «Я». Равным образом me вне Целого – бессмысленно. Можно согласиться с Объективным Судьей, что «русская интеллигенция, какой мы её знали на протяжении полутора столетий, с этой [постмодернистской] цивилизацией несовместима». Вот и чудненько. Только, в отличие от Судьи, мы полагаем, что это – скорее приговор постмодернистской цивилизации, чем русской интеллигенции. Модернистская цивилизация (или просто – цивилизация, вместе с ее элементом, русской интеллигенцией) без постмодернизма обойдется без малейших затруднений, постмодернизм же может существовать лишь как паразит на теле цивилизации. «Паразит» не в ругательном, а в биологическом смысле. Вроде клеща или пиявки. Впрочем, позволительно усомниться в искренности приговора, вынесенного самим Объективным Судьей русской интеллигенции. Другая его работа и заканчивается на совершенно иной ноте (лишь слегка амбивалентной), и по содержанию полна убедительных аргументов против универсальности этой самой постмодернистской цивилизацииxlvi. Так что не все потеряно – если, конечно, мы не сталкиваемся здесь с постмодернистской игрой маститого историка утверждениями, лежащими вне его специальностиxlvii; уж там-то он, надо полагать, высказывает находимые им истины со всей приличествующей русскому интеллигенту щепетильной ответственностью – и перед обществом, и перед наукой, и перед самим собой. 1.8. Другие-прочие. Как уж говорилось выше, вереница гробовщиков русской интеллигенции весьма длинна. Среди них есть презабавные (вроде того, что обозначен выше как Клинический Случай – casus Galkovskii). Есть еще забавнее в своей непрошибаемой, тупой уверенности в том, что причастность к Карнеги Центру дает посвященному неотменяемую санкцию на истину в последней инстанции, каковая и сообщается в тех презрительных тонах, о коих русский народ говорит – «через губу не переплюнет» (Карнегианец). Есть тоскливо-скучные Путаники. Есть даже Новые Наци, уверенные в том, что русской интеллигенции нет, потому что она перестала быть русской – как будто дело в этничности, в составе крови; я это занятие называю про себя заглядыванием своей прабабке под юбку – не согрешила ли она часом с инородцем, пока прадед воевал или пьянствовал. Однако поиски жемчужных зерен здравого смысла в кучах наговоренного ими становятся прогрессивно безнадежнее. Точнее, угасает опасение, что вот где-то из-за угла вывернется совершенно сногсшибательная аргументация, доказывающая в человеческой, непостмодернистской логике и с хорошим запасом жизненного материала, что русской интеллигенции наступил каюк или вот-вот неизбежно наступит. Не видно что-то на горизонте таких провозвестников интеллигентского апокалипсиса, которым можно было бы поверить со спокойной совестью и невозмущенным разумом. В общем и целом и разобранные выше, и оставшиеся за кадром авторы укладываются в две обширные группы – с грустью отпевающие интеллигенцию и радостно пляшущие на ее гробе. И те, и другие смотрятся как организаторы поминок по чему-то живому; хочется надеяться, что в этом разделе достаточно ясно показано, что и отпевание, и пляски несколько преждевременны. А посему представляется оправданным поставить на этом вожделенную точку и перебраться с синхронической горизонтали на диахроническую вертикаль – в уповании, что именно там лежит истинный фундамент интеллигентской веры. 2. Интеллигенция в диахронической проекции. История с мифологией 2.1. Вводные замечания. Возьмем в качестве отправной точки никем (как нам казалось до недавнего времени, см. 1.6.1) не оспариваемое утверждение: когда-то русская интеллигенция несомненно существовала как специфический общественный слой, состоящий из образованных («культурных») людей и отмеченный определенными признаками (характеристиками), отличавшими этот слой не только от других общественных групп в самой России, но и от сходных групп вне ее. Понятно, мы постарались сделать это определение сколь можно более осторожным, «безобидным» и консенсусным – так, чтобы с ним можно было работать, не вызывая отторжения читателя уже на стадии преамбулы. Вопрос: в чем же будет заключаться эта работа? Целью ее будет поиск ответов на несколько вопросов о существовании интеллигенции: Когда существовала интеллигенция? Что делало ее интеллигенцией – каковы были ее конститутивные признаки в разные эпохи ее бытования? И наконец, наиболее животрепещущий из вопросов: сохранились ли эти признаки в дальнейшем, в особенности в той социальной группе, которую – возможно, неоправданно, в силу инерции – попрежнему называют интеллигенцией в наше время в России? Этим методом мы надеемся вывести дело о нынешнем существовании или несуществовании интеллигенции из области сугубых мнений, основывающихся на аморфных, часто сверхэмоциональных («пылких») рассуждениях, на более прочную сравнительно-историческую почву. Если удастся доказать (или скорее показать) сохранность существенного набора дистинктивных признаков старой интеллигенции в нынешней массе интеллектуалов – прекрасно, аллилуйя. Нет – не обессудьте: вопрос, что называется, закрыт. Соответственно эти заметки по форме будут почти равномерным чередованием изложения широко известных, хрестоматийных исторических фактов и моих комментариев к ним, не основывающихся на чем-либо более изощренном, нежели здравый смысл, чтение источников да собственный жизненный опыт. Некоторые вопросы, возникающие при формулировании комментариев, так и просятся, чтобы их исследовали методами прикладной социологии, но это – за пределами возможностей автора. Могу только надеяться, что такие исследования будут проделаны (или уже проделаны, но мне недоступны). В пределах данного текста все суждения – качественные (вовсе не в хвалебном смысле слова). Трудности такого предприятия очевидны. Мы будем постоянно спотыкаться об одни и те же проблемы: разнобой мнений (включая мнения интеллигентов, или особенно интеллигентов) относительно того, что же такое была интеллигенция на разных исторических этапах; чем она хотела быть и что из этого получилось; каковы были ее интенции и тенденции – в общем, воля (или скорее воли) интеллигенции к чему-то и ее доля (а может, «долюшка») в историческом бытии. О том, как мы справляемся с этими трудностями, судить, конечно же, не нам. 2.1.1. Об исторической стороне предприятия. Я вовсе не предполагаю писать историю российской интеллигенции – понятное дело, это потребовало бы долгой, насыщенной упорным трудом жизни (кто бы возражал!) и множества объемистых и содержательных томов. В духе только что сказанного постараюсь удовлетвориться беглым рассмотрением наиболее примечательных вех из истории интеллигенции, в особенности тех, которые дают отчетливый материал для сопоставлений с последующими эпохами в терминах упомянутых дистинктивных признаков. Особенно интересным мне кажется посмотреть, насколько основательны были причины депрессивных и суицидных тенденций в прошлом бытии интеллигенции, чтобы в более широком контексте судить о том, изжила себя русская интеллигенция как историческое явление или еще потопчется некоторое время на исторической сцене. Периодизация истории рассматриваемого общественного образования элементарна и вполне естественна: (1) дореволюционный период; (2) пореволюционные и послереволюционные годы (округленно – до 1930); (3) с 1930 по 20-й съезд КПСС, с естественным подразбиением на предвоенные и послевоенные годы; (4) с 20-го съезда по начало перестройки; (5) перестройка – с последующим закольцовыванием текста, выходящего на уже критически обсужденный послеперестроечный период. Ну и, как говорится, с Богом. 2.2. Где исходная точка? В 1843 году Маркс писал: «Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме»xlviii. Если оставить в стороне существование нематериального мирового Разума, всегда существовали и носители разума (англ., фр. intelligence, нем. Intelligenz), только не всегда их называли интеллигентами – носителями разума по преимуществу; par excellence, если угодно. Они были всегда, и бытие их очень часто было трагичным: слишком умных («шибко грамотных») не любят нигде и никогда, и нелюбовь эта нередко выражается в довольно грубой форме: их травят цикутой, как Сократа, жгут на костре, рубят им головы или лишают премии по результатам года или квартала, а то и гонят с работы. Причина понятна: разум по сути своей не выносит стеснений, он питается свободой, а свободомыслие – это всегда для кого-то опасно; увы, чаще всего как раз для того, кто свободно мыслит. Свободно мыслящий субъект либо соскальзывает под давлением окружения в комфортную могилу конформизма, либо до дна пьет чашу остракизма. Легко видеть, однако, что такого рода общие рассуждения не дают надежных ориентиров в поисках истоков предмета нашего рассмотрения. Выбирать начальную точку приходится более или менее наугад и затем уже с помощью вспомогательных мыслительных операций наводить мушку на цель. Обратимся к работам столь полюбившегося нам своей систематичностью Г.С. Кнабе. Указанный автор относит образование русской «протоинтеллигенции» к началу 16-го века, когда Московия освободилась от татаро-монгольского ига и оказалась единственным православно-христианским государством в мире («третьим Римом»), противостоящим католическому Западуxlix. Такая ситуация порождала необходимость в некоем слое, который усваивал бы передовой экономический, государственный и культурный опыт, накопленный на Западе за те века, что Русь томилась под гнетом или пряталась по лесам. В то же время в обществе существовало и опасение, что вместе с этим опытом на Русь будут протащены ценности, несовместимые с православными; отсюда и подозрительное отношение консервативных масс к «протоинтеллигенции» -- черта, сохранившаяся на века. Проф. Кнабе выделяет несколько характеристик «протоинтеллигенции», выработавшихся в борьбе противоречивых сил и исторических тенденций: открытость переживанию судеб общества и переживанию истории; примат личного убеждения и совести над прагматическими интересами; образованность и открытость передовому западному культурному опыту. Эти характеристики можно с чистым сердцем отнести не только к «протоинтеллигенции» конца 15-го – начала 16-го века, но и к более поздней и современной интеллигенции. Однако исторически неверно было бы утверждать, что эти признаки передавались из поколения в поколение в пределах четко выделенной социальной группы на протяжении веков, что имелась четкая преемственность в существовании этой группы. Г.С. Кнабе подобного утверждения и не делает. Наоборот, он указывает на отчетливые перерывы в существовании «протоинтеллигенции» -- при Иване Грозном (с середины 16-го века) и во второй половине 17-го века, после Смутного времени, когда вновь, как при Иване III и Василии III, возникла необходимость в создании сословия, способного работать с передовым мировым опытом, но общество (имеется в виду, разумеется, в первую голову его правящий слой) не сумело ответить на этот вызов. Такое уж было общество, и не стоит тут винить во всем консерватизм православия: и после Смутного времени было предостаточно внешних и внутренних угроз самому существованию царства; лозунг «не до жиру, быть бы живу» сурово стоял в повестке дня. (Впрочем, трудно припомнить времена в российской истории, когда он так не стоял.) И все же то, чем русское общество занялось после Смутного времени со всей страстью, весьма показательно. 2.3. Протопоп Аввакум и патриарх Никон. Есть соблазн начать мартиролог российской интеллигенции с протопопа Аввакума (до 1610—1681). Действительно, он – «единственный великий писатель московской Руси»l, автор 43 сочинений (столько ему, по крайней мере, приписывают), включая наиболее известное из них – собственное «Житие». И пострадал он за свои убеждения, что называется, по полной программе – вместе со своими сторонниками был сожжен в срубе, «за хулы на церковь», 1 апреля 1681 года в Пустозерске, куда был сослан за 14 лет до казни и где все эти годы жил на хлебе и водеli. Однако, чем плотнее вчитываешься в историю никонианства и раскола, тем сильнее охватывает отчаяние от невозможности ухватиться во всем этом деле за нить противостояния каких-то идей, вообще чего-то мыслительного, не говоря уж об интеллигентском свободомыслии, интеллигентской толерантности, открытости для чужого мнения и т.д. О чем шла речь? Патриарх Никон решил очистить богослужебные книги от ошибок (заметим – грамматических и просто переводческих ошибок) и «новизны», вкравшихся в них за века изоляции московской патриархии от вселенской церкви, привести их в соответствие с обрядами и текстами других православных церквей. Замышлено было это, казалось бы, чисто толмаческое предприятие для того, чтобы Никону самому стать вровень с главами других православных церквей. Согласно В.О. Ключевскому, побудительной причиной тут были притязания Никона на власть, равную царской или большую, чем царская: «Укрепившись опорой вне сферы московской власти, Никон хотел быть не просто московским и всероссийским патриархом, а еще одним из вселенских и действовать самостоятельно. Он хотел дать действительную силу титулу «великого государя», какой он носил наравне с царем...»lii Во исполнение своего замысла Никон призвал в Москву греков и киевлян, зараженных, по мнению косного русского клира, «латинством» и непомерной спесью (что было истинной правдой), из-за чего учинились великие нестроения и в конце концов раскол. Протопоп Аввакум, участвовавший при патриархе Иосифе в «книжном исправлении», был от этого дела отстранен, как и другие «справщики», которым были недоступны греческие подлинники. Обе стороны проявили в последовавшей за тем борьбе огромную волю, мощные амбиции, эмоции и неукротимый дух вплоть до самопожертвования. Но если спросить себя – чем это обогатило интеллектуальный багаж человечества, ответом будут слова того же В.О. Ключевского: «Ничего обновительного, преобразовательного не внес он [Никон] в свою пастырскую деятельность; всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных книг и обрядов. Корректура – не реформа...»liii У противников же Никона, Аввакума и многих других, слишком все замешано не столько даже на вере, сколько на фанатизме, доходящем до истинного изуверства, до подстрекательства к самосожжению тысяч людей, которым обещано царствие небесное только потому, что они осеняют себя двуперстным знамением, а не «кукишем». Какая уж тут intelligence – никаких признаков чего-то рационального, интеллектуального в подвиге Аввакума и его сподвижников различить невозможно. Правда, С.М. Соловьев предостерегает нас от «неуменья отрешиться от настоящего времени и привычки переносить его требования в века минувшие» liv. Но это же можно понять и так: не следует искать в прошедшем того, чего там нет, что еще не успело народиться. Не было у нас в XVII веке интеллигентов, и если и сожгли кого-то за что-то, то вовсе не за интеллигентность или вольнодумство, а за отказ подчиняться церковному и светскому начальствуlv. Однако, если в расколе не было интеллигенции, интеллигентности, то конверсная формула («в интеллигенции не было раскола», в смысле «духа раскола» в историческом смысле этого термина, Раскола с большой буквы) совершенно неверна: в интеллигенции дух раскола силен с самого ее возникновения. На этом особенно настаивает Н.А. Бердяев: «Когда во вторую половину XIX в. у нас окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром. Психологически она наследие раскола»lvi. Насчет «психологического наследия» вполне можно согласиться, а вот по поводу «православной основы русской души» -- поспорить. Если, по Бердяеву, православие формирует русскую душу, то ведь и это можно обернуть: русская психология («душа») формирует народную веру по образу и подобию своему – через жития святых, старчество, народную культуру, уклад жизни, суеверия, подспудные языческие верования и обычаи, и пр. Это замечание, конечно, не совсем «в тему», но и назойливое подпихивание религиозных моментов Бердяевым под все, о чем он говорит, тоже деформирует предмет рассуждения. Без этого вполне можно обойтись. Je n’avais pas besoin de cette hypothèse, как сказал Лаплас Наполеону о Боге. О расколе важно запомнить еще две вещи. Во-первых, тот дорациональный фактор, который привел к нему – неприятие русским обществом (прямо сказать – народом) нововведений, исходящих с Запада, боязнь осквернить свою веру и древлее благочестие контактом с латинством, с западными исчадиями ада – надолго останется действующей силой в русской истории. Эта сила во многом определит трагическую судьбу российской интеллигенции, да и не ее одной. Второй момент есть атеистическое, экзистенциалистское эхо только что цитированного из Бердяева. Раскол дал подтверждение готовности множества людей в России быть подвижниками, то есть существами, готовыми жертвовать собой ради, грубо говоря, идеалов, ради высших целей (сколь убогими ни казались бы эти идеалы нам, их потомкам), причем в ситуации, когда особого смысла в этой жертве нет: массовыми самосожжениями остановить никонианство было невозможно. Люди шли на жертву только потому, что не могли иначе. Столетия спустя безбожники-народовольцы поступали точно так же. А если нынешняя интеллигенция утратила эту способность к подвижничеству, следует делать соответствующие выводы о том, чтó она есть (повторюсь – если она вообще есть) в плане исторической преемственности. 2.4. Петр I и царевич Алексей. Продолжая тему подвижничества, из примечательных фигур, пострадавших в позднейшую эпоху за сопротивление, хотя и весьма пассивное, западным новшествам, можно упомянуть царевича Алексея, замученного по преданию своим отцом, Петром I. Петр, можно сказать, ликвидировал своего сына в превентивном порядке: по словам Н.И. Костомарова, он боялся, что по его смерти «всегда бы нашлась могущественная партия, которая подвинула бы Алексея возвратить себе потерянные права, и тогда погибель грозила бы всем петровым сподвижникам и всему тому, что Петр готовил для русского государства»lvii. И действительно, Алексей считал петровы новшества «чужебесием», однако сам никакими интеллектуальными подвигами известен не был, а если и писал что, так это были в основном вырванные под пытками показания, в которых он обличал себя и своих сторонников в прегрешениях истинных и мнимых. Судьба царевича Алексея – лишь один эпизод, не слишком значительный, в эпоху Петра. С нею связано азартное утверждение Д.С. Мережковского, многократно им повторенное и в цитируемом отрывке выделенное курсивом: «первый русский интеллигент – Петр. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы – все мы, русские интеллигенты», ну и т.д.lviii Тут припоминается, однако, у того же Мережковского (в «Антихристе (Петр и Алексей»lix) сцена, где Петр присутствует при казни стрельцов, выпивает и закусывает, потом видит, что некто не очень ловко рубит стрелецкие головы, выхватывает у него топор, подходит к длинному бревну, на которое эти самые головы склонены, показывает, как надо рубить, отсекает несколько, а потом, забрызганный кровью, продолжает завтрак.lx Согласитесь, после чтения таких сцен уверенность в интеллигентности Петра как-то стремительно улетучивается. Но это, так сказать, эмоциональная реакция. Есть и более аргументированные суждения о неинтеллигентности этого выдающегося монарха. Так, акад. Д.С. Лихачев пишет: «При Петре не было интеллигенции... Петр опасался появления независимых людей. Он как бы предчувствовал их опасность для государства, он избегал встреч с западноевропейскими мыслителями. Во время своих поездок и пребывания в Западной Европе его интересовали прежде всего «профессионалы»: государственные деятели, военные, строители, моряки и рабочий люд – шкиперы, плотники, корабельщики, то есть все те, кто мог осуществлять его идеи, а не создавать их»lxi. Нельзя не отметить некоторой противоречивости в высказывании Д.С. Лихачева: идеи у Петра все же были и даже, как отмечает сам Д.С., неплохие идеи lxii. В том же, что Петр предпочитал претворять в жизнь свои идеи, а не разбираться с чужими, он далеко не оригинален: есть достаточное количество сертифицированных интеллигентов с «герметичным» типом мышления, физиологически неспособных воспринять идеи, отличные от своих. Заметим далее, что Петр вполне подпадает под определение интеллигенции, данное самим Д.С. Лихачевым (которое следует, очевидно, добавить в копилку характеристик «истинного» русского интеллигента): «Для ее образования нужно было соединение университетских знаний со свободным мышлением и свободным мировоззренческим поведением»lxiii. Петр был выдающийся автодидакт с вполне универсальным для того времени образованием, с этим вряд ли можно спорить. А уж что касается свободы мышления и мировоззрения, то здесь говорить о конформизме Петра, право, не приходится: абсолютному монарху незачем и нечему «конформировать». Петр на очень раннем этапе подчинил себе единственную силу, которая могла иметь претензии давить на него своим авторитетом – церковь. Император был не просто мыслящим субъектом, а и весьма критически мыслящим, критически настроенным к тем институциям, порядкам и догмам, которые застал «при вступлении в должность» (десяти лет от роду). Согласимся, что Петр был, как пишет акад. Лихачев, скорее «талантливым и энергичным практиком», чем «теоретиком и мыслителем»lxiv. Однако ограничить круг интеллигенции чистыми теоретиками и мыслителями – значит непомерно сузить объем рассматриваемого понятия. Далее мы увидим, что понятие интеллигенции в своей истории подвергалось разного рода сужениям и расширениям, но намеченное Д.С. сужение интеллигенции до ранга «чистых» мыслителей – это уж слишком. Так что приходится принять взгляд Мережковского – Петр был действительно первым русским интеллигентом. А как же быть с отрубленными головами, и не только с ними? Ведь Петр совершил за свою жизнь великое множество иных неинтеллигентных поступков; он вообще вел себя в основном неинтеллигентно, а проще говоря, как варвар. Изъять же из понятия интеллигенции соответствие неким этическим (в данном случае христианским) нормам не получится, если придерживаться укорененного в русской языковой культуре смысла данного слова: интеллигент без совести – уже не интеллигент, во всяком случае, в России. В конце концов, был Петр интеллигентом или не очень, не столь важно по сравнению с некоторыми иными, фундаментальными фактами. Петр создал российскую интеллигенцию по собственному образу и подобию; это и без Мережковского ясно, и это же надолго определило трагическую ее суть: «Петру удалось на века расколоть Россию: на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества)»lxv. Интеллигенция оказалась оторванной от национальной почвы, родилась, по выражению Г.П. Федотова, «беспочвенной», и этот отрыв доходил до «презрения к своему быту», до «национального самоуничижения – мизопатрии». С теми, кто доходит до «мизопатрии», все более или менее ясно – они просто выходят из кадра нашего рассмотрения, имея к «русской интеллигенции» лишь косвенное отношение (скажем, по рождению). Но не вся же русская интеллигенция, сколь ни была она оторванной от национальной почвы, скатывалась в мизопатрию; было и обратное ей настроение – чувство вины перед народом за эту оторванность и другие грехи, о чем позже много будет сказано светлейшими умами. 2.4.1. Попутное наблюдение. Любопытным образом эта пара настроений (мизопатрия—вина перед народом) возродилась и в советской интеллигенции; она же разрывает российскую интеллигенцию на несовместимые части также буквально в данный момент, являясь, пожалуй, самым убийственным, кардинальным противоречием в этой социальной группе: именно «мизопатриоты» работают на то, чтобы не было не только российской интеллигенции (в этом они себя уже уверили), но и России в ее нынешнем виде и ее нынешних устремлениях. Здесь также наблюдаем отмеченный уже выше факт, относящийся до самой сути интеллигенции, а именно прерывность, дискретность существования как самой социальной группы, так и отдельных ее характеристик. Это наблюдение нам дорого тем, что свидетельствует о способности возрождения русской интеллигенции, с полным или не очень полным букетом ее признаков, после «ледниковых» периодов. Это фениксоподобное свойство мы будем констатировать еще не раз. 2.5. Фонвизин—Новиков—Радищев. Возвращаемся в историю. Внутренний трагизм «беспочвенности» не ощущался в полной мере, пока дворянская интеллигенция и самодержавие вместе занимались делом обновления и строительства государства и просвещения народа или хотя бы самой себя. Вот что пишет по этому поводу тот же Г.П. Федотов: «Вглядимся в интеллигенцию первого столетия (XVIII в.—С.Р.). Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную войну с «тьмой» народной жизни... Но что единит их всех, так это культ империи: неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя забыть в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией»lxvi. Картинка, нарисованная Федотовым, слишком гладко причесана; это просто бросается в глаза. Она верна только отчасти – применительно к тем анонимным деятелям, о которых пишет он сам, а также и к более крупным фигурам вроде Василия Тредиаковского, Александра Сумарокова, Михайлы Ломоносова (вечно скандаливших друг с другом, однако притом патриотически воевавших не только с «тьмой народной жизни», но и с засильем иностранцев в русской культуре), позднее – Державина (которому Д.С. Лихачев все же отказывает в званьи интеллигента: «слишком он зависел от власти»lxvii). Однако из этой картины выпадают и Денис Фонвизин, и Николай Новиков, и в особенности, разумеется, Александр Радищевlxviii. Не то чтобы они не были проникнуты культом империи и восторгом перед самодержавием – наверно, были проникнуты и тем, и другим; вот только самодержавие, мягко говоря, не отвечало им взаимностью. По велению Екатерины II и Новиков, и Радищев познакомились со Степаном Шешковским, известным сыскных дел мастером-кнутобойцем, и с внутренним убранством казематов Шлиссельбургской крепости – а за что? За то, что на полном серьезе восприняли и проповедовали те самые идеи Просвещения – идеи естественного права, идею неотчуждаемых прав личности, включая право на индивидуальную свободу – с которым сама Екатерина кокетничала в своей переписке с Вольтером, Дидро, Даламбером, м-м Жоффрэн и в «Наказе Комиссии об Уложении»lxix. Вот тут, пожалуй, зарыта самая злая собака: в отношении к западным идеям и веяниям со стороны немки Екатерины и, скажем, русопята Радищева. Екатерина относилась к этим идеям, как к шляпкам – сегодня одни, завтра другие; главное – чтобы самой при этом выглядеть красиво; как говорили много позднее, «чтоб костюмчик сидел». Радищев же воспринял эти западные идеи так, что в них ничего западного, почитай, и не осталось (как оно еще не раз будет в восприятии европейских идей русской интеллигенцией): «Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и человеколюбие»lxx, причем сострадательность и человеколюбие были такой же силы, как и вера раскольников-самосожженцев. «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала». И уж до того душа его «уязвленна стала», что и смерть готова была принять – что чуть было и не случилось; смертный приговор Екатерина все же отменила – опять-таки ради того, надо полагать, чтобы шляпка хорошо сидела в европейском зеркале. Главное во всей этой истории вот что: к концу XVIII столетия треугольник власть— интеллигенция—народ начал принимать в России вполне ощутимые формы. Сложились в основном и отношения между ними: интеллигенция обслуживала власть (тоже местами интеллигентную, пока не затрагивались ее шкурные интересы), а когда заявляла претензии на роль, отличную от предписанной властью (роль, говоря современным языком, выразителя и проповедника общечеловеческих ценностей), то получала от власти ощутимые пинки, вплоть до сожжения книг и смертных приговоров. Были тогда и конфликты внутри интеллигенции, но ничего самоубийственного в них не замечалось: то была борьба тогдашних патриотов с петиметрамигалломанами да христиански настроенных образованных россиян с вольнодумцами-вольтерьянцами – журнальная борьба-игра, в которой и Екатерина II принимать участие изволила (естественно, на стороне ангелов). Беспардонное обращение власти с мыслящими людьми, натурально, вызывало в образованном обществе протест, но настолько слабый и подспудный, что им можно было совершенно пренебречь. Выражался он в основном в частных разговорах да зачатках самиздата – переписывании «Путешествия из Петербурга в Москву» и иных запрещенных произведений, в основном поэтических. Однако и за эти невинные занятия ссылали в Сибирьlxxi. При всем при этом о систематическом конфликте интеллигенции в качестве отдельной, сознающей себя как общественную силу социальной группы с властью говорить еще слишком рано: пуповина между властью и интеллигенцией еще не перерезана. Линия разлома в российском обществе отчетливо проходит ровно там, где ее провел Петр – между правящим дворянством и «народом»: «Петр I таким клином вбил нам просвещение, что Русь не выдержала и треснула на два слоя... Едва теперь, через полтораста лет, мы начинаем понимать, как раздвинулась эта трещина. Ничего общего между ними; с одной стороны – грабеж и презрение, с другой – страдание и недоверие»lxxii. 2.5.1. Несколько слов о масонах. Собственно, существует школа мысли, согласно которой сказать «несколько слов» о масонах – значит ничего не сказать и даже, пожалуй, принизить их роль в российской и мировой истории. Эта их роль в момент зарождения масонства в России описывается таким, например, образом: «масонство изначально на стороне тотального интернационализма и идеи равенства, осторожно порицает и умело размывает изнутри любую национальную и сословно-классовую обособленность, с переменным успехом пытается дискредитировать и подменить своими «теневыми структурами» официальную власть данного феодально-абсолютистского государства»lxxiii. Идеи интернационализма и равенства – конечно, дело хорошее; мы, однако, не можем избавиться от «дурной марксистской привычки» вопрошания: насколько эти идеи овладели массами – хоть в восемнадцатом веке, хоть столетием позже – чтобы быть значимым историческим фактором. Представляется, что степень распространения этих идей в массах исчезающе мала; не имея данных о численности масонов во времена Екатерины, можно все же с уверенностью предположить, что, скажем, в массах крестьянства распространенность масонских идей была нулевая, а в массах дворянства – весьма малообразованного класса, в котором «фармазон» было ругательным словом – не сильно отличалась от нулевой. Соответственно способность этих идей размывать «сословно-классовую обособленность» измеряется в аналогичных величинах; как-никак, в России сословная обособленность продержалась до февраля 1917, а с уничтожением классовой и уж тем более национальной обособленности, пожалуй, придется подождать еще век-другой. Что же касается способности масонства «подменить своими «теневыми структурами» официальную власть данного феодально-абсолютистского государства», то эта претензия вообще вызывает изумление. Было бы любопытно узнать хотя бы об одном примере подмены структуры феодальноабсолютистского государства какой-нибудь конкретной, привязанной к месту и времени структурой, которая проводила бы идеи равенства в реальной социальной практике (скажем, уравняла бы хоть малую часть крестьянства с дворянами хотя бы в юридическом отношении) и активно боролась с сословноклассовой обособленностью. Ну, допустим, все так: «Ложи появляются во всех крупных городах, в них вступают губернаторы, высшие чиновники, военные. Здесь, в ордене, оказался цвет русской знати и государственной верхушки...»lxxiv. Понятное дело, в этих ложах дают клятвы, поют песни про соль земли, исполняют иные красочные ритуалы. Позволительно спросить, однако, распространили ли эти губернаторы, градоначальники, высшие чиновники и прочие лица свет своего учения за пределы своих лож? Добились ли они торжества идей равенства, бессословного братства, интернационализма и т.д. во вверенных им губерниях, городах, департаментах? Подменили ли они чиновные государственные структуры своими, теневыми? Нейтрализовали ли они эти госструктуры хоть в малой мере? Если это им оказалось не по силам, несмотря на их высокие чины и тайную и явную власть («огромную власть»), искоренили ли они хотя бы в своих епархиях казнокрадство, взяточничество, волокиту? Ничего подобного ни из исторических сочинений, ни из литературных бытописаний вроде бы не известно. Тайные общества так и остались тайными, неведомыми миру и не проявившими себя в этом мире каким-либо осязаемым образом, никаких таких государственных структур они не подменили. А идеи – что ж, хороших идей и в Евангелии полно, и про равенство есть, и про интернационализм – несть ни еллина, ни иудея... Именно в идейном плане историческое значение труда Радищева представляется более значительным, чем масонские деяния губернаторов и прочей знати – вопреки такому, например, тезису: «Мы по дурной марксистской инерции преувеличиваем историческое значение бедных и нечиновных дворян Новикова и Радищева, которых уняли с помощью десятка гусар, каземата Шлиссельбургской крепости и сибирской несуровой ссылки (Положим, «уняли» Радищева не только этим, но и уголовным деянием, известным в УК как доведение до самоубийства. – С.Р.). Не их боялась Екатерина II, державшая под рукой в особом сундучке списки масонских лож и другие документы из «дела» ордена вольных каменщиков»lxxv. Кого больше боялась Екатерина – это, скажем так, ее личное дело; она помнила, как сама добилась престола – посредством заговора; естественно, она смертельно боялась, что и ее сковырнут таким же манером. Книга же Радищева ходила в списках и уцелевших экземплярах не только в масонских кругах, но и во всем образованном русском обществе многие десятилетия, и, надо полагать, поболе тайных ритуальных сходок губернаторов и прочей знати способствовала формированию российской интеллигенции. В конце концов, не так уж дурна марксистская инерция судить об истории в первую голову как о «роевой» жизни масс, а не разного рода тайных обществ, которые именно из-за своей таинственности по определению отгораживаются от этой роевой жизни. 2.5.2. Взгляды Р.В. Иванова-Разумника. С точки зрения Разумника, «группа русской интеллигенции» именно как отдельная общественная сила «существует с середины XVIII века... со времен Новикова, Фонвизина и Радищева...» Помимо иных признаков этой группы, выделенных Ивановым-Разумником, «русскую интеллигенцию с середины XVIII века связывает общее действие – борьба за освобождение. Эта вековая, эпическая борьба спаяла русскую интеллигенцию в одну массу с невероятной силой сопротивления; эта борьба закалила русскую интеллигенцию, как огонь закаливает сталь; эта борьба выковала из русской интеллигенции такое оружие, какого нет и не может быть в иных странах, у других народов»lxxvi. Нам представляется, однако, что Иванов-Разумник переносит на интеллигентов середины восемнадцатого столетия черты спаянности, закаленности и пр., которые у нее развились лишь столетие спустя (да и то насчет «спаянности» отдельных групп интеллигенции друг с другом имеются сугубые сомнения: родовая черта интеллигенции есть именно ее способность к бесконечному дроблению, групповщине и, извините, склокам). Но это, как говорится, в скобках. Существенно то, что ни о каком сломе перегородок, отделявших «борцов за освобождение» от народа в то время речи быть не могло, а если они и были с кем-то «спаяны», то лишь со своими преследователями и по совместительству коллегами по классу и вообще родственниками. Эти хотя бы могли понимать, о чем борцы толковали в своих сочинениях; они же нередко разделяли с борцами масонские увлечения, ритуалы и пр. Так что цитированный выше взгляд Герцена на «трещину» в русском обществе представляется гораздо более трезвым. Если то, к чему Разумник прикрепляет исключительный ярлык «интеллигенции», и зародилось как отчетливая группа в российской общественной жизни в середине 18 века, то лишь как идеологическое течение наряду с другими дворянскими идеологическими течениями, имеющими такое же право на этот ярлык, как и остальные. 2.5.3. Интеллигент и интеллигенция. Более интересно мнение Разумника на тему «яйца и цыпленка»: что было раньше – интеллигент или интеллигенция? Разумник решительно за отдельного интеллигента: «Отдельные "интеллигенты" существовали всегда, интеллигенция появилась только при органическом соединении отдельных интеллигентов в цельную, единую группу. ... отдельными русскими "интеллигентами" были в XVI веке князь Курбский, Иван Грозный, Феодосий Косой, этот типичный русский анархист; в XVII веке – Матвеев, Котошихин, Хворостинин; в начале XVIII – Петр I, Татищев, Ломоносов и т.п.; однако ни в шестнадцатом, ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом веке в России не было интеллигенции»lxxvii. О фактической стороне дела тут можно бы и порассуждать: был ли Иван Грозный и впрямь таким уж рафинированным интеллигентом; так ли уж одинок был Ломоносов или все же он представлял определенную группу не хуже Новикова— Фонвизина—Радищева. Однако нам интересно другое. Формула «интеллигент до интеллигенции» представляется более примечательной не с фактической, а, прямо скажем, с философской точки зрения. Быть индивиду интеллигентом или нет решается не фактом рождения или вовлеченности в определенную социальную или иную группу, не партийным билетом («спаянностью»), имущественным или образовательным цензом, интеллектуальным калибром и пр. Этот вопрос разрешается только экзистенциальным выбором индивида, причем не раз и навсегда, а чуть ли не ежечасно, в любой конкретной ситуации, особенно в ситуации исторической безнадежности, когда только и выявляется, что есть индивид – подвижник или конформист, интеллигент или некое «квази—», на которое и чернил жалко тратить. Собственно, сказанное здесь (по довольно случайному поводу) выражает мое заветное убеждение насчет интеллигентности: интеллигент есть в первую голову не член какого-то сообщества, а антропологический тип, определяемый тем, что в экзистенциально значимых ситуациях он делает выборы, подсказываемые (я стараюсь избегать термина «детерминируемые») неким набором внутренних побуждений, которые и составляют суть интеллигентности. Некоторые из этих «побуждений» (мотиваций, личностных характеристик) были упомянуты выше, другие я надеюсь затронуть, если не обсудить досконально, в дальнейшем, при рассмотрении конкретных исторических коллизий. Солидарность с другими членами общности, принадлежащими к тому же антропологическому типу, может быть одним из таких побуждений, но имеет решительно второстепенное значение. Интеллигент поступает так или иначе потому, что он – интеллигент, а не из-за принадлежности к «ордену», «спаянной общественной группе», «прослойке», «корпорации», «партии» и т.д. Такая ситуация строго обратна распространенному в нашем недавнем прошлом, когда индивид («винтик») был обязан поступать точно определенным образом и никак иначе именно потому, что был «членом партии», а не по каким-то там внутренним побуждениям – каковых ему вообще-то и не полагалось иметь. (Я беру эту иллюстрацию в видах особой наглядности, но сходные схемы работают и во вполне некоммунистических и антикоммунистических структурах; в последних, пожалуй, еще нагляднее.) 2.6. Александр I и декабристы. Возвращаемся к нашему фрагментарному повествованию. Среди многих курьезов, которыми пестрит российская история, была и нервная попытка преодолеть, заполнить трещину меж дворянством и народом, которая исходила с самого верха самодержавной власти – от Александра I и его окружения в первый, «романтический» период его царствования. Наслушавшись в розовом детстве лекций наставника своего Лагарпа «о могуществе разума, о благе человечества, о договорном происхождении государства, о природном равенстве людей, о справедливости, более и настойчивее всего о природной свободе человека, о нелепости и вреде деспотизма, о гнусности рабства»lxxviii, Александр решил было одним махом осчастливить своих подданных. Это оказалось не так-то просто, и он скоро остыл. Заменил Сперанского Аракчеевым, оставил государство на сего морального и интеллектуального урода, а сам ударился в эстетику шагистики, меланхолию, мистицизм и, уж простите, секс. Дело раннего Александра продолжили тайные общества высшего образованного дворянства, которые вовсе не были тайными для тех, кому надлежало о них знать (сам Александр был прекрасно о них осведомлен из первых, что называется, рук). После десятка лет шумных «тайных сборищ», горячих разговоров, переписки и сочинения проектов, все кончилось стоянием на Сенатской площади 14 декабря, парой картечных залпов – и долгой николаевской реакцией. Существенно то, что конфликт был целиком внутри правящего сословия. По форме он ничем не отличался от дворцовых переворотов, без которых не обходилась ни одна смена правителя со времен Петра I. Содержание, разумеется, было радикально иным: руководители декабристов проделали определенную теоретическую работу и имели некоторые представления о том, как они хотели изменить государственный строй (до декабристов никаких мыслей о перемене государственного устройства у прошлых заговорщиков не возникало и близко; просто не могло возникнуть). Павел Пестель написал «Русскую правду», а Никита Муравьев – свой проект конституции будущего государства. Но конфликт, повторяю, произошел внутри одного класса – между его консервативным и либеральным крылом, а народ если и участвовал в стычке, то только в качестве зрителя либо вообще по анекдотическим основаниям: солдат, выведенных на Сенатскую площадь, «уверили, что они восстают за угнетенных – великого князя Константина и за его супругу «Конституцию» (великий князь был женат на польке, а польки-де иногда носят очень странные имена)»lxxix. Декабристами, собственно, завершается предыстория российской интеллигенции, ее внутриутробный период, так сказать. Примечательно, что декабристский этап является в известном смысле отрицанием предыдущего, вольтерьянского (а для кого и руссоистского) этапа. Как пишет Ключевский, «вольнодумство воспитало в вольтерьянцах холодный рационализм, сухую мысль, вместе с тем отчужденную от окружающей жизни; холодные идеи в голове остались бесплодными, не обнаруживались в стремлениях, даже в нравах вольнодумцев», тогда как декабристы демонстрируют «удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с пожертвованием личных интересов. Отцы были вольнодумцами, дети были свободомыслящие дельцы»lxxx. Вряд ли можно согласиться с тем, что, скажем, идеи Фонвизина, Новикова или Радищева были холодными и бесплодными и не находили выхода в «стремлениях». Были, были не только стремления, но и действия, однако масштабы действия «отцов» и «детей», конечно, несопоставимы. Отцы были все же скорее люди мысли, чем действия, то есть более «интеллигенты», нежели их дети-декабристы (с известными исключениямиlxxxi). 2.6.1. Еще о дискретности истории интеллигенции. Отвлекаясь от сути различий между двумя поколениями вольнодумцев, заметим, что здесь тоже проявляется отмеченная уже выше черта, которая будет неизменно фигурировать в дальнейшем развитии интеллигенции, а именно, его дискретность: каждый последующий этап разрывает с предыдущим, является его критическим отрицанием, имплицитным либо эксплицитным. Мне это наблюдение казалось оригинальным – до тех пор, однако, пока я не наткнулся на нечто вполне сходное (выведенное, правда, из анализа гораздо более поздней эпохи) у А.С. Изгоева (Ланде): «Жалобы на отсутствие «идейной преемственности» сделались у нас общим местом именно в устах радикальных публицистов. Шелгунов и публицисты «Дела» дулись на «семидесятников», пренебрегавших заветами «шестидесятников». Н.К. Михайловский немало горьких слов сказал по адресу восьмидесятников и последующих поколений, «отказавшихся от наследства отцов своих». Но и этим отказавшимся от наследства детям в свою очередь пришлось негодовать на своих детей, не желающих признавать идейной преемственности»lxxxii. В общем, никак не подтверждается фактами определение Ивановым-Разумником интеллигенции как общественной группы, наделенной конститутивным свойством преемственности; ср. его утверждение: «интеллигенция есть группа преемственная, или, говоря математически, она есть функция непрерывная»lxxxiii. Если она таковой и является, то уж в очень общем смысле – что-нибудь в духе цитируемого Ивановым-Разумником Ивана Аксакова: интеллигенция есть «самосознающий народ», «совокупность живых сил, выделяемых из себя народом». Это все хорошо, и в этом смысле преемственности почему бы и не быть; но как только мы начинаем говорить не об интеллигенции как функции народа, а о функциях интеллигенции – идеологической, социальной, политической, этической – дискретность определенно преобладает над непрерывностью. Сопоставление «сынов»-декабристов и их «отцов» (кавычки тут вообще-то излишни) дает тому разительный пример, а в дальнейшем такие примеры только множатся (см. абзацем выше). Так что в нынешнем отрицании существования интеллигенции многочисленными авторами нет ничего нового: его также можно рассматривать как разрыв с предыдущим состоянием. Разрывов того же рода, как мы увидим, будет еще немало в истории интеллигенции. 2.6.2. О мифологии. И еще один момент. История декабристов важна, помимо всего прочего (и возможно, в первую очередь) ее вкладом в мифологию свободолюбивой мысли и освободительного движения. Эту историю, равно как и деяния их предшественников, присвоила впоследствии интеллигенция, склонная считать себя единственно истинной и вести свою родословную именно от них и из них составлять свой иконостас святых. Даже теперь, когда мы говорим «интеллигент», подсознательно предполагается, что носитель этого звания обязан быть достоин своих этических праотцев, не боявшихся за убеждения идти на виселицу и в нерчинские рудники; а если он их недостоин, то он – липовый интеллигент, и ему должно быть стыдно. Это уже стало частью языка, частью виртуального облака смыслов, которым окружено слово «интеллигент», и его не уничтожить никакими газетными статьями о нынешнем «конце интеллигенции», сколько бы в них ни было горькой или злобной правды. Тут имеет место некая сшибка смысла, заложенного в языке, с данной нам в ощущениях печальной нынешней действительностью, в которой если и наблюдается готовность «интеллигента» взойти на эшафот, то неизменно оказывается, что эшафот-то виртуальный и к тому же, увы, хорошо проплаченный какой-либо из олигархических или иных корпораций. Но об этом – в своем месте. 2.7. «Наше всё» Вернемся в первую четверть девятнадцатого века. Помимо декабристов, здесь, конечно, первое, что приходит в голову – «веселое имя» Пушкин. О нем Д.С. Лихачев пишет: «Пушкин несомненный интеллигент. Он не получал золотых табакерок (в отличие от Державина, надо полагать. – С.Р.) и хотя жил в основном от гонораров, но в своем творчестве не зависел от них. Он шел свободной дорогой и «жил один»»lxxxiv. Оставляя в стороне вопрос о табакерках и гонорарахlxxxv, в свободомыслии Александра Сергеича, похоже, сомнений ни у кого не возникало. Это уж ясно до того, что вроде и обсуждать глупо. Но вот что интересно: иногда Пушкину приписывают такую степень свободы от всякого общественно-значимого содержания, что он рисуется совершенным представителем искусства для искусства и, таким образом, не совсем российским интеллигентом в смысле, утвердившемся за этим словом в языке. Интеллигент все же если и не совсем «страдалец за народ», то, по крайней мере, человек неравнодушный к этим страданиям и выражающий это неравнодушие в своем творчестве. Вокруг тезиса о Пушкине как эстете по преимуществу уже сложилась целая литература. Мы рассмотрим здесь лишь работу одного Бориса Парамоноваlxxxvi, который в свою очередь ссылается на Мережковского (««маленький человек» интересует Пушкина главным образом как литературная маска: в Пушкине эстетические реакции преобладают над моральными»lxxxvii); Писарева (который «нечаянно» навел Парамонова на мысль «о внеположности искусства общественной пользе, любому мировоззрению, так называемому содержанию»lxxxviii; ср. взгляд Писарева на «Евгения Онегина» «как на невинную и бесцельную штучку»lxxxix); Шкловского (««Евгений Онегин»... пародийный роман, причем пародируются не нравы и типы эпохи, а сама техника романа, строй его...»xc); Надеждина (писавшего, «что характернейшая вещь Пушкина – «Граф Нулин», потому что она демонстрирует подлинную природу пушкинского творчества – приведение сюжета и темы к нулю»xci); Тынянова, Якобсона, Гоголя и др. В общем, есть длинный ряд мнений, клонящихся к одному выводу, которое Парамонов формулирует со свойственной ему лихостью: стихи Пушкина «оказываются чем-то вроде плетения кружев вокруг пустоты»xcii. Первое, что тут приходит в голову, так это вопрос: как соотносится с этой теорией «плетения кружев» струя в творчестве Пушкина, представленная, скажем «Вольностью», «Пророком», «Деревней» и прочим таким? Ужель это все тоже «невинные и бесцельные штучки»? Царь так не думал. Современное Пушкину общество так не думало. Да и сам Пушкин вряд ли писал их как «пародии». Опять же не стоит так легко принимать на веру утверждения наших славных формалистов – Шкловского, Тынянова, Якобсона – о том, что «герой, характер выступает в литературном произведении... как содержательная мотивировка построения текста, и другой функции у него нет»; что «и Евгений, и Татьяна – фикции, условные связки в имманентном движении текста»; «что Белинский грубо ошибся, представляя «Онегина» как энциклопедию русской жизни, а самого Евгения как общественно значимый тип так называемого «лишнего человека». Во всей этой истории только один человек был лишний – сам Белинский»xciii. Последняя фраза – именно фраза, эдакая парамоноидальная завитушка, и тут можно только плечами пожать. По сути же следует сказать вот что. «Другая функция» -- общественно значимое измерение – появляется у героя, типа или произведения объективно, независимо от воления автора (и уж подавно критика или формалиста-аналитика). Например, с самого появления «Евгения Онегина» и до сих пор российские девы отождествляют себя с Татьяной, юноши – с Онегиным, и бесполезно говорить им о «плетении кружев вокруг пустоты»; они лучше знают, что к чему. Философическое же объяснение Пушкина как «ничто» в смысле Спинозы, Гегеля и Сартра, равно как и утверждение, что он «не величина, а отношение» (то есть срeдний термин в формуле aRb, так, что ли?), с приплетением сюда Родена и Галатеи-России – вообще навевают тоску. Пушкин был живой личностью, а не концептом, не собранием «имманентно движущихся» (?) текстов, назови его хоть архетипом, хоть Питером Пэномxciv. «Отношение» не может трогать сердца так, как пушкинская поэзия трогает их без малого двести лет; для этого нужна такая субстанция, как чувство и, извините, душа. Вовсе не концепт и не тексты, а живой поэт работал и умер достойно, как дай Бог прожить и умереть каждому интеллигенту. Икона Пушкина – одна из красивейших в интеллигентском иконостасе, и там ей самое место, и нечего запутывать дело логореей о сартровском néant. Если в огороде бузина, то необязательно в Киеве должен быть дядька Сартр. И еще. Оно, конечно, лестно современным плетельщикам постмодернистских никчемностей возводить свою родословную к Пушкину. Вот только круг читателей их кружев скукожился до вполне пренебрежимой величины, и им приходится утешаться убогой мыслью, что вот теперь-то, мол, литература заняла подобающее ей мнадцатое место в иерархии общественных ценностей, а то, что было до этого – так, игра Фортуны, причуды Клио. Вот так и делится нынешняя интеллигенция, помимо всех прочих линий противостояния: на почитателей модной белиберды и читателей классики и их продолжателей. Кто из них действительный интеллигент, а кто всего лишь элемент в цепочке производства и потребления коммерческих «ценностей», не имеющий никакого отношения к подвижническому этосу русской интеллигенции, растолковывать, полагаю, не стоит. 2.8. Идеалисты 30-х—40-х годов 19-го века. Известно, как бурно пошла в рост российская культура в пушкинское и послепушкинское время: то было начало Золотого века русской культуры, в особенности в литературе, но также и в философской, исторической и общественно-политической мысли. Построенная Николаем полицейскобюрократическая машина давила общество так, что и помыслить нельзя было о действии, об объединении в союзы для практических политических шагов: в тюрьму и ссылку отправляли по одному подозрению в намерении (выражение, которое так изумило молодого Герцена) создать тайное общество. Разбуженная энергия шла почти исключительно на усвоение заимствованных теорий (Шеллинг, Гегель) и разработку оригинальных концепций, на основе которых могло бы – или должно – существовать (или, в случае славянофилов, существовало в прошлом) идеальное обществоxcv. Начальным пунктом этого этапа (тридцатые — сороковые годы девятнадцатого века) можно считать «Философическое письмо» Петра Чаадаева, появившееся в 15-й книжке журнала «Телескоп» за 1836. Впечатление, произведенное этим письмом, вполне описывается несколько затасканной цитатой из Герцена (но ведь была и причина тому, что ее затаскали): «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь»xcvi. Главные фигуранты, факты и идейное содержание последовавшей за тем борьбы (в литературных салонах Елагиной и Свербеевых, в кружках, в журналах), составившей суть интеллектуальной и духовной жизни общества, укладываются в общем в противостояние между западниками и славянофиламиxcvii. Особую драматичность этому противостоянию придавало то, что обе стороны находились в общем пространстве между молотом правительственных гонений и наковальней невежества и равнодушия народа («равнодушие», пожалуй, не слишком удачное слово: просто крестьянский мiр был герметично замкнут). Правительству были равно подозрительны и враждебны и свободолюбие западников, их лозунг свободы личности – любой личности, включая крестьянина (не говоря уж о сен-симонизме, фурьеризме и прочем таком социализме Герцена и Огарева); и анархизм славянофилов, относившихся к государству «как к внешней, мертвой форме, важной только тем, что она дает народу возможность посвятить себя всецело осуществлению в жизни «внутренней правды»»xcviii. Народу же не было дела ни до европеизма западников, ни до мистицизма славянофилов; у него были свои заботы, посущественнее. При этом славянофилам приходилось, пожалуй, похуже, чем западникам, потому что к первым по большей части враждебно относилось также и образованное общество, слабо воспринимавшее мистицизм этих «реакционеров», и им приходилось работать «при полном равнодушии снизу, при враждебном отношении кругом и постоянно возраставшей подозрительности сверху» xcix. Во всем этом для нашей темы интересно вот какое наблюдение: хотя мы говорим о «борьбе» между славянофилами и западниками, уместнее все же употреблять более нейтральные термины вроде «полемики» или, допустим, «логомахии», войны слов. Вся она шла целиком в сфере мысли и духа и не была связана с какими-либо более субстанциональными вещами вроде борьбы политических партий за власть либо, упаси боже, за материальные интересы. То были споры (иногда весьма эмоциональные и ядовитые) между благовоспитанными людьми, принадлежавшими практически без исключений к одному кругу – образованному мелкому и среднему дворянству. Словопрения – например, вокруг отношения религии к философии – велись не с целью уничтожения противника, угрожающего интересам или самому существованию собственной стороны, а в защиту ослепительной истины, явившейся адепту. Не хотелось бы даже сравнивать эти поединки идеалистов, в самом прекрасном смысле этого слова, с грязными, шкурными потасовками между «западниками» наших дней («демократами») и карикатурами на славянофилов прошлого, нынешними религиозно-ориентированными «почвенниками». Достаточно молча сопоставить два этих ряда, чтобы увидеть, где лежит идеальная модель поиска истины, и поблагодарить Историю за то, что из нее невозможно убрать ни куска: этот идеал бескорыстной идейной борьбы у нас, у русской интеллигенции, уже не отнять – сколь бы низко мы ни пали с тех пор. Тем, кто сегодня смотрит на борьбу западников и славянофилов сквозь призму нынешних схваток «почвенников» с вестернистами-демократами и либералами, полезно напомнить о всей сложности событий и явлений того времени. Скажем, славянофилы прошлого, при всем их отрицании приложимости западных ценностей к России, сами в существенной мере питались западными идеями, в особенности шеллингианской и гегельянской философией, которую они (как, скажем, Константин Аксаков) изучали в том же кружке Станкевича, что и будущие западники (такие, как Виссарион Белинский)c. Также неоднократно подмечено было, что российское славянофильство – лишь одна, отдельная струя в потоке мирового романтизмаci. Но это все с одной стороны, а были и другие факты, совершенно противоположного свойства. Такие, казалось бы, беспримесные (во всяком случае, поначалу) западники, как Герцен, Огарев, Белинский и другие, о ком Герцен пишет в «Былом и думах», выросшие на идеях Сен-Симона, Фурье и на той же гегелевой философии, при столкновении с реальным Западом, с европейским обществом, испытывали к нему недвусмысленное отвращение: интеллигент-западник был нутряным россиянином, и чувства его были соответствующие. Вот характерное высказывание Герцена: «Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisance нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде»cii. Ну, что можно сказать об оскорбляющей Герцена suffisance европейцев: его счастье, что ему не пришлось столкнуться с агрессивной suffisance современных американцев, равно как и работающего под американцев хамья вполне российского происхождения. Жлоб – понятие универсальное. 2.9. Реалисты-нигилисты. После идеалистов тридцатых-сороковых накатила волна «реалистов» шестидесятых. «Реалисты», или «мыслящие реалисты» -- это их самоназвание, принадлежащее Д.И. Писареву, тогда как позже его, а также Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и тьмы их последователей назвали «шестидесятниками» и, более общо, интеллигенцией: именно в шестидесятые годы наконец-то, задним числом, появился термин для давно народившегося явления. Как обычно бывает в таких случаях, появление нового слова, быстро вошедшего в обиход, окружено рядом легенд, и не вполне ясно до сих пор, кто первым сказал «Э!» -- то ли Н. К. Михайловскийciii, то ли П.Д. Боборыкинciv, то ли И.С. Аксаковcv, то ли еще кто. Для нас, разумеется, вопрос приоритета не так уж важен, а существен смысл, придаваемый этому понятию тогда и сейчас. Должно сказать, что с самого начала этот термин употреблялся двояко: в широком значении, близком современному словоупотреблению, то есть в смысле «образованной, мыслящей части общества»cvi; и в более узком, специальном значении, для обозначения именно той социальной группы – разночинцев. Вообще-то эта группа существовала в России давно, но с середины пятидесятых годов (точнее, с 1855 г.) получила доступ к высшему образованию, а в шестидесятых вышла на историческую сцену. Именно этот слой общества создал свою идеологию и породил ряд последовательных поколений интеллигенции – вплоть до того, что было физически уничтожено, замордовано либо распылено по миру катастрофой 1917 и последующих летcvii. В случае шестидесятников мы сталкиваемся еще с одной причудой истории русской мысли и языка. Дело в том, что слово «интеллигенция» было найдено для массы разночинцев, вторгшихся в шестидесятые годы в российскую культуру и общественную мысль. Так вот эти люди по своему воспитанию (большинство вышли из «поповичей», за исключением аристократа Писарева) и по исповедуемым взглядам были гораздо менее «интеллигентны»cviii, чем поколение Герцена, Огарева, Грановского, Белинскогоcix и противостоявших им славянофилов. По Бердяеву, пришествие разночинцев даже знаменовало собой изменение типа русской культуры: «Тип культуры шестидесятников, Добролюбова, Чернышевского, нигилистов, возраставшей революционной интеллигенции был пониженный по сравнению с типом дворянской культуры 30-х и 40-х годов, культуры Чаадаева, И. Киреевского, Хомякова, Грановского, Герцена»cx. На наш взгляд, Бердяева тут несколько заносит: русская культура того времени все же не то же самое, что культура шестидесятников. Русское культурное (интеллигентное) общество не состояло из одних семинаристов, да и сами семинаристы, при всех их нигилистических заскоках (см. ниже), небось, читали и Гончарова, и Писемского, и Тургенева, и Достоевского, и Толстого, коих отнести к шестидесятникам в сколько-нибудь четком смысле (кроме хронологического) было бы затруднительно. А ведь именно эти великаны определяли лицо русской культуры, тогда как сами «поповичи» и иные разночинцы ничего подобного их достижениям не создали, если не считать достижением тупое отрицание искусства, эстетики и прочих гуманитарных премудростей. Оправданнее, пожалуй, считать, что интеллигенты-шестидесятники создали не новую культуру, а альтернативную культуру, или контркультуру, которая, чуть ли не по Марксу, явилась надстройкой над экономическим положением нового социального слоя – образованных разночинцев, «пролетариев умственного труда». Действительно, каким образом разночинцы превратились в интеллигентов? Понятное дело, через образование. А для чего оно было им нужно? Да для того же, для чего и всем непривилегированным классам всегда и везде, включая советскую и нынешнюю Россию – для улучшения своего материального положения. Недаром Герцен говорил о разночинцах как среде алчущей и неудовлетворенной. Такой вот был экономический базис: как у всех «нормальных людей». Но дальше начались вещи, которые резко отличили русскую интеллигенцию от аналогичных слоев, скажем, в Европе. Последние всасывались в средний класс на протяжении длительного времени и были целиком в нем ассимилированы, тогда как русская интеллигенция как социальный феномен народилась в одночасье, в отсутствие среднего класса в стране. Потому она и не прибилась к привилегированному дворянскому слою, сохранив впитанную с рождения враждебность к нему – настрой того самого народа, из которого они вышли. Ну, а раз вражда, то вражда ко всему: к политическому устройству страны, к дворянской культуре, к образу жизни привилегированных классов. Так и появились на сцене стриженые нигилистки в строгих черных платьях и бородатые нигилисты, нацеленные на опрощение и угрюмый труд на благо народа. Интеллектуальные подвиги шестидесятников известны: «Сапоги выше Шекспира» (Писарев); «развенчать Пушкина» (он же, сравнивая Пушкина с чирикающим воробьем); «Пришибу родную мать, раз у меня появится такое желание и раз сам я буду видеть в этом пользу» (он же)cxi; невразумительный «разумный эгоизм» Чернышевского как обоснование такого рода «этики»; его же «топорные парадоксы» (Левицкий) в эстетике вроде следующего: «Действительное яблоко выше нарисованного, потому что его можно есть, а последним – лишь любоваться, раздражая аппетит»cxii. Ну и прочие эпатирующие слоганы типа «Искусство делать деньги, или нет более геморроя!» Выглядит все это с сегодняшней колокольни не очень приглядно, и неизбежно возникает недоумение: как весь этот нигилизм мог зародиться в среде, которая десятилетием раньше произвела на свет рафинированных «идеалистов» из кружков Станкевича и Герцена? Это как раз тот случай, когда стоит вспомнить принцип audiatur et altera pars. Кн. Петр Алексеевич Кропоткин объясняет возникновение нигилизма в первую голову бунтом молодого поколения против целого мира привычек и обычаев, созданных крепостническим рабством. Против презрения к человеческой личности, деспотизма отцов, лицемерного подчинения со стороны жен, дочерей и сыновей, деспотизма в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику. В России движение за индивидуальность, против семейного, бытового и прочего деспотизма «приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было»cxiii. Была объявлена война «условной лжи культурной жизни», то есть обыкновенной вежливости («нигилист... улыбался лишь тем, кого он рад был встретить»); идеалистам и сентименталистам («что не мешало им [идеалистам и сентименталистам] быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным»); под горячую руку – искусству (ибо «всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у голодающих крестьян или у обираемых работниковcxiv»); браку без любви и брачному сожительству без дружбы; ну и т.д. (см. «Отцов и детей» Тургенева или «Обрыв» Гончарова)cxv. Этот бунт был, конечно, благим делом в той мере, в какой он служил эмансипации личности и подрывал устои деспотизма. Но он же создавал некую горючую массу, воспитанную на писаниях Чернышевского и иных авторов, в которых материализм, позитивизм, атеизм, социализм, естественные науки, изложенные доступно, то есть вульгарно, представлялись служащими делу прогресса, а все не согласное с ними – идеологическим союзником реакции. Главное же в том, что именно этот радикализм взглядов, «преподносимый притом как нечто самоочевидное, покорял интеллигентские массы»cxvi. Таким образом, эти самые «массы» уже выступили как действующая сила общества и с самого своего появления на сцене проявили одну очень характерную черту – способность стадного увлечения идеями, проповедуемыми гуру типа Чернышевского. Выше мы приняли в качестве фундаментального признака интеллигента свободомыслие – не просто склонность, но и умение мыслить свободно, критически. В этом плане свободомыслие нигилистовшестидесятников выглядит решительно однобоко. Относясь критически к реакционным порядкам и идеологии, они вполне некритически, с религиозным энтузиазмом впитывали идеи упомянутых гуру, включая идеи вполне очевидно нелепые (скажем, писания позднего Писарева иногда кажутся просто сборниками таких нелепостей). Много позднее Н.А. Бердяев так сформулировал причину популярности «философских» взглядов Чернышевского и Писарева среди интеллигентских масс: «Потребность в целостном общественно-философском мировоззрении – основная потребность нашей интеллигенции в годы юности, и властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов, ее требований справедливости во что бы то ни стало»cxvii. Ну, а раз есть «философское» обоснование требования справедливости во что бы ни стало, есть такая высшая санкция, то и в выборе средств стесняться нечего; до этого маловысокоморальные последователи (вроде Нечаева и некоего УльяноваЛенина) высокоморальных, практически святых Чернышевского, Писарева, Добролюбова додумались самостоятельно. Идеология шестидесятников – это начало той тропы, по которой «интеллигентщина» вдохновенно протопает до подвалов ЧК двумя колоннами: в одной палачи, в другой жертвы. Если оставить в стороне идеологию (хотя как ее оставишь, это же корень всему), то в это время, в 60-е годы, сложился и психологический тип интеллигента – в узком, специальном смысле слова, тип представителя «интеллигентщины». Г.П. Федотов дает этому типу такую характеристику: «...они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском состоянии. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идее западников они сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все, и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 г....»cxviii. Короче говоря, для разночинца-интеллигента с его инстинктивной потребностью в социальной справедливости кругом виделись одни враги. Государство – враг, церковь – враг, дворяне (и безграмотные собакевичи, и просвещенные идеалисты) – враги, купечество – враг; даже собственная семья, с которой они так «тяжело и круто» рвут – тоже враг. Только народ, он же крестьянство – объект спасения и потенциальный союзник, но при этом сами спасители не могли не сознавать, хотя бы подспудно, что для этого народа они сами – не свои, чужие, а потому тоже враги или, в лучшем случае, «шуты гороховые» (Тургенев). Да и как могло быть иначе, если крестьяне ощущают себя в первую очередь «хрестьянами», то бишь православными, а «спасители» -- поголовно атеисты и, хуже того, нигилисты (сами они эту кличку не любили, она употреблялась в основном их врагами, с легкой руки Тургенева cxix). Вот и получилось, что при самом своем возникновении революционная, взыскующая социальной справедливости интеллигенция, или интеллигентщина, являла собой «диссидентуру» с отчетливо самоубийственными потенциями. Брать на себя миссию спасителя русского народа, звать его к топору, полагая, что народ будет орудовать этим топором исключительно указанным интеллигенцией образом, могли только весьма ограниченные арроганты (словечко С.Н. Булгакова). Впрочем, самые сообразительные из шестидесятников вполне отдавали себе отчет в самоубийственном характере своей затеи: «Чернышевский... первый в России, независимо от Маркса, бросил идею о необходимости временного союза низших классов со средним классом, с тем чтобы впоследствии низший класс уничтожил своих временных союзников»cxx. Он их и уничтожил, в полном согласии с теорией – с одной важной поправкой к этой теории: «низший класс», уничтоживший временных союзников, был к тому времени оседлан и побуждаем к кровавым оргиям как раз осколком той самой интеллигенции, чью идеологию сформировал Чернышевский &Co. Беда, или гримаса истории, в том, что вместе с интеллигентщиной, с революционными интеллигентами, под топор будущей социальной революции попадут не только они сами, но и нормальные интеллигенты-интеллектуалы, профессионалы, занимающиеся своим интеллигентским делом без особых миссионерских замыслов насчет спасения человечества или хотя бы отдельно взятого русского народа. В общем, «филистеры», если по Кропоткину. 2.9.1. Интеллигенция партийная и б/п. Ввиду этой невеселой перспективы (говоря о шестидесятниках, не очень честно было бы притворяться, что мы о такой перспективе ничего не знаем) желательно в очередной раз обратиться к определению понятия интеллигенции, ввести какие-то дополнительные терминологические разграничения. Возможно, при таких уточнениях ход отдаленных событий будет хоть немного яснее. Возьмем типичное определение интеллигенции, многократно повторенное в сочинениях Н.А. Бердяеваcxxi. Суть его примерно такая: западные intellectuels – это особь статья, а русская интеллигенция – особь статья. «Intellectuels – это люди интеллектуального труда и творчества, прежде всего ученые, писатели, художники, профессора, педагоги и пр.», тогда как «русская интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп. Интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, образовавшейся из разных социальных классов, сначала по преимуществу из более культурной части дворянства, позже из сыновей священников и диаконов, из мелких чиновников, из мещан и, после освобождения, из крестьян. Это и есть разночинная интеллигенция, объединенная исключительно идеями и притом идеями социального характера»cxxii. К этому изречению добавим сказанное Бердяевым в другой его книге: «Русская интеллигенция всегда стремилась выработать себе тоталитарное, целостное мировоззрение, в котором правда-истина будет соединена с правдойсправедливостью. Через тоталитарное мышление оно искало совершенной жизни, а не только совершенных произведений философии, науки, искусства. По этому тоталитарному характеру можно даже определить принадлежность к интеллигенции. Многие замечательные ученые-специалисты, как, например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, многие, ничем себя не ознаменовавшие в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат»cxxiii. Должен признаться, эти определения вызывали у меня удивление и неприятие уже при первом, беглом с ними знакомстве. Так и хотелось сказать – белибердяевщина какая-то. Почему это Лобачевский и Менделеев – не интеллигенты, а какой-нибудь телеграфист, усвоивший себе «тоталитарное миросозерцание» чтением тощих брошюрок или вообще вынесший его из знаменитых русских ночных толковищ за рюмкой чая – настоящий интеллигент? Со «своеобразным физическим обликом» просто сущая нелепица: интеллигентнее наружности Лобачевского или Менделеева трудно что-либо придумать, а представьте себе рожу того же телеграфиста на следующее утро. Но насчет облика – это все, разумеется, пустячки, бердяевские заморочки. Если говорить серьезно и становыми «интеллигентообразующими» признаками признать способность к свободному критическому мышлению и следование достойным, религиозным либо гуманистическим, понятиям о добре и зле, чести и приличиях, а не членство в каком-то мифическом монашеском ордене или секте, то настоящими интеллигентами именно в русском смысле как раз и будут les intellectuеls russes, а вовсе не наш гипотетический телеграфист-революционер. Последний скорее всего окажется среди квазиинтеллигентов того или иного разбора. Почему же столь выдающиеся умы, как Бердяев и Федотов, настаивают на очевидной несуразице, противоречащей, помимо всего прочего, и обычному, узуальному употреблению слова «интеллигенция» (см. цитату из Л.Н. Толстого в Примечаниях)? Причин тому видится по крайней мере две. Во-первых, и Бердяев, и Федотов, как мыслители преимущественно религиозные, видят религиозную основу, религиозный склад характера, в самом атеизме интеллигенции. Отсюда разговоры о монашеском ордене и пр. Во-вторых, та интеллигенция, о которой они пишут, выводя за рамки этого понятия весь остальной образованный класс, действительно оставила в политической и социальной истории России более заметный или, скажем так, более бросающийся в глаза след, тогда как поступки и достижения «всего лишь интеллектуалов», не связанные с идеями насильственного сокрушения существующего строя, не имеющие в послужном списке героического сидения в Петропавловской крепости и прочих таких местах, оказываются как бы в тени. Это ужасно несправедливо, но это так. Мало кто вспомнит, например, что Лобачевский, помимо своего вклада в геометрию и ряд иных областей математики, немало потрудился на ниве просвещения, будучи в течение 19 лет ректором университета. То же о Менделееве. Ведь Дмитрий Иванович не токмо таблицу Менделеева придумал, но и способствовал развитию ряда отраслей промышленности, в частности, ездил «в Пенсильванию для осмотра нефтяных американских месторождений... для изучения добычи нефти, что повлекло за собою широкое развитие нефтяной промышленности в России»cxxiv. Так и хочется напомнить, чем нынче наш бюджет да и вся экономика, все государство держатся. Не говоря уж о том, что проф. Менделеев и порох выдумал, в самом прямом смысле – бездымный; да и к некоему сорокаградусному продукту, второму после нефти источнику российского бюджета, имеет кое-какое отношение. Но это все вещи неброские, работающие подспудно, а вот если царя интеллигентно взорвать – это уже big news. Тут мы, правда, забегаем вперед, хотя и до взрывов недалеко уж. Вчитываясь в определения интеллигенции Бердяевым, Федотовым и другими, видим, что главный момент в них – идейный, или идеологический, мировоззренческий. Такие объединения людей по идеологическому признаку имеют вполне определенное название: это – партии. Разумеется, единого образования под названием Партия интеллигенции не было (хотя такое впечатление и может возникнуть из чтения текстов Иванова-Разумника, Бердяева и др.). Были многочисленные партии, а точнее протопартии – кружки, группы единомышленников (скажем, западников и славянофилов, с дальнейшими подразбиениями на либералов и радикалов), вовсе не объединенные организационно, но лишь своею склонностью читать определенные журналы либо авторов. Однако главное ясно: то, для чего Бердяев и другие узурпируют название «интеллигенция», есть по сути только «партийная» интеллигенция. Можно для пущей важности пользоваться для ее обозначения термином пинтеллигенция, хотя из контекста всякий раз должно быть ясно, о чем идет речь, и без таких ухищрений. Ну, а если есть партийная интеллигенция, то должна быть, естественно, и беспартийная, а среди последней – сочувствующие той или иной партии либо решительно аполитичные. В общем, все как у людей. Беда, повторяем, в том, что именно п-интеллигенция, из-за своей организованности и броскости деяний либо героических словес более заметная на публичной арене, чем живущие «врассыпную» б/п-интеллигенты, чаще фигурирует в истории в качестве ее движущей силы. По сути, историк вынужден работать главным образом с такими организованными массами и их вождями, тогда как неорганизованные держатся скромным фоном, чем-то вроде массовки – если о них вообще вспоминают. Выяснив этот важный момент, напомним тут же и нечто противоположное: некоторые черты (отношение к народу, в особенности чувство вины перед ним; отрицательное отношение к реакционной бюрократии; приверженность таким ценностям, как свобода мысли и уважение к человеческой личности), были свойственны большинству русской интеллигенции, как «партийной», так и «беспартийной». Такое внутреннее, ценностное единство данной социальной группы, наверно, и оправдывает в определенной мере разговоры о «монашеском ордене», «касте», «преемственности» и пр. Вполне очевидно, что ничего похожего на такое ценностное единство в русской интеллигенции, или скорее квазиинтеллигенции, наших дней нет и в помине. Нынче п-интеллигенция разорвана, расколота на враждующие клики, в особенности по первому из упомянутых критериев – отношению к народу; а б/пинтеллигенция слишком занята примитивным выживанием, чтобы беспокоиться о таких эфемерных вещах, как свобода критической мысли. Более того, восстановление такого аксиологического единства в будущем, хотя бы в рамках самого непритязательного компромисса, настолько невероятно, что и мечтать о нем нечего. Если бы речь шла о ценностях только интеллектуальных и духовных, то надежда, хотя бы призрачная, сохранялась (в свободном споре иногда удается обратить оппонента в свою веру, или жизнь это делает вместо самих спорящих). Но когда затронуты интересы вполне материальные и даже, грубо говоря, финансовые, то надежды никакой не остается: само понятие интеллигентности в таких борениях испаряется. Остается лишь надеяться, что в нынешней б/п-интеллигенции есть еще запас духовных и жизненных сил на то, чтобы продолжать быть самой собой и делать свое интеллигентское дело – по старинке служить народу, как бы это ни было иногда трудно и даже противно. При этом действовать желательно таким именно способом, чтобы переводить возможно большую часть этого аморфного образования – народ – в разряд интеллигентов. Без этого невозможно ни сохранение интеллигенции и народа, ни даже сохранение России как цивилизованной страны. Однако это уже из той области, о которой мне приятно думать как о позитивной программе. 2.10. В народ! Снова вернемся к нашему пунктирному очерку истории интеллигенции. Мы подошли уже к семидесятым годам, и вот что пишет Г.П. Федотов о переходе от шестидесятых к семидесятым: «60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3 000 000 голов, идеализация Разиновщины и Пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин – бессознательно, быть может – учится организационному и тактическому имморализму... И вдруг этот бесовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с началом нового десятилетия. 1870 год – год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг... совершается теми тысячами русских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и Бюхнере, иные побывали в коммунах, и по основам мировоззрения мало чем отличаются от нигилистов»cxxv. Действительно, с началом семидесятых накатила волна интеллигентской жертвенности: «кающийся дворянин» (выражение Михайловского) пошел в народ, причем пошел именно тысячами. Неждановы пришли на смену базаровым и явили миру пример безнадежного, самоубийственного подвижничества. Множество образованных и обеспеченных молодых людей бросили свои уютные дворянские и прочие гнезда и поселились среди простого люда, чтобы распропагандировать его, подготовить к принятию идей социализма и в то же время учиться у него мудрости и началам нравственности, чистые родники которой, как они верили, сохранились в толще его. Этот взрыв жертвенности объясняют по-разному. Цитированный выше Федотов, разумеется, все сводит к религиозному моменту: народничество «необъяснимо до конца, как всякое религиозное движение: это взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, почти незаметной для глаза в латентном состоянии... перед нами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного целые века»cxxvi. Ради такого, милого сердцу религиозного мыслителя объяснения можно и факты немного потеснить, и пережать с этим «вдруг», хотя в истории всякие «вдруг, ни с того, ни с сего» необычайно редки, зато переходы количества в качество случаются сплошь и рядом. Например, П.А. Кропоткин свидетельствует, что никакого «вдруг» в семидесятом году не случилось; что еще в 1864 году молодые, состоятельные люди из круга Каракозова (того самого, с «дегенеративным лицом»), никак не замеченные в «стихийном безумии религиозного голода», решили стать «носителями знания и просвещения среди народа. Они селились, как простые работники, в больших промышленных городах, устраивали там кооперативные общества, открывали негласные школы. Они надеялись, что при известном такте и терпении удастся воспитать людей из народа и таким образом создать центры, из которых постепенно среди масс будут распространяться лучшие идеи»cxxvii. Для объяснения этих экстраординарных поступков гипотеза о «стихийном безумии» и пр. представляется совершенно излишней. Действительно, поставим себя на место этих блестящих, образованных молодых людей, стоящих перед жизненным выбором. Личной независимости они добились в ходе нигилистической революции – и что им теперь с этой независимостью делать? Стать эпикурейцами в худшем, не-эпикуровом смысле этого слова? Или выбрать ученую, профессорскую карьеру, то есть стать, по слову того же Кропоткина, «филистерами»? Становились и «эпикурейцами», и «филистерами», но людям с сильными социальными инстинктами (их было все же меньшинство) оба этих выбора претят – и они идут по пути, проложенному до них и для них Радищевым, Новиковым, декабристами, Герценом, Чернышевским и пр., то есть по пути служения народу, проще говоря крестьянству. А тут еще прудоновские идеи подоспели, и «новые идеалисты», они же «мыслящие реалисты», делают то, что им представляется нужным и естественным в соответствии с этими идеями или с писаниями и снами г-на Чернышевского. Возможно, есть некоторые основания утверждать, что непосредственным толчком «к хождению в народ» послужили «Исторические письма» П.Л. Лавроваcxxviii. В них говорилось о том, сколь великую цену, измеряемую множеством человеческих жизней, платит человечество «за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могло говорить о прогрессе»cxxix. Чтобы снять с себя ответственность, а точнее сказать вину, за кровавую цену, заплаченную за такую возможность, «мыслители» просто обязаны были идти и уменьшать «зло в настоящем и будущем»cxxx. Они и пошли – трудно теперь сказать, к счастью или к несчастью. Среди них последователи Лаврова («лавристы») были в основном «пропагандисты», настроенные на длительную просветительскую работу по «раскачке» крестьянской массы. Для них очевидно было, что эта масса не готова к революционной деятельности, к организованному восстанию, хотя им и мнилось, что общинные привычки давно подготовили народ к социализму. Но наряду с «лавристами» в народ шли и «бакунисты». Для их вождя, М.А. Бакунина, русский крестьянин был природный коммунист и стихийный революционер, всегда готовый к восстанию. Посему пропагандировать его нечего, надо народ «бунтовать», всякое государство уничтожить и заменить его безгосударственными коммунистическими общинами. Наконец, были еще «ткачевисты» -- последователи П.Н. Ткачева, тоже бунтари, но на свой манер: их целью был политический переворот посредством заговора с тем, чтобы «овладеть правительственной властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное»cxxxi. Все это вместе называлось народничеством, хотя поначалу это не было самоназванием самих народниковcxxxii. Эмоциональным фоном движения был культ мужика, проистекающий из упомянутого уже чувства вины перед ним и отдающий славянофильством, тогда как идеология была в основном западническая – «прудоновский безгосударственный социализм»cxxxiii. Можно сказать с натяжкой (с натяжкой потому, что всякое обобщение «выпрямляет» и упрощает обычно сильно запутанный исторический процесс), что в семидесятые годы возродился синтез западничества и славянофильского убеждения в самобытности российского «мира», синтез, проделанный кругом Герцена гораздо раньше. Некоторые исторические обстоятельства способствовали усилению западнического элемента в народническом движении. Дело в том, что еще в шестидесятые годы сотни русских молодых людей из «нигилистов» потянулись в Европу в поисках свободы и образования, включая знакомство с запрещенными в России социальными доктринами. Впрочем, до 1870 года большинство из них влекла возможность личной эмансипации в нигилистическом духе, а не мечты о политической и социальной революции. Не то после 1870 года. «Парижская коммуна облекла смутные чаяния русских эмигрантов в более определенную форму... Она казалась им вступлением к неминуемой социальной революции, которая охватит всю Европу. В университетах, особенно швейцарских – в Цюрихе и Женеве, русские студенты и студентки находились в сношениях с изгнанниками Коммуны и ревностно усваивали их учение до тех пор, пока петербургское правительство, обеспокоенное скоплением в Швейцарии революционных элементов, не приказало всем русским подданным, учившимся в швейцарских университетах, вернуться в Россию (1873)»cxxxiv. Сделало оно это, что называется, на свою голову. Вернувшись в Россию, студенты массами двинули в народ, чтобы, как сказала впоследствии на суде в Москве Софья Бардина, «внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя...»cxxxv. Именно 1874 год, первый после высылки студентов из Швейцарии, отмечен особо мощным всплеском этого движения: «Весной 1874 г. после окончания занятий в университетах тысячи народников приступили к выполнению своей миссии... Вооружившись фальшивыми паспортами, нелегальными воззваниями и скромно одевшись, эти люди наводнили 37 губерний империи»cxxxvi. Согласно Лависсу и Рамбо, всего с 1872 по 1878 год в народ пошли от двух до трех тысяч агитаторовcxxxvii, но по другим данным уже к 1874 году арестовано было семь тысяч пропагандистовcxxxviii. В любом случае порыв был массовым, и в массе своей безнадежным. Известно, как встретил пропагандистов народ: в основном выдавал полиции. Это и немудрено: ведь «студенты» даже по языку и вере (точнее, безверию) были не свои, чужие, барчуки и барышни. Крестьянский «мiр», сугубо герметичный по основному мирочувствованию (кстати, не только в России), веками приучен относиться подозрительно и даже враждебно ко всему, что приходит извне. Это касается даже чужаков из соседней деревни – а тут на него сваливается нечто совершенно невиданное и неслыханное. И толковали чужаки о непонятных и неприятных вещах. Даже если они прямо о том не говорили, так крестьяне «нутром чуяли», что пришлые агитаторы – против Бога и царя; как же таких басурманов не выдать. К тому же положительный герой Тургенева, сам из народа, так говорит о мужиках, чуть ли не словами «Краткого курса истории ВКП(б)» о расслоении крестьянства: «Кулаков меж ними уж теперь завелось довольно и с каждым годом будет больше, а кулаки только свою выгоду знают; остальные – овцы, темнота»cxxxix. Вот как один из наиболее известных народников, Сергей Кравчинский (Степняк), описывает эпизод, в котором он пытался распропагандировать одну такую «овцу»: «Раз идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье»cxl. Эпизод в общем-то не очень смешной, зато символический и характерный. Хотя были и примеры встречной тяги людей из народа к пропагандистам, к знанию, в общем и целом народ и народники не поняли друг друга. Ничего похожего на массовое брожение в народе, на которое рассчитывали революционеры и социалисты, в особенности бакунисты и ткачевисты, не произошло и произойти не могло. Объяснение этому факту самое кондовое, марксистское: революции случаются по исторической необходимости, а не потому, что этого страстно захочется тысяче-другой исполненных альтруистическими мечтами юношей и девушек, которым г-н Лавров сообщил, что они – критически мыслящие личности и в качестве таковых должны и могут все. Это, конечно, нисколько не умаляет святости их порыва, но лишь свидетельствует о той самой «беспочвенности» интеллигенции, о которой позже столько наговорят веховцы. 2.11. Террор. Отринутые большинством народа, народники в то же время подверглись жесткому давлению сверху, со стороны военно-полицейской системы, построенной Николаем. Она ведь никуда не делась и при реформаторе Александре II, слабохарактерном и подверженном влиянию консервативного окружения, и была очень даже востребована, особенно после покушения Каракозова на царя в 1866. Кропоткин оставил нам живые свидетельства об этой системе в действии: «Мы постоянно слышали о ночных обысках, об арестованных друзьях, которых гноили по тюрьмам, а потом ссылали административным порядком в глухие поселки на окраинах России... Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились на таких признаках, как синие очки, подстриженные волосы и плед»cxli. Когда читаешь что-либо из истории народнического движения и его подавления всей тяжестью репрессивного аппарата, то картинка вырисовывается действительно удручающая: как если бы кулак, удар которого способен убить быка, обрушивался на нескольких мух – назойливых, но неспособных причинить существенного физического вреда. Тяжесть ударов усугублялась тем, что били людей очень молодых и своим воспитанием не слишком хорошо подготовленных к таким свирепостям. Последовали известные процессы; самые крупные из них – «дело 50-ти» (дело кружка «москвичей», арестованных осенью 1875 года) и «процесс 193-х». Из «москвичей» только трое были оправданы, остальным – каторга, ссылка, тюрьма. С «процессом 193-х» было еще хуже. Первоначально арестованных было 267, но их три года держали в предварительном заключении; «за это время многие умерли или сошли с ума, и в назначенный срок перед судом предстали только 193 человека, причем трое из них скончались, не дождавшись приговора»cxlii. И нужно иметь в виду, что судебная расправа была не единственным видом репрессий (см. цитату из Кропоткина выше). Холодный прием у народа, неприязненное отношение со стороны «общества»cxliii, наконец, жесткая реакция репрессивного аппарата привели к естественным следствиям – радикализации самого народнического движения, сдвигу общего настроения среди народников от «лавризма» к «бакунизму» и далее к «ткачевизму». У части молодежи (по выражению С.Н. Булгакова, у «пэдократии») оказался, грубо говоря, короткий запал, и сгорел он в считанные годы, если не месяцы. Настрой на длительную подготовительную, воспитательную и просветительскую работу среди народа уступил место желанию «взорвать ситуацию» путем индивидуального террора – желанию, в котором вполне очевидны мстительные ноты. Некоторое время «лавристы» и «бунтари» продолжали работать вместеcxliv, но пути их расходились все дальше. Наконец, 24 января 1878, на следующий день после объявления приговора по «делу 193-х», произошло событие, которое сделало дальнейшее сотрудничество невозможным. Это событие открыло целый новый период, период схватки двух видов террора, «красного» и «белого», в течение пяти лет, с 1878 по 1882 год. В этот день Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова, который незадолго до этого приказал выпороть политического подследственного, студента Боголюбова (тот не снял перед ним шапку), хотя по закону не имел на это права. А дальше пошло-поехало. В мае того же года ударом кинжала убит адъютант начальника киевского жандармского управления. Четвертого августа Сергей Кравчинский убил, тоже ударом кинжала, шефа жандармов генерала Мезенцова в самом центре столицы. «После этого он вскочил в пролетку, запряженную кровным рысаком, и легко оторвался от преследователей»cxlv. Немедленно созывается Особое совещание при императоре, разрешившее военно-полевым судам на месте судить террористов, нападающих на должностных лиц или оказывающих им вооруженное сопротивление. В феврале 1879 года некто Фомин за попытку освобождения политзаключенных предан военному суду харьковским губернатором кн. Кропоткиным, двоюродным братом Петра Алексеевича; Исполнительный Комитет народовольцев тут же приговаривает князя к смерти, и в ночь с 21 на 22 февраля Гольденберг смертельно ранит его выстрелом из револьвера. В марте 1879 года террористы пытаются убить нового начальника Третьего отделения генерала Дрентельна. Второго апреля того же года народник Александр Соловьев трижды (по другим источникам, пять раз) стреляет в Александра II на Дворцовой площади, но мажет из-за неисправности прицелаcxlvi. В июне 1879 года единая подпольная организация «Земля и воля» распадается на чисто народнический «Черный передел» и террористическую «Народную волю», которая образует свой Исполнительный комитет, состоящий из наиболее опытных, закаленных революционеров и тщательно планирующий «акты». В августе 1879 года ИК выносит царю смертный приговор, в ноябре взрывает поезд, в котором императора не было, а 4 февраля Степан Халтурин взрывает помещение под царской столовой, в которой царя опять-таки нет, зато гибнут 11 солдат и человек тридцать ранено. Александр II создает Верховную распорядительную комиссию, которую возглавляет Михаил Тариелович Лорис-Меликов, наделенный диктаторскими полномочиями (завистники даже называют его вице-императором). С этого момента дела террористов пошли под гору. В ноябре 1880 года бомбисты заложили мину под мост, по которому должен был проследовать император, но мина не взорвалась. Хитроумный Лорис-Меликов провел ряд реорганизаций, усиливших карательные органы, но, с другой стороны, вернул из Сибири много ссыльных и восстановил в университетах студентов, исключенных за всякие пустяки или вообще ни за что. Начало его правления было вообще весьма удачным: он избежал покушения, «совершенного против него Млодецким, молодым евреем из Минска, которого он сам задержал и предал военно-полевому суду, приговорившему его к смерти; приговор был приведен в исполнение в двадцать четыре часа»cxlvii. Затем он лично завербовал террориста Григория Гольденберга, который выдал железного революционера Александра Михайлова, одного из сильнейших руководителей ИК. В январе 1881 арестованный террорист Иван Окладский выдал охранке две конспиративные квартиры, типографию и мастерскую по производству динамита, был перевербован и служил тайным агентом в течение последующих 37 лет. В конце февраля арестован Андрей Желябов – «признанный лидер и главный стратег «Народной воли»»cxlviii. Желябов не выдал товарищей, готовивших цареубийство, и 1 марта 1881 года оно свершилось – как раз в тот день, когда был подписан высочайший указ, подготовленный Лорис-Меликовым и даровавший России слабенькое подобие конституции. Однако это был последний значимый террористический акт в том раунде гражданской войны: охранка к тому времени переловила практически всю «Народную волю». 2.11.1. Террор – растлитель интеллигенции. В битве «белого» и «красного» террора силы революционеров с самого начала были невелики, но эффект их действий оказался совершенно непропорциональным этим силам. О них узнавала вся Россия (да и весь мир), и они изменяли саму атмосферу страны, в особенности в том, что касалось роли интеллигенции в ее жизни. Интеллигенция выступила как единственная сила, противостоящая самодержавию, как представительница всех классов, страдавших при существующем строе. По-видимому, этим объясняется такой факт, например, как оправдание судом Веры Засулич и ликование толпы по этому поводу. Именно бунтарские, мстительные акции, а не пропагандистская работа, вызвали сочувствие в обширных слоях общества: «Разумеется, покушения не одобрялись, но для них находили оправдание в действиях правительства; широкие круги общества не помогали полиции, при случае направляли ее на ложный след, принимали участие в устраиваемых под флагом благотворительности сборах, цель которых, однако, не вызывала никакого сомнения»cxlix. Лишь несколько десятилетий спустя, в зареве более мощных революций, стало ясно, какую бомбу заложили тогда бомбисты под само существование России и свое собственное. Их деятельность утверждала в умах россиян, и без того отприродно склонных к пугачевщине, к бунту бессмысленному и беспощадному, философию «цель оправдывает средства», что с течением времени отлилось в знаменитое «лес рубят – щепки летят». Подрывалась вера в святость человеческой жизни, которая и без того не больно высоко ценилась во всей истории России. Однако до появления на сцене террористов жизнями людей распоряжался царь, государство, суды, в общем, некоторые институции, имевшие хоть какое-то оправдание в праве или обычае (исключением были разбойники, но с ними тоже все было ясно). А тут в истории замаячила фигура героя с бомбой и револьвером, а святой он, садист или придурок – уже неважно, ибо он – мститель, лишающий человека (часто вполне невинного) жизни, наказующий зло с санкции ИК или собственной совести, или чего-то там у него в психике вместо совести. Позднее большевики осудили индивидуальный террор как тактику неэффективную. Массовый террор куда эффективнее, и они с большим энтузиазмом принялись за уничтожение целых классов. Под топор пошла и буржуазная интеллигенция, сочувствовавшая террору индивидуальному, вот только жаловаться ей не пристало. Принцип ведь один и тот же: тот самый, который оправдывал уничтожение полицмейстеров, губернаторов, великих князей и прочих представителей рода человеческого «как класса». Конечно, народовольцы, о подвигах которых здесь вкратце рассказано, имели веское оправдание: их деяния были оплачены ценою их собственных жизней. Но, как показали веховцы, на интеллигенцию в целом этот факт оказал весьма негативное, разлагающее влияние: «Принцип «иди и умирай!», пока он руководил поступками немногих, избранных людей, мог еще держать их на огромной нравственной высоте, но, когда круг «обреченных» расширился, внутренняя логика неизбежно должна была привести к тому, что в России и случилось: ко всей этой грязи, убийствам, грабежам, воровству, всяческому распутству и провокации» cl. Именно в те годы первоначального народовольческого террора идеалом интеллигентного человека стал «профессиональный революционер, года два живущий тревожной боевой жизнью и затем погибающий на эшафоте»cli. Но так как погибать на эшафоте огромному большинству интеллигентов не очень хотелось или было как-то недосуг, оно, это большинство, переродилось в массу «фразерствующих бездельников», подверженных лживому культу жертвенной смерти. Исповедующему этот культ, искренне или не очень, все дозволено: культ завораживает ум и парализует совестьclii. Это имело огромное значение впоследствии. В революционной ситуации «крайние элементы у нас очень быстро овладевают всем, не встречая почти никакого отпора со стороны умеренных. Интеллигенция с какой-то лихорадочной быстротой устремляется за теми, кто не на словах, а на деле постоянно рискует своею жизнью. «Больная совесть» дает себя чувствовать...»cliii «Больная совесть» и довела до октября 17-го – хотя, конечно, не только она. 2.11.2. Террор как жест. Здесь хотелось бы сделать еще одно, небольшое отступление личного характера, хотя можно с уверенностью сказать, что оно касается не только автора, но и множества интеллигентных юношей из семей со старыми, дореволюционными интеллигентскими корнями, да и просто антисоветски настроенных «советских» интеллигентов, которым довелось пожить хотя бы несколько лет сознательной жизни при сталинской тирании. Для них (для нас) вопрос интеллигентского индивидуального террора был не просто исторической или теоретической проблемой, но делом экзистенциального выбора, в разнообразных его формах – от пустых мечтаний на тему «ах, хорошо бы уничтожить тирана (или сатрапа) и тем войти в историю» до приготовлений к акту самопожертвования, по-юношески в разной степени нелепых. Забавным образом и мечты, и приготовления в большой мере будились чтением романтизированных биографий героев-народовольцев – книг, обязанных своим появлением пропагандистскому аппарату самой псевдопролетарской тирании. Солидной ложкой дегтя в этой бочке мечтаний и рахметовских приуготовлений было знание того, что ни о каких попытках уничтожения тирана ничего никогда не было слышно. Это внушало и удивление (неужели все общество забито до полного бесчувствия, и в многомиллионном народе не осталось ни одного героя, способного на самопожертвование?), и отчаяние: видно, стена охраны вокруг тирана так крепка, что любые попытки его уничтожения безнадежны. Оставались сатрапы тирана, но реально досягаемой была такая мелочь, что никакого исторического жеста не получилось бы. Ведь, несмотря на все юношеские завихрения, было и трезвое осознание (сформированное, помимо прочего, чтением Плеханова и Ленина), что акт индивидуального террора – это прежде всего жест отчаяния, не влекущий никаких особых исторических последствий; жест, единственный смысл которого – показать, что «дух народа», если он вообще величина не мифическая, не сломлен. Но какой уж тут жест, если от твоей руки падет какой-нибудь райуполномоченный или третий секретарь обкома. Спишут на уголовщину – и правильно сделают. Естественно, сюда же примешивался и ужас смерти, бесконечного небытия – ужас, разбуженный не только и не столько террористическими мыслями и планами, а просто пришло время юношеской душе побороться с этим костлявым монстром до холодного пота. Отсюда всего лишь шаг до мысли о том, что смерть страшна не только тебе и твоей семье, но и тому, кого ты собираешься уничтожить, и его близким. Эти вещи легко писать и читать сейчас, но в определенном возрасте они являются как неожиданное откровение, как мощное переживание. И вот уже сомневаешься в геройстве Засулич: так ли уж нужно было стрелять в Трепова, живой же человек, хоть и сволочь; может, достаточно было набить ему морду – при тогдашних понятиях о дворянской чести эффект жеста, наверно, был бы тот же. Дала бы генералу по соплям, и пусть бы царь сам с ним разбирался. Ведь ворюга Трепов был – пробы негде ставить... А уж удары кинжалом, которые в описанную выше эпоху положительно вошли в моду (небось, не без влияния русской поэзии и книжек по истории Французской революции), вызывали просто содрогание. Действительно задумаешься: а как себя чувствовал Степняк, зарезав того генерала – неужели героем?cliv Помнится, тогда же, в годы «воспитания чувств», был прочитан и «Красный цветок» Гаршина, хотя и без него было вполне ясно: думать, будто зло мира можно уничтожить, вырвав этот самый цветок, может только клинический безумец. Однако мысль о жесте, об историческом жесте, представлялась попрежнему ценной. Она ушла с естественной смертью тирана в 53-м, с разоблачением культа личности, растворилась в атмосфере Оттепели, и только вернулась десятилетия спустя, когда «маразм крепчал» так, что уже казался нескончаемым, тысячелетним, и можно было решиться на любой дурацкий поступок просто со стыда. Ныне, на склоне лет, резать уже решительно никого не хочется, одна мечта – плюнуть в рожу какому-нибудь ворюге, владельцу/владелице замка в Тироле или Провансе. Но до них же не доедешь, пенсии не хватит. Опять же охрана... Не доплюнешь. Впрочем, как раз сейчас, на этом самом склоне лет, терроризм обернулся такой бесчеловечной, каннибальской стороной, что если и приходят в голову мысли по этому поводу, то все больше такого плана – как бы учинить такой контр-террор, чтобы от терроризма мокрого места не осталось. Но это уж лежит совсем далеко за пределами нашего рассуждения. 2.12. Отложенная смерть интеллигенции. В связи с убийством царя в марте 1881 г. впервые отчетливо возникает тема смерти интеллигенции. Федотов пишет об этом так: «Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле... Победы революции наносят... интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 г., 17 октября 1905 г., 25 октября 1917 г. Из них уже первая смертельна»clv. Федотов говорит, правда, что агония интеллигенции затянулась аж на 25 лет – 1 марта 1881 г. она только приняла «сильно действующий, хотя и медленный яд». Похоже, однако, что яд действовал еще медленнее, чем он думал, потому как слухи о смерти интеллигенции кажутся преувеличенными (впрочем, не слишком) и сотню с лишним лет спустя. Как бы то ни было, закономерность подмечена верно: в России, начиная с 19 века, интеллигенция затевает и проигрывает все революции, какие только в наших палестинах случались. Если сказать точнее, революции могут и побеждать – обычно наполовину, вкривь и вкось – а вот инспирировавшая их интеллигенция в массе своей получает либо шиш, либо нечто похуже. Однако с окончательной и бесповоротной гибелью интеллигенции после очередной революции тоже получается неувязочка: интеллигенция мутирует в катаклизмах, но в этом она совершенно не отличается от всего остального общества; она и гибнет так же, как другие части общества, и выживает таким же образом. Если говорить об исторических неувязках-нестыковках, то одна историческая схема, построенная Федотовым, особенно показательна: «На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская) ответила явлением Толстого и Достоевского. По-разному, но с одинаковой силой, они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможным строительство русской культуры на древней, допетровской почве»clvi. Допетровская почва – это, само собой, религия народа-богоносца, тот самый сильнодействующий яд, который впустила в себя интеллигенция и «который через четверть века начал видимо разлагать ее сознание»clvii. Часть интеллигенции и тогда, и позже действительно изменила западным идеалам, часть нет, но и тех, и других в 17-м потащили к стенке не за «идеалы», западнические или наоборот, а совсем по другим законам – по законам до- и послепетровской пугачевщины, оседланной бандитской частью той же самой интеллигенции (квазиинтеллигенцией). И даже здесь интеллигенция частично сохранилась (хотя бы физически – ожидать сохранения прошлых идей или иллюзий было бы совсем уж нелепо) несмотря ни на достоевский яд, ни на бандитские девять грамм. Что вселяет надежду – впрочем, довольно призрачную – и в наши грустные, но вполне травоядные времена. 2.12.1. «Совиные крыла». Поговорив об отложенной смерти интеллигенции, поинтересуемся, чем и зачем она все-таки жила в оставшиеся после 1 марта два десятилетия девятнадцатого века. Сразу вспоминаются страшные слова: «реакция» правления Александра III; леонтьевское «Нужно подморозить Россию, чтобы она не гнила»; особенно пугающее блоковское «В те годы, дальние, глухие, // В сердцах царили сон и мгла: // Победоносцев над Россией // Простер совиные крыла»; ну и прочие такие страсти, которые сквозь призму апокалиптического, последнего зла века двадцатого представляются вполне игрушечными – если не видеть в них прорастания зерен того самого зла, что рвало в лоскуты этот векволкодав. Конечно, и в то «ужасное» время не было недостатка в провидцах вроде того же Константина Леонтьева, который еще в восьмидесятых годах девятнадцатого столетия «прямо предсказывал, что революция ввергнет Россию в бездну неисчислимых бедствий»clviii. Однако Леонтьев сам проходил по разряду реакционеров, кто ж его станет слушать; хотя вещи, о которых он говорил, сбылись буквально: «так называемая конституция была бы самым верным средством насильственного социалистического переворота, для возбуждения бедного класса противу богатых... для новой, ужасной, может быть, пугачевщины»clix. Много еще чего из предсказанного им сбылось à la lettre. Правда, для 80-х—90-х годов его опасения по поводу конституции были беспочвенны – все из-за тех же «совиных крыл». Крылья – поэтическая метафора, а в прозаической реальности Константин Победоносцев, воспитатель Александра III и его, можно сказать, регент (хотя «ребенку» при вступлении на престол было уж двадцать), погнал такую политическую и идеологическую волну, которая смела, отменила либо изуродовала большую часть реформ начала 60-х. У него, правда, хватило ума не возвращать крепостного права, но все остальные достижения предшествовавшего царствования (включая отделение судебной системы от административно-полицейского произвола, земскую реформу, давшую муниципальным образованиям некоторую самостоятельность, намеки на созыв законосовещательного органа и пр.) давятся, отвергаются или выхолащиваются. С этой целью увольняются толковые министры Александра II во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, а на их место назначаются люди вроде гр. Н.П. Игнатьева, прозванного в Турции, где он раньше был послом, «Лгун-пашой». Да и тот, по настоянию все того же Победоносцева, вылетел из своего кресла, как только представил царю проект созыва Земского собора, а «его место занял пресловутый поклонник классицизма и земских начальников граф Д.А. Толстой»clx. В августе 1881 было издано «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» -- собственно, carte blanche для губернаторов и генерал-губернаторов творить суд и расправу в условиях чрезвычайного положения, растянувшегося до 1917 года. В августе 1882 были опубликованы «временные меры относительно периодической печати», каковыми мерами легальной печати был эффективно зажат рот. В частности, в январе 1884 года были закрыты щедринские «Отечественные записки» -- старейший и влиятельнейший из российских журналов того времени. В том же году была проведена университетская контр-реформа, упразднившая университетскую автономию; ко всему прочему студентов снова одели в униформу. В 1887 году последовал «циркуляр о кухаркиных детях», запретивший доступ к обучению детишкам из простонародья – для их же собственного блага, как обстоятельно объяснялось в циркуляреclxi. Много еще чего было сделано, чтобы не просто подморозить Россию, но и засыпать ее таким слоем мерзлого снега, что ни вздохнуть, ни охнуть. Процитируем одно лишь свидетельство настроения общества в это время – письмо Щедрину от его соредактора по «Отечественным запискам» Г.З. Елисеева: «...наступила новая полоса жизни, в которой нет ничего похожего на прежнюю: разбиты все надежды и упования, которыми можно было жить; люди, которые трудились для них, для их осуществления, или прямо преследуются, или лишаются всякой возможности говорить за свои идеалы... Но как должны чувствовать себя молодые, которые, воспитав себя под другими веяниями и чаяниями, не видят теперь ничего около себя, кроме увеличивающейся кругом себя мерзости, и вместе с тем сознают свое полное бессилие сделать что-нибудь против нее? Да и не на теперь только, а может быть, так будет до гроба. Впереди нет никакого просвета. Можно скорее, судя по настоящему, думать, что мерзость, чем далее, тем более будет возрастать, а возможность действовать против нее – уменьшаться и дойти до нуля. Ужасное положение!»clxii Я привел эту довольно обширную выписку, ибо она мне памятна с тех еще времен, когда цитата эта с точностью до деталей описывала настрой не восьмидесятых годов девятнадцатого века, а состояние интеллигентных россиян лет сто спустя, на излете брежневизма. То была прямо-таки сартровская «тоска», лягушка в кувшине с молоком, которая сто лет молотит лапками, а российское молоко никак не сбивается в масло более или менее приличной жизни, да и надежд на конец тысячелетнего коммунистического рейха особо ни у кого не было, кроме самых продвинутых. Правда, мы уже были довольно хулиганистыми лягушками, каждый держал в карманах пару фиг и при случае с упоением совал их под нос нашим карликовым победоносцевым, которые уж не могли, да и не имели особой охоты отправлять людей туда, куда макар телят не гонял «без права переписки». Но в тоскливую минуту, когда и фигу показать некому, только и оставалось, что читать Щедрина с Елисеевым, благо соввласть в своей неизреченной тупости наиздавала их порядком. 2.12.2. «Студенты бунтуют». Однако и под снегом, известное дело, текут ручьи, поначалу довольно тихие. Именно в 1880-е годы «Студенты бунтуют» стало расхожей фразой, хотя бунты были довольно смирные и в основном словесные, в форме «сходок». Вот характерная картинка: "...Обширный зал аудитории (СПб университета) был переполнен сотнями студентов, на одной из скамеек стоял студент и резкими пламенными словами бичевал полицейский произвол, русский реакционный режим, призывал студенчество на борьбу с ним. Его речь сопровождалась бурными аплодисментами... Седой профессор показался из соседней с аудиторией комнаты и направился к кафедре. Однако студенты попросили его отложить свою лекцию, потому что у них сходка. Профессор, улыбаясь, ушел. Сходка кончилась без инцидентов. Однако на другой день, когда предполагалось устроить более широкое студенческое собрание, университет оказался окруженным конной и пешей жандармерией. Тогда начались уличные студенческие демонстрации, столкновения с жандармерией и аресты"clxiii... Особенно громкий скандал вышел 8 февраля 1881 года, во время годичного акта петербургского университета, который был сорван обличительными речами с хоров, всеобщим ревом, разбрасыванием листовок и наконец затрещиной, которую первокурсник Папий Подбельский закатил министру просвещения А.А. Сабурову – в общем-то зря, как выяснилось: министр был человек скорее порядочный и сын декабриста к тому жclxiv; просто он был винтиком в бюрократической системе, не мог себе позволить каких-либо решительных мер и все уговаривал студентов «подождать». Вот и доуговаривался. Дальше, как водится, пошло по нарастающей. Начались протесты против университетского устава 1884, с требованиями академической свободы. Вместо чаемой свободы студенты получили полицейские нагайки при разгоне университетского собрания 8 февраля 1899 г., исключение из университета, а раз исключен – так будь любезен, послужи в солдатчине. Это не могло не вызвать возмущения среди родителей забритых во солдаты, то есть «в обществе»clxv. Фрондировать в то «ужасное время» было тем комфортнее, что экономическое положение этого самого общества было вполне стабильное и даже клонилось к некоему просперити (см. ниже). 2.12.3. «Малые дела». Вне студенческих волнений, в более солидных группах интеллигенции, формы выражения оппозиционности были гораздо более спокойными. Основной такой формой были профессиональные съезды врачей, агрономов, учителей, других деятелей народного просвещения. Здесь обыкновенными были протесты против бюрократического произвола, требования соблюдения законности, прав личности, расширения прав земств и пр.; «после таких заявлений съезды обычно закрывались полицией «за отклонение от установленной повестки дня»»clxvi. В общем, царизм активно рыл себе могилу, интеллигенция предвкушала тот момент, когда он туда свалится, а дальше наступит «свобода», и все будет хорошо. Вот примерно с таким багажом основная масса б/п-интеллигенции приближалась к 20-му веку. Было еще одно увлекательное занятие под сенью «совиных крыл», помимо съездов: «малые дела», или «абрамовщина», по имени Якова Васильевича Абрамова, писателя и публициста, работавшего в ряде журналов, включая «Отечественные записки» до их закрытия, потом статистиком, а с середины 80-х годов – в «Неделе», где он и занялся своей проповедью этих самых «малых дел»: надо, говорил он, оставить всякие помыслы о «больших делах» вроде общественного переустройства и заняться «тихой культурной работой» – учительствовать, лечить крестьян, бороться с мироедами, и так далее. За эту проповедь «жалкого культурничества» Н.В. Шелгунов, хранитель заветов 60-х годов, назвал «Неделю» «школой общественного разврата»: бессмысленно, писал Шелгунов в “Русской мысли», заниматься общеполезной деятельностью «при условии неподвижности границ плохой действительности», то есть не сломив предварительно самодержавия и вообще не добившись свободы и разных других полезных вещей. 2.12.3.1. «Малые дела» vs. революция. Тут самый подходящий момент спросить себя: так что же было интеллигентнее – «малые дела», организация интеллигенцией общественных сыроварен, аптечек и библиотек, внедрение интеллигенции в жизнь русской общины, в общем, весь этот «общественный разврат» -- или работа на революционный слом «границ плохой действительности»? Сейчас, более века спустя после тех споров, довольно очевидно, что, пойди интеллигенция по пути «малых дел» в действительно массовых масштабах, они могли бы вылиться в дела «всемирно-исторического значения», учитывая, с какой скоростью Россия прогрессировала в то «ужасное время», оплакиваемое прогрессистами. Мне всегда доставляло особое удовольствие читать в седьмом томе Лависса и Рамбо: «Если существует в самом деле народ, не нуждающийся в искусственном покровительстве, то это русский народ. С 50 миллионов жителей около середины XIX столетия население империи возросло до 129 миллионов к концу XIX века (в 1896 году). Четыре пятых этого числа составляет господствующая народность – великороссы. По мере роста населения развивалась его экономическая деятельность. Сельскохозяйственная продукция удвоилась. Успехи текстильной и металлургической промышленности, стимулируемые системой почти запретительных пошлин и открытием богатых залежей железа и угля на юге, изумительны. Повсюду – правда, главным образом благодаря иностранным капиталам -- были основаны заводы. Железнодорожная сеть, не достигавшая в 1866 году и 3000 верст, к концу XIX века имела протяжение около 40 000 верст. Была произведена конверсия долгов и введена золотая валюта...»clxvii Ну и так далее. Особенно поучительно было читать, что это экономическое обновление находилось «к концу XIX века еще в самом начале»clxviii. Вот такой шанс, или «окно возможностей», имела Россия в конце девятнадцатого века и позже. Если бы не игры самодержавия, ввязавшегося в две проигрышные войны с интервалом в десяток лет, и интеллигентов-революционеров, воспользовавшихся кризисами, порожденными этими войнами, в своих революционных целях – какая у России могла быть чудная история! Но самодержавие было именно таким, каким оно было, и то же верно относительно интеллигентов – даже тех, на которых Абрамов возлагал свои надежды в осуществлении «малых дел». Уж казалось бы, что могло быть смирнее профессии земского статистика, какое занятие больше подходило под категорию «малых дел»! Но вот как описывает И.А. Бунин общество земских статистиков, в котором он работал и вращался в Харькове примерно в описываемое время: «Замечательней всего было то, что члены [этой среды], пройдя еще на школьной скамье все то особенное, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих «движениях» и в той или иной «работе», затем высылку, тюрьму или ссылку и так или иначе продолжали эту «работу» и потом, жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было «бороться».... в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево; все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение – в перевороте, в конституции или республике...»clxix Правда, Бунин упоминает здесь «практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике)», которые и могли бы воплощать в жизнь «теорию малых дел», не помышляя о переделке «границ плохой действительности» -- но какие шансы у них были против организованных революционеров? Организация всегда побьет неорганизованную массу, если только она, эта организация, не разваливается изнутри по своей гнилости (что мы еще будем иметь случай наблюдать). 2.12.3.2. «Закон Роя». В этом трагизм человеческой истории – она подчиняется закону, который я вывел, сугубо для внутреннего пользования, лет в четырнадцать, читая плехановскую «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Формулировать его можно так: чтобы добиться осуществления какого-то социального проекта – скажем, свободы и/или улучшения жизни («прогресса») – необходима организация (грубо говоря, к религии обязательно прилагается церковь), а последняя, раз возникнув, неизбежно начинает работать на себя. Не потому, что она – исчадие ада (хотя и такое бывает), а потому, что ее в противном случае задавят конкуренты. (Я параллельно читал «Дарвинизм и марксизм» -кажется, Гурьева). Мысль, в общем-то, простенькая, но я ее в такой формулировке нигде не встречал (что проще всего объяснить узким кругом чтения) и буду считать ее своим крупнейшим историософским достижением до тех пор, пока не встречу сформулированной в каком-нибудь трактате, написанном Макиавелли либо кемнибудь еще сотни лет тому назад, если не тысячи (что неизбежно: сказать нечто новое о человеке и сообщностях человеческих практически невозможно). Мысль эта релевантна относительно нашей темы в следующем отношении: интеллигент, работающий в организации, которая в основном трудится на саму себя (скажем, на захват политической и всякой иной власти), уже не есть интеллигент в полном смысле этого слова. Он не есть идеалист, видящий смысл своей индивидуальной жизни в служении другим людям, народу, государству, человечеству и пр. (см. выше) и довольствующийся малым (в материальном плане) для себя. Он – в лучшем случае – квазиинтеллигент, какими бы мириадами слов о светлом будущем народа под водительством данной партии ни прикрывались ее шкурные интересы. Интеллигенты 19-го века еще могли заблуждаться на сей счет – даже несмотря на то, что авторы вроде Константина Леонтьева описывали жуткое социалистическое будущее под началом пламенных революционеров в изумительно точных предвидениях. Нам же, пережившим царство коммунистической свободы, путаться в этих вещах просто грех: нынешний интеллигент по определению обязан бежать всех революций, как черт ладана. Впрочем, о чем это я, какие уж тут революционные интеллигенты в наше время. Нету их. Это при Советах еще были группы интеллигентов, по обличью весьма схожих с теми, что описаны в приведенной выше цитате из «Жизни Арсеньева» – диссидентура, «борцы с режимом». Лично у меня они вызвали отчетливо двоякое чувство. Они имели вид подвижников – всегда привлекательный образ для русского интеллигента – и в крайней форме выражали те же настроения, что господствовали в моей среде «благонамеренных фрондеров», из которой поголовно и состояла интеллигенция, за исключением дурачья и сволочи, «вмонтированной» в режим и активно (но безнадежно) его укреплявшей в благодарность за кремлевские пайки и прочие цацки. Как всякого русского, меня тянуло к крайностям – включая такие, о которых диссиденты-мироустроители и не помышляли. Но это опять-таки всего лишь одна сторона. Другая заключалась в чистосердечном изумлении от того, что знакомые мне диссиденты не понимали, отказывались видеть, к каким практическим результатам приведет успех их лозунгов и усилий. Иные же были всей душой за то, чтобы «борьба» их привела именно к тому результату, к которому страна в конце концов пришла – к гибели «большой», исторической России (притом, что насчет реальной доли усилий диссидентуры в этом обвале может обманываться лишь она сама – тут совсем другие силы повеселились). Короче, это были «западники» в самом гнусном, современном смысле этого слова. В прошлом «западники», готовые с кишками продать страну Западу, существовали, пожалуй, лишь в литературе (Смердяков); во всяком случае, как общественная сила они отсутствовали. Но вот – явились и расплодились до чрезвычайности. Их необыкновенно много сейчас, прямо в данный момент, и мечтают (да что там «мечтают» – визжат на «Эхе Москвы» и в прочих рупорах) они все о том же – о революции, на этот раз «оранжевой», после которой место, где была Россия, можно красить хоть во все цвета радуги: России просто не будет, а будут разные «сферы интересов» разных компаний мирового гегемона и его подручных. Назвать этих революционеров русской интеллигенцией тошнотный рефлекс не позволяет. Что же касается русской интеллигенции в собственном смысле, то она попала под каток рыночной экономики и бандитской политики ельцинского времени, так что очень уж большая часть ее занята самым малым из дел – собственным выживанием, спасением собственной шкуры (включая массовое бегство в благословенные страны, где хорошо платят) либо пополняет ряды люмпенов со всеми прелестями этого сословия. Оставаться русским интеллигентом в старинном – и единственно приемлемом – смысле становится все труднее, что и дает пищу сомнениям в существовании этой самой интеллигенции как эффективной силы. Политически эффективна «интеллигенция» скорее антирусская, компрадорская, а та интеллигенция, что за Россию, более или менее эффективна лишь в своих профессиональных и семейных закутках. В этом смысле главная надежда – на неоднократно отмеченную уже выше способность этой социально-идеологической структуры возрождаться, казалось бы, из ничего. 2.13. Буревестники. 2.13.0. После этого, очередного и не очень лирического отступления, вновь уходим в историю. Честно говоря, при мысли о новой теме, которая будет занимать нас далее, возникает отчетливое ощущение чего-то тяжелого, темного, неминуемо надвигающегося, такого, от чего хотелось бы ускользнуть -- но разве из истории выпрыгнешь. А надвигается эпоха идей, событий, личностей, движений и прочего такого, о чем память в первую очередь выбрасывает что-нибудь эдакое из «Краткого курса» и смежной литературы, потому как подходит его время. Проклятое, в общем-то, время. От него же извилистая тропа ведет в сегодня, тоже далеко не подарок. Тоскливая тема эта заявлена уже в заголовке – «буревестники» (хотя само словечко, в этом развеселом значении, появилось позднее). Вполне понятно, буревестниками чего они были: первой «всамделишной» русской революции. Двадцать лет, с 1882 по 1902 год, не было в России громких терактов (кроме неудавшейся попытки подготовки покушения на царя ленинским братцем в 1886), все уж вроде было подморожено под сенью «совиных крыл» – а вот поди ж, за эти же двадцать лет сформировались силы, в том числе и в первую голову интеллектуальные, которые потащили Россию вразнос по историческим кочкам, да так, что и костей не собрать... Не хочется повторять общие места про литературоцентричность россиян, про то, что в отсутствие парламента, философии, свободы слова и вероисповедания и прочего литература у нас выполняла все эти, вроде бы не свойственные ей функции (хотя насчет функций можно бы и поспорить – так ли уж они не свойственны настоящей, некоммерческой литературе). Но что же делать, если все это – чистая правда. Не будь у нас такой великой литературы, исполненной критического пафоса по отношению к существующим порядкам, к «свинцовым мерзостям» российского бытия, не было бы и такой же ожесточенно-критически настроенной интеллигенции, и кто знает, как пошли бы социальные потрясения начала двадцатого века. Но – что было, то было, и теперь остается лишь разбираться – а что же именно было. Один факт особенно психологически интересен и, наверно, заслуживает особого анализа, но мы его берем просто как факт: на публику, на образованное общество, и в особенности на молодежь, сильнее действовало не прямое наблюдение означенных мерзостей (или участие в них), а их талантливое изображение в литературе, особенно в запретной или полузапретной литературе. Именно оттуда шло настроение, которое можно обозначить гораздо более поздним слоганом: «Так жить нельзя»clxx. Ну а раз нельзя, то надо это все разнести вдребезги, смести, и тогда, на чистом месте, само собой вырастет чтонибудь донельзя чистое и хорошее – свобода, конечно, в первую голову, а потом уж благосостояние для всех, а также науки и искусства, и все будет как в Европе, а может, даже и лучше, при нашем-то бесценном народе-богоносце. 2.13.1. Л.Н.Толстой. Номером первым в этой когорте властителей дум идет, конечно, Лев Толстой, который как раз в это время, в восьмидесятые, прошел через духовный кризис, написал «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие внутри нас» и прочую публицистику. Разумеется, зачисление Толстого в «буревестники», мнение о том, что духовные метания гения были одним из сильнейших факторов, которые подготовили первую русскую революцию, автоматически вызовет возражения: слишком мощен был протест Толстого против всякого насилия, включая насилие революционное; какой уж тут буревестник. Рассудим, однако. Зададим простой вопрос: кто из русских писателей, мыслителей, общественных деятелей etc. имел наибольшее влияние на умы самой активной части интеллигенции – той самой силы, которая и заварила революционную кашу? Тут нет места догадкам, есть определенные свидетельства: «При проведенной до революции анкете среди русских студентов на вопрос о том, какой писатель более других оказал на них положительное моральное влияние, подавляющее большинство ответило: Толстой»clxxi. Что же это было за «моральное влияние»? Назвать его «положительным» можно лишь с большой натяжкой: положительная проповедь христианской любви всех ко всем без различия возраста, пола и звания, непротивление злу насилием, неядение мяса, отказ от водки и табаку, обязательный земледельческий труд и прочее толстовство задевало интеллигенцию, в особенности интеллигентную молодежь, лишь по касательной. Тангенциально, так сказать. Слов нет, толстовство как общественное движение, зародившись в 1880-х годах, распространилось впоследствии довольно широко, но было весьма неоднородным, даже можно сказать разношерстным по составу участников. Говорить о нем как о преимущественно интеллигентском движении не приходится. И уж совершенное преувеличение – видеть в нем лишь по исторической нелепости не свершившуюся духовную революцию (мировую, надо полагать), как о том иногда приходится читать: «Если учитывать колоссальный нравственный и духовный авторитет Толстого, то угрозу духовного переворота, духовной революции нельзя считать преувеличенной»clxxii. Не было никакой такой угрозы; было религиозное движение по типу протестантского, была одна из бесчисленных российских сект, которая особой опасности ни для господствующей церкви, ни тем более для государства не представляла (как бы последние ни трусили и ни преследовали ее). И что это за духовная революция, от которой отказывается сам человек, именем которого названо движение за эту революцию? Совершенно в духе своей проповеди Толстой многократно заявлял, что никакого особого его «учения не было и нет», а есть, мол, Евангелие и любовь к Богу. К тому же Толстой с его сверхчеловеческой проницательностью не мог не видеть ту безрадостную картину, которую являло собой толстовство в его реальном воплощении. Об этом есть интереснейшее свидетельство Ивана Бунина: «Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого, -полтавские были типичны: за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ»clxxiii. Очевидно, принимать всерьез попытку быть святым на этой грешной земле могут действительно лишь сугубо ограниченные, «несносные» люди. Иван Ильин утверждает даже, что выбор толстовства как идеологии секты «несносным народом» определяется свойствами самой доктрины, потрафляющей характеру именно людей определенного сорта: «...учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее с души общественные и гражданские обязанности и, что гораздо больше, трагическое бремя мироздания, – должно было иметь успех среди людей, особенно неумных, безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-идиллическому миросозерцанию»clxxiv. Поскольку сам основатель учения указанными безрадостными свойствами никак наделен не был (за исключением, пожалуй, эгоцентризма, да и то наверняка найдутся желающие оспорить это), ясное дело, из Толстого хорошего толстовца никогда бы не получилось, даже в последний, моралистический период его жизни. А вот «буревестник» из него получился, на этом можно настаивать. В конце концов, что остается, если вычесть из Толстого его «положительную», «толстовскую» программу? Остается сокрушительная критика всех современных ему форм и норм общежития, которая отличным образом совпадала с критическим настроем русской интеллигенции по отношению к этим же самым формам и нормам, входила с этим настроем в резонанс и усиливала его всей мощью толстовского гения и авторитета. Короче, Толстой был нигилист похлеще той мелкоты, которая подвизалась под этим метким прозвищем; Максим Горький прямо о том говорит: в Толстом было «нечто» такое, что казалось ему, Горькому, «чем-то вроде «отрицания всех утверждений» – глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества...»clxxv. А Бердяев без обиняков называет Толстого революционером: «Толстой был революционером, обличителем неправды мировой жизни, он анархист и нигилист, он восстает против мировой истории и против цивилизации с неслыханным радикализмом»clxxvi. На чем бы он ни вырос, этот нигилизм, это отрицание «всех утверждений», все это в Толстом было. Конечно, в нем было и необыкновенно много другого, но главное ведь то, что в нем вычитывала тогдашняя публика – отрицание государства, церкви, собственности, семьи, даже самого продолжения рода человеческого, не говоря уж о таких «мелочах», как капитализм или самодержавие. Ничто, основанное на насилии, не имело нравственного мандата на существование, и в этом смысле Толстой не делал разницы и между капитализмом и социализмом, если последний не основан на принципе христианской любви. Так вот, про христианскую любовь сплошь атеистическая интеллигенция пропускала мимо ушей, а критику капитализма, государства, общественной морали и прочего (см. выше) воспринимала живейшим образом. И правильно, в общем-то, делала: такую вещь, как «После бала», можно было бы в виде листовок расклеивать, благо всего десять страниц. 2.13.2. Ф.М.Достоевский. Примерно то же приключилось и с другим гением того времени – Достоевским, несмотря на всю разницу в религиозно-философских воззрениях двух гениев. В последние годы своей жизни, когда Достоевский писал свой величайший роман, «Братья Карамазовы», он сам беспокоился, как бы богохульство и атеизм не оказались убедительнее религиозных опровержений. Здесь, как и в случае с Толстым, сработало намеченное выше правило: важно не то, что читают, а то, что вычитывают. Как ни боролся Достоевский, во всю вторую половину своей жизни, с атеизмом и социализмом – что мог он им противопоставить? Веру в то, что «не мораль, не учение Христово спасут мир, а только вера в то, что Слово плоть бысть». Да надежду на то, что когда-нибудь русский народ-богоносец осчастливит человечество, поделится с ним этой верой. Но это все – потом, потом, где-то за кадром текста, а в том мире, в котором жили читатели и герои Достоевского, ребенка могут затравить собаками, святая Сонечка Мармеладова идет на панель, сходит с ума отцеубийца Иван Карамазов, вешается Смердяков… Листается толстенный каталог человеческих страданий и мерзостей – и очень непохоже, чтобы населяющий этот мир «народ» когда-либо проникся идеями братства и соборности (с чего бы это?) или уразумел, какой такой высший смысл таится в загадочной фразе «Слово плоть бысть». Потому вполне можно понять «русских мальчиков» Достоевского, которые, прочитав «Преступление и наказание», в своих бесконечных спорах и беседах дружно решат: убивать процентщицу-старуху, да еще невинную сестру ее – вздор и глупость, и ни к какой победе над самодержавием привести не может; а вот если укокошить генерал-губернатора или, скажем, великого князя, а того более царя – вот где настоящий героизм, и можно добиться уступок от царизма в виде конституции и прочих свобод, и тогда все будет расчудесно. Вот эту программу русские (и не очень русские) мальчики (и девочки), подросшие за «время безвременья», и принялись позднее осуществлять с большим азартом (см. далее). А пока же они через все поры впитывали внушаемую великой русской литературой все ту же вечную истину: «Так жить нельзя». Ну, а раз нельзя, то можно все, что приближает революцию, которая этой нехорошей жизни положит конец. Все позволено, господа. 2.13.3. Другие. Конечно, Толстой и Достоевский взяты здесь лишь для примера, как Эльбрус и Казбек Кавказского хребта русской литературы – а ведь был еще и сам этот «хребет», весь массив этой словесности. Одних только имен самого первого ряда достаточно, чтобы сформировать вполне определенное мировоззрение: Тургенев, Гончаров, Островский, Салтыков-Щедрин, Успенский, Некрасов, позже Чехов, Горький, Гаршин, Короленко. Однако на взгляды читающей публики воздействовали не только эти гранды, но и писатели второй, третьей и десятой величины, вроде Мельникова-Печерского, Помяловского, Шеллера-Михайлова, Станюковича, Писемского, Терпигорева, Боборыкина, и так далее, и так далее, вплоть до любимых мною, но решительно позабытых ныне Дриянского или Эртеляclxxvii или совсем уж неведомого Тан-Богораза. Они писали о многих и разных вещах – и о любви, и о природе, и о войне, и о мире – но нелегко отыскать в этом массиве трудов, где не было бы главного – социальной критики. При этом у многих, особенно «рядовых», писателей эта критика переходила в прямую очерковую публицистику, по большей части мрачную, горькую, обличительную. На ней воспитывалась интеллигенция, она формировала тот отрицательный настрой, который придавал интеллигенции некую идейнодуховную монолитность и сделал возможным массовый уход ее в подпольную работу и в конечном итоге в революцию. Ну, если и не прямо в революцию, то в сочувствие ей. 2.13.4. Я понимаю, что совершаю абсолютно антимарксистский поступок, выдвигая на первый план не социально-экономические условия, породившие революцию, а такой легковесный вроде бы фактор, как художественная литература; изящная словесность, belles-lettres, так сказать. Но к этому меня подвигает цепочка рассуждений, в которой я не могу найти серьезного изъяна. Городская революция (крестьянские бунты – совершенно иное дело) была развязана (или, скажем грубее, спровоцирована) именно интеллигенцией, а поступки интеллигенции, по самой ее сути, мотивируются именно сознанием («примат духа над материей»). Из духовных же факторов именно эта самая изящная словесность сильнее всего действует на глубинные, волевые и эмоциональные пласты психики. Вот и Ленин признавался, что его «перепахало» не что-нибудь, а книга Чернышевского «Что делать?» -- та самая, про которую Толстой сказал, что это – не просто дурная книга, это – дурной поступок. Так и получается, что, будь у Володи Ульянова не столь дурной литературный вкус, и вся мировая история могла бы пойти по-другому. Впрочем, как я постарался здесь изложить, и без Чернышевского Володе было что почитать и чему направить его мышление в русло бунта и отрицания всего и вся. Относительно роли русской литературы в революции могут возразить, что именно тогда, когда в России стали оформляться серьезные революционные партии и движения, золотой век русского романа подошел к концу и накатило поветрие символизма и декаданса, а с ними и забвение социальной критики. Как писал В. В. Розанов, ««дурной сон» литературы» прогнало символистское «кувырканье»clxxviii. В 1894 году появляется антология «Русские символисты», в 1895 Брюсов издает свои «Chefs d’oeuvre». (И вот какие забавные параллели подбрасывает история: в 1894 Ленин печатает на гектографе свою книжку «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», а в 1895 в Петербурге организуется «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».) Ну, что тут можно сказать. Оттого, что кружки символистов и декадентов инкапсулировались в своих эротико-мистических забавах, широкая публика не перестала читать классику, да и в текущей литературе социальная критика была представлена, что называется, в полный рост. Одна «Деревня» Бунина чего стоит, а ведь был еще жив Толстой и во всю мощь писал Чехов. Но главное, пожалуй, даже не в этом. Главное в том, что к тому времени в среде интеллигенции уже сформировалась взрывная, негативистская атмосфера, подвигавшая наиболее отчаянных и честолюбивых к практической борьбе – и им уж точно было не до символистских бирюлек. Впрочем, «символистские бирюльки» и «инкапсуляция» – тоже довольно сильное преувеличение: одни профетические строки Брюсова о грядущих гуннах чего стоят. А ведь эта профетическая струя, предчувствие катастроф и падения России в бездну – регулярно повторяющийся мотив символистской поэзии, творцы которой находили в этой теме даже некую щекочущую нервы усладу. Вот – классика: «Бесследно все сгибнет, быть может, // Что ведомо было одним нам. // Но вас, кто меня уничтожит, // Встречаю приветственным гимном». – Это сейчас, когда то будущее далеко и надежно в прошлом, «приветственные гимны» такого рода воспринимаются – если по-честному – как проявления символистской дури, а во время написания (1904—1905 гг.) были хорошим интеллигентским тоном. 2.14. Революционеры. Художественную литературу читали все, так что все сказанное в предыдущем разделе относится ко всей интеллигенции и, шире, ко всем более или менее образованным слоям в России. Теперь обратимся к «партийной» интеллигенции (кавычки скоро станут излишними). Расклад здесь был довольно четкий и частично затронут в 2.11 и иных местах выше. Бомбистов из «Народной воли» поголовно пересажали, на свободе остались в основном мирные народники-либералы (На этом рукопись обрывается. А жаль.) Примечания Ясно, что здесь заложен тот же парадокс, что и в первом абзаце. Означенный вопрос -чисто риторический, им может задаваться только интеллигент, и значит, существование хотя бы одного интеллигента уже дано. Таким образом, все обсуждение похоже на решение задачи с готовым ответом – но это не делает его бессмысленным: по ходу дела выясняется масса других вещей (вроде того, как при решении теоремы Ферма развились целые разделы математики, хотя такое сравнение, конечно, слишком смело: тут лишь бы самому себе что-то выяснить, и то польза). К тому ж экспликация чуть ли не всех понятий в гуманитарных областях, похоже, имеет точно такой же «вероисповедальный» характер: сначала возникает волевой, экзистенциальный импульс, а затем строится система аргументов в пользу соответствующей идеи. В глазах лиц с математической либо позитивистской подготовкой ситуация выглядит грустной, но что делать. i ii Алексей Слаповский. «Качество жизни. Книга». Знамя, 2004, № 3, стр. 66 iii Литературная газета, 2004, № 50 Елена Барабан. «Интеллигенция в российском детективе». Неприкосновенный запас, 2001, № 4 iv В начале упомянутой выше статьи Е. Барабан дано небольшое перечисление относящихся сюда работ. v vi Н. А . Бердяев. «Кризис интеллекта и миссия интеллигенции». Новый мир, 1990, № 1, стр. 228 См. Игорь Золотусский. «Интеллигенция: смена вех». Литературная газета, 2004, № 3233. Также: www.intelligent.ru vii viii См. Вячеслав Савватеев. «А расколу – триста лет». Литературная газета, 2004, № 34 ix Если бы мы претендовали на формализацию дискурса, мы бы ввели здесь обозначение qI для множества квази-интеллигентов, но мы останемся в рамках неформализованного рассуждения и будем обходиться словесными обозначениями x И.В. Бестужев-Лада. «Интеллигенции в России нет...» Литературная газета, 2003, № 22 xi Александр Солженицын. «Образованщина». Новый мир, 1991, № 5 См. Ольга Балла. «Интеллигенция и эволюция. От социальной группы к человеческомй типу». Лицейское и гимназическое образование, 2005, № 2 xii См. Игорь Бестужев-Лада. «Семья Бестужевых из села Лада». Литературная газета, 2005, № 2-3 xiii xiv Борис Парамонов. «Интеллигенция». Век XX и мир, 1994, № 11-12. http://www.russ.ru/antolog/vek/1994/11-12/paramon.htm. xv Г.О. Павловский. ««Век XX м мир»: урановый могильник российской интеллигенции». Интервью Русскому журналу 17 января 2001 г. http://www.russ.ru/politics/20010116_gpavl.html xvi Об этом же говорит Юрий Афанасьв в интервью Михаилу Ремизову из «Русского журнала»: Павловский «вроде бы рисует некую общую картину, а в сущности ведь пытается изваять собственный образ, написать автопортрет в интерьере. При этом история русской, советской, современной российской интеллигенции, история диссидентского движения - все это проходит как бы задним планом». ( www.russ.ru/politics/interview/20010212_af.html). В остальном интервью Афанасьева производит удручающее впечатление, являясь по сути поддержкой претензий Павловского и его «интеллектуалов» на обслуживание социального действия, «и не какого-нибудь действия, а действия власти. Он формирует власть, он формирует стратегии власти». Благодарение Богу, у самого Афанасьева хватает ума держаться подальше от такого праксиса, а то бы Павловский давно его съел. Счастливцам, не знакомым с фигурой Ф. Бурлацкого, сердечно рекомендую исчерпывающую статью С.Н. Земляного «Пародия на карикатуру». Независимая газета, 14.06.97 xvii xviii См. А.Г. Дугин. «Интеллигенты, ученые и интеллектуалы в эпоху постмодерна». www.intelligent.ru. Материал первоначально появился как «доклад лидера Международного «Евразийского Движения» А.Г.Дугина 21.06.2004 на конференции политологов в Астане, посвященной «Году России в Казахстане»» под заголовком «Евразийская интеграция в оптике постмодерна». http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=print&sid=1817 xix Захватывающий автопортрет этой личности вырастает из интервью Дугина «ДискурсуПи», где находим перлы вроде следующего: «Моя парадигма историко-материалистическая... Смысл историко-материалистической парадигмы истории в том, что она представляет собой тайную дуэль двух оккультных групп - менестрелей Мурсии и менестрелей Морвана (см. Грасе д'Орсе). Это все очень материально. Увы, менестрели Морвана, кажется, одерживают верх, так как получили неограниченный доступ к криптографическим архивам» (http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=922). Эта штука посильнее не только «Фауста» Гете, но и «аксессуаров и обрубков» г-на Павловского. xx «Сталинская интеллигенция живет и процветает. А другой у нас, кажется, не было и нет...» Новая газета, 2004, № 54. http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/54n/n54n-s21.shtml См. Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. Москва, «Международные отношения», 1999 xxi xxii См. Sergei Roy. “Some Remarks on the Anatomy of Russophobia. In response to Dr. Milanovic’s Query in 9018.” Johnson’s Russia List, 20 Jan 2005, #9026 http://us.f537.mail.yahoo.com/ym/login?.rand=1320b979hvg16 xxiii См. Знамя, 1992, № 3-4 xxiv Там же, стр. 206 xxv Там же, стр. 205 Я не знаком с г-ном Гудковым, не знаю его биографии, но что-то подсказывает мне, что рисовал он разбираемый ниже портрет «дистанционно»; при живом, длительном и постоянном контакте с этими образчиками человеческой породы гудковская идеализация просто немыслима. xxvi xxvii Лев Гудков. «Интеллигенты и интеллектуалы», стр. 209 xxviii Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Москва, «Согласие», 1996, стр. 326 xxix Там же. xxx См. например George Irbe. “Roots of Evil.” http://www.msu.edu/user/hallc/george/top xxxi Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. Москва, «Книга», 1991, стр. 50 xxxii См. Sergei Roy, “On a Comical Study in Russian Humorlessness.” Johnson’s Russia List, April 6, 2009 xxxiii Лев Гудков. «Интеллигенты и интеллектуалы», стр. 210 Интересный, между прочим, ритуал; вот такой текст все американские детишки твердят чуть ли не с первого класса: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands: one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Нелишне было бы ввести нечто аналогичное и у нас. Любопытно было бы посмотреть, под каким предлогом наши вестернисты этому воспротивятся. Впрочем, могут и приветствовать – если читать у нас клятву верности to the flag of the United States of America. xxxiv xxxv См. Анатолий Уткин. “In God We Trust”. Литературная газета, 2005, № 10 xxxvi См. Г.С. Кнабе. «Приговор. Введение и заключительная глава из книги «Перевернутая страница»». www.intelligent.ru . См. также Г.С. Кнабе. «Что-то кончилось». http://archive.1september.ru/art/2003/11/no11_1.htm Г.С. Кнабе. «Приговор. Введение и заключительная глава из книги «Перевернутая страница»». xxxvii xxxviii Там же. xxxix Там же. xl Там же. См. В.Ф. Кормер. «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура». Вопросы философии, 1989, № 9 xli Г.С. Кнабе. «Приговор. Введение и заключительная глава из книги «Перевернутая страница»». xlii xliii Г.Кнабе. Что-то кончилось. http://archive.1september.ru/art/2003/11/no11_1.htm Ср. следующее высказывание литературоведа: «Хотя наиболее серьезные исследователи и пришли к выводу о несостоятельности постмодернизма как художественно-эстетической системы, строго научного определения этого явления до сих пор нет. Покойника свезли на кладбище, а кто он – не выяснили». (Алла Большакова. «Литература, которую вы не знаете». Литературная газета, 2005, № 11). xliv Г.С. Кнабе. «Приговор. Введение и заключительная глава из книги «Перевернутая страница»». xlv xlvi Георгий Кнабе. «Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии». Русский журнал 25.06.1999 http://www.russ.ru/edu/99-05-24/knabe.htm Первое подозрение такого рода закралось у нас, когда Г.С. Кнабе процитировал определение истины по книге Henry Beard and Christopher Cerf. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. 1992, назвав ее одним «из распространенных словарей-справочников по постмодернизму». Указанные авторы, вместе и порознь, являются сочинителями бесчисленных комиксов и lampoons, юмористических скетчей, обо всем на свете; немудренно, что им на язык попалась и political correctness. Цитировать их коллекцию как «словарь-справочник по постмодернизму» можно лишь в очень постмодернистском духе. xlvii xlviii К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2, т.1, стр. 380 xlix См. Г.Кнабе. Что-то кончилось. http://archive.1september.ru/art/2003/11/no11_1.htm l Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции». В сб. ст.: О России и русской философской культуре. Москва, изд-во «Наука», стр. 416 li Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ея главнейших деятелей. Второй отдел. Выпуск четвертый. Санктпетербург, 1874, стр. 217 lii В.О. Ключевский. Сочинения в девяти томах. Т.III. Москва, «Мысль», 1988, стр. 286 liii Там же, стр. 290 liv С.М. Соловьев. Сочинения. Книга VII. История России с древнейших времен. Тома 13-14. Москва, «Мысль», 1991, стр. 111 lv Чтобы не слишком грешить против исторической истины, нужно иметь все же в виду, что самосожжения раскольников, равно как и призывы к ним, происходили не просто из-за обскурантизма Аввакума и других лидеров раскола (хотя они были-таки обскурантами), а по более глубоким причинам, о которых Н.А. Бердяев, например, пишет так: «В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола.» (Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века». В кн.: О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. Москва, «Наука», 1990, стр. 52 lvi Н.А. Бердяев. Ук. соч., стр. 66 lvii Н.И. Костомаров. Ук. соч., Второй отдел. Выпуск шестой. Санктпетербург, 1876, стр. 841 lviii Д.С. Мережковский. «Грядущий хам». В сб. ст.: Дмитрий Мережковский. Больная Россия. Избранное. Ленинград, изд-во ЛГУ, 1991, стр. 35. См. также его же: «Страшный суд над русской интеллигенцией». Там же, стр. 77 lix См. Д.С. Мережковский. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. Москва, изд-во «Правда», 1990 lx О том, что это не вымысел беллетриста, или не совсем вымысел, свидетельствуют показания историков: «Петр, как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенском» (Н.И. Костомаров. Ук. соч. Второй отдел. Выпуск четвертый. Санктпетербург, 1874, стр. 517 lxi Д.С. Лихачев. «О русской интеллигенции». Новый мир, 1993, № 2б стр. 4 lxii «Изучая его [Петра] указания, сопровождавшиеся иногда мелкими набросками, нельзя не удивляться самостоятельности его градостроительной концепции» С.-Петербурга (Там же, стр. 6). Надо ли указывать, что у Петра была масса других неплохих идей в очень разных областях. lxiii Там же lxiv То же говорит В.О. Ключевский: «он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель». (В.О. Ключевский. Ук. соч. Том IV, стр. 42) lxv Г.П. Федотов. Ук. соч., стр. 419 lxvi Г.П. Федотов. Ук. соч., стр. 421 lxvii Д.С. Лихачев. Ук. соч., стр. 6 lxviii «Родоначальником русской интеллигенции был Радищев, он предвосхитил и определил ее основные черты. Когда Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» написал слова: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала»,-- русская интеллигенция родилась» (Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века», стр. 66) lxix В этом «Наказе», беззастенчиво обобрав, по ее собственным словам, президента Монтескье, она писала в частности: «Противно христианской религии и правосудию обращать в рабство людей (которые все родятся свободными)... Свобода – душа всех вещей! Без тебя все мертво». (С.М. Соловьев. Ук. соч. Книга XIII, стр. 472) lxx Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва, «Наука», 1990, стр. 19 lxxi Как, например, В.В. Пассек, у которого в 1794 г. при обыске нашли списки произведения Радищева и его собственные вольнолюбивые стихи. О судьбе семьи Пассеков см. А.И. Герцен. «Былое и думы». Сочинения в девяти томах. Том четвертый. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1956, стр. 137 сл. lxxii А.И. Герцен. «Лишние люди и желчевики». Сочинения в девяти томах. Том седьмой. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1958, стр. 344 В.И. Сахаров. «Масонство как источник и составная часть идеологии русской интеллигенции». www.intelligent.ru lxxiii lxxiv Там же lxxv Там же Иванов-Разумник. «Что такое интеллигенция». Интеллигенция—власть--народ. Русские источники современной социальной философии (антология). Москва, 1992, стр. 76 lxxvi lxxvii Там же, стр. 74 lxxviii В.О. Ключевский. Ук. соч. Том IV., стр. 186 lxxix Там же, стр. 234 lxxx Там же, стр. 221. Заметим, что слово «дельцы» не имело тогда нынешнего пейоративного смысла. lxxxi Помимо упомянутых уже Никиты Муравьева и Павла Пестеля, непременно следует указать и на М.С. Лунина, написавшего в ссылке известные «Письма из Сибири» (см. М.С. Лунин. Письма из Сибири. Москва, изд-во «Правда», 1987) А.С. Изгоев. «Об интеллигентной молодежи». Вехи. Из глубины. Москва, изд-во «Правда», 1991, стр. 98-99 lxxxii lxxxiii Иванов-Разумник. «Что такое интеллигенция», стр. 76 lxxxiv Л.С. Лихачев. Ук. соч., стр. 6. Н.А. Бердяев утверждает нечто прямо противоположное: «Не был еще интеллигентом Пушкин, величайшее явление русской творческой гениальности первой трети века...» (Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века», стр. 63). Такое резкое расхождение по поводу вполне ясного явления, каким был Пушкин, есть верное указание на то, что Бердяев и Лихачев просто не вполне совпадающим образом определяют понятие «интеллигент». lxxxv Для полноты картины здесь все же стоит вспомнить о тридцати тысячах посмертного пушкинского долга, заплаченных Николаем I. lxxxvi См. его статью «Пушкин – наше ничто» в кн.: Борис Парамонов. След: Философия. История. Современность. Москва, изд-во Независимая газета. 2001, стр. 411-424 lxxxvii Там же, стр. 414 lxxxviii Там же, стр. 417 lxxxix Там же, стр. 416 xc Там же., стр. 418 xci Там же, стр. 419 xcii Там же, стр. 422 xciii Там же, стр. 421 xciv Там же, стр. 424 xcv У Герцена находим следующее – по обыкновению красочно-эмоциональное – описание этих процессов: «Юношеская самонадеянная мысль александровского времени смирилась, стала угрюмее и с тем вместе серьезнее... Громкие речи заменяются тихим шепотом, подземная работа идет в аудиториях, идет под носом у Николая в военных училищах, идет под благословением митрополитов в семинариях. Живая мысль облекается в схоластические одежды, чтоб ускользнуть от наушников, и надевает рабскую маску, чтоб дать знак глазами, -- и каждый намек, каждое слово прорвавшееся понято, становится силой. Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения... Мысль растет, смех Пушкина заменяется смехом Гоголя. Скептическая потерянность Лермонтова составляет лиризм этой эпохи». (А.И. Герцен. «Русские немцы и немецкие русские». Сочинения. Том седьмой, стр.273) xcvi А.И. Герцен. «Былое и думы». Сочинения. Том пятый, стр. 138 xcvii Хотя уместно напомнить, пожалуй, что советская историография считала водораздел между славянофилами и западниками выдумкой «дворянско-буржуазных историков»: «Идейную борьбу этого периода, в том числе и в области философии, дворянско-буржуазные историки рассматривали как борьбу между славянофилами и «западниками», причем в «западники» они зачисляли, наряду с представителями дворянско-буржуазного либерализма, также и революционных демократов – Белинского, Герцена, Огарева. В действительности же «западничество» Боткина, Анненкова и других, тесно связанное с их идеализмом, было одним из оттенков дворянско-буржуазного либерализма, по существу своему далекого от революционнодемократической идеологии и материалистической философии. Споры же между славянофилами и либералами-западниками носили по преимуществу кружковой характер и не представляли собой главной линии идейно-политической борьбы в ту эпоху» (История философии в шести томах. Том II. Москва, изд-во Академии наук СССР, 1957, стр. 266). Иногда полезно вспомнить, какой претенциозной чушью наполнялись толстенные тома в течение десятилетий. xcviii П. Милюков. «Славянофильство». Энциклопедический словарь. Том ХХХ. С.Петербург, изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, 1900, стр.309 xcix Там же. Справедливости ради надо сказать, что круг Станкевича был в основном западнический (см. Н.В. Станкевич. Избранное. Москва, «Советская Россия», 1982) c ci «... с какой стороны ни подходи к славянофильству, оно легко и естественно включается в проблематику романтизма, явления прежде всего не русского, а мирового». (Борис Парамонов. «Славянофильство» в его книге След: Философия. История. Современность, стр 138). Парамонов отмечает, что сходным образом славянофильство интерпретировали П.Г. Виноградов, Ф.А. Степун, М.О. Гершензон. cii А.И. Герцен. «Былое и думы». Сочинения в девяти томах. Том пятый, стр. 111. Не могу удержаться от цитирования и следующего за этим абзаца: в Европе «исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместимо с нашим характером – и слава Богу!» (там же). ciii «...во второй половине XIX века в наш язык вошло новое, придуманное социологом Михайловским понятие «интеллигенция»». (И.Б. Чубайс. «Интеллигенция как российская социокультурная проблема. Философские размышления о кризисе веры и востребованности нравственности». www.intelligent.ru) civ «Впервые термин «И.» был введен в обиход рус. писателем П. Боборыкиным (в 70-х гг. 19 в.)». (Е. Амбарцумов. «Интеллигенция». Философская энциклопедия.Т. 2. Москва, «Советская энциклопедия», 1962, стр. 285). Между тем сам «рус. писатель П. Боборыкин» свидетельствует: «слово это пущено было в печать только с 1866» (П.Д. Боборыкин. Воспоминания. Том I, стр.283), а вовсе не в семидесятых. cv И.С. Аксаков. «Отчужденность интеллигенции от народной стихии». День, 21 окт. 1861 cvi Так употреблял это слово уже Лев Толстой в романе «Война и мир», появившемся в 1868-1869 гг.: «Он [Пьер] знал, что тут [в салоне Анны Павловны Шерер] собрана вся интеллигенция Петербурга...» (Л.Н. Толстой. «Война и мир». Полное собрание сочинений. Том 9. Гос. изд-во «Художественная литература», Москва, 1937, стр. 12 cvii Между прочим, предвосхищая «образованщину» Солженицына, Н.А. Бердяев говорит, что этого рода интеллигенцию «не без основания называют «интеллигентщиной» в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова» (Н.А. Бердяев. «Философская истина и интеллигентская правда». В кн.: Вехи. Из глубины. Москва, издво «Правда», 1991, стр. 11) cviii Об этом, по сути, писал Бердяев, когда характеризовал уровень культуры Чернышевского, наиболее образованного из шестидесятников: «Чернышевский был очень ученый человек, он знал все, знал богословие, философию Гегеля, естественные науки, историю и был специалистом по политической экономии. Но тип его культуры не был особенно высоким, он был ниже типа культуры идеалистов 40-х годов, таков был результат демократизации». (Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века», стр. 137) cix Белинский, правда, был разночинцем, но его взгляды формировались под влиянием дворянского окружения (так, Гегеля ему, не знавшему немецкого, растолковывал его друг Бакунин), тогда как в шестидесятые ситуация обратная: «Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потоком разночинцев». (Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции», стр. 428) cx Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва, «Наука», 1990, стр.40 cxi См. С.А. Левицкий. Очерки по истории русской философии. Москва, Канон, 1996, стр. 112 cxii Там же, стр. 105 cxiii П.А. Кропоткин. Записки революционера. [Москва], Московский рабочий, 1988, стр. 283 cxiv Там же, стр. 284 В философии Бердяева русский нигилизм объясняется восстанием против морали во имя добра: «Русский нигилизм был нравственной рефлексией над культурой, созданной привилегированным слоем и для него лишь предназначенной. Нигилисты не были культурными скептиками, они были верующими людьми. Это было движение верующей юности. Когда нигилисты протестовали против морали, то они делали это во имя добра. Они изобличали ложь идеальных начал, но делали это во имя любви к неприкрашенной правде. Они восставали против условной лжи цивилизации» (Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века», стр. 158). Конечно, можно назвать нигилистов и «верующими людьми», только веровали они не в Христа, а в Чернышевского и Писарева. cxv cxvi С.А. Левицкий. Очерки по истории русской философии, стр. 106 cxvii Н.А. Бердяев. «Философская истина и интеллигентская правда», стр. 15. cxviii Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции», стр. 428 cxix Правда, слово это употреблялось до Тургенева и М.Н. Катковым, и Н.И. Надеждиным, но вошло в широкий обиход только после «Отцов и детей». cxx С.А. Левицкий. Очерки по истории русской философии, стр. 110 cxxi Примерно такое же определение интеллигенции дают и иные авторы (см. Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции», стр. 405 сл.) cxxii Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 17 cxxiii Н.А. Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века», стр. 69 cxxiv Большая энциклопедия под ред. С.Н. Южакова. Тринадцатый том. С.-Петербург, типография Товарищества «Просвещение», 1903, стр. 37. cxxv Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции», стр. 429-30 cxxvi Там же, стр. 430 П.А. Кропоткин. Записки революционера, стр. 247. Этот же автор отмечал что движение в народ «видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил его в общих чертах» (Ук. соч., стр. 292) cxxvii cxxviii См. История философии в шести томах. Том IV. Москва, изд-во Академии наук СССР, стр. 32. Впрочем, сам по себе лозунг «В народ!», обращенный именно к студентам, был сформулирован Герценом гораздо раньше, еще в 1861 году, когда правительство закрыло петербургский университет из-за довольно безобидных студенческих волнений: «Ну куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам, куда?... В народ! К народу! – вот ваше место, изгнанники науки». (А.И.Герцен. Сочинения в девяти томах. Том седьмой, стр. 392) Цит. по книге С.А. Левицкого Очерки по истории русской философии, стр. 189. Левицкий приводит такое свидетельство современника о влиянии «Исторических писем»: «Надо было жить в 70-е годы, в эпоху движения в народ, чтобы видеть вокруг себя и чувствовать на самом себе удивительное влияние, произведенное «Историческими письмами». Многие из нас, юноши в то время, другие – просто мальчики, не расставались с небольшой истрепанной, зачитанной, истертой вконец книжкой. Она лежала у нас под изголовьем. И на нее падали при чтении ночью наши горячие слезы идейного энтузиазма, охватившего нас безмерной жаждой жить для благородных идей и умереть за них» (Ук. соч., стр. 190). cxxix cxxx Там же, стр. 189. П.Н. Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы. Том 3. Москва, 1933, стр. 224 cxxxi cxxxii Возможно, причиной тому была книга И.И. Каблица (Юзова) «Основы народничества» (1882), проникнутая духом народопоклонства и направленная против притязаний интеллигенции «мудрить над народом». cxxxiii С.А. Левицкий, Очерки по истории русской философии, стр. 197 cxxxiv История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. 7 том. ОГИЗ, Москва, 1939, стр. 390 cxxxv Там же, стр. 391 Чарльз Рууд, Сергей Степанов. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. Москва, «Мысль», 1993, стр. 68 cxxxvi cxxxvii История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. 7 том, стр. 391-392. Такие же цифры называет Кропоткин: «То было великое подвижническое движение, в котором по меньшей мере принимало активное участи от двух до трех тысяч человек, причем вдвое или втрое больше этого сочувствовало и всячески помогало боевому авангарду» (Записки революционера, стр. 304) cxxxviii См. Н.А. Троицкий. Царские суды против революционной России. Саратов, 1976, стр. 158-159 cxxxix И.С. Тургенев. «Новь». Сочинения. Том двенадцатый. Изд-во «Наука», 1966, стр. 113 cxl П.А. Кропоткин. Записки революционера, стр. 302 Там же, стр. 292-293. по этому поводу так и хочется сказать: Дорогой князь, то ли еще будет в стране победившей социалистической революции. cxli cxlii Чарльз Рууд, Сергей Степанов. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях, стр. 70 «Наши старшие братья не признавали наших социалистических убеждений, а мы не могли поступиться ими... Все молодое поколение огулом признавалось «неблагонадежным», и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним» (П.А. Кропоткин. Записки революционера, стр. 293) cxliii Об этом свидетельствует Степняк в таком, например, пассаже: «У них завязался оживленный спор, но без раздражения и запальчивости: принципиальные разногласия между «террористами» и «народниками» еще не приняли тогда острого характера. Правда, между ними происходили иногда перепалки, но вообще обе партии пока работали мирно, рука об руку, часто в одних и тех же кружках» (С. Степняк-Кравчинский. Андрей Кожухов. Домик на Волге. Москва, издво «Правда», 1983, стр. 132) cxliv cxlv Чарльз Рууд, Сергей Степанов. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях, стр.75 Там же, стр. 78. Степняк-Кравчинский использует эту деталь в своем полуавтобиографическом романе «Андрей Кожухов», в котором герой в период подготовки цареубийства находится в состоянии тяжелой депрессии – до него вдруг доходит, что убить придется хоть и царя, но живого же человека! – и потому не делает самоочевидных вещей вроде пристрелки нового оружия. cxlvi cxlvii История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. 7 том, стр. 401 cxlviii Чарльз Рууд, Сергей Степанов. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях, стр. 83 cxlix История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. 7 том, стр. 400 cl А.С. Изгоев. «Об интеллигентной молодежи», стр. 115 cli Там же, стр. 117 clii Там же, стр. 114. cliii Там же, стр. 120 Да уж конечно героем – ведь про него сам Блок писал. Впрочем, у Блока есть о нем характерные строчки: «Красавец вместе и урод -- // Тревожный передернут рот // Меланхолической гримасой» (А. Блок. «Возмездие». Сочинения в двух томах. Том 1. Москва, «Художественная литература», 1955, стр. 492 cliv clv Г.П. Федотов. «Трагедия интеллигенции», стр. 433 clvi Там же. clvii Там же, стр. 434 clviii С.А. Левицкий, Очерки по истории русской философии, стр. 133 clix Там же. См. С.Г. Пушкарев. Россия 1801-1917. Власть и общество. Москва, «Посев», 2001. – Для лиц, не слишком искушенных в нашей истории, можно пояснить, что классическое образование (зубрежка греческих и латинских склонений и спряжений) было средством занять время воспитанников таким образом, чтобы у них не оставалось досуга на изучение чего-то полезного и способствующего развитию вольнодумства. Земские же начальники, назначавшиеся из дворян, были инструментом, эффективно парализуюшим всякую самодеятельность земства. clx clxi Там же, стр. 300. clxii Письма Г.З. Елисеева к М.Е. Салтыкову-Щедрину. Москва, 1935, стр. 94-95 clxiii См. «Еретик» № 6. http://www.eretik.fatal.ru/eretik_6_9.htm clxiv См. П.В. Большаков. «П.П.П.» Журналист. 2004, октябрь, стр 87 сл. clxv См. С.Г. Пушкарев. Россия 1801-1917. Власть и общество, стр. 316-317 clxvi Там же, стр. 317 clxvii История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. 7 том, стр. 422 clxviii Там же clxix И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Москва, «Согласие», 2000, стр. 232-233 Впрочем, если хорошо покопаться, очень даже можно разыскать эту же самую фразу и в «литературе безвременья» -- точно так же, как «гласность» и «перестройка» фигурировали в текстах эпохи великих реформ 19 в.; не Горбачев же их придумал. clxx clxxi С.А. Левицкий, Очерки по истории русской философии, стр. 170 clxxii Е.Д. Мелешко. Толстовские зеледельческие коммуны. http://ethics.iph.ras.ru/works/N/6.html И.А. Бунин. «Освобождение Толстого». В кн.: И.А. Бунин. Гегель, фрак, метель. СанктПетербург, 2003, стр. 62. Еще картинки из «толстовской» жизни: «Мы... пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу с «попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души» (Там же, стр. 65). clxxiii clxxiv И.А. Ильин. «О сопротивлении злу». Новый мир, 1991, № 10, стр. 206 clxxv М.Горький. «Лев Толстой». О литературе. Москва, Советский писатель, 1953, стр. 197 clxxvi Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 71 Не могу удержаться от цитирования типичного пассажа из Эртеля: «Все разговоры совершались на одну тему. Все прогнило. Нет ни совести, ни чести. Мужик одичал и спился. Администрация достигла степени невменяемости. Дворянство утратило всякое чувство нравственного долга. Купечество развратилось и насквозь проникается противообщественными вожделениями. Идеалы меркнут. Финансы гадки. Долги растут. Кредит падает. Земли расхищаются. Дифтерит губит девять десятых крестьянских детей. Церковь бездействует. Пожары, голод и кабак свирепствуют по всему пространству Великой и Малой и Белой России... Гимназии плодят идиотов. Университеты порабощены. Интеллигенция отсутствует. Печать в оковах. Ужасный призрак «отделения» витает над умами. Честная мысль цепенеет» (А.И.Эртель. Записки Степняка. Москва, издательство «Правда», 1989, стр. 250-260). Написано в 1881 году. Видно, это и вправду сказано о России: Plus ça change, plus c'est la même chose. clxxvii Вот полная запись из розановской «Сахарны»: «Как хорошо, что эта Дункан своими бедрами послала к черту всех этих Чернышевских и Добролюбовых. Раньше, впрочем, послали их clxxviii туда же Брюсов и Белый (Андрей Белый). «О, закрой свои бледные ноги.» Это было великолепно. Поползли на четвереньках, а потом вверх ногами. И тщетно вопияли Лесевичи и Михайловские: «Где наш позитивизм? Где наш позитивизм!!!» Позитивизм и мог быть разрушен через «вверх ногами». «На эмалевой стене // Там есть свет чудных латаний». (Тут В.В. несколько перевирает Брюсова. Надо: «И трепещет тень латаний // На эмалевой стене». – С.Р.) Дивно. Сам Бог послал. Ничего другого и не надо было. Только этим «кувырканьем» и можно было прогнать «дурной сон» литературы.» (В.В. Розанов. Сахарна. Москва, изд-во «Республика», 2001, стр. 19.) Как и во многом другом, Розанов был здесь сугубо неправ – «дурным сном» оказались в конце концов те, которые «вверх ногами», а не Чернышевский с Добролюбовым. Вопросы к тексту “Апология русской интеллигенции» 1. Затрагивают ли разговоры о «смерти интеллигенции» Вас лично? 2. Каковы, по Вашему мнению, причины возникновения самого вопроса о существовании/несуществовании интеллигенции? 3. Что Вы думаете о фигуре интеллигента в массовой культуре (ТВ сериалы и пр.)? 4. Какой термин предпочтителен для обозначения интеллигенции (в предположении, что она все же продолжает существовать): «прослойка», «социальная группа», «антропологический тип», «субкультура», «социальный институт», «монашеский орден»? Иные? 5. Принимаете ли Вы основной «догмат интеллигентской веры» о примате духа над материей, и какой смысл Вы вкладываете в этот тезис? 6. Насколько справедлив тезис о дистанцировании интеллигенции от народа в постперестроечное время? 7. Каковы, по Вашему мнению, атрибуты – наиболее характерные признаки – «истинного интеллигента»? 8. Насколько значим фактор преемственности для становления интеллигента – семейные и внесемейные контакты, особенно с представителями дореволюционной интеллигенции? 9. Что Вы думаете об определении российской интеллигенции Б. Парамоновым как «ницшеанской касты жрецов»? 10. Ваше мнение об отношении интеллигенции к власти – какова наиболее естественная позиция интеллигенции в этом отношении? Что Вы думаете в этой связи о фигурах типа Глеба Павловского? 11. Есть ли смысл в различении понятий «интеллигент» и «интеллектуал»? Что Вы думаете о мнениях Александра Дугина по этому поводу? 12. Насколько важен эпитет «российская» в определении интеллигенции? 13. Согласны ли Вы с утверждением проф. Кнабе, что российская интеллигенция конца 20-го – начала 21-го века не выдержала «испытания долларом, утратой самоидентификации, обесценением научной истины»? 14. Каковы Ваши соображения относительно ситуации «двойного сознания» -- в советское время и сейчас?