Николай Брдяев об этосе отечественной духовной культуры
advertisement
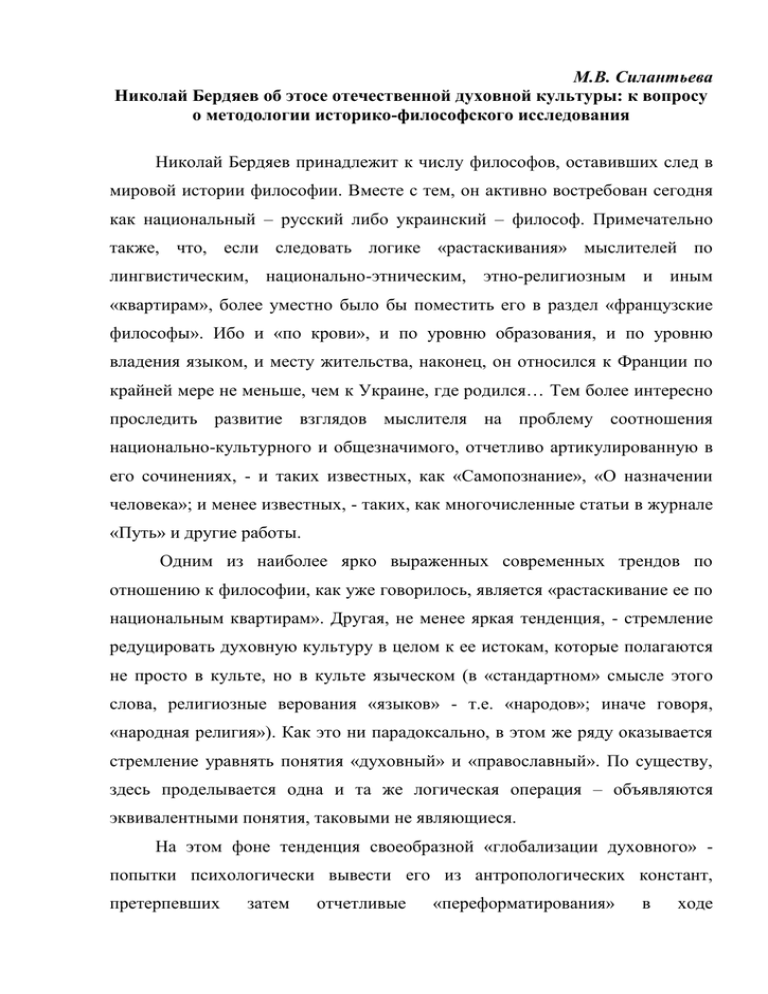
М.В. Силантьева Николай Бердяев об этосе отечественной духовной культуры: к вопросу о методологии историко-философского исследования Николай Бердяев принадлежит к числу философов, оставивших след в мировой истории философии. Вместе с тем, он активно востребован сегодня как национальный – русский либо украинский – философ. Примечательно также, что, если следовать логике «растаскивания» мыслителей по лингвистическим, национально-этническим, этно-религиозным и иным «квартирам», более уместно было бы поместить его в раздел «французские философы». Ибо и «по крови», и по уровню образования, и по уровню владения языком, и месту жительства, наконец, он относился к Франции по крайней мере не меньше, чем к Украине, где родился… Тем более интересно проследить развитие взглядов мыслителя на проблему соотношения национально-культурного и общезначимого, отчетливо артикулированную в его сочинениях, - и таких известных, как «Самопознание», «О назначении человека»; и менее известных, - таких, как многочисленные статьи в журнале «Путь» и другие работы. Одним из наиболее ярко выраженных современных трендов по отношению к философии, как уже говорилось, является «растаскивание ее по национальным квартирам». Другая, не менее яркая тенденция, - стремление редуцировать духовную культуру в целом к ее истокам, которые полагаются не просто в культе, но в культе языческом (в «стандартном» смысле этого слова, религиозные верования «языков» - т.е. «народов»; иначе говоря, «народная религия»). Как это ни парадоксально, в этом же ряду оказывается стремление уравнять понятия «духовный» и «православный». По существу, здесь проделывается одна и та же логическая операция – объявляются эквивалентными понятия, таковыми не являющиеся. На этом фоне тенденция своеобразной «глобализации духовного» попытки психологически вывести его из антропологических констант, претерпевших затем отчетливые «переформатирования» в ходе исторического процесса в каждом из регионов – социокультурных «локусов», прочитываемых сегодня в том или ином «национально-культурном» варианте, - выглядит едва ли не наиболее рациональной попыткой понимания этих сложных и неоднозначных процессов. Здесь уместно подчеркнуть неоднозначность приведения к единому знаменателю интеллектуальной деятельности и «духовно-культурных» процессов. Не важно – имеются ли в виду упомянутые выше антропологические константы, когнитивный подход; морализаторство или социологизаторство. Редукционизм, «заклейменный» еще во времена Гегеля и Маркса, конечно, может «помочь» прочитать «биографию» исследуемого явления в историко-эволюционном ключе. Однако необходимо ограничивать увлеченность этим подходом именно в силу его изначальной предвзятости по отношению к специфике существующего отдельного явления, не растворенного в «общем». С другой стороны, утверждать «абсолютное различие» разума и духа, «Афин» и «Иерусалима», можно лишь с очень серьезными оговорками, - например, такими, как одноименное произведение Л. Шестова. Н. Бердяев решает данную проблему, как известно, указывая прежде всего на методологическое различие подходов философии и религии, а вовсе не на разницу их «предметов». Таким образом, вопрос об «этосе» – доме и нраве - отечественной духовной культуры ставит вопрос о границах (определении) «духовного», «культуры», «философии» и «Отечества». «В «общем»», как таковых, - и «в частности», в конкретном, «привязанном к месту» - «локальном» - варианте. По сути, подход к решению этих вопросов определяет методологию историко-философского исследования, «вписывая» его в рамки поиска цели и смысла человеческой жизни, - как общего дома, в котором каждый обживается и приживается по-своему. Насколько важна здесь историческая точность в исследовании понятийного аппарата, соответствующего конкретному локусу присутствия смысла; а также соответствующего ему «жизненного мира» - социокультурного контекста, - настолько же, очевидно, важна философская «строгость», связанная с «проблематизацией» тех или иных «вечных» философских тем, актуализацией «вечных» философских вопросов здесь и сейчас. Ведь такие вопросы никогда не существует независимо от своего времени, и крайне редко бывает терминологически синхронизированы с тем временем, к которому, собственно, адресуется историко-философский интерес исследователя. Поэтому вопрос о сути историко-философского метода в современном его истолковании может быть поставлен таким образом: на что мы можем рассчитывать, обращая свой философский интерес к другим эпохам, - и на что мы рассчитывать не можем? Другими словами, насколько историчность «философского дома» способна не ветшать – и одновременно оставаться действительной, а не иллюзорной попыткой обращения к истине? Обращение к философским взглядам Н.А. Бердяева в данном контексте уместно потому, что он достаточно подробно прорабатывал поставленные вопросы. В том числе, применительно к их общему смыслу и специфике понимания в русской культуре. Начнем с понятия «духовное». Это слово – одно из самых любимых философом, особенно – в ранних его работах, таких, как «Философия свободы» и «Смысл творчества». Стоит обратить внимание на тот факт, что Николай Александрович, разделявший увлечение эпохи марксизмом и фронду по отношению к официальной церковности, поначалу черпал вдохновение из «альтернативных» источников, - например, из пронизанных гностическими идеями сочинений Я. Бёме и Р. Штайнера; предельно уважительно (хотя интеллектуально непримиримо) относится он к личности и сочинениям Е.П. Блаватской. Соответственно, многие подходы, сформулированные в ранних работах Бердяева, несут на себе печать прямой и косвенной («в режиме отталкивания») зависимости от сочинений этих авторов. Лишь позднее они переосмысливаются настолько, что можно говорить уже не об их интерпретации, а о своеобразном «встраивании» во внутреннюю дискуссию, развиваемую Бердяевым на основании принципов экзистенциальной диалектики (термин, которым он обозначил этот процесс в последней своей работе). Так, прямую зависимость от гностических идей демонстрирует едва ли не самое цитируемое высказывание Бердяева о том, что главный вопрос философии – «кто мы, откуда пришли и куда идем?». То есть - вопрос об этосе философии, ее «доме», «характере» и «цели». В качестве ответа Бердяев «раннего» периода обычно приводит известное клише (хотя и в довольно необычной и даже провокативной формулировке): современная философия представляет собой попытку «антропологического оправдания» - «антроподицеи». Это значит, что, если в былые времена ставился вопрос о теодицее как стремление понять смысл зла, его роль в истории, - то сегодня, в период торжества антропоцентризма, встала тем не менее задача «человекооправдания». С одной стороны, рассуждает Бердяев, сам факт появления подобного подхода – свидетельство кризиса культуры в ее «гуманистическом» (то есть «зацикленном на человеке») прочтении. С другой – в рамках этого кризиса только и можно заметить действительные проблемы, «болевые точки», без внимания к которым говорить о человеке как человеке бессмысленно. Парадоксальным образом (а выделение парадоксальности - кредо Бердяева) человек остается человеком только при том условии, что он способен давать отчет о своей несостоятельности, ограниченности, - своей «экзистенциальной ситуации», в которую он ввергнут едва ли не помимо своей воли (он себя в ней всегда обнаруживает, - без ощущения того, что предварительно он же ее и конструирует); и за которую по неясной причине считает себя тотально ответственным. Антропологизация современного видения философских проблем, таким образом, - важнейшая черта, определяющая подход философа к философии вообще и ее отечественного «этоса» в частности. На этом уровне (т.е. на уровне «глубинных вопрошаний») разницы между «национальными школами», по мнению мыслителя, нет. Другая, не менее провокативная мысль Бердяева состоит в том, что «дом» философии – вовсе не «сердце человека» и тем более не контора по выработке стратегических моделей ценностного, политкорректного и проч. поведения; не наука; не фабрика целеполагания (социальная инженерия) или смыслосозидания обоснованной (поэзия). видится Напротив, звучит мысль для об философа абсолютно недостаточно «независимом» производстве смыслов в рамках культуры как символической деятельности: культура – это путь возвращения к Богу, Который открывается человеку именно как Смысл. Религиозная терминология здесь оправдана: религия – «жизненный источник» философии, если она хочет иметь дело не с описанием, «картинкой», - но с самим бытием. В этом случае дело философии – не выработка «конструкций» и не «отжим» неких схем; не «заглядывание» в зеркало (там в лучшем случае – «мутное стекло», а в худшем – собственная обезьянья морда) а свободное отношение со свободным смыслом. Свобода, таким образом, - еще одна черта «этоса» философии. Важно отметить, что для Бердяева свобода предстает не в негативной своей формулировке «свободы от», которая приравнивается им к произволу и по сути отождествляется с «пленом у мира» (именно поэтому свобода не тождественна независимости). Свобода в полном смысле – это «свобода для», то есть творчество. Причем творчество не столько в художественном его исполнении, сколько «в исполнении» этическом. Остановимся на рассмотрении данной мысли подробнее. Тем более, что, несмотря на неоднократное подчеркивание ее значимости самим философом, а также плодотворное обращение современных исследований к проблеме противопоставления этического и эстетического в трудах Бердяева, выяснение значения данной идеи в целостном философском смысле (несомненно важном в плане определения этоса философии) все еще ждет своего последовательного и системного изучения. Что значит творчество в этическом аспекте? Почему данный аспект, согласно Бердяеву, может (и должен) быть противопоставлен эстетическому рассмотрению «создания нового, ранее не бывшего» (а именно таким образом, как известно, определяют свободу и творчество философы, чьи взгляды генетически связаны с «новым антропологическим поворотом» эпохи Возрождения)? Обратившись к «классическому» для Бердяева сочинению «О назначении человека» (с характерным подзаголовком: «Опыт парадоксальной этики»), можно обнаружить как минимум два возможных «ответа» на поставленный вопрос. Первый из них касается рассмотрения художественного творчества (и уже – искусства) в качестве своеобразной лаборатории, синтезирующей и анализирующей «чистые формы» смысловых связей на уровне их экзистенциальной реальности. Художественное творчество здесь почти приравнивается к постмодернистским его трактовкам, определяющим деятельность художника как «бриколаж» свободную игру «перебирающего возможные варианты» ребенка или сумасшедшего. Именно такая трактовка творчества в его «эстетическом» измерении позволяет (опять же, с точки зрения философской парадоксальности) понять связь искусства с ремеслом, дизайном и инженерной мыслью; а также выяснить влияние открытий в области «возможных сочетаний» (форм, воспринимаемых чувственно!) на способность человека мыслить – то есть находиться как раз «вне» чувственно воспринимаемого. Можно сказать, что речь идет о раскрытии способности «выхода за свои границы», перехода грани эмпирического «я» исходя из возможностей самого этого «я». И - его радостной готовности к такому самопреодолению, «как бы игре». Данная мысль, кстати, хорошо иллюстрирует связь кантианства в его классической интерпретации с поисками русской философии, а также теми теориями «игры–свободы», которые формулирует постмодернизм второй половины 20 века. К слову, рафинированность, выраженная в поиске «чистых форм», по Бердяеву никоим образом «не порочна» сама по себе. Ее задача – выявить и описать важнейшие особенности присутствия смысла в мире. Такие, например, как его одновременно логическая и личная связь с языком; зависимость от «жизненного мира» (Э. Гуссерль); пространственновременная дислокация (современный термин «хронотоп»); «обреченность» (К. Маркс) на материализацию в той или иной форме и т.д. Этика в этом случае становится как бы необязательной «прибавкой», которую мыслитель навязывает в качестве социально-значимого оценочного суждения существованию самому по себе, как оно есть. Именно эту ситуацию зафиксировал описал в свое время английский эмпиризм 18 века, «разведя» понятия этического и эстетического. Открытие независимости эстетического от этического, как известно, позволило английским эстетикам указанного периода рассмотреть категорию «красоты» в значении, близком к современному. А именно, красота понимается здесь в духе «эстетизма» как самодостаточное присутствие любого существования – просто потому, что оно есть, существует; потому, что оно присутствует. Кстати, дальнейшая дивергенция этики и эстетики, как известно, привела к тому, что современная эстетика работает под знаком семиозиса, построенного как способность впечатлять. Соответственно, амбивалентность впечатления требует апелляции к крайностям восприятия; и на первое место в эстетике 20 – начала 21 вв. не случайно выходят скорее ужасное и отвратительное, чем прекрасное и желанное. «Печальное очарование вещей», войдя в западную эстетику через ее развитие в рамках современного искусства в большей степени, через ориенталистские симпатии 19-начала 20 вв., стало мерилом художественного содержания более, чем отношение произведения к недостижимому идеалу совершенства и гармонии – калокагатии в ее платоновском понимании в качестве единства Истины, Добра и Красоты. Соответственно, «мутные лики» современного Бердяеву искусства появились не случайно. Это – результат движения эстетических поисков, уводящих художественно одаренную личность «в глубину материального»1, которое само по себе лишено смысла и «туманно». Чувственность, предоставленная логике своего собственного развития, приводит к «теням на стене пещеры»; целостные образы распадаются; остаются лишь неопределенные, бесформенные и неясные знаки. Если предоставить чувственности и дальше реализовывать собственный, «независимый» сценарий развития, то она скорее всего перейдет к активации способности сознания самостоятельно продуцировать фантазийные образы, группируя аморфную ткань обрывочных впечатлений в причудливые конфигурации «по смежности», «альтернативности» и т.д. Однако такой произвол чувственности не позволяет ей решить задачу, ради которой затевалось предприятие эстетического дерзания – поиск истины в чувственной форме. Разрыв с истиной, таким образом, эстетически значимой деятельности все еще противопоказан… и это парадоксальным образом возвращает эстетику к этике. Рассмотрение специфики этического в его отличии от эстетикохудожественной сферы позволяет понять точки оправданного «стыка» этики и эстетики. Для русского философа, принадлежащего к редкому «философскому виду» - религиозной философии, очевидно, что само «рождение» этики как «ответа» человека на дихотомию добра и зла – результат онтологической и экзистенциальной катастрофы, наиболее полно описанной в подчеркивает библейском философ, рассказе о катастрофой грехопадении2. явилось само Причем, как различение, онтологизировавшее зло, давшее ему «статус присутствия». Этот акт явился результатом «превышения полномочий» со стороны человека по отношению к Богу как абсолютному совершенству, «больше» которого ничего быть не может. Человек «использовал во зло» свободу, «подаренную» Богом, из желания превосходства, – «станете, как Боги». Логически невозможная Ср.: Бердяев Н.А. Кризис искусства / Кризис искусства. (Репринтное издание).— М.: СП Интерпринт, 1990.— 48 с. – С.8-9. 2 Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. 383. С.47-54. 1 ситуация, однако, получила фиктивную реализацию: «превосходство» вылилось в разрыв прямых, «незамутненных», отношений с Творцом. «Мутное зеркало» познания стало призмой своеобразного «пути мнения», без которой «путь Истины» не достижим. «Правильное мнение» при этом и будет основой возможных отношений с Истиной – они, с точки зрения Бердяева (как, между прочим, и с точки зрения Парменида), возможны исключительно как личные, персональные, а не заочно-абстрактные. Напрашивается сравнение с высказыванием Сократа, описавшего истинное знание как «правильное мнение с объяснением (логосом)». Т.В. Васильева, комментируя соответствующий фрагмент своего перевода (перевода «гроссмейстерского», как выражаются специалисты сегодня) диалога Платона «Теэтет», сетовала на то, что в свое время не оставила «логос» без перевода: слово – это и есть слово3. Только в истории, рассказанной в сочинении Парменида, это слово принадлежит богине Дикэ, а не философу. Зато философ обладает умением слушать, наработанном в процессе активного «набора знаний» на «пути мнения». Знаний, с точки зрения отношений с Истиной довольно бесполезных, но зато дисциплинирующих ум и готовящих его к тому, чтобы услышать Слово… Парменид, как известно, строжайше запрещает считать «небытие существующим». Необъяснимый ужас, охватывающий древнего автора перед небытием, - возможно, полагает Бердяев, один из отголосков упомянутой выше онтолого-экзистенциальной катастрофы, описанных в религии как «грехопадение»: человек, получая дар свободы, обладает способностью делать фикцию «действенной», придавая ей статус «как бы бытия». Хорошо известная ситуация, многократно описанная в религиозной философии, как и в историко-философских комментариях к ней, создала, по Бердяеву, «парадокс свободы» современного человека. Он не утратил свободу до конца, она «онтологически «при нем»»; однако «пущена в оборот» на заранее Васильева Т.В. Беседа о логосе в платоновском «Тэетете» (201c-210d) Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979. – 320 с. - С.278-300. 3 обреченное дело производства фикций, придания «онтологического статуса» небытию, которое, вообще-то, такого статуса «по определению» не имеет. Таким образом, «введенное в жизнь» с помощью обмана и нарушения запрета, небытие пробирается в структуру антропологического присутствия в мире, а через него – начинает пронизывать собой «все поры мира». С позиций религиозной философии это и есть «конституирование зла», противостоящего не исходному состоянию благой целостности, а добру – новому, не исцеленному, полюсу раздвоенного существования. «Порченое» состояние, однако, такая же фикция, как и зло, захватившее (через человека) власть в мире природы. Бердяев полагает, что по-настоящему никакого «раздвоения» не существует. Этика – это и есть путь, ведущий через различение к восстановлению «испорченной» целостности и единства; от «объективации» - к ее преодолению. Причем к преодолению не номинальному, а действительному и действенному. Хотя, разумеется, такое действие сначала должно произойти в уме, иначе оно останется лишь «психосоматической моторикой», не имеющей, по Бердяеву, морального смысла. Итак, своеобразие этического по отношению к эстетическому во втором смысле определяется онтологической «производностью» этического. И вместе с тем, именно этическое является тем путем, которым возможно творчески – то есть начиная «с нуля», «из ничего», - преодолеть онтологический разрыв с подлинной свободой, с Богом в его абсолютнотворческом «измерении». Приведенное рассуждение подводит к выяснению еще одной черты философского «этоса» - его связи с этикой. Часто приходится слышать о принципиальном различии «западной философии» и «русской философии» по критерию, основанному на способности абстрагироваться от этических проблем как проблем не философских в полном смысле; проблем, стремящихся «утилизировать» высокое рациональное знание, приспособить его к решению преходящих временных задач, больше зависимых от социально-политического контекста, чем от ориентации на смысл. Однако по существу подобная критика сводит «западную философию» к некоторым ее новоевропейским формам (в лучшем случае). А в «худшем» - и вовсе к выхолощенным формам европейского неопозитивизма, искавшего «логикоматематический фундамент» философского мышления в качестве ее «тотального инварианта», - где при известной направленности ума и вовсе «за деревьями не видно леса». Однако в «свободное от этики» (а заодно и от религии – не в смысле идеологии, индоктринирующей некие сведения, – а в смысле опыта «выхода к самим вещам») философствование не попадают, например, Сократ, Платон и Аристотель (не говоря уже об Эпикуре и Сенеке). Правда, необходимо признать, что их суждения так же далеки от нормативной этики нынешних социологов морали, как сама философия далека от «руководства по эксплуатации человека», созданного на базе тех или иных этических кодексов. Если следовать логике античного «антропологического поворота» в истории философии, приходится признать: философствование как таковое (а не только «русский» его формат) насквозь этично, социально и политично. И главный по мнению Сократа (главный для выяснения сущности, смысла, идеи) вопрос «о добродетели» - не натяжка, не поза и не «позиция». Это - действительная цель философствования как сверхпрагматики, поставившей для себя вопрос о границах разума вовсе не для того, чтобы упиваться дремучим невежеством или смеяться над низким интеллектуальным уровнем собеседника. (Интересно, что две последние трактовки поведения Сократа современные студенты все чаще предлагают считать лейтмотивом его поступков…) Что и говорить – зависимость ума человека от Слова, его готовность услышать такое слово, вобрать его в себя и при этом понимать, что здесь невозможно отношение «присвоения» и «обладания», - не являются открытиями Бердяева. Однако он сумел «активировать» это особое знание в сознании своих современников. По сути, «работа» философа здесь раскрывается как готовность, говоря словами М. Маклюэна, к отправлению «мэсседжа» и решимости «принять» ответ. Именно в «дерзкой попытке» диалога с древними и новыми умами Бердяев видит специфику философии. Подведя предварительный итог, можно констатировать довольно неутешительную ситуацию: специфичность «этоса» отечественной философии в процессе выяснения специфики философского знания – как его понимает Н.А. Бердяев - не обнаруживается. Философия – это философия, «любовь к истине», в каком бы доме она ни жила и на каком языке ни говорила. Свойственные Бердяеву констатации принадлежности русской мысли к мировой и европейской традиции – казалось бы, лишнее подтверждение этой мысли. Однако, как это ни парадоксально, сказанное не значит, что понятие «отечественная философия» лишено смысла. Во-первых, философ думает и понимает на том или ином языке, и этот язык должен иметь определенный фундамент «смысловых наработок». Во-вторых, «время и место» порождают специфику постановки «вечных вопросов», - зависимую (и в этом Бердяев солидарен с Э. Гуссерлем) от «жизненного мира» культуры. Специфика «отечественной философской мысли», таким образом, определяется «языком» (в самом широком смысле – от естественного разговорного языка от знания множественных специализированных понятийнотерминологических контекстов отдельных сфер культуры). Сама же философия при этом связана не столько с «овладением контекстами», сколько со следующим из этого умением слушать. Умение слушать, однако, «не привязано» намертво ни к одному из естественных языков. Это – «навык» сверх-лингвистический, связанный с признанием реальности смысла и готовностью к встрече с ним. Итак, применительно к этосу любой «национальной философии» сказанное может означать, что ее путь связан с тем, как понимали СловоИстину люди этой нации – «мистического организма»4, объединенного Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 624 с. – С.99-117. 4 интегралом этой крови, этой истории, этого этического и правового формата, этой территории и этого климата, - взятых вместе. Подобная «привязка» отношений со смыслом к «национальному организму» - историческая, временная. Но ведь другой и не может быть! Этическое измерение в его конкретном национально-культурном варианте также оказывается «плотью» существования философии «здесь и сейчас». Однако «душа» этического измерения философии не тождественна некоему «своду» правил поведения, закрепленных исторически конкретным религиозным или социальным образом. Не есть она и нормативность в прямом понимании слова «норма». Парадоксальным образом тот, кто норму нарушает, тоже «знает» ее. Хотя его действия и подлежат отрицательной этической оценке, он все-таки остается в поле действия этического. Вне этического поля остается, возможно, редкий (и спорный) случай «морального идиотизма» у людей, чья ориентация в мире принципиально не выходит за пределы опоры на «растительную» и «животную» души, как их понимали древние. Соответственно, питание и размножение (функции растительной души), а также любая активность, включая «высшую» - социальную и политическую, - могут оставаться под «юрисдикцией» природы, а не свободы. В «зону действия» свободы (то есть этического измерения) они попадут лишь тогда, когда окажутся в сфере интегрирующего действия «разумной», собственно человеческой, души. Не случайно Аристотель полагал, что об этических (т.е. поведенческих) добродетелях можно говорить лишь на фоне дианоэтических, т.е. «добродетелей разума». К последним великий грек, как известно, относил рассудительность и мудрость (способность усматривать смысл происходящего, его сущность и цель). Правда, «разбужена» разумная душа, «сердце», далеко не у всех. Однако это не означает, что нравственность – удел немногих; а «моральный идиотизм» право каждого. Скорее можно считать, что последний – следствие «черной дыры эгоцентризма» как окончательного отказа от свободы (что отнюдь не совпадает с полной и безоговорочной неспособностью ее различить). Следовательно, речь идет не об отсутствии разума-сердца (опять же, не совпадающего с интеллектуальной изощренностью), а о его ожесточении и омертвении. Утверждение Аристотеля «человек есть политическое существо» в данном контексте приобретает вполне очевидное звучание: человек, реализующий свою свободу в коммуникативно-организационном пространстве полиса (своеобразного общественного «космоса), отвечает за свои поступки и за то, как он живет. Эту ответственность нельзя ни на кого переложить. И вместе с тем, она не переносится автоматически на любую деятельность в рамках политического пространства. К примеру, можно грабить соотечественников под вывеской выполнения определенных общественных обязанностей, - но подобное поведение, носящее явные признаки «негативного вхождения в этическое пространство», при злостном нежелании отказаться от него, нельзя считать разумно-человеческим. Это – поведение животное, - способное (если оно принимает массовый характер) стать основой социальной катастрофы и перехода социума на более «жесткие» (чем этические) «вне-этические» регулятивы по типу инстинкта и «борьбы за существование». Состояние «социальной аномии» (а проще говоря, организационно-управленческого хаоса и «беспредела») – крайнее выражение подобного перехода на «животную» модель регуляции общественных процессов. Зная не понаслышке особенности проявления социальной аномии в условиях русской революции, Бердяев не случайно назвал в числе ее «агентов» злых «духов», разрушивших, прежде всего, интеллектуальную добросовестность как важнейшее проявление этической порядочности. Поэтому с точки зрения прояснения «этоса» философии обращение к анализу происходящего в сфере реальной нравственности, религии и политики не является «снижением планки». Оно – раскрытие человеком своего действительного отношения к истине: то, как ты живешь, показывает, что ты думаешь. Итак, философия не сводима к «духовному», «социальному», «культурному» (как и к «религиозному»); но она не существует вне этих вопросов. Здесь «привязка» к анализу конкретных исторических реалий - не менее «родное» «домашнее» занятие, чем поиск сущности как таковой. Обращение к прочтению историко-философского материала исходя из «запросов» действительности позволило Бердяеву сделать ряд выводов, доказавших свою состоятельность в ходе культурного движения последних семидесяти с лишним лет. В частности, движение от этико-правового состояния к состоянию социального хаоса, по Бердяеву, носит циклический характер и является производным от тех «отношений со смыслом», речь о которых шла ранее. И в самом деле, трудно не согласиться с русским философом в его оценке грядущего «нового средневековья» как эпохи торжества иррационального, «ночного» начала веры в культуре, неизбежно приходящего время от времени на смену «ясному дню рационализма»5. Особенно показательна здесь судьба России, где «новое средневековье» на наших глазах становится исторической реальностью, - чего еще нельзя было однозначно утверждать во времена Бердяева. Именно поэтому анализ концепции «нового средневековья» в том виде, в каком она была разработана Николаем Бердяевым, представляет собой дело, весьма интересное с точки зрения «самоопределения» философии. Ведь помимо сугубо религиозного и политологического контекста, данная теоретическая модель социально-антропологического развития предполагает раскрытие мощного пласта философского видения темы. Что, в свою очередь, дает пищу и для уточнения «этоса» отечественной философии. Религиозная жизнь, как уже отмечалось, - тоже в «этосе» философии. Однако, по Бердяеву, религиозная философия отличается от богословия; и прежде всего, по методу: «богословие из авторитета исходит, а философия к нему приходит». Исходит же философия «из свободы». Нарушение этого принципа – идеологизация философского знания, его Бердяев Н.А. Новое средневековье / Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С.417-418. 5 «индоктринация» говоря современным языком, - выводит его и поля притяжения истины. Может ли надеяться на продолжение существования культура, основанная на «зачистке» своего самосознания (а именно так – как «самосознание эпохи» - характеризует Бердяев философию в своей работе «Самопознание»)? Изучение специфики отечественного «этоса» философии помогает понять, помимо прочего, и судьбу философии в новую эпоху. Согласно Бердяеву, «новое средневековье» - ближайшее будущее человечества. В таком подходе сквозит влияние философско-визионерских идей Вл. Соловьева («Три разговора») и профетических размышлений Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы», «Идиот», «Подросток» и т.д.). Действительно, представители русской философской мысли – как правило, «обремененные» особым отношением к литературному слову в его эстетическом6 и общественном звучании, - в своих сочинениях достаточно часто обращаются к футурологическим прогнозам. Упомянутые авторы интересны в этом ключе не только тем, что их творчество было в фокусе внимания Н. Бердяева; но также «состоятельностью» своих прогнозов, оставляющей жутковатое впечатление. Рост религиозности как массовое явление, по крайней мере в России, социологи религии начали отмечать еще в середине 1970-ых гг. Так, еще в книге 1975 года «В поисках духовных наследников» (основные идеи которой уточнила изданная позднее работа «Кризис религиозности и молодежь») впервые «не для спецхрана» были озвучены цифры, демонстрирующие рост религиозности в среде «советской молодежи».7 С конца 1980-ых - начала 1990-ых пресса, а затем специалисты, заговорили о «религиозном Возрождении России». Действительно, в это время происходит бурный рост числа прихожан существующих храмов (особенно - из числа Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М.: МГУ, 1990. – 289 с. 7 Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь: методологические аспекты исследования . М: Наука, 1984. – 264 с. – Ср.: Смирнов М.Ю. Современная российская социология религии: откуда и зачем? // Религиоведение. Научно-теоретический журнал. — Благовещенск; М., 2007. № 2. 6 «интеллигенции», т.е. людей науки и культуры всех возрастов, вузовской молодежи и т.д.). Заметное число молодых мужчин этого «призыва» пополняет ряды священнослужителей. Среди них – инженеры, биологи, автодорожники, музыканты (особенно пианисты), художники, артисты, филологи, психологи, историки и философы. В силу нехватки кадров для быстро растущего числа приходов (что, понятно, требует строительства новых храмов) церковное руководство идет на ускорение процедур, связанных с «введением в должность» фактических неофитов, не привыкших к средневеково-феодальным порядкам, принятым в структурах церковной иерархии и церковной бюрократии. «Религиозное Возрождение» проходит под знаком возвращения утраченных ценностей, некогда принятых у отцов и дедов; а затем «отнятых» у советских поколений. Не только русское православие испытывает приток «свежих сил»: на территории бывшего Советского Союза растет число последователей всех мировых религий и традиционных культов, строительство новых культовых объектов и борьба за возвращение «старых» в церковную собственность (или, по крайней мере, в подчинение административным структурам соответствующих деноминаций). Мусульмане, католики, протестанты, буддисты, - наряду с шаманистами и адептами НРД, - проводят конференции, свидетельствующие о жадном интересе новообращенных не только к священным книгам, но и к философским текстам, так или иначе интерпретирующим религиозные «метанарративы». Философия начинает восприниматься «массами» в качестве «комментария» к священным текстам, как характерное для общества этого времени стремление «светского ума» к религиозным вершинам. «Этос» отечественной философии переходит к образу неосхоластики, - как на уровне «обыденного» прочтения (например, творений русских религиозных философов), так и на уровне «просвещенного» текстологического анализа существующих «проблемных мест» догматического богословия со стороны специалистов экстра-класса. Вместе в тем, в рамках «не-светского» богословия укрепляется традиция неопатристики: активно изучаются методологические идеи о. Георгия Флоровского, одного из наиболее видных представителей этого явления на почве отечественной культуры. Впрочем, надо давать себе отчет, что русское православие всегда с большим подозрением относилось не только к чтению рядовыми верующими (не прошедшими специальной богословской подготовки) соответствующих текстов; но, как известно, было строго регламентировано даже знакомство с ветхозаветными текстами Библии (до 15 века они не были полностью переведены; да и сегодня без специального благословения делать это прихожанин не может до сих пор, - если он, конечно, «по-настоящему» воцерковлен). Не секрет, что дело здесь – в «особых искушениях» (как определяет их церковная приходская традиция), требующих от верующего довольно высокой степени подготовленности к уяснению многообразия исторических прецедентов (например, многоженство в ветхозаветном праве) и знакомству с логическими парадоксами, связанными в проблемой интерпретации соотношения ветхозаветной, новозаветной и патристической традиции в их преломлении на почве отечественного православия. Философия и здесь сыграла свою роль: неопартистика, «пахнущая» (как ни странно это звучит) едва ли не «православным протестантизмом», часто апеллирует к сочинениям А.С. Хомякова, стремившегося не только соединить «немецкий рационализм» со сложившимся бытовым укладом российского крестьянства, но также утверждавшего его «самобытность» - то есть право верить так, как веришь, на основании знакомства с «первоисточниками». Правда, в качестве таковых в отечественной религиозной традиции не обязательно выступают исключительно Евангелия; именно поэтому нет никакой оговорки в упреке последователей «православной неопатристики» в «неопротестантизме» отечественного разлива. Просто святоотечесткая интерпретация выступает здесь в качестве одного из признанных народом первоисточников, «по определению» превосходящих современные изыскания в области христианской традиции трансляции смысла. Понимая движение к «истокам» как возвращение «учению» исходной «чистоты», религиозная мысль России здесь не составляет исключения. Сходные процессы идут сегодня, как известно, и в других мировых религиях. Возможно, в подобном «сверхрационализме» также стоит искать следы «ночной» иррациональной повседневности «нового средневековья», верящего, что время возможно повернуть вспять… Выделим еще одну интересную тенденцию отечественной религиознофилософской мысли – собственно «возвращение к Евангелию» «Pro Test», минуя симпатии к раннехристиансткому его бытованию как оно зафиксировано в святоотеческих текстах. Здесь имеет место оригинальное развитие идей Л.Н. Толстого, в свое время реализовавшего эпатажный проект «Евангелия для народа», на почве современного «беллетризированного православия» и шире – феномена массовой религиозной литературы (распространенной не только в православии, но особенно в православии). Фантастические рассказы о чудесах, исцелениях, героических подвигах «народных святых» (то есть – неканонозированных «пока что» лучших представителей «православного народа») перемежаются здесь с идеологизированной подачей материала отечественной истории в весьма тенденциозном ключе, как правило превозносящей идею православной монархии (вплоть до попытки перевода ее с пропагандистских рельсов на рельсы реального «ностальгического политического православия» и проекта). Интересный язычества: заседания «симбиоз» одного из многочисленных «новосозданных» обществ потомков российских дворян происходят под огромным плакатом, изображающим знак «Коловорота» древнего солярного символа, близкородственного фашистской свастике. В числе проектов, способствующих ревитализации «народной религиозности» в пара- (или «нео-»)христианском формате, некоторые аналитики (в том числе и в недрах самой церковной среды) выделяют «ересь благодатного огня», считая данный феномен не «чудом», регулярно происходящим на Святой Земле, а формой едва ли не массового психоза, распространяющегося, в том числе, и с помощью соответствующей религиозной литературы. Воздерживаясь от содержательной оценки данного феномена, следует констатировать, что уровень брошюр, посвященных описанию «современных чудес» (от неопознанных физических феноменов до медицинских казусов) действительно в массе своей сравнительно невысок, а местами и откровенно низок. С другой стороны, в самом отечественном философском дискурсе нарастает процесс религиезации (в частности, на уровне «приемлемой» сообществом философской лексики). Осмысленные научные исследования, выполненные на высоком теоретическом уровне, становятся все большей редкостью; тогда как число «идеологически верных» опусов, предлагающий в качестве таковых слабо аргументированные домыслы автора по поводу зарождения права, искусства или истинного лица современной западной культуры (в ее коренном отличии от «истинной», «подлинной», - т.е. православной или напротив, «гуманистической», т.е. основанной на почти религиозной вере в научность, о которой так точно высказывался Бердяев еще в «Философии свободы») растет лавинообразно. Фактически на наших глазах в качестве альтернативы академической науке формируется институт ее «идеологических проекций», - как собственно религиозного, так и религиеподобного содержания. Философия оказывается здесь выгодной маской, за которой авторы и технические исполнители подобных проектов чувствуют себя наиболее комфортно. Возможно, это связано с фундаментальной особенностью философского знания, прямо не требующего «что-то знать», а то и вовсе настаивающего на принципиальной ограниченности познания («я знаю, что я ничего не знаю»). Хотя, разумеется, всякий более или менее грамотный человек понимает, насколько объемным должен быть багаж сведений из области философии, чтобы он позволил «не знать» так как нужно: незнанието ведь должно быть «ученым»… Столь длительный экскурс в современность потребовался для того, чтобы обосновать актуальность двух важнейших идей Н.А. Бердяева, сформулированных им применительно к специфике наступающего «нового средневековья». Первая высказана в одноименном произведении и касается «внутреннего юдаизма», характерного для православия в 19-20 вв., т.е. идеи о «новой богоизбранности» русского народа. Эта «богоизбранность», вопреки библейскому утверждению о единственности данного выбора в истории человечества, рассматривается одновременно в политическом («Москва – Третий Рим» в различных новейших изводах данной концепции) и геополитическом («русская цивилизация») контекстах. Русское православие таким образом предстает как «единственно верное» учение и практика, что провоцирует индоктринацию тех знаний, которые современная наука и философия «поставляют» парахристианской идеологии в качестве непротиворечащих ей сведений. Вторая идея Бердяева касается специфики «народной религиозности» в современном ее проявлении; о ней известно благодаря публикации дневников Л.Ю. Бердяевой. Речь идет о суждении философа, назвавшего (уже в парижской эмиграции) нашу эпоху временем обострения борьбы язычества и христианства не в конфессиональном, а в содержательном смысле. При этом христианство философ связывает с удержанием личностью идеи «границ» (прежде всего, духовных) в самой своей жизни. Такие границы мыслятся как внутренняя ориентация на сверхприродное и сверхантропологическое. «Язычество» же, напротив, - это «новое варварство» вседозволенности; непропорциональное разрастание материального и эмпирически-антропологического начал в культуре, стремящегося подавить и вытеснить духовное начало из области витального обитания, «дома»«этоса». Разрушение институтов науки, образования; перевод оставшихся в этой области структур в плоскость исключительно прагматическую (хотя еще никому хорошее образование не мешало стать хорошим специалистом8) – все эти шаги, осуществляющиеся сегодня буквально по всему миру, от США до России и от Италии до Украины, подтверждают пригодность философской «оптики» мыслителя для оценки реальных процессов культурной жизни в их динамике и перспективе. Таким образом, согласно Бердяеву «новое средневековье» включает в себя несколько линий ревитализации религиозности различных типов и конфигураций различных уровней (от личной до групповой). Часть из них сохраняет импульс, обоснованно увязываемый им с традицией философской интерпретации христианской вероучительной доктрины, а также – традицию «особых» - философских – отношений со смыслом, не противостоящую христианству в его конфессиональном исполнении, но и ни в коем случае не совпадающую с ним. Последнее утверждение – через «парадокс свободы» для русского философа особенно важно. Оно носит характер императива, поскольку его нарушение ведет, как уже отмечалось, к разрушительной индоктринации философского знания, попыткам превратить его в идеологию и т.д. В свою очередь, определенная часть современного философствования уходит от подобного «софистического искушения». Однако при этом она рискует утонуть в апологетике собственной «светскости», которая хороша как факт интеллектуальной свободы, но не хороша как прием такого дистанцирования от идеологии, которое намертво «привязывает» отрицателей к отрицаемому феномену. «Дом», «нора» (а именно таково исходное значение греческого слова «этос») отечественной философии «везде и нигде», в «занебесной Родине» платоновской души. И вместе с тем, он присутствует в институализированных формах в культуре России и Украины. Где – пока еще - существуют философские сообщества. Язык, как и национальная квартира, здесь у каждого своя; как своя она для немцев и англичан, арабов и Россиус А.А. Гуманитарное образование: порча изнутри. Русский журнал, 12.02.2005. Электронный ресурс: http://old.russ.ru/culture/education/20050212.html (дата обращения 26.11.2013). 8 французов. Но есть в этом доме и общий язык – язык, который открывает возможность понимать. В том числе, понимать друг друга. Славянские народы здесь имеют общую языковую историю, и эта историко-философская общность – возможно, то немногое, что нам не получается делить и продавать. Взаимное уважение к языку культуры другого открывает, а не закрывает дверь общения. Фигура Николая Бердяева в этой связи – хороший маяк для налаживания взаимного понимания вопреки иррациональным порывам и неблагоприятным политическим контекстам. Познание себя через познание другого… Дверь философского дома открыта миру. Но это значит, что философ должен иметь мужество принять этот мир у себя дома; и принять так, чтобы дом не был разрушен.