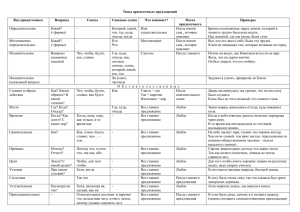весна девяностого
advertisement
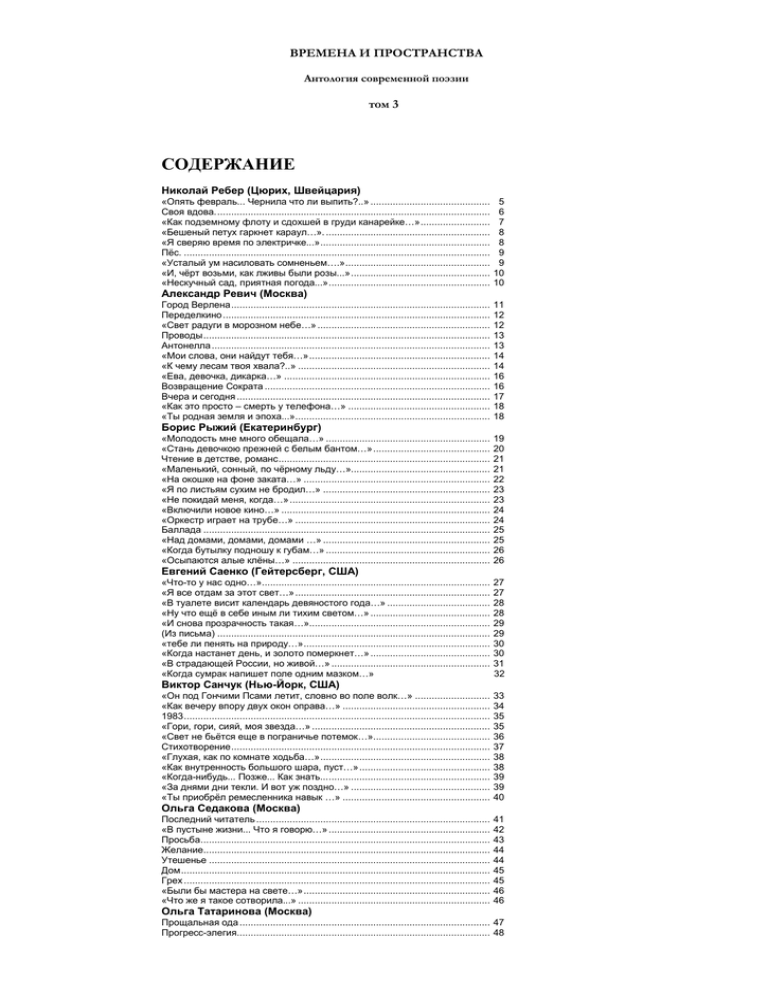
ВРЕМЕНА И ПРОСТРАНСТВА Антология современной поэзии том 3 СОДЕРЖАНИЕ Николай Ребер (Цюрих, Швейцария) «Опять февраль... Чернила что ли выпить?..» ........................................... Своя вдова. .................................................................................................. «Как подземному флоту и сдохшей в груди канарейке…» ......................... «Бешеный петух гаркнет караул…». ........................................................... «Я сверяю время по электричке...» ............................................................. Пёс. .............................................................................................................. «Усталый ум насиловать сомненьем….» .................................................... «И, чёрт возьми, как лживы были розы...» .................................................. «Нескучный сад, приятная погода...» .......................................................... 5 6 7 8 8 9 9 10 10 Александр Ревич (Москва) Город Верлена ............................................................................................. Переделкино ................................................................................................ «Свет радуги в морозном небе…» .............................................................. Проводы ....................................................................................................... Антонелла .................................................................................................... «Мои слова, они найдут тебя…» ................................................................. «К чему лесам твоя хвала?..» ..................................................................... «Ева, девочка, дикарка…» .......................................................................... Возвращение Сократа ................................................................................. Вчера и сегодня ........................................................................................... «Как это просто – смерть у телефона…» ................................................... «Ты родная земля и эпоха...» ...................................................................... 11 12 12 13 13 14 14 16 16 17 18 18 Борис Рыжий (Екатеринбург) «Молодость мне много обещала…» ........................................................... «Стань девочкою прежней с белым бантом…» .......................................... Чтение в детстве, романс ............................................................................ «Маленький, сонный, по чёрному льду…».................................................. «На окошке на фоне заката…» ................................................................... «Я по листьям сухим не бродил…» ............................................................ «Не покидай меня, когда…» ........................................................................ «Включили новое кино…» ........................................................................... «Оркестр играет на трубе…» ...................................................................... Баллада ....................................................................................................... «Над домами, домами, домами …» ............................................................ «Когда бутылку подношу к губам…» ........................................................... «Осыпаются алые клёны…» ....................................................................... 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 Евгений Саенко (Гейтерсберг, США) «Что-то у нас одно…».................................................................................. «Я все отдам за этот свет…» ...................................................................... «В туалете висит календарь девяностого года…» ..................................... «Ну что ещё в себе иным ли тихим светом…» ........................................... «И снова прозрачность такая…»................................................................. (Из письма) .................................................................................................. «тебе ли пенять на природу…» ................................................................... «Когда настанет день, и золото померкнет…» ........................................... «В страдающей России, но живой…» ......................................................... «Когда сумрак напишет поле одним мазком…» 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 Виктор Санчук (Нью-Йорк, США) «Он под Гончими Псами летит, словно во поле волк…» ........................... «Как вечеру впору двух окон оправа…» ..................................................... 1983 .............................................................................................................. «Гори, гори, сияй, моя звезда…» ................................................................ «Свет не бьётся еще в пограничье потемок…».......................................... Стихотворение ............................................................................................. «Глухая, как по комнате ходьба…» ............................................................. «Как внутренность большого шара, пуст…» ............................................... «Когда-нибудь... Позже... Как знать... .......................................................... «За днями дни текли. И вот уж поздно…» .................................................. «Ты приобрёл ремесленника навык …» ..................................................... 33 34 35 35 36 37 38 38 39 39 40 Ольга Седакова (Москва) Последний читатель .................................................................................... «В пустыне жизни... Что я говорю…» .......................................................... Просьба ........................................................................................................ Желание....................................................................................................... Утешенье ..................................................................................................... Дом ............................................................................................................... Грех .............................................................................................................. «Были бы мастера на свете…» ................................................................... «Что же я такое сотворила...» ..................................................................... 41 42 43 44 44 45 45 46 46 Ольга Татаринова (Москва) Прощальная ода .......................................................................................... 47 Прогресс-элегия........................................................................................... 48 «Приснись мне снова – больше не прошу…» ............................................. Ночь с Джередом Ангирой ........................................................................... Старый замок ............................................................................................... «Да будет бутылка на светлом окне…» ...................................................... «В природе прибавилось света…» ............................................................. «Никому ничего не даровано»..................................................................... Микельанджело Антониони ......................................................................... «Ах, бывает, бывает – покажется вдруг…» ............................................... «Слезами воздух напоён…»........................................................................ 48 49 50 51 51 52 53 53 54 Александр Тимофеевский (Москва) «Уже мне реки те видны…»......................................................................... Море ............................................................................................................. «На проспектах твоих запылённых…» ........................................................ Ответ римского друга .................................................................................. «Жизнь приходит с утра…» ......................................................................... «Хочу хоть раз постигнуть мир…» .............................................................. Весна девяносто .......................................................................................... «Он ищет читателя, ищет…» ...................................................................... «Конечно, наш Господь безбожник…» ........................................................ 55 56 56 57 58 58 59 60 60 Илья Тюрин (Москва) Похороны Бродского.................................................................................... Ной ............................................................................................................... Гром ............................................................................................................. География .................................................................................................... «Живущему, как прежде, на Земле…»........................................................ Памяти Мандельштама ............................................................................... Е.С. ............................................................................................................... Остановка .................................................................................................... «Все знают, чем прекрасно заточенье…» .................................................. Паркер .......................................................................................................... 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 Алексей Цветков (Прага, Чехия) «в итоге игоревой сечи…» .......................................................................... «сарафан на девке вышит…» ..................................................................... «На лавочке у парковой опушки…» ............................................................ «Бредит небо над голым полем…» ............................................................ «У лавки табачной и винной…» .................................................................. «Внедряя в обиход ночную смену суток…» ................................................ «До хрипоты, по самый сумрак…» .............................................................. «В похвальбу, из пустого геройства…» ...................................................... «Оскудевает времени руда…» .................................................................... «Серый коршун планировал к лесу…» ....................................................... «Я «фита» в латинском наборе…» ............................................................. «Зачем же ласточки старались?..» ............................................................. 67 68 69 69 70 70 71 71 72 73 74 74 Алла Шарапова (Москва) Натали.......................................................................................................... «Белой стаей, станом лебединым…» ......................................................... Имя ............................................................................................................... Сидя на подоконнике ................................................................................... «В чёрных телеграфных проводах…» ........................................................ «Равновесья не сулил тот год…»................................................................ «Всего прекрасней ранние вставанья…» ................................................... Кострома ...................................................................................................... 75 76 76 77 78 79 80 80 Марк Шатуновский (Москва) монолог патриота ........................................................................................ (подражание державину) ............................................................................. вечный жид .................................................................................................. (париж – москва) .......................................................................................... сельский вид ................................................................................................ муха .............................................................................................................. страсти по эвклиду ...................................................................................... плачущее изваяние ..................................................................................... (неразмыкаемый круг) ................................................................................. 81 82 83 84 84 85 86 87 88 Екатерина Шевченко (Москва) «Теперь в лесу туман и ветер…» ................................................................ «В домах настало время ламп и книг…» .................................................... Элегия .......................................................................................................... «Моя далёкая любовь…» ............................................................................ «Лимонный фонарь оглушительно светит, журчит водосток…» ................ «Там радость ходит узким закоулком среди кирпичных стен…» ............... «В морозном трамвае поеду сквозь юность…» .......................................... «Я бездну вброд переходила…»................................................................. «Я шла любви наперерез…»....................................................................... «Такая изморось и осень…» ....................................................................... «Здравствуйте, былые залы …» ................................................................. «Вот мы сидим и пьём свой бедный чай …» .............................................. «...Ночью слышно, как шумит …»................................................................ 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 94 Михаил Щербина (Москва) «Во что я верю? Может быть, в Распад …»................................................ «Что может быть технологичнее, чем ЛЭП …» .......................................... «Проверенный нож продаётся на мойке …»............................................... Карагандинское лето ................................................................................... «Я в рыхлом поле не играю Куперена…» ................................................... Мотоциклистка ............................................................................................. Вечернее кладбище..................................................................................... Осень ........................................................................................................... 95 95 96 97 98 98 99 100 Татьяна Щербина (Москва) «Чтоб не было видно, ночами кончается лето …» ..................................... 101 «Душа отвергает подачки и требует взятки …».......................................... Конец истории .............................................................................................. От рождества ............................................................................................... Последняя встреча ...................................................................................... «Я поставила точку …» ............................................................................... Воспоминание об автомобиле «Ланча-тема» ............................................. «Как тигрица в клетке…» ............................................................................. «Весь город озарён влеченьем…».............................................................. «Я плачу оттого, что нет грозы…» .............................................................. Жизнь без тебя ............................................................................................ Рунет ............................................................................................................ НИКОЛАЙ РЕБЕР * * * Опять февраль... Чернила что ли выпить? Опять словам неверно предлежать – Не выдавить, не выцедить, не ссыпать, И тягостно, мучительно рожать, И голосить, и матерно ругаться, И яростно делить с собой себя, С убожеством своим неравно драться, Прокисшим пивом душу теребя... Пустые дни, вонючие квартиры, Мы одиноки, точно острова... Оплывший рафинад разбитой лиры, Больные, неуместные слова... В глазах февраль весны уже не будет; Два пьяных тела делают любовь... И голова – точно арбуз на блюде – Глядит и тупо вскидывает бровь... И вижу я, как из-под жёлтой кожи Ты вырастешь, больное точно зуб, Из сапога достанешь тонкий ножик И ловко расчленишь мой бледный труп, И станешь жить мучительно и долго, Стихотворение – посмертный грех, Из моего божественного горла Струёй чернил пролитое на снег. СВОЯ ВДОВА Я бесполезно вглядываюсь в даль, пытаясь различить родные лица. Ещё один проплаканный февраль. Ещё одна последняя страница... Неначатая рукопись прожжёт в подкладке неба чёрную полоску... И памятником поле прорастёт – не твёрже меди и не мягче воска. А может, и ничем не прорастёт... Мне вспомнилась большая Одалиска... Волшебный звук родится и умрёт, не толще крика и не тоньше писка. Громадиной встаёт своя вдова, и дарит то ли чашей, то ли чарой. И в ухо мне: слова, слова, слова! – мерцая чешуёй в ветвях Анчара... Её нельзя, не можно не любить, она своя от края и по крою... О сколько мне кругов не накрутить, она то на плечах, то за спиною. 101 102 103 103 104 105 106 106 107 107 108 Придя домой, устало закурил... Но, выпив яду, внутренне собрался. Нежарко спорил, несмешно шутил. Но повинился, то есть оправдался. * * * Как подземному флоту и сдохшей в груди канарейке, Не могу пожелать поскорей быть любимой другим. “Навсегда” и “Прощай”, как швейцарским ножом по скамейке, Мне на коже и под процарапал пошляк-пилигрим. В утюги, бороздящие море, не хочется верить. Как в слова и флажки, и победу ручного труда. Я полдня расшифровывал дождь, его дроби и трели. И опять получилось “Прощай” и потом “Навсегда”. Как ямщик-патриот, я давно аморально устойчив. Там, где стукну копытом – забьёт неживая вода. У меня под дугой однозначно звучит колокольчик Про дорогу и пыль, и ещё про “Прощай навсегда”. Отвалить и уйти, но как якорь цепляет сноровка. Захмелеть без вина – но, увы, не могу без вина. Как фантомная боль и сведённая татуировка, Не дают мне уснуть и мешают очнуться от сна. Впереди только дым. Позади только мели и мины. И локальный конфликт с лексиконом на глади пруда. Погибаю, но не... И враждебную мне субмарину “Навсегда и прощай” отправляю на дно навсегда. * * * Бешеный петух гаркнет караул. В новую дверь внесут старый сор. Лучшее из двух наведённых дул Выбрать не сможет дичь. Разговор Оборвётся мятою простынёй – Главный аргумент неумелых душ... Нелегко быть чёрною полыньёй В пепельной глуши, где полынь и сушь. Город на мели – неподъёмный флот. Капитаны вслушиваются в небеса. Каменный корабль не идёт вперёд, Хоть и ветер в медные паруса. Из оконной рамы ножом – глаза Выверяют горло на хриплый крик. Дуя в смуглокожие образа, Равнодушный дым разъедает лик... К ночи петухи начинают врать... Утро мудреней, если есть рассол. Тяжело добра от добра искать, Если нету меньшего из двух зол. * * * Я сверяю время по электричке, проходящей под окнами. В час заката мне приносят солнце на длинной спичке, я прикуриваю. Моя палата расположена просто – вверху есть нечто, отражающее впадину океана, впереди же, по-моему, запад... Вечность далека по-прежнему. И желанна. ПЁС Разорви, разорви мою тяжкую верную цепь. Я сорвусь, закричу, я подамся на север в бега. Дай измерить шагами промёрзлую ржавую степь, Рассаднив свои впалые, с комьями грязи, бока. Пусть белесая ночь будет пялить оранжевый глаз, Будет пепел и соль на растресканных ветром губах, И небесная твердь точно чёрный обугленный наст Будет глухо дрожать, отдаваясь в горячих висках. Ковырни, ковырни мою бедную хилую плоть, Береди её плетью холодного злого дождя, Дай свободой как шилом под сердце себя уколоть, На простылом ветру свои жёлтые бельма слезя. И когда я споткнусь, захлебнусь, задохнусь, упаду, Надорвав свою грудь, смежив груз освинцованных век, Дай забиться в тягучую, мутную мглу как в нору, И скулить, и дрожать, если рядом пройдёт человек. * * * Усталый ум насиловать сомненьем довольно затруднительно… Реки незримое подозревать движенье в зеркальной неподвижности... С руки ли разобраться в этом человеку, живущему как все – на берегу... Нельзя войти в одну и ту же реку... Пожалуй, так же мало я солгу, кой в чём подметив схожую природу: что взял огонь – не скажешь по золе. Другую реку и другую воду едва ли отыщу я на земле. * * * И, чёрт возьми, как лживы были розы, Ребёнок, сочиняющий о смерти, Помпезные напыщенные грозы И слёзы, и дешёвое “Эрети”, И вечера, и женщины, и лица, Добро и зло, терзаемое снова Заезжим словоблудом из столицы, И бывшее в начале мира Слово... А было существо с лицом пугливым И с телом – только-только не хвостатым – Настолько, что как будто полосатым. И падали замедленные сливы. И было только чуждое полёта Желание бежать опасной встречи... И в голове – прообраз пулемёта. И ужас. Бесконечный и навечный. * * * Нескучный сад, приятная погода. Отдохновенье от заветных дум, Которые ни омута, ни брода, Которые ни плаха, ни колдун, Которые бесцветные листочки – Летят себе на-запад-на восток, Которые ни дня без новой строчки, Которые всё прыг себе да скок, Шумят себе слегка автоматично, Похожи на Калашников анфас, И весело садятся в электрички – Платочки, шляпки, ручки – в добрый час! Плюс-минус цельсий – славная погода. Необозримых лет неслабый ряд. И голуби – без выхода, без входа – Которые летят себе, летят... АЛЕКСАНДР РЕВИЧ ГОРОД ВЕРЛЕНА Dans une rue au coeur d’une ville de rкve... Paul Verlaine. Kaléidoscope * Cпасибо, что память нетленна, хотя и не держит обид, спасибо, что город Верлена в сиреневой дымке рябит, рябит и колышется старый, надёжный, как всё, что старо, и заново пишет бульвары прилежной рукой Писарро. Спасибо, ах, Господи, Боже! – и снова знакомый квартал, случайный пришелец, похоже, ты здесь до рожденья бывал, сидел за столом под маркизой, прихлёбывал аперитив и видел, как в сутеми сизой, глаза в никуда обратив, в примятом цилиндре куда-то ступал, не сгибая колен, старик с головою Сократа, нетрезвый блаженный Верлен. И скрылся на том перекрёстке за краем кирпичной стены, оставив фонарные блёстки, дожди, подворотни и сны. ПЕРЕДЕЛКИНО Здесь в подмосковном сосновом посёлке, в кряжистых стенах бревенчатых дач жили бараны и серые волки, рыцари бед, джентльмены удач. Здесь, как повсюду, в те дни был обычай: камень за пазухой, ложь про запас, кто-то был хищником, кто-то добычей, кто-то... но это особый рассказ. Где же всё это? И где же все эти лица и роли? Исчезли, как дым. Только надгробья в полуденном свете спят меж стволов под навесом густым. ________________________ * Эта улица, город, как в призрачном сне… Поль Верлен. Калейдоскоп Сосны всё те же и дачи всё те же, новые лица, повадки и быт, новые дыры в заборах и свежи новые ссадины тех же обид. Этих уж нет, а иные далече, но почему-то, как в давнем году, небо ложится деревьям на плечи и перевёрнуты сосны в пруду. * * * Свет радуги в морозном небе на северной голубизне какой нам предвещает жребий, какую смуту по весне? Мелькнут событья – и не стало, так в вечность ускользает тень, но светят почки краснотала в свой срок предписанный, в свой день. ПРОВОДЫ Арсению Тарковскому… На чёрном полустанке в задымленном году лежачие подранки, мы слышали беду, там на платформе чёрной, где в паровозный вой влился гобой с валторной и барабан с трубой. В вагоне санитарном сквозь дрёму и угар над запахом камфарным взлетела медь фанфар, и словно по тревоге привстала вся братва: безрукий и безногий, а кто – живой едва. За окнами вагона, над пёстрою толпой мешался звук тромбона с взывающей трубой и женских плеч молчанье в объятиях мужчин, и детских глаз мерцанье, и слёзы вдоль морщин. Кого-то провожали и кто-то голосил, куда-то уезжали и барабан басил, и вышла из-под спуда всеобщая беда, ведь были мы оттуда, а эти шли туда. АНТОНЕЛЛА Небо над Ассизи засинело, над равниной тонкий влажный дым, юная синьора Антонелла водит нас по улочкам крутым. Мимо стен замшелых в гору, в гору, к храмовым порталам держим путь. Антонелла, юная синьора, дайте нам чуть-чуть передохнуть. Умбрия в тумане, как Тоскана, словно из-под кисти божества, серебро плеснули из стакана, так что дышат листья и трава. Под горою стелется равнина, впрозелень-желта, как наша рожь. Антонелла, bella* Антонина, жаль, что ты по-русски не поймёшь. Словно на картине Перуджино, Эта даль возникла невзначай. Антонелла, Тоня, Антонина… Вот и всё. Италия, прощай! * * * Мои слова, они найдут тебя, придут к тебе когда-нибудь, когда-то в июльский зной иль в стужу октября, в рассветной мгле или в огне заката. Они придут когда-нибудь, потом, и пусть их очертанья время стёрло, они войдут в твой незнакомый дом сердцебиеньем, перехватом горла. На большее им не даны права, и сам я прав особых не взыскую, но ведь не я приду – мои слова, а мне не удержать их ни в какую. Не отвергай их, не гони их прочь, не отводи растерянного взгляда. Незваные, но как их ни порочь, они – слова – им ничего не надо. Они придут без зова, не спросясь, из памятных садов, с давнишних улиц, восстановив утраченную связь времён, где мы нескладно разминулись. * * * К чему лесам твоя хвала? К чему анафема болотам? Что толку бить в колокола и надрываться, дуя в трубы? Прямая речь глаголом жгла, когда сдирали позолоту и на весах добра и зла качались души и дела, ________________ * Прекрасная (ит.) невинные и душегубы. Любовь не терпит громких фраз. Гекуба – что она для вас: И что вы сами – для Гекубы? Любовь не терпит громких фраз и невозможна напоказ. Не заговаривайте зубы. * * * Ева, девочка, дикарка в мокрых космах до крестца. Лучше не было подарка, твёрже не было резца. Ева, женщина, колдунья, дочь, праматерь и прапра… Ты в какое новолунье вдруг возникла из ребра? Бог мой! Что это за диво за кустами на песке, как склонившаяся ива, топит волосы в реке? Что за дерзкое лукавство обжигает навсегда, долгоного, и рукасто, и текуче, как вода? Тот ваятель был не промах, знал он форму, ведал суть. А в боку торчит обломок, не забыть и не вздохнуть. ВОЗВРАЩЕНИЕ СОКРАТА Озорная смуглянка Ксантиппа, ну зачем ты влюбилась тогда в молодого кудрявого типа, что сгубил твою жизнь навсегда? Всякий раз на дворовые плиты он ступает, добравшись домой, облысевший, курносый, немытый, в драном рубище, полуживой. Хорошо, что хоть дома ночует, там, где стянут лохмотья с плеча, где обмоют и хворь уврачуют, по привычке сердито ворча. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ Не жили мы в тот век старинный, в жеманный давний век, когда звучали в ветре окарины, струилась струнами вода. Всё это стало так туманно, как будто не молил хорал, не плакал голос Себастьяна и Амадей не умирал. Мы чудом выжили в столетье, когда металл, огонь и страх не призывали жить, как дети, свистать, как птицы на ветвях. Не птицы мы, увы, не дети, всё слишком далеко зашло, не хватит нот и междометий, чтоб выразить добро и зло, порывы сердца и причуды… Ведь даже серебро Иуды, подумать, ох, как тяжело. * * * Как это просто – смерть у телефона, когда один из говорящих двух роняет на пол трубку, и – ни стона, ни возгласа, и – словно свет потух, и только стук короткий отдалённо ещё звучит, ещё тревожит слух, как будто из глубокого затона подводный всплеск возносится, как дух. Два говорящих, две души влюблённых, два мотылька, пространством разделённых, в которое уткнулись, как в стекло, ещё ведут бессвязную беседу, один молчит, другой: «Сейчас приеду… Ты слышишь?.. Я люблю тебя… Алло!..» * * * Ты родная земля и эпоха, я лишь капля в реке бытия, выдох, слово одно из-под вздоха и одно из бесчисленных я. Капля тает под зноем июля, иссякает и речь, как ручей, в этом шумном строительстве улья, в наслоеньях времён и ячей. В наслоеньях и напластованьях, в суете расставаний и встреч, в поздних сумерках, в отсветах ранних, где звучит материнская речь. В этом царстве с багровой рябиной и осиновой медной листвой я, любимая, твой нелюбимый, нелюбимый и всё-таки твой. БОРИС РЫЖИЙ * * * Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет, это было самое начало, я был глуп, и это не секрет. Это, мне хотелось быть поэтом, но уже не очень, потому что не заработаешь на этом и цветов не купишь никому. Вот и стал я горным инженером, получил с отличием диплом – не ходить мне по осенним скверам, виршей не записывать в альбом. В голубом от дыма ресторане слушать голубого скрипача, денежки отсчитывать в кармане, развернув огромные плеча. Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда. Господа, что скажете на это? Молча пьют и плачут господа. Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и всё-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат. * * * Эля, ты стала облаком Или ты им не стала? Стань девочкою прежней с белым бантом, я – школьником, рифмуясь с музыкантом, в тебя влюблённым и в твою подругу, давай-ка руку. Не ты, а ты, а впрочем, как угодно – ты будь со мной всегда, а ты свободна, а если нет, тогда меняйтесь смело, не в этом дело. А дело в том, что в сентября начале у школы ранним утром нас собрали, и музыканты полное печали для нас играли. И даже, если даже не играли, так, в трубы дули, но не извлекали мелодию, что очень вероятно, пошли обратно. А ну назад, где облака летели, где, полыхая, клёны облетели, туда, где до твоей кончины, Эля, ещё неделя. Ещё неделя света и покоя, и ты уйдёшь вся в белом в голубое, не ты, а ты с закушенной губою пойдёшь со мною мимо цветов, решёток, в платье строгом, вперёд, где в тоне дерзком и жестоком ты будешь много говорить о многом со мной, я – с Богом. ЧТЕНИЕ В ДЕТСТВЕ, РОМАНС Окраина стройки советской, фабричные красные трубы. Играли в душе моей детской Ерёменко медные трубы. Ерёменко медные трубы в душе моей детской звучали. Навеки влюблённые, в клубе мы с Ирою К. танцевали. Мы с Ирою К. танцевали, целуясь то в щёки, то в губы. А душу мою разрывали Ерёменко медные трубы. И был я так молод, когда то надменно, то нежно, то грубо, то жалобно, то виновато… Ерёменко медные трубы. *** Маленький, сонный, по чёрному льду в школу – вот-вот упаду – но иду. Мрачно идёт вдоль квартала народ. Мрачно гудит за кварталом завод. «...Личико, личико, личико, ли… будет, мой ангел, чернее земли. Рученьки, рученьки, рученьки, ру... будут дрожать на холодном ветру. Маленький, маленький, маленький, ма…– в ватный рукав выдыхает зима: – Аленький галстук на тоненькой ше... греет ли, мальчик, тепло ли душе?» ... …Все, что я понял, я понял тогда: нет никого, ничего, никогда. Где бы я ни был – на чёрном ветру в чёрном снегу упаду и умру. Будет завод надо мною гудеть. Будет звезда надо мною гореть. Ржавая, в странных прожилках, звезда, и – никого, ничего, никогда. * * * На окошке на фоне заката дрянь какая-то жёлтым цвела. В общежитии жиркомбината некто Н., кроме прочих, жила. И в легчайшем подпитьи являясь, я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь, несмешно о смешном говорил. Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи ей читал. Я читал ей о жизни поэта, чётко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это эта Н. целовала меня. Целовала меня и любила. Разливала по кружкам вино. О печальном смешно говорила. Михалкова ценила кино. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь мотор тормозил. Мимо кладбища, цирка, острога вёз меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, что, какая б любовь ни была, я однажды сюда не приеду. А она меня очень ждала. * * * Я по листьям сухим не бродил с сыном за руку, за облаками, обретая покой, не следил, не аллеями шёл, а дворами. Только в песнях страдал и любил. И права, вероятно, Ирина – чьи-то книги читал, много пил и не видел неделями сына. Так какого же чёрта даны мне неведомой щедрой рукою с облаками летящие сны, с детским смехом, с опавшей листвою. * * * Не покидай меня, когда горит полночная звезда, когда на улице и в доме всё хорошо, как никогда. Ни для чего и ни за чем, а просто так и между тем оставь меня, когда мне больно, уйди, оставь меня совсем. Пусть опустеют небеса. Пусть станут чёрными леса. Пусть перед сном предельно страшно мне будет закрывать глаза. Пусть ангел смерти, как в кино, то яду подольёт в вино, то жизнь мою перетасует и крести бросит на сукно. А ты останься в стороне – белей черёмухой в окне и, не дотягиваясь, смейся, протягивая руку мне. * * * Включили новое кино, и началась иная пьянка. Но всё равно, но всё равно то там, то здесь звучит «Таганка». Что Ариосто или Дант! Я человек того покроя, я твой навеки арестант, и всё такое, всё такое. * * * Оркестр играет на трубе. И ты идёшь почти вслепую от пункта А до пункта Б под мрачную и духовую. Тюрьма стеной окружена. И гражданам свободной воли оттуда музыка слышна. И ты поморщился от боли. А ты по холоду идёшь в пальто осеннем нараспашку. Ты папиросу достаёшь и хмуро делаешь затяжку. Но снова ухает труба. Всё рассыпается на части от пункта Б до пункта А. И ты поморщился от счастья. Как будто только что убёг, зарезал суку в коридоре. Вэвэшник выстрелил в висок, и ты лежишь на косогоре. И путь-дорога далека. И пахнет прелою листвою. И пролетают облака над непокрытой головою. БАЛЛАДА На Урале в городе Кургане в День шахтёра или ПВО направлял товарищ Каганович револьвер на деда моего. Выходил мой дед из кабинета в голубой, как небо, коридор. Мимо транспарантов и портретов ехал чёрный импортный мотор. Мимо всех живых, живых и мёртвых, сквозь леса, и реки, и века. А на крыльях выгнутых и чёрных синим отражались облака. Где и под какими облаками, наконец, в каком таком дыму, бедный мальчик, тонкими руками я его однажды обниму? * * * Над домами, домами, домами голубые висят облака – вот они и останутся с нами на века, на века, на века. Только пар, только белое в синем над громадами каменных плит… Никогда никуда мы не сгинем, мы прочней и нежней, чем гранит. Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной – оглянись, поцелуй меня в губы, дай мне руку, останься со мной. А когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белое в синем, голубое и белое в си… * * * Когда бутылку подношу к губам, чтоб чисто выпить, похмелиться чисто, я становлюсь похожим на горниста из гипса, что стояли тут и там по разным пионерским лагерям, где по ночам – рассказы про садистов, куренье, чтенье «Графов Монте-Кристов»… Куда теперь девать весь этот хлам, всё это детство с муками и кровью из носу, чёрт-те знает чьё лицо с надломленною бровью, вонзённое в перила лезвиё, всё это обделённое любовью, всё это одиночество моё? * * * Осыпаются алые клёны, полыхают вдали небеса, солнцем розовым залиты склоны – это я открываю глаза. Где и с кем, и когда это было, только это не я сочинил: ты меня никогда не любила, это я тебя очень любил. Парк осенний стоит одиноко, и к разлуке и к смерти готов. Это что-то задолго до Блока, это мог сочинить Огарёв. Это в той допотопной манере, когда люди сгорали до тла. Что написано, по крайней мере в первых строчках, припомни без зла. Не гляди на меня виновато, я сейчас докурю и усну – полусгнившую изгородь ада по-мальчишески перемахну. ЕВГЕНИЙ САЕНКО * * * Что-то у нас одно Всероссийское в лицах Снега у нас полно Дождь может долго длиться Если придёшь к реке – Боль что нутро изъела Свыше и вдалеке Храмы тут, в этом дело Лес ли зубчат вдали Елей берёз и сосен Небо что жаль забыть Время такое – осень Ржавчина на дубах Над головою вечность Молодость старость прах Русская бесконечность * * * Я всё отдам за этот свет, За византийской позолоты Прозрачный лист ручной работы; Осенний воздух лечит бред. Я всё отдам за этот брег – Так много слов дано от Бога: Сугробы снега у порога Полярный ветер наметёт. Я всё отдам за нищий быт, За обнаженье ткани жизни – Одно мгновение в отчизне, Сквозной в летящих листьях свет. * * * В туалете висит календарь девяностого года, А погода – мороз, звёзды близко глядят с небосвода. Не канун Рождества, а обычный отъезд новобранца, Или с фронта письмо, но махорки купить не собрался. Не собрать свои мысли, как будто в начале былого. Вроде нервного сгустка в гортани – не слёзы, но слово. Вроде рыб на реке льдины там, где дыру просверлили, Там, где зимний налим проживает в печали и в иле. Выхожу я на лёд, тот, что выдержит русские танки, Дорогой городок, как ты мил из-под свода ушанки, Я как будто отплыл и, навеки тебя покидая, В этот серый денёк не ищу ни печали, ни рая. Словно флагман эскадры пускаюсь в патруль свой неблизкий, Озираюсь на гнёзда ворон, что живут без прописки, Без работы, без пенсий, и в путь над Россией пускаясь Нашу жизнь отпевают кружением, карканьем, лаем. * * * Ну что ещё в себе иным ли тихим светом умеешь напитать из глубины небес, бездонной тишиной, а осени приметы – как благость, как печаль, как синь, как благовест. Куда из этих мест ты тронешься, пропащий, куда судьба несёт от собственной судьбы? – здесь детство, юность, смерть, болезнь и день вчерашний, трагедия и твердь, и отчие гробы. Квадратными дверьми идя в провалы склепов, хоть раз да оглянись – так день прозрачно свеж; рябины кисть сорви – вот белый храм на этом, на том – как на крови – о горечь горло срежь. * * * И снова прозрачность такая, И голость такая, и край Берёз, где кончается волость, Грачей не кончается грай. Там поле, лесок, снова поле – И так сотни лет, сотни верст – В России не кончится горе, Тоска и тюрьма и погост. В России не кончится этот Сжимающий сердце сквозняк, Как будто с крестьянкою еду, Над гробом ревущей в санях. Простором саврасовским пьяный, Разора хлебнул, а грачи Орут над распутьем, смутьяны, В весенней бездомной ночи. (Из письма) Когда на дворе полусвет полутень И дождь словно старый и серый плетень Отрада ограда распада двора – Скажи, почему мошкара Все вьётся, и век это день или миг На кладбище старом, где скопища книг; Скажи мне, любимая, были ли мы Средь снега, и света, и тьмы? Небесная Вена – такая река, В ней кровь голубая течет старика Так медленно, словно замерзла в руке, И шум как в ушах вдалеке. Скажи, драгоценная, в мире чумы Для моря просторные краски небес Найдутся ли, или средь царства зимы Мы просто войдем в чёрный лес? * * * тебе ли пенять на природу на грязь и на месть и на масть в такую плохую погоду не нам пол-России украсть в такую ужасную бурю доверься коварным ветрам на собственной чувствуя шкуре всю свежесть и ужас и срам побродишь в родимых пенатах узнаешь родную юдоль меняться – так атом на атом глаз на глаз мозоль на мозоль А то получается стужа блокада утрата души мы, скажем, играем не хуже чем рядом сосед в расшиши чем, скажем, лицейская братья клико пьёт, целуясь взасос, и кажется другом приятель а дальше – Сибирь и погост * * * Когда настанет день, и золото померкнет, И правосудье лет не склонится к теплу, Войди в осенний лес – труба ещё помедлит, Тревожа в тишине во сне и наяву: Над ворохом листвы, над сыростью, над глиной, Над бездорожьем дней, над наготою дум Архангельской трубы и лета паутины Витающая вязь, прощальный, дальний шум... * * * В страдающей России, но живой, На срезе времени, разрухи, лета, пепла Судьба свела нас – и любовь окрепла И расцвела ромашкой полевой. Равнины ситец как ковёр хитер: Чему научат нас простые травы – Покорны, гибки, ловки и лукавы, А взгляд судьбы – суров, сугуб, остер. Вот колокольня посреди реки, Поляки не сожгли, так затопили Свои же – ладно, если б не любили – Тогда б вступились ангелов полки. Любил Россию Александр Блок, Стихи летели в голубую вечность, Сначала – даль, Россия, бесконечность, А следом дань: судьба, бессмертье, рок... И сколь мерцанье полуночных рек, Смиренность поля, сумерек, простора Милы для сердца, сладостны для взора – Столь страшен суд и столь короток век. * * * Когда сумрак напишет поле одним мазком, Когда капли медлят и пыльно соломой пахнет, Ты прикинешься пылью, глиной, простым сурком, Суд пока что не Страшный и гром в небесах не жахнет. Ещё пахнет рекой и хлебом, что здесь не жнут, Или просто вечностью, ветхостью, паутиной, Или просто рогожей, в которую завернут Или поймают, как мелкую тварь-скотину. И взмолишься ты, но не вырваться из рогож – Отпусти меня, мрак, и верни простору, Там есть норы, дома, хоть я в них не вхож, Там есть горы – мы, звери, уходим в горы; Есть леса, в них точно прокормишься, коль тепло, Или точно замёрзнешь, как только зима настанет. Если это отчизна, то с ней нам не повезло, Но любовь такая, что душу и сердце ранит. Отпусти меня, смерть, у тебя уже все права, Но острее памяти, сердца, его укола Ощущаешь жажду чувства облечь в слова И оставить следы – эти точки, тире, глаголы. ВИКТОР САНЧУК * * * Он под Гончими Псами летит, словно во поле волк, – долгий призрак, гонимый укушенной насмерть державой. Бьют жестянки подков – Святополк, Святополк, Святополк – по серебряной с чернью весне да по осени ржавой. Двух отцов непутёвый, от блуда заблудевший сын, Потьмы князь без престола, в отечестве – братоубийца, там, где вышли Карпаты к столу азиатских равнин, – пустит ночь под крыло, как большая двуглавая птица. Или полднем морозным белесую ленту дорог он наложит на узкую полосу низкого неба, развернёт – вдоль по зимнику – флагами двух берегов и подпачкает смешанной кровью Бориса и Глеба. И не этой ли красною жижей зрачком налитым никуда не прикаянный он, ниоткуда не званный, вдруг провидит татарскую лютость в родстве Калиты и опричную гордость падучей безумца Ивана. Бьётся сердце в груди, словно в бредне холодный осётр, там, где рек кутерьма и бессрочна тюрьма небосвода. И, на круп осадив, будто вместе он с пащенком, Пётр давит медную желчь из покуда незрячего года. А ещё – это Павловский ополоумевший полк заведёт скакунов – ни присяги, ни брата, ни стяга, – только долгий галоп – Святополк, Святополк, Святополк – вечный призрак, летящий по бледному следу Варяга. Да старик-крестьянин, на какой-нибудь к дому версте завернув на большак, пошатнётся – ни мёртвый, ни пьяный, и, полжизни убогой едва ли пребыв во Христе, тычет в князя перстом и крестится, шепча: окаянный! * * * Как вечеру впору двух окон оправа – следить близорукому тихо за мной. А я, постигавший германское право, был забран в осаду славянской зимой. И, пленник, – когда неотвязна, как похоть, тоска в окруженьи безлюдных лесов, – я бережно трогал за маленький локоть “Дюаль” – повелительницу голосов. И, к помыслам строгие, в правильном строе, как чёрные буквы на чистом листе, ожившие звуки нуждались в просторе, в сплошной, как январская даль пустоте. Чтоб думать: в полночном расслабленном мире лишь власти нетленной крупицу найди, какая превыше любови Валькирий смерть ставит над жизнью, как точки над i. Не буковок бусы, но звёздная сетка – кольчугой планиде. Гремел граммофон, где окон оправа, и ветер, и ветка, как чья-то рука, отгонявшая сон, чтоб я заучил – как бы климата фактор на Север войною собравшийся враг: да здравствует Вагнер. Да здравствует Вагнер. Да здравствует Вагнер. Да здравствует мрак! 1983 Алисе Целковой Приди из прошлого. Когда-нибудь в каморку дня шагни из Зазеркалья, из той страны, где серебро и ртуть, еще не загустев, стеной не стали. И потому, откуда б ни смотреть, взгляд не вернется памятью напрасной: есть только жизнь, а дальше – просто смерть. И мы на пару этому причастны. Там отсветы не рушатся из мглы на годы, как нарушенная клятва, – на двух замкнувшихся миров углы, – на два катрена, множенные на два. Там есть близнец для каждого числа. Из прошлого в оконницу печалей шагни. Ещё я верю в чудеса: нам восемь лет. И жизнь ещё в начале. * * * Гори, гори, сияй, моя звезда, сойди, сорвись, скатись ко мне под веки – холодная, как слово "никогда", и ясная, как буковки "вовеки". В моей земле давно уже зима, и серый снег совсем уже не внове, и снятся мне война или тюрьма, и остывают дружбы и любови. Вот десять лет, и десять тысяч лет сжимаются в мерцающую точку. Есть только свет, далекий долгий свет, терзающий глазную оболочку. * * * "...Боевой геликоптер..." Из русского перевода Оруэлла Свет не бьётся еще в пограничье потёмок, как под крышкою неба сентябрь-воронёнок. И безмолвно за тенями следует Аргус вечным стражем. Мне страшно. Кончается август. Я усну. Поплывёт золотой островок вольным морем. И вдруг словно выкликнет кто-то: это крестит широкого неба зевок, чертит знаки навыворот винт вертолёта. И покуда он правит, невидимый ас, – тенью, что над древесной пучиною скачет, строже Аргуса мёртвый радаровый глаз сторожит мою лёгкую душу. И значит, в жестяной, изнутри запираемый дом колотись, – маскировкой теряй оперенье и, как плешь, рассекречивай аэродром в безобидных полесьях, пернатое время. Близорукая юность, припомни меня, от цыплячьих сезонов зоо-экспедиций в лобовое стекло наступившего дня виновато стучась замерзающей птицей. По инерции долгий верша оборот, здесь по кругу земли ходит призраком сизым, словно лопасть пропеллера, движется год надо мной, как над выключенным механизмом. Это сон: словно к солнцу тяжелую дверь из полуночной мглы кто-то медленно отпер, а за ней – неба светлую акварель месит в двух плоскостях боевой геликоптер. СТИХОТВОРЕНИЕ Эту вещую память, эту птицу живую – с нервным клёкотом в клюве, с нежной корпией пуха – я беру осторожно – рукою под брюхо – приласкать, как – с опаской – собаку чужую. Так пугающе тихо работают стрелки. И в согласьи их поскрип с пейзажиком зимним, – эта жадность: раздвоенным жалом змеиным гладко вылизать всех циферблатов тарелки. Запрокинутой кружкой стеклянною жжётся кромка полдня, и вывернут шар златопузый. Бытие, как автобус, попятится юзом, так, что кажется, будто вот-вот и сорвётся. Но, как в зеркале, вижу смещенье любое, где за зеркалом льда вьётся в тесном затворе, тянет руку река к беспредельному морю – где-то тронуть отлив пятернёй голубою. Желторотый птенец, тот, который уронен – в край Каины, – вовнутрь круга зимнестоянья, по наивному мнит, что игрой воркованья он каминный трещёт заменяет ладоням. * * * Глухая, как по комнате ходьба, – о четырёх стенах, но путь неведом – то над прошедшим кружится судьба, то тянется, как вечер за обедом. Под фонарями вертится метель, словно в стаканах юности гранёных, где время, как ревеневый кисель со сгустками смертей нерастворённых. Живёт в глазах игрушечный мирок. Осколки собирает роговица. Танцует среди кубиков волчок и не умеет сам остановиться. Мой сын – смышлёный мальчик – хмурит лоб, когда растут минуты и дробятся, – в строении так прост калейдоскоп: и нужно разобрать, чтоб разобраться. * * * Как внутренность большого шара, пуст полночный город, и касанья ветра случайные, как давешняя грусть, его бесшумно вкатывают в лето. Где вдалеке – туманом над рекой – мерещится всезначимое что-то, когда идет на цыпочках покой, чернеют окна, как пустые соты, прильнули звезды к тонкому стеклу: мы все живем внутри большого шара. Он в брешь рассвета выпускает мглу, как от реки – клубы седого пара. * * * Когда-нибудь... Позже... Как знать... Мне, в уличный смог окунувшись, ещё остается сказать, в густой тишине оглянувшись: спасибо, что мы не из тех, пред кем бы закрыл Алигьери под грешный казарменный смех тяжелые адовы двери... Кто дна этой ночи достиг, как дна смоляного колодца, где слово сжимается в крик, и что ещё нам остается... К какой-нибудь жизни иной, в какой воздается сторицей... Когда-нибудь. Боже ты мой, как трудно постичь и смириться. * * * За днями дни текли. И вот уж поздно упрямым быть, а значит – молодым. Плывёт себе судьба, словно в морозном прозрачном воздухе – холодный дым. Жить – замечать по-стариковски: сколько прибавят утром ртутные ростки. Да ворошить во сне, как в печке, только остывший пепел давешней тоски. А стрелка так настырно, словно мальчик, резвясь с сестрою, рвётся в высоту. И маятника бляха, словно мячик, колотится во тьме о пустоту. * * * Ты приобрёл ремесленника навык, словно школяр, от знания устав. Как бы волна положенная на бок, покатится по насыпи состав. Там – в перекур – за дверцею вагонной будто приставлен ты – который год – смотреть сквозь ливень, как волной зелёной вагоны покрывают поворот. Так возвращается домой с работы должно быть токарь, ковырявший сталь. Старатель снов, ты мастеришь пустоты сырые, как над балтикою даль. И, смытая наплывами металла, как чья-та жизнь, уйдёт в небытиё пивная привокзального квартала с умершими стояльцами её. Тебя преследуют луча пылинки, уже и сами делаясь тобой. Так вытесняет темноту в бутылке из недр зелёных столбик водяной. Так набегают волны на песчаник, с него нечаянный стирая след. Так шёпот плещется в щитах жестянок: куда? кому? – в слепую щёлку свет словно бросает жёлтою рукою двугривенники липкие колёс, чтоб наше время влагой золотою в ничто сплошного прошлого лилось. ОЛЬГА СЕДАКОВА ПОСЛЕДНИЙ ЧИТАТЕЛЬ Саше ...И в эту погоду, когда, как вину, мы рады тому, что ни слуху, ни глазу нельзя погрузиться в одну глубину, коснуться её – и опомниться сразу (и что этот образ? – не явь и не сон, не заболеванье и не исцеленье, а с криком летящая над колесом мгновенная ласточка одушевленья), тогда он и скажет себе: – Чудеса! Не я ли раздвинул тяжёлые вещи, чтоб это дышало и было как сад, как музыка около смысла и речи, и было псалтырью, толкующей мне о том, что никто, как она, не свободен, – словами, которых не ищут в уме, делами, которых нигде не находят. Но, Господи, где же надежда Твоя? Ты видишь – я вижу одними глазами. И ветер вернется на круги своя. Я знаю, я чудом задуман, и я, как чудо, уже не вернусь с чудесами. – Он встанет, и сядет, и встанет опять, и в темные окна глядит, холодея. А сад будет литься, скрипеть, лепетать и жить как одно приключенье Психеи. * * * В пустыне жизни... Что я говорю, в какой пустыне? В освещённом доме, где сходятся друзья и говорят о том, что следует сказать. Другое и так звучит, и так само себе, как дерево из-за стекла, кивает. В саду у дружелюбных, благотворных, печальных роз: их легкая душа цветёт в Элизии, а здесь не знает, как выглянуть из тесных лепестков, как показать цветенье без причины и музыку, разредившую звук, как рассказать о том, что будет дальше, что лучшее всего... В саду у роз, в гостях у всех – и всё-таки в пустыне, в пустыне нашей жизни, в худобе её несчастной, никому не видной, – Вы были больше, чем я расскажу. Ни разум мой и ни глухой язык, я знаю, никогда не прикоснутся к тому, чего хотят. Не в этом дело. Мы все, мой друг, достойны состраданья хотя бы за попытку. Кто нас создал, тот скажет, почему мы таковы, и сделает, какими пожелает. А если бы не так... Найти места неслышной музыки: ее созвездья, цепи, горящие переплетенья счастья, в которой эта музыка сошлась, как в разрешенье – вся большая пьеса, доигранная. Долгая педаль. Глубокая, покойная рука лежала б сильно, впитывая всё из клавишей... Да, это было б лучше, чем жестяные жалобы разлуки и совести больной... Я так боюсь. Но правда ведь, какая-то неправда в таких стенаньях? Следует конец нести на свет руками утешенья и, как в меха, в бесценное созданье раскаянье закутать, чтоб оно не коченело – бедное, чужое... А шло себе и шло, как красота, мелодия из милости и силы. Вы видите, я повторяю Вас... ПРОСЬБА Бедные, бедные люди. И не злы они, а торопливы: хлеб едят – и больше голодают, пьют – и от вина трезвеют. Если бы меня спросили, я бы сказала: Боже, сделай меня чем-нибудь новым. Я люблю великое чудо и не люблю несчастья. Сделай, как камень отгранённый, и потеряй из перстня на песке пустыни. Чтобы лежал он тихо, не внутри, не снаружи, а повсюду, как тайна. И никто бы его не видел, только свет внутри и свет снаружи. А свет играет, как дети, малые дети и ручные звери. ЖЕЛАНИЕ Мало ли что мне казалось: что если кого на свете хвалят, то меня должны хвалить стократно, а за что – пускай сами знают; что нет такой злой минуты и такой забытой деревни, и твари такой негодной, что над нею дух не заиграет, как чудесная дудка над кладом; что нет среди смертей такой смерти, чтобы силы у неё достало против жизни моей терпеливой, как полынь и сорные травы – мало ли что казалось и что покажется дальше. УТЕШЕНЬЕ Не гадай о собственной смерти и не радуйся, что всё пропало, не задумывай, как тебя оплачут, как замучит их поздняя жалость – это всё плохое утешенье, для земли обидная забава. Лучше скажи и подумай: что белеет на горе зелёной? На горе зелёной сады играют и до самой воды доходят, как ягнята с золотыми бубенцами – белые ягнята на горе зелёной. А смерть придёт, никого не спросит. ДОМ Будем жить мы долго, так долго, как живут у воды деревья, как вода им корни умывает и земля с ними к небу выходит, Елизавета к Марии. Будем жить мы долго, долго. Выстроим два высоких дома: тот из золота, этот из мрака, и оба шумят, как море. Будут думать, что нас уже нет... Тут-то мы им и скажем: по воде невидимой и быстрой уплывает сердце человека, там летает ветхое время, как голубь из Ноева века. ГРЕХ Можно обмануть высокое небо – высокое небо всего не увидит. Можно обмануть глубокую землю – глубокая земля спит и не слышит. Ясновидцев, гадателей и гадалок – а себя самого не обманешь. Ох, не любят грешного человека зеркала и стёкла, и вода лесная: там чужая кровь то бежит, как ветер, то свернется, как змея больная: – Завтра мы встанем пораньше и пойдём к знаменитой гадалке, дадим ей за работу денег, чтобы она сказала, что ничего не видит. * * * Были бы мастера на свете, выстроили бы часовню над нашим целебным колодцем вместо той, какую здесь взорвали... Было бы у меня усердье, шила бы я тебе покровы: или Николая чудотворца, или кого захочешь... Подсказал бы мне ангел слово, милое, как вечерние звёзды, дорогое для ума и слуха, все бы его повторяли и знали бы твою надежду... – ничего не надобно умершим, ни дома, ни платья, ни слуха. Ничего им от нас не надо. Ничего, кроме всего на свете. * * * Что же я такое сотворила, что свеча моя горит неясно, мигает, как глаза больные, бессонные тусклые очи? – Вспомню – много; забуду – ещё больше. Не хочу ни забывать, ни помнить. Ах, много я на людей смотрела и знаю странные вещи: знаю, что душа – младенец, младенец до последнего часа. Всему, всему она верит и спит в разбойничьем вертепе. ОЛЬГА ТАТАРИНОВА ПРОЩАЛЬНАЯ ОДА Не прощаюсь с тобой: не пригубила встречи, Лишь любовный напиток уста изнурительно жжёт. Не прощаюсь! – не мною очерчен Стрелок пустой оборот. Не прощаюсь с тобой, потому что разлук не бывает, Потому что листву моих слов на подошвах своих ты несёшь; Не прощаюсь с тобой, потому что весна убивает, Если ты меня снова по имени не позовёшь. Всё что надо отдать из того, что мне здесь оставалось, Я слагаю шутя у порога объятий твоих... Не прощаюсь с тобой, потому что и самая малость Неизбывна во мне при пожарах и бедах лихих. Я с тобой пропою еще столько безудержных строчек, Что никто не посмеет по ним до конца разгадать – Как сумела я, вместо того, чтобы выплакать очи, Не прощаться с тобой и тебя никуда не пускать. Не прощаюсь с тобой, потому что земля ещё дышит, Потому что к другой ещё кто-то другой подойдёт, И промолвит то слово, которого мне не услышать, И придумает слово, из коего произрастёт “Не прощаюсь с тобой”... Только не было встречи, И не это совсем назначалось холодной судьбой: Не прощаюсь с тобой, ибо мне предоставлена вечность Не прощаться с тобой. ПРОГРЕСС-ЭЛЕГИЯ Я пристрастилась здесь гулять по воскресеньям. Пруд затерян среди лабораторных дач и ветряных приспособлений. В нем раньше жил зеркальный карп средь колебания растений, и яблони над ним стоят, в каре отбрасывая тени. Пещерный глаз большой трубы за ним присматривает вяло, и ветер опытный летит по яблоням, по одеялу атласной ряски. Здесь халат какой-то белый бегло брошен, здесь лютиков бурьян не кошен и урожай грибов не снят. Похоже, что и ветер брошен – ветряк разобран, не ухожен лабораторный особняк. Между стволами яблонь бродит, как неприкаянный, сквозняк, поёт одну из тех мелодий, что знал зеркальный молодняк. * * * Приснись мне снова – больше не прошу я ничего у этого пространства, проклятья между временем и счастьем других миров, укрытых плотной далью. Ты –тот, которого люблю, которого мне нашептали сказки, сплетенные из впечатлений дня, и я молю: не покидай меня одну перед лицом судьбы ненастной. Будь здесь, не исчезай и приходи опять, чтоб звук часов не смел меня пугать. НОЧЬ С ДЖЭРЕДОМ АНГИРОЙ * Я покажу любовь тебе. Я femi-aura когда отправился спать рассвет когда напрягся изнурённый воздух часы застыли ветер улетел и в неумолчном “род-Э-рот” лягушек звучит накал изнеможенья с отчаяньем с тревогой бытия я вся твоя... Как нравится тебе моя любовь? кругом ни зги ночь выбила окно ночная лампа полыхает криком под мутной красно-шерстяной накидкой вокруг они все – тени на стене. _______________ * Джеред Ангира – современный кенийский поэт Вот этот был – и я его любила – совсем мальчишка плющ баскетболист Он мнил что он Тристан Ромео Ленский и с помутненным от любви рассудком чем больше плакал тем сильней впивался зубами влажными от слез в ладонь любви Он не в любви нашел изнеможенье (быть может я была тому виной) и неумолчный “род-Э-рот” лягушек о нем рыдает. Второй... стоит насмешливо-ущербен всё мне твердит он – есть или не есть? Он был умен и я его любила хоть пленный ум не лучший из умов. Его постигла легкая кончина и тень легка и пауза в саду... А этот, этот... О проклятье небу которое придумывает розги из белокурого клочка волос из мрачного бестрепетного взгляда из уст молчащих словно обещанье как будто может умолчать любовь. И в неумолчном “род-Э-рот” лягушек я слышу кто молчит любить не может а тот кто любит тот не умолчит Молчанье пустота молчанье вечность молчанье хор остывших белых звёзд молчанье нам останется молчанье когда рассвет погасит темноту и неумолчный “род-Э-рот” лягушек на атомной подлодке подорвется или замерзнет в вековечном льду Как коротка элегия планеты меж нами мир но это пустяки я вся твоя... Как нравится тебе любовь такая? Я вся твоя не лучшая из женщин давай построим лучший из миров ах коротка элегия планеты под неумолчный “род-Э-рот” лягушек! “СТАРЫЙ ЗАМОК” (Мусоргского) Александру Слободянику Я не жила ещё ни разу С такой томительностью дней, Чтобы почувствовать во фразе Несбывшуюся жизнь своей, Я не ходила с длинным шлейфом Среди красы молчащих роз, Прислушиваясь к звукам флейты, Скользящим с медленностью Леты, Преодолев подъёмный мост. Но запах диких орхидей, По-нашему – ночных фиалок, Напомнил мне старинный замок, Где столько бесконечных дней Коснулось красоты моей. И я так остро пожалела, Что не смогла сообразить Садовника порасспросить О той дорожке за мостом, Что тонко в зелени белела, О флейте, что за валом пела, О менестреле, может быть. Ведь может быть и может статься, Что он как раз и оказался б Тем странно брезжащим лицом, Что день и ночь вокруг блуждает И часто посещает дом, Когда так страшно и с огнём, И мне доверие внушает. * * * Да будет бутылка на светлом окне, Да будет ребёнок в зелёной кроватке, Да будут листочки блестящи и гладки, Как это однажды представилось мне. И пусть облака тут всегда проплывают И машут платочком свой белый привет, Березы стрекочут, и клёны вздыхают, И млечной невинностью дышит обед. Какого рожна мне от жизни солёной, Раз солнце умеет в окошко блистать, Раз мудрый ребенок в кроватке зелёной Меня обучает бутылкой играть. Да будет и мне это пятнышко света, Прощенье, улыбка зелёных щедрот, Созвездие Будды, Христа, Магомета Во взгляде с лукавым оттенком ответа, Который, как бульканье в соске, прост. * * * В природе прибавилось света – он к утру меня оживил. В природе прибавилось снега, надежд, наваждений, чернил. Неужто же к прибыли этой ты снова останешься глух, и нем, и невидим – как некий природу покинувший дух? * * * Андрею Тарковскому Никому ничего не даровано, кроме жимолости на кусте, кроме солнца на цинке кровельном, кроме солнц на большой высоте. Мы сами выводим заглавия наших лет, и добыча легка: сок плодов – целомудрие гравия, скромность вереска, боль ивняка. Всё, что вывели, всё, что вынесли, светлым голосом отольём, не мольбой чтоб дышало, а истиной и опорой служило во всём, что дописано нашей смекалкой, нашим сердцем и нашим огнём после крикнувших спозаранку, что и виселица – божий дом. Никому ничего не даровано, и по-прежнему волен тот, кто придумал послушным оловом затыкать непослушный рот. И не с первого взгляда зримы по лицу улики примет: но научимся видеть! Не зря мы все рисуем, рисуем портрет – Бога! Ищем в облике Бога человека достойных черт. МИКЕЛЬАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ Снежинки чёрные поют Над выходом из кинозала, И фильм, который повидала, Как сардонический прелюд С того конца земного света, Где мастер точный и скупой Собрал горошин лётких рой, Надеждой скорбной их пометил И запустил вокруг планеты Своей тоскующей рукой. Глухая дробь его раздумий, Загвоздок огнестрельный ход Меня стремительно берет За жабры совести, и муки, Столь безразличные для мумий, Бьют головой о небосвод. И понимаю час от часу, Бродя под слюдяной резьбой, Как бесконечна и прекрасна Жизнь с этой битой головой. Она особенно прекрасна Тогда, когда я вдрызг несчастна, Когда в смертельный непокой Врезаются алмазы внятно, – Любая строчка мне понятна С такой безумной головой. * * * Ах, бывает, бывает – покажется вдруг, что хоть смертен, а всё же любим небесами, что скорее кащеи, драконы и волки помрут, но не мы, с нашей веры-надежды-любви чудесами. И тогда мы спокойно садимся в кабину любви, в дирижабль, и глазеют на нас, заслонившись от солнца рукой, ротозеи. Ничего нам не страшно, ничего нам не жаль, мы воочию зрим свой грааль и от счастья хмелеем. И в мгновение мы проживаем свой жизненный сон, ради тех, кто нас любит, мы в нём чудеса совершаем, и в мгновенье, проснувшись, мы всё до копейки теряем, и не зная, как жить, реки слёз богатырские льём. Не дано нам понять, не внушит нам наш ангел – ни добрый, ни злой: третьего не дано, только гибель, и гибель, и стенка. Лопнул радужный шарик надежды хмельной – и на грязном полу сохнет серая пенка. Так латай же, латай свой разбившийся дирижабль, раз очнулся – и жив, ничего не осталось другого: только вправить суставы, вокруг оглушив сонных жаб, и допрыгнуть до неба, прекрасного и голубого. * * * Слезами воздух напоён и этой моцартовской негой, – сухой асфальт и мокрых крон слияние с сияньем неба. Сухой асфальт и мокрых крон объятья на виду прохожих, и ожил сад, и замок ожил, и влажной дальности предел наполнен бликами похожих весенне-обнажённых тел, и мой хранитель белокожий, ликуя, надо мной взлетел, и с век моих, неосторожный, свою пленительную тень нечайно сдёрнул в этот день. А воздух напоён изменой и этой моцартовской негой, слезами, хлебом и тоской, но мой слепой телохранитель, крылатый, лёгкий небожитель черезвычайно высоко, чтобы меня он мог утешить и защитить от грешных здешних. АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ * * * Уже мне реки те видны С их неземной голубизной. Три молчаливые жены Прядут и путь решают мой. О, пряхи вещие судьбы, Ведь я у берега реки, – А воды Стикса голубы, А воды Леты глубоки. А дни уплыли, как лини, Как стая резвая линей… Скажите, пряхи, где они, Мои шестнадцать тысяч дней? Где кровь моя, где мозг, где мощь, – Спрошу божественных я прях, – Как будто я играл всю ночь И проигрался в пух и прах. Что делал я, что натворил? Я проиграл что только мог – Я проигрался, как Андрий, Как Достоевского игрок. Как я успел, когда и где… Шестнадцать тысяч в ночь одну! О, дайте на кон бросить день, И я их все назад верну! И оправдаю жизнь и страсть, И то, зачем я был зачат… А пряхи продолжают прясть, А пряхи вечные молчат. О, дайте мне ещё хоть раз Сыграть и миг игры продлить… Прядут, не подымая глаз, И перекусывают нить. МОРЕ Открылось море в синем блеске. Над ним трепещет воздух душный, Трещит, натянутый на леске, И ищет ветра змей воздушный. От восхищения дуреем. Нас соблазняет моря выем. Играет девочка со змеем, Играет женщина со змием. Девчонка, ощутив свободу, На крыльях улетает в небо, И женщина ступает в воду, Как прародительница Ева. Играет женщина со змием, Играет девочка со змеем. Россия!.. Господи, прости им… Приобретать мы не умеем. Мы всё теряем, всё теряем. Всё потерявши, в землю ляжем... А то, что нам казалось раем, Вдруг оказалось грязным пляжем. * * * На проспектах твоих запылённых, На свету, если свет, и впотьмах, В грязно-серых и грязно-зелёных, Просто в грязных и серых домах, И в огромном квартирном закуте, Здесь, на третьем моём этаже, Как-то страшно мне думать до жути, Что со мной всё случилось уже. ОТВЕТ РИМСКОГО ДРУГА Целый день брожу по улицам, глазея. В Риме осень. Всё мертво, всё одичало. Туча чёрная висит над Колизеем, Неизвестно, что бы это означало. Льётся дождик. Время платит недоимку. Жалко, льётся не на пашню, а на камень В тех горбатых переулках, где в обнимку Мертвецы твои стоят с особняками. Помнишь дом, где мы не раз с тобой бывали? На лужайке облысевшей травка вянет, Не осталось даже праха от развалин, А меня туда всё время что-то тянет. В этом доме ты когда-то был счастливым И элегию читал о Джоне Донне, И плоды жёлто-зелёные оливы У хозяйки смуглолицей ел с ладони. Где весёлая хозяйка? Где маслины? Нам остался лишь пустырь за поворотом. Безусловно, позади одни руины, Но руины всё же лучше, чем пустоты. Только женщине идёт непостоянство, Мы же любим то, что в юности любили. Кто придумал, что Отечество – пространство? Это мы с тобою Родиною были. Ты мне пишешь: чем в империи томиться, Лучше жить в глухой провинции у галлов. Только стоит ли с отъездом торопиться, Ведь империи сто лет как не бывало. Рухнул Рим, никто не помнит точной даты. Вот и спорим и проводим параллели… Всюду те же кровопийцы и солдаты, Кровопийцы и ворюги, мой Валерий. Лучше сам ты возвращайся, путь недолог. Мы с женою заждались тебя в столице. Неужели так уж важно въехать в город На четвёрке в триумфальной колеснице Мимо каменной стены священной рощей, Где стоят легионеры в карауле? Мне-то кажется, на кухне нашей проще О Назоне толковать или Катулле. Воск, застывший на странице старой книги, Гости, спящие вповалку где попало. Всюду пепел, на полу огрызок фиги, На столе вишнёвый обод от бокала. А когда отмерит время Хронос гулкий, Проводить тебя сумеет старый Постум. Вместе выйдем на последнюю прогулку И отправимся на твой любимый остров. * * * Жизнь приходит с утра И меня беззастенчиво будит: Жить пора, жить пора, Справедливости нет и не будет! И толкает меня, и идёт вслед за мной конвоиром, И могу только я – ей в насмешку – смеяться над миром. Эй, вы, люди, зачем вы поверили в эту отраву, В этот мир, и деревья его, и растенья, и травы, Из-под самых колёс, Где кромсает, и давит, и мелет… Где взять слёз, Чтобы верить всерьёз, Да, наверно, никто и не верит. : * * * Хочу хоть раз постигнуть мир, А там весь век лежать в падучей. Хочу уверовать на миг В единственность своих созвучий. Но стих не передаст мечты. Быть может, смысл в напрасном тщеньи – Чем тоньше схвачены черты, Тем отдалённей воплощенье. ВЕСНА ДЕВЯНОСТОГО Борису Чичибабину Ты скажешь: ветреная Геба… Ф. Тютчев О, как тебе, несчастная страна, Всё соответствует в природе, На склоне века дряхлая весна Пришла о девяностом годе. В лохмотьях туч, расхристана, седа, Она явилась в край разрухи. Из грязных луж и колотого льда Глядит на нас лицо старухи. Из глаз слезящихся и почерневших рам По стенам на асфальта плиты Течёт, течёт и обнажает срам, Ещё вчера под снегом скрытый. Она смеётся, старая карга, И зубы скалит, и глумится… Там сруб обугленный, здесь в нос шибает гарь, И пепел в воздухе клубится. Мальчишки жгут на пустыре костры, Где под кладбищенскою кручей Венки бумажные, и сгнившие кресты, И унитазы в общей куче. И к центру города над сетью эстакад Ползёт со стороны кладбища Не дым отечества, а горький этот чад, Дымок родного пепелища. * * * Он ищет читателя, ищет Сквозь толщу столетий, и вот – Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. Сквозь сотни веков, через тыщи, А может всего через год – Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. Ты скажешь: «Он нужен народу…» Помилуй, какой там народ? Всего одному лишь уроду Он нужен, который прочтёт. И сразу окажутся лишни – Овации, слава, почёт… Один сумасшедший – напишет, Другой сумасшедший – прочтёт. * * * Конечно, наш Господь безбожник, Поскольку Бога нет над Ним. Он беспощаден, как художник, К произведениям своим. И одержимый, словно Врубель, Он сам не знает, что творит – Нечаянно шедевр погубит И вновь уже не повторит. ИЛЬЯ ТЮРИН ПОХОРОНЫ БРОДСКОГО Мне самозванство запретило Делить с чужими власть мою, И венецийскую могилу Я издали осознаю. Воссоздаю печальный опыт На лицах дворни записной И снизу доносимый ропот Бредущей обуви земной. И в шествии фаланги стройной Своих и зрительских цепей, И в блеске урны неспокойной, И в тучном ходе голубей, И в глухоте окружных башен, И в сотрясении воды – Встаёт Орфей, велик и страшен, Идёт и пробует лады. Он шёл, одет случайным шумом, В другую сторону, один, Навстречу однозвучным думам И гулу движимых картин. Как много шло в потоке мимо И ложных, и прекрасных сил! Но он борьбу и гибель мира, Невидимый, не ощутил. И был он большему созвучен: Не различая свет и тьму И равенством нежданным мучим, Он молча следовал ему. НОЙ Одиночества нет. Лишь сознание смерти других Или собственной – это для вас одинаково плоско. Только Бог и остался, оставленный мозгом, – как штрих Для себя: чтоб не крикнуть про землю на этой полоске. Память знает о времени то, что не видит в окне, Но успела прочесть между “здравствуй“ и брошенной трубкой. “После нас – хоть потоп”, как заметили те, что на дне. Как заметит душа, возвращаясь обратно голубкой. ГРОМ В ложных сумерках всякое горло в Москве Говорит о грозе в полный голос. Есть, где ужаса взять помутнённой листве; В буйстве форток читается гордость. И плывут по короткому небу пловцы, Как в купальные дни на запруде, – Тяжелы и упруги, как все жеребцы, Все машины, все купы, все люди. Меркнет дом – будто бы за спиной беглеца Уменьшаются образы вышек, И соседского в раме не видно лица, Хоть и знаешь, что к ливню он вышел. И клубящийся гром в близорукой траве, Как ладонью, находит початок: В мыслях неба, в курчавой его голове Остаётся родной отпечаток. Но с глазницы спадает виденье дождя, И встаёшь у долины при входе – Так слепые певцы себе жаждут вождя, А на грех только зренье находят. Глаз увидит, как начатый в ливень стишок Обратится посланием с Понта – И сознанье опустится вниз на вершок, Словно те, кто достиг горизонта. ГЕОГРАФИЯ Кому, как не тебе, – по ремеслу Родиться в глубине земли усталой, Где пол определяют по веслу Или штыку в глухой руке у статуй; По фонарю: когда погашен – день, И ночь – когда разбит. По тени дома – Что дом ещё отбрасывает тень, И смерть не ждёт в конце второго тома Всех писем, что оставишь по себе, Всех адресов (все адреса так узки!), Всех песен, где меж строк – лишь Бог и бег Да Нобель, окликающий по-русски. * * * Живущему, как прежде, на Земле, Отравленному, как ни разу прежде, – Мне кажется, что вещи на столе Всё те же и изъяна нет в одежде. В кармане звякнет (если протянуть К нему в живот неласковую руку): Так было утром. И полдневный путь В окне купе не обновил округу, И свежестью спасают не слова. Привычка к ним нас убедит в обратном: Стежки у хирургического шва, Они ценны в повторе многократном. ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА Нам памятные числа в ряд Выстраивает время: десять, Пятнадцать, сорок, пятьдесят – В надежде нас точнее взвесить. Мы начинаемся тогда, Когда по чьей-то смерти минут Определённые года И землю к нам на шаг подвинут, Чтоб твёрдость подгадать стопе, И мозгу в маленькие мысли Плеснуть словарь, и на пупе Связать нас в узел, чтоб не висли. Когда же разум обретёт Для цифр достаточную крепость, Нам снова подвернётся год, Как неразборчивая редкость, – И нету смысла полновесней, Чем тот, каким она полна. И нету сил смешаться с песней, Которую поёт она. Е.С. Я теряю мелодию. Губы дрожат, и детство Возвращается, как Одиссей, со слезами в дом. Вопреки одиночеству, знай, я избрал соседство С расстояньем таким, что и глаз-то берёт с трудом. Голова, что верблюд, незабвенной деталью вьючна. Никакому в бесплодные ясли мои не дойти лучу, Потому что была ты мне горше испуга – и так созвучна, Что себя в этой смеси и сам я не различу. ОСТАНОВКА Как кружатся кварталы на Солянке, Играя с небом в ножики церквей, Так я пройду по видной миру планке – Не двигаясь, не расставаясь с ней. Дома летят, не делая ни шагу, Попутчиком на согнутой спине. И бег земли, куда я после лягу, Не в силах гибель приближать ко мне. Танцует глаз, перемещая камни, Но голос Бога в том, что юркий глаз – Не собственное тела колебанье, А знак слеженья тех, кто видит нас. Среди толпы Бог в самой тусклой маске, Чтоб фору дать усилиям чужим: Чей взор богаче на святые пляски? Кто больше всех для взора недвижим? * * * Все знают, чем прекрасно заточенье Для летней скуки праведной души. Ей кажутся целебными движенья Недель, и трав, и бабочек в глуши. Но от Спасения нескромных взоров Рассудку не укрыться в деревнях, Среди печей и радужных узоров Небытия на многолетних пнях. Я отвлечён от городских трудов, И сердца запоздалое усердье Ночует в небе конченого дня. Гляжу без зла. Минуй мой бедный кров И, словно мудрость или милосердье, Яви свой лик: не беспокой меня. ПАРКЕР (мои чернила) Я говорю: я не прерву письма До чёрных дней, до пиццикато Парки, – Но ты – мой чёрный день, флакончик Паркер. Какая за тобой настанет тьма? Какая чернота, ты скажешь ли, И что за глушь, не знающая вилки, Быть может действеннее замутнённой мглы Твоих следов на горлышке бутылки? Ты, о флакон, ты не бываешь пуст. И я, как Ив Кусто, в твои глубины Всего на четверть обнаружил путь. Даст Бог – я опущусь до половины. Даст Бог дождя, даст ночи – я приму И на себя частицу океана; Даст горя, Паркер, – и в густую тьму Мы вступим вместе, как в дурные страны. Ты знаешь их. Ты мне переведёшь Их крики и питейные рассказы, Пока и сам за мной не перейдёшь На тот язык, что за пределом фразы. Где Паркер мой? Я многого хочу. Перо не смыслит крохотной головкой. Я только море звукам обучу: Оно черно. Как след руки неловкой. АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ в итоге игоревой сечи в моторе полетели свечи кончак вылазит из авто и видит сцену из ватто плашмя лежат славянороссы мужиковеды всей тайги их морды пристальные босы шеломы словно утюги повсюду конская окрошка евреев мелкая мордва и ярославна из окошка чуть не заплакала едва кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьёй там половецкие кадеты уже построены свиньёй там богатырь несётся в ступе там кот невидимый один и древний химик бородин всех разместил в просторном супе евреи редкие славяне я вам племянник всей душой зачем вы постланы слоями на этой площади большой зачем княгиня в кухне плачет шарманщик музыки не прячет плеща неловким рукавом в прощальном супе роковом сарафан на девке вышит мужики сдают рубли пушкин в ссылке пьёт и пишет всё что чувствует внутри из кухонного горнила не заморское суфле родионовна арина щей несёт ему в судке вот слетает точно кречет на добычу певчий бард щи заведомые мечет меж курчавых бакенбард знает бдительная няня пунш у пушкина в чести причитает саня саня стаканищем не части век у пушкина с ариной при закуске и еде длится спор славян старинный четверть выпить или две девка чаю схлопотала мужики пахать ушли глупой девке сарафана не сносить теперь увы с этой девкой с пуншем в чаше с бенкендорфом во вражде пушкин будущее наше наше всё что есть вообще На лавочке у парковой опушки, Где мокнет мох в тенистых уголках, С утра сидят стеклянные старушки С вязанием в морщинистых руках. Мне по душе их спорая работа, Крылатых спиц стремительная вязь. Я в этом сне разыскивал кого-то, И вот на них гляжу, остановясь. Одна клубки распутывает лихо, Другая вяжет, всматриваясь вдаль, А третья, как заправская портниха, Аршинных ножниц стискивает сталь. Мгновение неслышно пролетело, Дымок подёрнул времени жерло. Но вдруг они на миг прервали дело И на меня взглянули тяжело. В пустых зрачках сквозила скорбь немая, Квадраты лиц – белее полотна. И вспомнил я, ещё не понимая, Их греческие злые имена. Они глядели, сумеречно силясь Повременить, помедлить, изменить, Но эта, третья, странно покосилась И разрубила спутанную нить. Бредит небо над голым полем И дорога белым бела. С обезглавленных колоколен Облетают колокола. Опадают, раскинув руки, И по ниточкам снежных трасс Одиноко блуждают звуки, Забинтованные до глаз. Тихой стужей и летом сонным Под ногами дрожит, пыля, До краёв колокольным звоном Переполненная земля. У лавки табачной и винной В прозрачном осеннем саду Ребёнок стоит неповинный, Улыбку держа на виду. Скажи мне, товарищ ребёнок, Игрушка природных страстей, Зачем среди тонких рябинок Стоишь ты с улыбкой своей? Умён ты, видать, не по росту, Но всё ж, ничего не тая, Ответь, симпатичный подросток, Что значит улыбка твоя? И тихо дитя отвечает: С признаньем своим не спеши. Улыбка моя означает Неразвитость детской души. Я вырасту жертвой бессонниц, С прозрачной ледышкой внутри. Ступай же домой, незнакомец, И слёзы свои оботри. Внедряя в обиход ночную смену суток, Где голый циферблат смыкается в кольцо, Мы окунаем жизнь в голубоокий сумрак, Чтоб утром воссоздать повадку и лицо. И то, что в нас живёт, и то, что дышит нами От вязки пуповин до выдоха в ничто, По скудости души мы именуем снами, С младых ногтей в мозгу построив решето. Тому, кто будет мной, когда меня не станет, Я завещаю речь, голубоокий свет В краю, где сон и явь меняются местами И выверен итог в столбцах житейских смет. Я понял твой урок, сновидческая раса, Пронзая сферу сна, как лазерный рубин. Я – спящий часовой предутреннего часа, В котором светлый день возводят из руин. До хрипоты, по самый сумрак, Пока словам работа есть, Не просыхай, венозный сурик, Работай, флюгерная жесть. Трудись, душа в утробе красной, Как упряжной чукотский пёс, Чтоб молот памяти напрасной Полвека в щепки не разнёс. Хребет под розги без наркоза, Как Русь на борозду Петра, Пока любовь – ещё не поза Для искушённого пера. Незарубцованною кожей Верней запомнишь, не шутя, Что человек – найдёныш Божий, А не любимое дитя. Пока под кожей оловянной Слова рождаются, шурша, Работай, флюгер окаянный, Скрипи, железная душа. В похвальбу, из пустого геройства Нелюдские предпринял труды Архитектор земного устройства, Пиротехник песка и воды. Как подумаешь, сколько добра там Перетрачено жёлтым цветком – Не возьмёшь перекоса домкратом, Надо сваи менять целиком. Надо сделать прямее и чище, Дорожа наступающим днём, Невысокое наше жилище, Чтобы ветру понравилось в нём. Оскудевает времени руда. Приходит смерть, не нанося вреда. К машине сводят под руки подругу. Покойник разодет, как атташе. Знакомые съезжаются в округу В надеждах выпить о его душе. Покойник жил – и нет его уже, Отгружен в музыкальном багаже. И каждый пьёт, имея убежденье, Что за столом все возрасты равны, Как будто смерть – такое учрежденье, Где очередь – с обратной стороны. Поёт гармонь. На стол несут вино. А между тем все умерли давно, Сойдясь в застолье от семейных выгод Под музыку знакомых развозить, Поскольку жизнь всегда имеет выход, И это смерть. А ей не возразить. Возьми гармонь и пой издалека О том, как жизнь тепла и велика, О женщине, подаренной другому, О пыльных мальвах по дороге к дому, О том, как после стольких лет труда Приходит смерть. И это не беда. Серый коршун планировал к лесу. Моросило, хлебам не во зло. Не везло в этот раз Ахиллесу, Совершенно ему не везло, И копьё, как свихнувшийся дятел, Избегало искомых пустот. То ли силу былую утратил, То ли Гектор попался не тот. Не везло Ахиллесу – и точка. Чёрной радуги мокли столпы. И Терсит, эта винная бочка, Ухмылялся ему из толпы. Тишина над судами летела, Размывала печаль берега. Всё вернее усталого тела Достигали удары врага. Как по липкому прелому тесту Расползались удары меча. Эта битва текла не по тексту, Вдохновенный гекзаметр топча. И печаль переполнила меру, И по грудь клокотала тоска. Агамемнон молился Гомеру, Илиаде молились войска. Я растягивать притчу не стану, Исходя вдохновенной слюной. В это утро к ахейскому стану Вдохновенье стояло спиной. Всё едино – ни Спарты, ни Трои, Раскололи кифару и плуг. Мы одни среди пролитой крови, Мы одни – посмотрите вокруг. Я «фита» в латинском наборе, Меч Аттилы сквозь рёбра лет. Я трава перекатиморе, Выпейветер, запрягисвет. Оберну суставы кожей, Со зрачков нагар соскребу, В средиземной ладони Божьей Сверю с подлинником судьбу. Память талая переполнит, И пойдут берега вразнос. Разве озеро долго помнит Поцелуи рыб и стрекоз? Я не Лот спиной к Содому, Что затылочной костью слеп. Я трава поверникдому, Вспомнидруга, преломихлеб. Но слеза размывает берег, Я кружу над чужой кормой, Алеутская птица Беринг, Позабывшая путь домой. Зачем же ласточки старались? Над чем работали стрижи? Так быстро в воздухе стирались Тончайших крыльев чертежи. Так ясно в воздухе рябило – И вот попробуй, перечти. Так моментально это было – Как будто не было почти. И мы вот так же для кого-то Плели в полёте кружева. Но крыльев тонкая работа Недолго в воздухе жива. К чему пророческие позы Над измусоленным листом? Мы только ласточки без пользы В ничейном воздухе пустом. АЛЛА ШАРАПОВА НАТАЛИ Кареты их встретились. Данзас встрепенулся: встреча эта могла поправить всё. Но Натали была близорука, а Пушкин глядел в другую сторону. (Из воспоминаний А.Амосова) Морозный день. И две кареты рядом. На бал. На смерть. И воздух как слеза. Она бы мир остановила взглядом, Когда бы снег не падал на глаза. Но так не вышло. Не остановила. И снег не таял у холодных век. Так говорят: она его забыла За десять лет. Но если этот снег Летит в глаза, страданью нет предела И море слёз без дна и берегов. О, сколько ты, Россия, проглядела Среди твоих нетающих снегов, Где каждый, кто назло врагам родится, С улыбкой гибнет, преданный врагу. О, сколько снегу на твоих ресницах И сколько крови на твоём снегу! * * * Белой стаей, станом лебединым Пролетела за весной весна. Кто-то клялся Аннам и Маринам, Что ещё наступят времена. Кто-то клялся мрамором лицейским, Острыми чертами Казанов, Кто-то клялся вдовам офицерским, Что ещё на свете есть любовь. Кто-то верил. Кто-то, кто-то, кто-то... Всё кипело, не прочесть имён. Под прикрытьем уходили роты В мареве пороховых знамён. Отступленья. Но и в этом шквале Где-то голосили петухи. Мальчики по почте отправляли Злые неумелые стихи. Всё равно – Маринам или Аннам... Падали в огонь, сжимая грудь... Белой стаей, лебединым станом Улетело, скрылось, не вернуть. ИМЯ Имя мое не вини, ко лжи не причастное: Алла. Лгали другие слова, но имя не лгало. За озорные слова, за неверность родне, За беспокойство, убившее силу во мне, В час установленный жизнь у меня отнимая, Имени не отними, оглашенного, гласного: Алла... Так говорила, о Боже, раба Твоя Алла, В церкви забвенной под антифон причитая, Плача так безутешно, как плакала Галла, Что не пустила её на Афон Пресвятая. И улыбнулся ей Ангел, среди облаков пролетая. СИДЯ НА ПОДОКОННИКЕ Много ль надо мне? Я ведь маленькая. Отчего меня гонят прочь? Может, чёртова, может, маменькина, Но ведь всё же я чья-то дочь... И, наверное, назло нотариусам, Подписавшим мне целый свет, Я на кромке окна состариваюсь, И других территорий нет. В тех каморках, где лампы-виселицы И надгробные потолки, Где красивый чахнет от сифилиса, Некрасивая от тоски, – Там философ, что бредил ангелами, Скажет мне, покосясь на свет: “Где бессилен закон Евангелия, Вам, живой ещё, места нет!” Что ж! Порода моя не редкостная! Не таиться же от людей! Окрестите меня окрестностями И бескрайностью площадей! Уведи меня, путешественница, В заоконную сей страны! “Извините, – скажет, – предшественница, Людям мёртвые не нужны”. Вот и жизнь – не сойтись с покойниками, Без меня и живые пьют. И разрезан мир подоконниками На свободу и на уют. * * * В чёрных телеграфных проводах Запевают звёздные хоралы Что-то о весёлых поездах, Малость не домчавших до вокзала. Только крест приблизится к кресту И кресту прошепчет: “Вы тут крайний?” И считаю за верстой версту Вдоль от Магадана до Украйны. И пока, свиваясь, темнота У твоих ресниц не заклубится, Спят на электрических крестах Белые фарфоровые птицы. И, урвав какой-то сладкий миг От забот ночного перелёта, Ястребы бросаются на них, Как на хаты бомбы с самолёта. И летят, голодные, назад, Лишь побьются клювы по фарфору, Да глядят бездонные глаза В филиново око светофора... “Я к тебе, единственный мой друг! Видишь, я прозяб до подноготной, Кровь больная просится на юг От клопов, от пагубы цинготной. Я давно хотел. Но кровь раба Не пускает в дальнюю дорогу. Вроде бы осел, моя судьба, Стал поприживаться понемногу. Там ведь тоже город – Магадан. Там другое море – но ведь море...” (Видится ему упругий стан, Силуэт на вылинявшей шторе, И как золотого светлячка, Чуть не захлебнувшегося в рюмке, Вынимала тонкая рука, Как потом он гладил эти руки. Тридцать лет как нет её руки, – И ещё найдёшь такую где же? А в лесу на юге – светлячки, И всегда они одни и те же!) “Равновесья не сулил тот год, Все тряслось, шарахалось, металось... Девочка моя, послушай вот, Понимаешь, что мне намечталось? Чтобы Рай, Чистилище и Ад Взять на землю из мечты поэта... Почему твои глаза горят? Я ведь просто так. Прости мне это. Слушай! Размотал я двадцать лет, Двое нас осело в Магадане: Я да мой сокамерник-сосед, Мы с ним воевали у Тамани. Пучеглазый этот крокодил, Денщиком служил он у комдива – Как на бал, расстреливать ходил, Падают по одному, красиво, Это, молвит, надо понимать, И глаза у самого смеются. Как хотелось руки мне размять, По стене трухлявой размахнуться, Чтоб ни этой рожи, ни стены... Но одними русскими попами И одной мы верой крещены И одними кусаны клопами – Спинами же спим к одной стене... Одного лишь не могу постичь я: Почему ты улыбнулась мне Из твоих туманов, Беатриче? Ты меня простила? Как летят Верстовые! Разве в силах спать я... С каждой высоты они глядят, Эти птицы, с каждого распятья!..” Он к утру забудет обо всём, И столбы и думы канут в бездну. Лишь вагон последним колесом Медленно гремит по переезду. * * * Всего прекрасней ранние вставанья И празднующих городов салюты, Которые не меркнут от сознанья, Что пошатнулась вера в абсолюты. А за окном промчавшаяся надпись, Хоть славила она творцов бесправья, Она так хорошо вписалась в насыпь, Как в корки книг их славные заглавья. Она сердца переполняла тайной В те дни, когда читать мы не умели И рупора над пыльною окрайной О том, что мир прекрасен, нам шумели. КОСТРОМА Спой мне, матерь моя Кострома, Как сводили строптивых с ума, Как их бедность вела под венцы, Как дарили им кольца купцы Да просили сыграть что-нибудь... Как с обиды им целились в грудь, Как с обрыва толкали их в пруд, – Не утонут, от ран не умрут, Ведь не тело, а кровь да эфир У Ларис, у Анфис, у Глафир... Из эфира и крови луна. Монастырская в поле стена. За стеной, за излучиной – Плес. Два пригорка в венцах из берез, Как жених с нареченной, стоят. Белый катер летит на закат. МАРК ШАТУНОВСКИЙ монолог патриота мы когда-то чего-нибудь сможем мы утрёмся и дальше пойдём мы телегу империи смажем двинем шибче в кромешный потём видишь сумерки нашей свободы не жлобись всё равно пропадать пусть отколются где-то народы мы ж хранимые ею уроды перекурим и сможем поддать есть насильственность в русской природе я не спорю – я тихо блюю по такой по собачьей погоде на идейность и я не клюю но и запад не лучше а круче вместо Бога щенячий комфорт всё равно что от жизни ползучей попытаться слинять на курорт так и так выйдет смертная скука рай земной но с амбарную клеть Бога нет доказала наука там и там мол тебе околеть только здесь хоть грязнее и злее да и сам матюгами оброс но однажды за мной в бакалее занял очередь чистый Христос ну а значит должно быть так надо через скотство земное постичь что в подножье Небесного Града и положена вся эта дичь вот когда оно всё прояснится станет каждый как райская тварь только надо душой потесниться перемучаться перекреститься ведь судьба – это только букварь (подражание державину) никаких комментариев к истине, только так, кое-как, на глазок. может быть, недостаточно искренне, все равно что носить образок. это время такое сыпучее понабилось во все потроха, помереть не представилось случая, но и жизнь не выходит пока. и на этой предельной дистанции никаких промежуточных вех, тут иного порядка субстанции, здесь две меры: прощенье и грех. и по этим скупым ориентирам совокупность оттенков и форм обозначится бледным пунктиром – отраженьем всех мыслимых норм. ну, а то, что само разожмется и метнется в прощенную высь, неопознанным в нас приживется, по-мышиному будет скрестись... вечный жид за ним тянется шлейф одиночества в коммуналке средь множества душ где он шаркает шагом высочества отправляясь в гальюн или душ и как метеорит в атмосфере протаранивший черный тоннель его жизнь уменьшаясь в размере превратилась уже в самоцель сквозь тоннель его жизни сгоревшей дует в спину промозглой судьбой но от жизни своей потерпевший выжил он хоть и жил на убой и уже ничего не поправить и одна только выгода в том что нельзя понукать или править одиночкой не ставшей гуртом и встречая его в коридоре обдает меня тусклый мотив как о пламенном пелось моторе как он жил свою жизнь закусив а теперь как подачку на старость просыпаясь ни свет ни заря пережить напоследок осталось что он выжил напрасно и зря что гораздо осмысленней сгинуть если жил все равно на убой это в общем не сложно прикинуть Царство Божье берется гурьбой (париж-москва) когда глядишь глазами вогнутыми на неразборчивый пейзаж то кажутся почти что чокнутыми ландшафты сданные в багаж и равнодушные растения больные словом "недород" и с раздраженьем неврастеника зима жующая народ патриотизм невразумительный прости меня но ты дуришь я под твоей опекой бдительной качусь в москву послав париж ты ж над страной косящей в пропись разбрызган как аэрозоль оставь мою в покое совесть она уже почти мозоль сельский вид читает реку солнце по слогам и ежесловно набирает вес, послушен разговорчивым лугам неграмотный офонаревший лес. и с косогора легче, чем с трибун, произнестись и побежать, как речь, чтоб села не накликали типун, несамодельной правдой не перечь. когда бы воздух в гласных не погряз, не пузырился б, как рукав втачной, и памятлив избы коровий глаз, и легковерен дым трубы печной... муха все нитяное туловище мухи нанизано на нервную систему с моточком мышц, наверченных на брюхе, и на подвесках лап поставлено на стену. она несет свои простые мысли и, может быть, свои большие чувства так, если бы ее сомненья грызли о смысле жизни, сложной и невкусной. забравшись к мухе в ворсовые поры, на ней живет микроб дизентерии, он сам с собой ведет подолгу споры о мерах пищевой санитарии. а мы живем с тобою по соседству от нежной мухи, мудрого микроба, но как-то так нас приучили с детства, что мы умней и сделаны особо. и как бы ни была ты грандиозна, почти трансцендентальна и прекрасна, на эту муху смотришь ты нервозно, хотя она нисколько не опасна. и ты берешь вчерашнюю газету с трухою освещенных в ней событий, и убиваешь ею муху эту, лишив ее предчувствий и наитий. и сразу в комнату ворвался скорый поезд, на стыке рельсов грохоча железно... а можно было жить, не беспокоясь, и жить себе легко и бесполезно. страсти по эвклиду приземистый простор пронзительных равнин, прямолинейность средств, прокол воображений, кто сочинил тебя из односложных длин – подчеркивал тобой бесплодность заблуждений. здесь потому творец прибегнул к простоте, что в творчестве ему прискучила прилежность, и он нагромоздил в простынной чистоте всю эту протяженность, как погрешность. здесь всякому легко дается правота, поскольку сводит он ее к прямой природе, здесь приблизительность, как оспа, привита и мнение растет на каждом огороде. здесь нет проблем с судьбой, напяленной на быт, и повседневность здесь приведена в привычность, ничто здесь не, никто здесь не забыт; ничто, никто: в неточности – типичность. чтоб больше не любить лесов, полей и рек, дай отравить себя сентиментальной фальши, ты можешь даже плен задумать, как побег, жизнь поторапливать, не досмотрев, что дальше. из лени в автобиографию вписать избыточные, но полезные мытарства, ты можешь сам себя восторженно кромсать и принимать свои увечья за лекарство. но осмотрись кругом. ты едешь в электричке, ползущей по кривой на плоскости равнин, теперь освободись от медленной привычки подсчитывать длину прожитых нами длин. пусть все идет себе, как кадры в фильмоскопе, и только подписи ты успевай читать. на сгибе азия припаяна к европе, чему быть дальше – можно угадать. плачущее изваяние зеркальные шары снабжённых зреньем глаз – их поворотники вращают на осях, зрачки их крепятся на лучевидных спицах, они свободно плавают в глазницах. от них ведут двух кабелей жгуты, чьи окончания зажаты в клеммах мозга. мне объяснить осталось, как же ты свой зрительный процесс преобразуешь в слёзы. ты поливаешь два растущих в кадке глаза горючею водой родных морей и рек, и от желанья жить в крови вскипает плазма и зрение дает ещё один побег. на острие его, где набухает в почке в природе содержащаяся власть, дрожащая слеза застряла в мёртвой точке и порывается сорваться и упасть. ты собираешь в сахарницу слёзы, ты накрываешь стол в расчёте на двоих, ты смотришь на часы, век не меняя позы, и ложечкой помешиваешь их. и вот идут часы, глаза впадают в реку, в природе завершив земной круговорот, смыкаясь, веко прикипает к веку, и, обезвоживаясь, трескается рот. в шкафу на вешалках без света вянут платья, размякли на окне цветочные горшки, зеркальные глаза в шкафу хранятся в вате, под ними пролегли отёчные мешки. а у окна сидит разбитая скульптура с рукой, подвешенной отдельно на шнуре, торчит из каменных деревьев арматура и зрение растет на пыльном пустыре. (неразмыкаемый круг) научить разговаривать небо на понятном тебе языке все равно что бориса и глеба на коротком водить поводке не клянись пошатнувшимся сводом над садовой своей головой – не повадно ни хлябям ни водам ни на них городящим народам опоясывать круг силовой и под тем неразомкнутым кругом выходя на просторы страны ты прикованный к жизни испугом чувством долга и чувством вины что-то силишься сделать такое что-то чёткое что бы сбылось ни заткнуть там кого-то за пояс ни шатнуть первозданную ось а приблизить такое сползанье совокупного чувства земли в результате чего мирозданье закатилось бы в лузу любви но не пустишься не в одиночку и не взяв на такие дела совесть как воровскую заточку душу что огнестрельней ствола потому расправляешься разом с вящим миром и смертной душой от бессилия травишься газом от всесилия – супом с лапшой только небо прикинувшись небом продолжает свой ход налегке и немеет насущное хлебом на невнятном тебе языке ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО * * * Теперь в лесу туман и ветер, И месяц в реках колет лёд. И если смерть кого заметит, Того к себе и приберёт. Вчера я с книгою сидела На плохоньком крыльце весны И птица пела то и дело, Что мы с тобой разлучены. Мне было пасмурно и сладко, Как будто кто меня позвал. Мне вечер положил закладку, Мне дождь страницы целовал. * * * В домах настало время ламп и книг. Деревья в парке видели воочью, Как вечер, заложив за воротник, Пошёл, качаясь, на свиданье с ночью. Я забралась с ногами на диван, И, кажется, до самого рассвета Читала обжигающий роман, Оцепенев от золотого света. ЭЛЕГИЯ Я помню, как я сильно Вас любила. Тогда земля ложилась и болела, Вся чёрная, в горчичниках листвы. Я душу уберечь свою пыталась От Ваших комнат с книжными шкафами И с пыльным осликом, висевшем на гвозде. Я письма никогда не отправляла, А приходя, бросала прямо в ящик В подъезде гулком, где на плитке пола Читалась надпись: “Мюр и Мерилиз”. Я никогда не позабуду вида Дождливых прутьев, голых, как и я, Скорбевшая на отмели постели. Я до сих пор люблю туда звонить И длинными спокойными гудками Ходить по дому в тишине дневной. * * * Моя далёкая любовь, Ты пахнешь зимним вечером и горем, Москвою деревянной двухэтажной И Сыромятническим переулком, Смущеньем от шинели и гостями В магнитном поле Курского вокзала, Открытой форточкой, что плавила январь. * * * Лимонный фонарь оглушительно светит, журчит водосток, Мне жизнь, не иначе, приснилась, пока я ждала, Кружась на орбите, чтоб как-то ему подойти – Тяжелому плотному шару в пыли голубой. Обидно стучаться в стекло, прилепиться, найдя потолок, Кричать в пеленальной пустыне на глади стола, И в летнем просторе, цепляясь за пальцы, расти, Потом, обвалявшись в грехе, становиться собой. Когда я уйду, я хотела бы лестницей стать, Полночною лестницей в старом подъезде твоём, И жалобным воздухом пыльные стёкла ласкать, Всю ночь разговоры ведя с дождевым фонарём. * * * Там радость ходит узким закоулком среди кирпичных стен, – вигоневая вязаная кофта, ботинки угольные от костра, и волосы пушистые немыты, а в переулке копоть и весна. Там дети собирают для секретов осколки блюдец и разбитых фар, и выброшенных роз сухую свёклу. Я раньше там не то чтобы жила, но я туда всё время прибегала, как будто в муравьином государстве я воровала белый рис личинок и преступала божеский закон. Я кожей туфельной мгновенно целовала ступени лестницы, и, может быть, она меня ещё немного вспоминает. * * * В морозном трамвае поеду сквозь юность К вечерним свиданьям на синем снегу. Увижу высокую стройную узость – Ту готику тени, что ждет на кругу. У Детского мира текущие толпы, Высокие ели у ярких дверей. Алхимию мига, горящие колбы Оранжевых, льющихся в снег фонарей. На площади вечной ночные моторы, Что стаей голодной по кругу летят, И памятник-столпник тому командору, Что замер дозором в шинели до пят. * * * Я бездну вброд переходила, Чтоб на пиру у Мнемозины Попробовать сухой малины Из прежних истинных аптек И не болеть потом вовек. Там с фартуков крахмал крошился, В глазах вишнёвый свет искрился, Лежали косы за спиной, И зал в витрине отражался, И зеркалами умножался Аптекарь со своей женой. За дверью вечер открывался, Мороз сквозь муфту пробирался, И снег на царствие венчался, И мир пролёткою качался, И я ещё была живой. * * * Я шла любви наперерез. Но время жёлуди роняло. Я испугалась и не стала Ложиться на дрожанье рельс. Потом роса и тишина Наполнили ночные норы, Вдали воспрянули от сна Сиреневые семафоры, Своей наркозной красотой Напоминали киноплёнку. Я тихо побрела домой К покойно спящему ребёнку. * * * Такая изморось и осень, Что заболели фонари. Они тумана не выносят И замыкаются внутри. И разгораясь жёлтой корью, Они в такой впадают бред, Что с бертолетовою солью Мешают свой парад планет. Но ангелы в червонно-красном Пожаре утренней зари Их пользуют лампадным маслом И поправляют фонари. * * * Здравствуйте, былые залы, Переходы и колонны, Ниши, лестницы, порталы Незапамятной земли, Стены под открытым небом, Радость мира, слёзы мира, Изверженье Санторина, Ласточки и корабли... * * * Вот мы сидим и пьём свой бедный чай, А за спиною нам готовят зиму, Подушки поднимают и идут Нетопленною половиной. Мы здесь рябиновую разливаем, говорим, А нас уже всех банками накрыли! А мы горим... * * * ...Ночью слышно, как шумит длинный вытянутый ветер вдоль глухого переулка, огибая свет фонарный, что брачуется с листвою, шелестит еле-еле, не смолкая, не слабея, проводя одиноким долгим телом по трепещущим вершинам, называя тополя пошушуками ночными, волнами перебирая летние глубины комнат и сверчковые подвалы, тая вдалеке... МИХАИЛ ЩЕРБИНА * * * Во что я верю? Может быть, в Распад, пустивший по аллее самокат сквозь сено, перемешанное с чешуёю. Нет, дверь я вырезным химерам не открою! Льдяное одеяло, сложенное вчетверо, меня прикроет после уничтоженного вечера, и сломанный по центру карандаш свой грифель потеряет. Инструктаж по поводу замены стёкол на фанеру меня не увлечёт. Я дам карабинеру, стоящему в фойе меж статуями схемными, флагшток, опутанный пересыпаемыми венами. * * * Что может быть технологичнее, чем ЛЭП? Пожалуй, письменного луга холод ссудный... Искомые дороги, шум локальных верб, подследственное солнце в благостном тумане и лютая вибрация гнилых ветров – вот выстуженный мир провинции. Из детства способен прилетать его фатальный зов. Транзит через него не приведёт к успеху. Ну что же делать? Можно не поверить мне, но квантовый набор чудес не остановит желающих смотреть в почётной тишине на толчею закатных мошек над могилой. * * * Проверенный нож продаётся на мойке, и падает розовый бант. Не стало торжественных сов... На скамейке стоит наклонившийся зонт. Гремят леденцы в потускневшей коробке, и робко проносится шмель. Я выйду на воздух из крошечной рубки. Я вылью на землю эмаль. Ко мне подойдёт из "Рено" одалиска, а следом – её толстосум. Я им докажу, что я слепну от блеска лучей, пробивающих Рим, что Денвер мне дорог, как умный учитель, что тлёй пересыпан Стокгольм. На миг промелькнёт на мопеде каратель, мы сядем смотреть диафильм. Потом я увижу узоры на урнах, но сами везде прорастут деревья в булавках, оплывших и смирных, и нежно утихнет детсад. Потом мы исчезнем в дворовых проходах и нас воспоёт корабел. Стрелец позабудет о жутких обидах, чтоб Золушку вызвать на бал. Эмаль... Вот она превращается в ялик! Не гангстерский умер ли клан? Я вижу в трамвае, как выцветший кролик боится прогнивших маслин. Зачем я подумал об этом в то время, когда не купил поплавки? Я в жизни не смог удержаться... Во имя чего же я должен в кульке сжимать землянику, опята и сливы? Зачем мне шуруп на траве? Зачем мне намёк на возможность забавы? Казак! Я прошу, не реви! Не знаю, что мне разыграют паяцы. Картонно молчит высота. Наверно, я смог бы увидеть без Ниццы, как в небе повисло пальто. КАРАГАНДИНСКОЕ ЛЕТО Меня смущает явленная синь, и вагонеток вежливая стая спешит сквозь степь, от края и до края спешит сквозь степь, где я стою один. В суммарной сказке – очень много длин, и даль блестит, свой свет не отпуская. Отказ от жизни? Эта мысль дурная мне режет мозг, как острый-острый клин. Её мне навевают постоянно насквозь прошитый фарами тупик, глоток наркоза, треск телеэкрана, забытых стачек вечер, дробный лик и этот мир, имевший для обмана детей, мечтающих за мигом миг. * * * Я в рыхлом поле не играю Куперена на восковом, меланхоличном клавесине. Мне нужен твёрдый грунт. Я не приемлю крена поставленных ковров, имевших спрос в пустыне. Карманы отпоролись. Да, они отвисли, но виражи для появленья льва служили. В сарае плесень завелась на коромысле. Другого почерка не сможет дать Камилле беззлобный ветер. Покрывало улетело. Под микрофон устало брошена травинка. Устойчив образ рокового маслодела. Секундомер раздавлен. Веер полон цинка. Хочу купить я плащ из пыльного капрона, но фотографии не весят в это лето. Я возле паруса ловлю непринуждённо лучи от выпавшего на асфальт браслета. МОТОЦИКЛИСТКА Вот этот проспект не имеет границы! Ты мчишь в горизонт переходных глаголов. Со скоростью дуг, разорвавших зарницы, летит на тебя его кинематограф. Всё, что впереди появлялось и было, теперь потеряло свою оболочку, и, словно в воронку, возникшую с тыла, любые предметы уносятся в точку. Подвешено солнце, как уровень взрыва, структура травы по всем швам распоролась, и всех телеграфных столбов перспектива в один бесконечный нацелилась конус. ВЕЧЕРНЕЕ КЛАДБИЩЕ Мне нельзя рассуждать о величии, но сюда я пришёл в этот раз с ожиданьем увидеть наличие постоянно мигающих трасс из остывших частиц. Нет, не трудно им мне заветнейший образ создать! Только будет он тщетным и путаным и обманам без смысла под стать. Вот уже конвоиры расставлены. Осторожно грустит темнота, но останутся белые вдавлины там, где шли они возле куста. Как-то тускло деревья раскрашены, свет похож на размазанный сноп, мчит за клумбами парусник башенный, и окно опустилось за столб. В свой черёд появляются странники. Их преследует стойкий пожар. Вот уже в составном подстаканнике уместился изменчивый шар. Маневрирует ветер отчаянно. На могилах пшено не клюют стаи птиц. Я почувствовал барина в первом встречном. Был вежливо лют обмолоченный воздух меж льдинами. С двух сторон от себя я застал их, как стены. Кусками едиными, чуть не падая, веский металл надо мной пролетал. В виде веера был закат. Отодвинув баллон, я присел возле мокрого клевера на способную вымолить сон торфяную скамью. Одинаково стыли звёзды. Им разными быть надоело. Зачем же Иакова я припомнил? Разбухшая нить из земли вырастала оформленно. Из забора торчали ключи. Я заметил мелькнувшего ворона. Я в изношенной скрылся ночи. ОСЕНЬ Возьми пучок лучей. Они – из пенопласта. Не пробуй их пустить сквозь выпитый графин. Они в руке – скользят. Их медленная паста напоминает мне про скучный город Клин. Без мысленной борьбы за правильные всходы далёкий поля край в расчёте на закат особо в этот день отчётливой свободы мне высветил пути в прозрачный интернат. Ветшающий чердак. Сгоревший склад наклонный. Подкупленный мираж. Никчёмной сказки власть. Гремят в грузовике тяжёлые баллоны. Добавлен воздух грёз. Брезент решил упасть. Надменная пора осеннего распада! Не знаю, как разжечь твой грустный небосклон, не знаю, сколько ждать до главного парада, но всё-таки везде возможен полигон для знатных снов. Другим бывает почему-то плато. На улицах – ветра. Блестит киоск. Сор мчится меж дворов, как вязаная юрта. Теплеет солнце. На губах – горелый воск. ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА Чтоб не было видно, ночами кончается лето, уходит земля из под ног, покрываясь асфальтом, и выцветшей тряпкой купальник валяется, бедный, что было под ним – еле живо под длинным халатом. Листва стала грубой, листва и ботинки под дождик. И нежность, возможно, уже никогда не проснётся, она также смертна как тот расфырчавшийся ёжик, нашедший подругу в траве с дураком длинноносым. Ах лето, с собой уносящее столики с улиц, из тёплых садов уводящее голые спины, попала под дождь – а как будто попала под пули, чего-то сказали – а будто бы просто избили. Душа отвергает подачки и требует взятки, которая мне и во сне-то теперь не по средствам, она не внимает, уходит поэтому в пятки, оставив меня с одиноко подсвеченным детством. Тут в пятку колючка вонзилась, душа завизжала, а я с кавалером степенно, ни крика, ни вздоха, как будто не чувствую этого терпкого жала – я вынуть его не могу: изменилась эпоха. Я даже иду не босая, и спутник в асбесте, чтоб не загореться, о чувствах меня вопрошает, я – всею душою, да только душа не на месте, со временем вместе в шантаж подалась как большая. Корысти корысть, выгод выгода, равная жизни – на меньше душа не согласна, любовь ей верните, того, с кем она обитала в раю, в парадизе, откуда изгнали её из-за спорных событий. КОНЕЦ ИСТОРИИ Быть не может, чтобы не было расплаты за такие дорогие злодеянья, быть не может, чтоб их просто подарили, чтобы ангелы не подняли восстанья. Вспоминая исторические сцены, как эфирный бисер волн перебираешь, и всегда всё то же: пением Сирены в ад заманивали обещаньем рая. Цвет у травки стал из солнечного синим, мономашеская шапочка сдавила, и откуда ни возьмись Пожарский, Минин, как какая-то неведомая сила. Были сладко перепутаны поводья, управление полётом шло успешно, муки посланных на пьяном пароходе наслажденьем отзывались в их кумире. Опыт в том, что и прозренье неизбежно, и злодей-тонкач не может не зарваться, тут его и останавливает нежно знак “кирпич”, а иногда и князь Пожарский. Нет истории, есть общество историй, надо взнос платить туда и ждать путёвки профсоюзной, по страховке в санаторий, что, конечно, тоже требует сноровки. ОТ РОЖДЕСТВА Я пахну любовью, наверное, спермой и потом, наверное, силой, втолкнувшей меня в свет рождественской ночи. Я всем помахала, я всех пожалела за входом, я вышла, тобою подсвечена в пенной сорочке. Я Микровенера, я статуя, рук твоих тело, Империя пала, а я, сохранённая жаждой в её напряженьи рискнула слететь со скалы и взлетела, коль брать Вашингтон – выше зданья Конгресса, но важно, что ход незамедлен, неостановим, за висками он в гроты ушные шлёт влажное эхо, и только б не высохла клейкая лента, что правит мирками, в которые можно богами войти ненадолго. Мой привкус божественный кажется вкусом клубники профанам, что лето и рай совмещают по теме, и чудо услышать, как блик леденящей снежинки, рождая Христа, размыкает земные сцепленья. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА Последняя встреча – как минимум первый глоток, так люди сказали, а люди умней всех на свете. Я гвозди уже приготовила и молоток – а как приготовиться к членовредительской встрече? Боль острая, мне говорят, кратче тянущей, врут про вздох облегченья: не зуб же, не школьный экзамен. Последняя встреча уже через двадцать минут, ты умер, скажу, для меня, зыркнув злобно глазами. Бутылку вина осушив, на последний звонок в цветастеньком платье бегу открывать этот траурный митинг. Чтоб вдруг не сорваться в объятья я съела чеснок. Петушком, петушком, как советовал мне аналитик. Меня поздравляли с победой над силами тьмы могучего разума, вольнолюбивого тела. Я дверь закрываю, и знаю: начальник тюрьмы меня не отпустит, пока не закроется дело. Я поставила точку, но она поплыла, вдруг мне дали отсрочку – я коснулась весла. Сорвалась моя лодка с заржавелой цепи, что, взвиваясь, как плётка, догоняет в пути. Цепь ещё означает населённый причал, чашку тёплого чая, муку, холод, печаль. Но солёные брызги – слёзы тех, кто в беде. Мне не писан их вызов: я иду по воде. Как советской скульптуре, пионерке с веслом, говорю себе, дуре, не переть напролом. Будто йог на качелях – тяготенье долой – меня держит свеченье как Луну над Землёй. Я свободна в отсрочке, я ещё влюблена. Не сжимайся до точки, Бог, пославший меня. Могла быть счастлива как бобик, с хозяином на поводке могла протявкать: бесподобен мир и подстилка в закутке. Но в жизни так не получилось и говоря уж всё как есть, я как Маруся отравилась, девичью запятнала честь. С тех пор я стала ядовита и мудрой злобности полна. Я проклинаю тот напиток и пью до дна. ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ “ЛАНЧА-ТЕМА” Бордовую тему вела моя лысоватая муза от Пьера Кордена, козла, от их шерстяного союза. Я загнана кием её, лежу шаром в лузе, не юным, и не шелохнусь, как бельё, отжатое в тазе угрюмом. Но помню разбег по горам, по дюнам, по венам, по винам, и музу, имущую срам, не стыд – называю любимым. Он муза, музчина, свинья, объелся брюссельской капустой, он продал не тему – меня, окрасив в бордо моё чувство. Я тёмную рану лечу, горит зажиганье и фара, и я зажигаю свечу за упокоенье пожара. Дни капают, все как одна и всё предпоследняя капля, хоть чаша полна, да без дна, стоит на болоте как цапля. Сюжет её: “боль и обман” и “память о воле к победе”, она неподвижна как жбан, она никуда не поедет. Как тигрица по клетке в ожиданьи просвета, то вино, то таблетки, две зимы, снова лето раскрывает ручонки в хлорофилловой жажде, и скребётся в печёнке и плывёт всё отважней по натянутым в струнку острой тянущей болью синим жилкам, и в бункер рвётся с бранного поля. Плоть в заплатах медалей за терпенье и веру, в ней прострелены дали как прыжки в атмосферу. Весь город озарён влеченьем, все улицы – мои следы, дома как тёплые печенья вбирают запахи среды. К зелёным нервным окончаньям кустов добавились цвета, средь них бордовый – цвет печали и всякая белиберда. Вдруг город гаснет, вдруг, воочью он, только что ещё живой, стоит, обуглившийся ночью, днём – как покойник, восковой. Смотрю в чужие окна, лица, и со знакомого пути сбиваюсь – может, в Альпах скрыться иль как Суворов – перейти. * * * Я плачу оттого что нет грозы, Как зелень ядовита в это лето! Такого фосфорического цвета Нет в каталогах средней полосы. Я плачу – оттого что медлит дождь, Стоит в резьбе нефритовой крапива, Природа неестественно красива, Всё нынче зацветает, даже хвощ. Я плачу. На малиновой щеке Застыла лихорадочная блёстка. Я бледная от роду – как извёстка, И я привыкла жить на сквозняке. Но жжёт глаза от ирисов и роз, И ветры затаились для удушья – Ну что же ты, земля моя недужья, Спасительных не проливаешь слёз! ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕБЯ Жизнь без тебя заброшенна, убога, недорога и просто недотрога, кошмарносонна как ларёк в Ельце, продрогнута в холодном пальтеце, бесчувственна, безапелляционна, и страшный суд, вершимый каждый миг – лишь скучная мичуринская зона, где степь да степь да друг степей калмык. К чему не прививайся, к розе или советскому дичку, я всё как лошадь загнанная в мыле под стать качку, который бицепс воли накачает и терпит вновь жизнь без тебя, в раздоре и печали, моя любовь. РУНЕТ Больше нет страны РФ на свете, нет России – есть страна Рунет. АБВ нет, аза, буки, веди, Костромы с Камчаткой тоже нет. www – новопрестольный город, сайты поселений всех мастей: есть понаселённей, где за ворот килобайт бежит, набрав вестей, есть понебоскрёбистей – порталы, в баннеров цветастых витражах, есть покомпроматистей, как скалы, там где горцы бьются на ножах. А бывают целые посёлки трехэтажных сайтов без жильцов, пляжи, где как огурцы в засолке, загорают все, в конце концов. В чаты заползает человечек, ищет непрерывности пути. Хакер-истребитель бомбы мечет, в письмах шлёт их, свесившись с сети. Так живет Рунет, несутся линки, в паутине не осталось дыр, мышки так и щёлкают ботинком, уплетая свой бесплатный сыр. Власть географическая пала, мы переселились по хостам, где, средь исторического бала мир переместился на экран, слёг как сыч в коробку с монитором, мы играем с ним по одному, так отпало общество, в котором все играли в пробки и в войну.