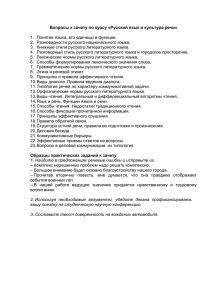Современное состояние вопроса о происхождении русского
advertisement
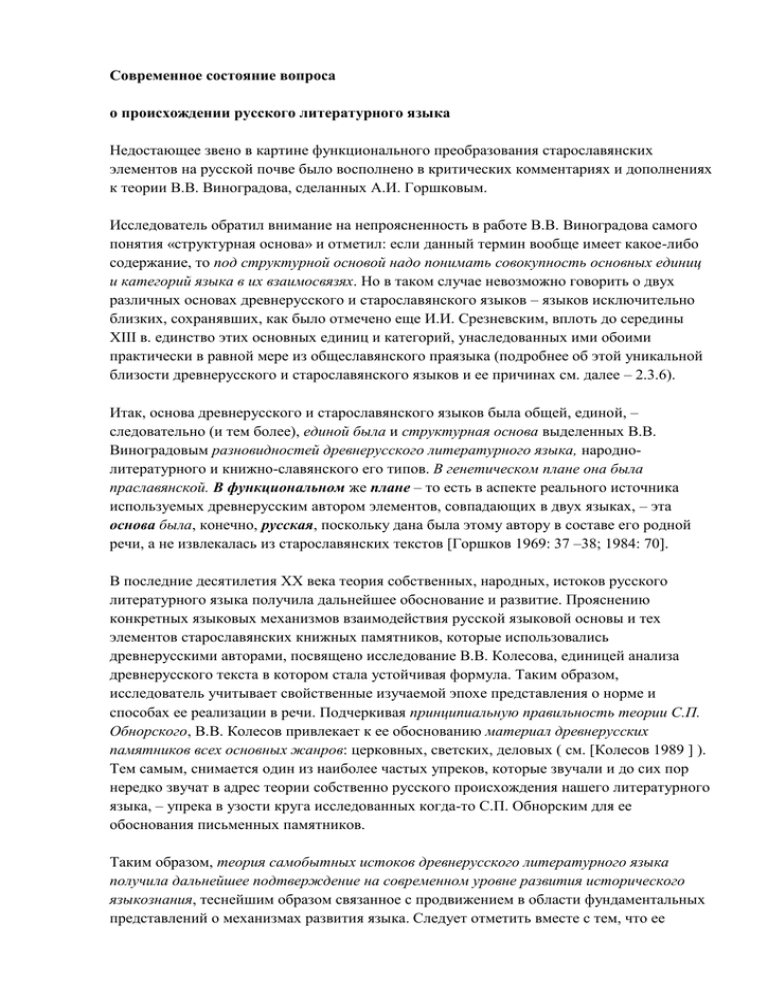
Современное состояние вопроса о происхождении русского литературного языка Недостающее звено в картине функционального преобразования старославянских элементов на русской почве было восполнено в критических комментариях и дополнениях к теории В.В. Виноградова, сделанных А.И. Горшковым. Исследователь обратил внимание на непроясненность в работе В.В. Виноградова самого понятия «структурная основа» и отметил: если данный термин вообще имеет какое-либо содержание, то под структурной основой надо понимать совокупность основных единиц и категорий языка в их взаимосвязях. Но в таком случае невозможно говорить о двух различных основах древнерусского и старославянского языков – языков исключительно близких, сохранявших, как было отмечено еще И.И. Срезневским, вплоть до середины XIII в. единство этих основных единиц и категорий, унаследованных ими обоими практически в равной мере из общеславянского праязыка (подробнее об этой уникальной близости древнерусского и старославянского языков и ее причинах см. далее – 2.3.6). Итак, основа древнерусского и старославянского языков была общей, единой, – следовательно (и тем более), единой была и структурная основа выделенных В.В. Виноградовым разновидностей древнерусского литературного языка, народнолитературного и книжно-славянского его типов. В генетическом плане она была праславянской. В функциональном же плане – то есть в аспекте реального источника используемых древнерусским автором элементов, совпадающих в двух языках, – эта основа была, конечно, русская, поскольку дана была этому автору в составе его родной речи, а не извлекалась из старославянских текстов [Горшков 1969: 37 –38; 1984: 70]. В последние десятилетия ХХ века теория собственных, народных, истоков русского литературного языка получила дальнейшее обоснование и развитие. Прояснению конкретных языковых механизмов взаимодействия русской языковой основы и тех элементов старославянских книжных памятников, которые использовались древнерусскими авторами, посвящено исследование В.В. Колесова, единицей анализа древнерусского текста в котором стала устойчивая формула. Таким образом, исследователь учитывает свойственные изучаемой эпохе представления о норме и способах ее реализации в речи. Подчеркивая принципиальную правильность теории С.П. Обнорского, В.В. Колесов привлекает к ее обоснованию материал древнерусских памятников всех основных жанров: церковных, светских, деловых ( см. [Колесов 1989 ] ). Тем самым, снимается один из наиболее частых упреков, которые звучали и до сих пор нередко звучат в адрес теории собственно русского происхождения нашего литературного языка, – упрека в узости круга исследованных когда-то С.П. Обнорским для ее обоснования письменных памятников. Таким образом, теория самобытных истоков древнерусского литературного языка получила дальнейшее подтверждение на современном уровне развития исторического языкознания, теснейшим образом связанное с продвижением в области фундаментальных представлений о механизмах развития языка. Следует отметить вместе с тем, что ее звучание ныне приобрело несколько иной характер, чем прежде. Для современной трактовки этой теории не характерно, как это порой наблюдалось в работах С.П. Обнорского и некоторых его единомышленников в прошлом, резкое противопоставление русской народной и старославянской книжной языковых культур, стремление приумалить роль старославянского языка в формировании и первоначальном развитии русского литературного языка. Напротив, основной пафос многих современных сторонников этой теории состоит в акцентировании общности исторических судеб древнерусского и старославянского языков, раскрытии глубокого взаимодействия этих языковых стихий на русской почве ( ср. [ Устюгова 1987; Трубачев 1988, 1997 и др.] ). В последние десятилетия в связи с углублением научных представлений о ранних этапах истории славянских языков и культур ( см. [ Трубачев 1991; 2002 ] ) вновь актуализировалась и получила развитие на новом витке движения лингвистической мысли идея единства языковой культуры славянства вплоть до конца XII в. [Толстой 1988; Колесов 1999; Камчатнов 2001; Добродомов 2002 и др.]. На данном аспекте истории славянских языков и культур настаивал еще в начале ХХ века Н.С. Трубецкой: «…Староцерковнославянский язык можно рассматривать как л и т е р а т у р н ы й я з ы к к о н ц а п р а с л а в я н с к о й э п о х и. Так как во время деятельности славянских первоучителей отдельные отпрыски праславянского языка еще не утратили способности к совместным изменениям (ср. падение редуцированных, например. – О.Л.) и праславянский язык в целом еще не перестал быть субъектом эволюции, то в сущности отдельных славянских я з ы к о в в это время еще не было, а были лишь отдельные д и а л е к т ы единого праславянского языка » [Трубецкой 1995]. На путях дальнейшего исследования взаимооотношений восточно- и южнославянской языковых культур в аспекте так понимаемого их единства многие современные лингвисты и видят перспективу окончательного решения столь наболевшего вопроса о «происхождении» русского литературного языка. Снятие его «видится в будущем при учете своеобразия славянского мира в IХ – Х вв., когда этот единый мир еще не распался, но признаки его распадения уже наметились и обозначились, когда единая славянская общность начинала делиться на региональные диалекты, не дошедшие еще до статуса отдельных языков, – пишет И.Г. Добродомов. – Славянские просветители создали своими переводами литературный язык для всех славян, поэтому он в многовековой традиции именовался просто славянским (называние его церковнославянским возникло только в начале ХIХ в.)» [Добродомов 2002: 94]. Тут уже речь идет не об использовании системы инокультурных средств как составной и дополняющей части древнерусской культуры, а о преобладании исконно общей части культуры всех славянских народов, которое едва ли у кого-либо и может вызвать сомнения. Отсюда – глубокий смысл термина «славянорусский», прилагаемого рядом исследователей к древнейшему нашему литературному языку. Но если Ф.П. Филин, во всеоружии фактов и цифр демонстрировавший бездоказательность концепций нерусского происхождения, так определял лишь язык древнерусских церковных памятников, подчеркивая тем их зависимость от старославянской традиции христианской письменности [Филин 1981], – то В.В. Колесов делает здесь акцент на коренном изначальном единстве двух языковых феноменов [Колесов 1989 ; 1999 и др.]. Отмечаемое единство понимается тем самым как в полной мере присущее не только церковной языковой культуре, но и светской. Церковная культура слова, как и светская, в основе своей восходила все к тому же праславянскому, то есть общеславянскому, источнику. Более того – она вынуждена была использовать, приспосабливая к выражению новых религиозных воззрений, широкие пласты терминологии, выработанной и в собственнно языческой культуре древнего (следовательно – единого) славянства. Значимость этого языческого пласта праславянского культурного наследия в языке христианской культуры Древней Руси подчеркивал, опираясь на свой огромный общеславянский лексикографический опыт, О.Н. Трубачев [Трубачев 1988; 1997: 37 - 41]. Ученый акцентировал при этом «ядерное, базовое и наиболее частотное употребление терминов, взятых христианством у старого, дохристианского культа: святой, вера, рай, дух, душа, грех» и др. [Трубачев 1997: 38]. И именно в столь широко понимаемом единстве как структурной, так и общекультурной основы всех языковых и стилистических потоков древнерусской словесности кроется объяснение той свободы соединения христианско-богословской манеры построения текста с фольклорной или историко-мемуарной, которую мы наблюдаем даже в наиболее книжных и славянизированных произведениях церковной литературы Древней Руси. Такой практикой древнерусских авторов опровергаются утверждения диглоссийной концепции о функционировании на Руси двух культур в «дополнительном распределении», то есть в условиях взаимоисключения для каждой сферы использования. Конечно, ранние этапы формирования древнерусского литературного языка еще таят в себе немало непознанного, и их изучение продолжается. Едва ли, однако, в наше время можно согласиться с встречающимися иногда утверждениями (в том числе и в учебных пособиях ), что вопрос об истоках нашего литературного языка все еще недостаточно исследован для того, чтобы можно было ныне дать четкий и определенный ответ на него. Такие заявления были в известной мере оправданны полвека назад, но за прошедшие десятилетия осуществлены исследования, которые на основе глубокого анализа по существу всех сторон древнерусских памятников различных жанров раскрывают русскую структурную и функциональную основу не только деловых или в целом светских [Львов 1975; Филин 1981; Литературный язык 1986; Древнерусский язык 1987; Колесов 1989], но и оригинальных церковных произведений Древней Руси [Ларин 1975; Мещерский 1981; Молдован 1981; Колесов 1989; Дерягин, Жуковская 1994; объективно – Молдован 2000; Мурьянов 2003 и др.] (здесь названы лишь наиболее известные, получившие широкий отклик в научной среде фундаментальные труды в этой области). Сила фактов вынуждает порой даже исследователей, воспитанных в обстановке недоверия к творческому потенциалу русской культуры, признавать некоторые положения теории исконно русского происхождения нашего литературного языка. Так, один из крупнейших зарубежных славистов Р. Пиккио, исходящий из столь типичного для западных филологов представления о «дуализме» древнерусской языковой жизни (то есть: старославянский язык – литературный, русский – разговорный), отмечает тем не менее, что между двумя языковыми феноменами на восточнославянской почве «возникла в силу социальной и культурной необходимости некая объединяющая среда», а именно: «Старославянская традиция и устная в равной мере вносили вклад в языковую выразительность в зависимости от уровня культуры, способностей, индивидуальности пишущего, темы произведения. Формулы старославянского происхождения чаще всего встречались в текстах религиозных, а формулы местного языка – в светских текстах. Со временем эволюция особой славянской культуры Руси слила разные языковые силы в новую традицию выбора лексики, грамматических и синтаксических употреблений» [Пиккио 2002: 24, 26; курсив мой – О.Л.]. Таким образом, объективный итальянский исследователь не мог проигнорировать в литературном языке Древней Руси его народную составляющую, распознал в нем присутствие элементов различных культурных источников и подчеркнул их взаимодействие – в то время, как представители «диглоссийной» концепции, для которых русский (а значит, и древнерусский) язык является родным, как будто ничего этого не замечают и продолжают настаивать на взаимоисключающем характере языка литературных памятников и повседневного бытового общения восточных славян. По-видимому, столь велико заслоняющее факты влияние заданной схемы! И все же то резкое противоречие с языковой реальностью Древней Руси, в которое вступает диглоссийная концепция, заставляет порой и ее последователей делать уступки в пользу теории исконного происхождения русского литературного языка, хотя это не формулируется в явном виде. Одной из подобных уступок является введение лингвистами этой «школы» понятий «строгой» и «нестрогой» нормы употребления церковнославянского языка на Руси: первая представлена в произведениях церковного содержания, вторая – в светских, например, летописях [Живов 2002]. Но и такие меры не спасают данную концепцию. При осуществлении конкретного анализа языкового материала возникает необходимость дальнейших ее корректировок, которые по существу перечеркивают самые основания концепции диглоссии. Так, например, К.А. Максимович, отправляясь от теоретических установок Б.А. Успенского и В.М. Живова, в результате изучения древнерусских переводов с греческого (см. [Максимович 1998]) приходит к заключению, что «функционально-активным литературным языком древнерусской книжности» был лишь «средний, «cмешанный», тип книжного языка, представленный летописями, житиями русских святых и церковными уставами», а «стандартный» книжный язык «не был в полном смысле литературным – на нем не создавались, а только переписывались книжные памятники» [Максимович 2001: 53]. Другими словами, церковнославянский язык не функционировал в полном смысле слова в качестве литературного языка Древней Руси – ее литературным языком был язык, тесно связанный с живой народной речью, прямо называть который русским представители диглоссийной концепции избегают, по-видимому, лишь из приверженности избранной ими априорноумозрительной схеме. В конечном счете, однако, и такие примеры свидетельствуют не только о том, что теория самобытного (собственно русского) происхождения русского литературного языка верна, глубоко обоснованна, но и о том, что она – как единственное последовательнонаучными методами полученное решение данной проблемы – прокладывает себе дорогу к всеобщему признанию. ^ 2.3.6. Роль старославянского языка в формировании и первоначальном развитии русского литературного языка Говоря о месте старославянского языка в жизни древнерусского общества и в процессах формирования и развития русского литературного языка старшей поры, необходимо четко представлять себе общекультурные и частные структурно-языковые взаимоотношения двух славянских языков в изучаемую эпоху. В общем культурно-историческом плане эти взаимоотношения уже охарактеризованы в предыдущем параграфе. Как «литературный язык конца праславянской эпохи» (по определению Н.С. Трубецкого), старославянский язык, безусловно, был общим достоянием всех славянских народов. Более того, сама цель его создания, исключающая всякое локальное ограничение [Пражск. круж. : 33; Верещагин 1971: 12; 1997 и др.] и функции «межплеменного орудия культуры» объясняют «невозможность его отождествления с каким-либо живым славянским диалектом кирилло-мефодиевской эпохи» [Хабургаев 1995: 18], интерславянский характер его лексико-семантического и грамматического строя. Но если соотносить старославянский язык специально с древнерусским языком периода первых письменных памятников, то эти отношения предстают как необычайно тесные даже на фоне указанной общей близости всех славянских языков в данную эпоху. Формируясь в самом процессе своего становления как система наддиалектных, консолидированных выразительных возможностей языка славянского суперэтноса, старославянский язык сохранил свойственный праславянскому языку основной лексический фонд, в целом еще не утратившую своего исконного единства словообразовательную систему, принципиально общий грамматический строй: систему склонения, спряжения, глагольных времен и т.д. Что же касается древнерусского языка, то он в эпоху первых дошедших до нас письменных памятников “законсервировал” в себе важнейшие лексико-словообразовательные и грамматические особенности общеславянского праязыка в силу закономерности, согласно которой периферийные диалекты являются зоной сохранения архаизмов [Трубачев 1987: 20]. Попытки резко противопоставить лексическую и словообразовательную системы старославянского и древнерусского языков, характерные в прошлом для сторонников концепций нерусского происхождения нашего литературного языка, уже в середине ХХ века потерпели полный провал. В капитальных исследованиях Н.М. Шанского, Ф.П. Филина, Ж.Ж. Варбот и др. было показано, что суффиксы -ость, -ний- , -тий-, -ьств(о), тель, модели словосложений и др. черты, порой и доныне упоминаемые в качестве старославянских, не составляют отличительной черты старославянской словообразовательной системы относительно древнерусской. Все это праславянские по происхождению явления, продуктивные и на древнерусской почве, так что в большинстве случаев затруднительно провести грань между теми словами, которые были образованы по этим моделям в русском языке или пришли в него из старославянских текстов; как правило, здесь речь должна идти об общем достоянии двух языков [Шанский 1959; Варбот 1969; Филин 1981; Марков 2001 б) и др.]. Возможно, именно неудача в попытке связать со старославянским влиянием те или иные лексико-словообразовательные особенности древнерусского литературного языка заставляет в последние десятилетия многих сторонников точки зрения о его нерусском происхождении искать обоснования своей позиции преимущественно в сфере грамматики. В последние десятилетия вновь обнаруживается стремление языковедов этого направления противопоставить древнерусский и старославянский языки в плане морфологической структуры. Так, в работах М.Л. Ремневой [Ремнева 1988; 2003 и др.] отстаивается точка зрения об отсутствии в древнерусском языке ХI – XIII вв. – в отличие от церковнославянского – сложной системы глагольных времен. Данное положение выдвинуто на том основании, что в деловых документах, берестяных грамотах эта система отражена слабо – следовательно, по мнению автора, в живой русской речи ее не существовало. Однако едва ли такая доказательная база достаточна для столь широких выводов и оправданно при этом оставлять без внимания данные всех остальных древнерусских памятников, а особенно тех собственно литературных произведений Древней Руси, в которых близость к народной речи проявилась наиболее полно. К таковым относятся и “Слово о полку Игореве”, и “Моление Даниила Заточника”, и уникальный памятник уже XIII века “Слово о погибели русской земли”, язык которого характеризуется очень последовательно выдержанными русскими чертами. В “Слове о погибели русской земли” не только наблюдается активное употребление форм имперфекта, но характерно, что эти формы образуются и от таких специфически русских слов, как выникивати и бортьничати (‘собирать мед диких пчел’): выникиваху и бортьничаху. На основании анализа этого памятника Н.А. Мещерским было выдвинуто весьма обоснованное предположение, что в некоторых диалектах древнерусского языка, в том числе в том, на базе которого создавалось “Слово о погибели…”, “исчезновение имперфекта могло произойти позднее, чем в других говорах” [Мещерский 1981: 93]. Активное же использование имперфекта в его характерно русских модификациях в тексте “Слова о полку Игореве” свидетельствует о том, что в конце XII века эти формы были фактом общерусского литературного языка. К такому заключению склоняет и в целом правильное употребление имперфекта, аориста и перфекта в “Молении” Даниила Заточника – памятнике, которому свойственен “отказ от чуждых русскому языку структур” [Сабенина 1987: 223, 236]. “О несомненной жизненности русских форм имперфекта” свидетельствуют и материалы памятников церковной письменности, переписанных или созданных на территории Древней Руси, – в частности, факт корреляции в них стяженной формы и такой яркой особенности русского языка, как “надставочное” -ть [Марков 2001 а): 46 – 50]. Отрицание в русском литературном языке XI – XIII вв. аориста, имперфекта и других форм старой системы глагольных времен, думается, происходит из недооценки ведущего значения в литературном языке средневековья нормы на уровне текста. Именно тип текста – законодательный или повествовательный – становился определяющим фактором при выборе модели временной организации изложения, отсюда – и различия в используемых временных формах. Тот же фактор – то есть следование за предшествующими текстами-образцами – предопределял и сохранение архаизмов в произведениях, ориентированных, например, на фольклорную традицию, как «Слово о полку Игореве». Л.П. Якубинский, определявший аорист и имперфект как архаизмы (но не церковнославянизмы!) древнерусского литературного языка XII и последующих веков, приводил в подтверждение своей точки зрения (также основанной на анализе памятников: «Поучения» Мономаха, «Слова о полку Игореве») устное сообщение Л.В. Щербы, который указывал на “аналогичное явление... в лужицком языке, где формы аориста, вышедшие из употребления в живой речи, сохранились, однако, в народной поэзии”. Подобное же различие в структуре временных форм сам Л.П. Якубинский отметил между современным французским литературным и разговорным языком [Якубинский 1953: 313 – 314]. Таким образом, данная проблема была всесторонне исследована и решена еще классиками нашего языкознания, причем на гораздо более представительном материале, нежели это вновь предлагается обсуждать ныне. Итак, древнерусский и старославянский языки имели общую структурную основу (лексический фонд, систему склонения и спряжения, важнейшие синтаксические черты). Различия между ними касались небольшой части слов, дифференцирующихся, как правило, лишь незначительными (не мешающими их отождествлению) фонетическими особенностями; в морфологической же сфере дифференциация затрагивала единичные, крайне малочисленные, грамматические формы. И именно ближайшее родство и глубокое структурное единство двух языков создали наиболее благодатную почву для обогащающего влияния старославянского языка на формирующийся из собственных корней древнерусский литературный язык, для ускорения развития молодого восточнославянского литературного языка по примеру такого высокоразвитого книжного языка, каким был старославянский. Наиболее значительно это влияние в сфере средств абстрактного выражения. Так, хотя (как уже сказано выше) древнерусский язык строил систему отвлеченной лексики путем самобытного развития и закономерного преобразования собственных лексикофразеологических ресурсов – старославянский язык, несомненно, способствовал и непосредственному обогащению этой системы за счет свойственных ему словарных единиц (вселенная, естество, истина, общество, суета и др.), и опосредованно – более быстрому развитию абстрактной лексики в молодом русском литературном языке, уточнению ее семантики, развитию системных связей отвлеченных слов. Это можно пронаблюдать на материале терминов права. Например, на собственной почве древнерусский язык взрастил такие лексические единицы с отвлеченнотерминологическими значениями, как qðîêú – ‘соглашение на основе договоренности’ ( от qðå÷è – по типу уводъ от увести, увоз от увезти и т.п.)‚ ð#äú – ‘договор’(на основе древней, еще языческой формулы клятвы землей), аналогично – qð#äú‚ ïîð#äú‚ а также, повидимому, и qñòàâú - ‘общественное установление’. При этом другой важнейший юридический термин – çàêîíú в значении ‘правопорядок’ – возможное заимствование из церковнославянской письменности (ср. [Львов 1975: 189 ]). Предположительность этих замечаний не случайна: именно отмеченная выше исключительная близость древнерусского и старославянского языков, единство всех основных процессов развития этих языков в X – XII вв. в большинстве случаев не позволяют безоговорочно провести разграничительную черту между сходными фактами той и другой языковых систем. Очевидно тем не менее обогащение и развитие лексико-семантической системы древнерусского литературного языка в результате подобных объединений и сопоставлений близкозначных единиц двух родственных языков. Несомненно, активизировались под влиянием богатого отвлеченной лексикой старославянского языка и соответствующие словообразовательные типы языка древнерусского. Старославянский язык должен был служить также хорошим ориентиром для древнерусского в сфере дифференциации средств связи в сложноподчиненном предложении, поскольку народно-разговорный источник древнерусского литературного языка не мог дать ему сразу же синтаксических структур, столь развитых, «отшлифованных» для передачи сложного отвлеченно-философского содержания, какими старославянский язык располагал в силу своей книжной природы. Таким образом, в области языковой структуры и системной организации русского литературного языка влияние старославянского было не только обогащающим, но и ускоряющим фактором. Более того, приход близкородственного языка, на фоне которого яснее выступали «свойства и формы родного», и в целом обострял языковое чувство древнерусского человека. Строгость норм, свойственная старославянскому книжному языку, служила образцом и стимулом для большего упорядочения русского литературного употребления: стихийное ощущение нормы «постепенно сменялось вполне сознательным отношением» к ней [Ларин 1975; Колесов 1989: 33]. Наконец, столкновение жанровых систем двух близкородственных языковых культур: восточнославянской и старославянской – послужило основой того богатства и разнообразия неповторимых жанровых форм, которое отличает древнерусскую письменность и является источником последующего развития русской литературы вплоть до ее вершинных явлений «золотого» XIX века. Влияние старославянского языка на формирование и первоначальное развитие древнерусского литературного языка огромно и исключительно благотворно. Признание этого факта не только не умаляет достоинства носителей русского языка, но и может служить предметом гордости за великое общее культурное достояние наших предковславян – старославянский язык как воплощение высокой духовной культуры своей эпохи. Однако на современном уровне историко-лингвистических представлений факт этого влияния неправомерно подменять упрощенным отождествлением самого древнерусского литературного языка с языком старославянским.