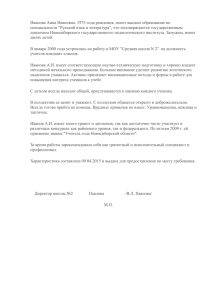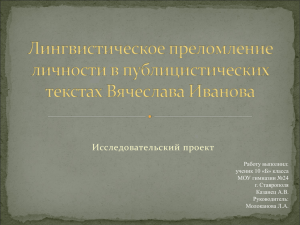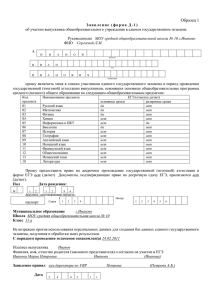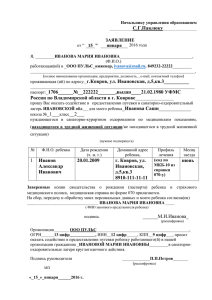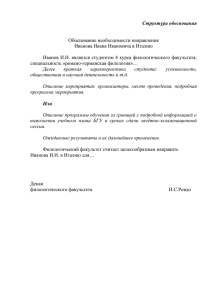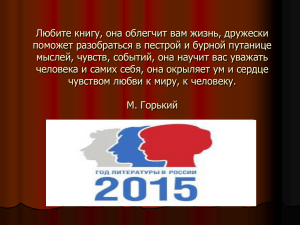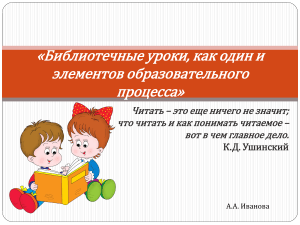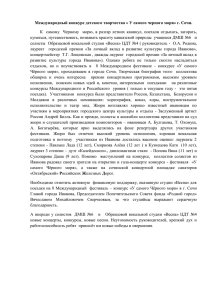ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» Факультет гуманитарных наук Пархоменко Ангелина Артемовна ТРАДИЦИЯ РУССКОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 47.03.01 - Философия (квалификация бакалавр) Образовательная программа «Философия» Рецензент Научный Руководитель д-р философ. наук, проф. к-т философ. наук, доцент Лифинцева Т. П. Бессчетнова Е. В. Москва 2023 1 Введение ............................................................................................................... 3 1. Страх и трагедия как экзистенциальные категории поэзии Георгия Иванова ................................................................................................................ 7 1.1. Личное переживание как объект познания ........................................... 7 1.2. Категория страха в философии К. Леонтьева и поэзии Г. Иванова . 13 1.3. Философия трагедии Л. Шестова и ее отражение в поэзии Г. Иванова .......................................................................................................... 27 1.4. Свобода как начало трагедии философского миросозерцания Н. Бердяева и «ледяная» свобода в поэзии Г. Иванова ................................. 40 2. Установка на иррациональное познание в русской экзистенциальной мысли .................................................................................................................. 48 2.1. Л. Шестов: восстание против ratio ....................................................... 48 2.2. Мистическое познание Н. Бердяева..................................................... 53 2.3. «Логические сдвиги» Г. Иванова ......................................................... 57 3. Вера и творчество как пути преодоления трагедии в русском экзистенциализме ............................................................................................. 64 3.1. Вера как спасение в философии Л. Шестова ...................................... 64 3.2. Творчество как свободный акт в философии Бердяева ..................... 66 3.3. Невозможность преодоления трагедии у лирического героя Г. Иванова .......................................................................................................... 67 Заключение ........................................................................................................ 73 Список литературы ......................................................................................... 74 2 Введение Русский экзистенциализм в глазах большинства исследователей представлен фигурами Ф. М. Достоевского как предтечи данной традиции и его двумя в некоторой степени учениками — Л. И. Шестова и Н. А. Бердяева. Достоевский вводит в литературу и философию «подпольного человека» — столкнувшегося с неподдельной жизнью и ощутившего свое одиночество, отчаяние, ничтожность. Так, отмечается сходство взгляда Достоевского и Кьеркегора в их внимании к индивидуальному существованию, проблематизации абсурда и состояния заброшенности в человеческой жизни. Потому Достоевский становится столь важной фигурой для представителей русского экзистенциализма — Л. Шестова и Н. Бердяева. Отталкиваясь от своего предшественника и учителя, они проблематизируют трагичность существования человека, столкнувшегося с жизнью как с непосредственно данным. Это столкновение ощущается на уровне личного переживания своей экзистенции, потому экзистенциальные философы постулируют значимость иррационального познания в противовес сложившейся традиции рационалистической философии. Так, например, исходной точкой переживания и последующего размышления у Бердяева становятся его мистические «озарения», а Шестов выстраивает свою философию как борьбу с разумом. «Озарения» Бердяева помогают ему впоследствии выстроить и положительную программу своей философии — возвышение человека становится для него возможным через творчество как свободный акт, уподобленного божественному творению. В свою очередь Шестов также находит путь преодоления «подпольного человека» — в вере, основанной на абсурде. Так можно кратко охарактеризовать тот путь, 3 по которому идет мысль Бердяева и Шестова как экзистенциальных философов. В своем исследовании мы привлекаем также фигуру К. Н. Леонтьева, который не вошел так крепко в русскую экзистенциальную традицию, как это сделали Достоевский, Бердяев и Шестов, и лишь в немногих исследованиях ставится проблема Леонтьева как экзистенциального философа. Так, в нашем исследовании предпринимается попытка осмыслить некоторые положения Леонтьева как экзистенциальные, а именно его религиозные воззрения, которые берут начало в личном переживании страха и греха. Центральной фигурой нашего рассмотрения является Георгий Иванов, который осмыслялся своими современниками как экзистенциалист: по выражению Р. Гуля он был «...единственным в нашей литературе — русским экзистенциалистом»1. Соотношение экзистенциальной мысли в русской философии и литературе на примере указанных авторов нам кажется плодотворным по следующим причинам. Во-первых, определяющее и значительное направление мысли для той или иной эпохи порождает ее осмысление в разных сферах человеческого знания и творчества. Исследование того, насколько эта мысль оказывается влиятельной, может быть совершено в нашем случае с помощью соотношения философского и художественного творчества. Вовторых, экзистенциальная философия отвергает позитивистские установки науки, и в этих условиях форма, в которой представлена мысль, отходит на второй план. Потому нам кажется, что относительно этой интеллектуальной традиции особо плодотворно рассматривать то, Цит. по Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 66. 1 4 как экзистенциальное ощущение осмысливается философски и художественно. В этом нам видится актуальность исследования. Более того, особую значимость наше исследование приобретает и для трактовки поэзии Георгия Иванова как экзистенциальной, так как его с трудом можно назвать полноценно исследованной фигурой, особенно в его соотношении с русской экзистенциальной философией в лице указанных нами фигур. В этом отношении исследование экзистенциальных мотивов в поэзии Иванова во взаимосвязи с русским экзистенциализмом претендует на научную новизну. Так, еще раз обозначим слабую представленность поэта в академическом пространстве. С этим связано незначительное число привлеченной вторичной литературы, среди которой мы особенно отмечаем работы А. Ю. Арьева, И. Гурвича, В. Маркова, Ю. Иваска, В. В. Заманской, Н. Ю. Грякаловой. Объектом исследования работы являются стихотворные сборники Георгия Иванова эмигрантского периода — «Розы», «Отплытие на остров Цитеру», «1943—1958 Стихи» (внутри него циклы «Портрет без сходства», «Дневник»), «Посмертный дневник». Предмет исследования — мотивы русского экзистенциализма в поэтическом наследии Георгия Иванова эмигрантского периода. Целью данной работы является следующее: установить, как в эмигрантской поэзии Георгия Иванова представлена русская экзистенциальная традиция и найти ее точки соприкосновения с мыслью Леонтьева, Шестова и Бердяева. Для этого мы ставим следующие задачи: 5 1. реконструировать экзистенциальные категории страха и трагедии в философии К. Н. Леонтьева, Л. И. Шестова, Н. А. Бердяева и в поэзии Г. В. Иванова; 2. установить значимость иррационального познания в русской экзистенциальной мысли и обозначить иррациональность как прием в поэзии Георгия Иванова; 3. рассмотреть концепции веры и творчества в философии Шестова и Бердяева как пути преодоления трагедийности и найти их точки соприкосновения с поэзией Иванова. В рамках исследования привлекаются следующие методы: 1. Описательный метод, назначение которого — в рассмотрении биографических и личных обстоятельств жизни Георгия иванова и других героев нашего исследования. 2. Аналитический метод применяется для рассмотрения основных интересующих нас понятий в русской экзистенциальной философии. 3. Компаративный метод используется для сопоставления выделенных концептов в русской экзистенциальной философии и основных мотивов и образов поэтики Г. Иванова. 4. Феноменологический метод был привлечен для понимания основных категорий русского экзистенциализма и экзистенциальной поэзии Иванова в общей мысли исследуемых фигур. 5. Метод имманентного анализа текста применяется к отдельным стихотворениями Иванова. Наконец, структуру работы составляют: введение, три главы (и разделы внутри них), заключение и список литературы. 6 1. Страх и трагедия как экзистенциальные категории поэзии Георгия Иванова 1.1. Личное переживание как объект познания Экзистенциализм начинается с разговора об специфике индивидуального бытия человека. Нахождение себя в «пограничной ситуации», в ситуации столкновения своего «Я» с миром и жизнью вообще задает все дальнейшее движение экзистенциального опыта, который рождается из столкновения с жизнью как непосредственно данной. Человек находит себя «заброшенным» в мир, то есть осознает мир как чуждый, себя — как одинокого. Представители экзистенциальной философии видели основную проблему в традиции рационалистической философии, кульминацией которой стало гегельянство. Человек и его индивидуальное бытие оказываются вторичными по отношению к всеобщему и абсолютному, философские конструкции рационализма поглощают конкретного человека, сводя его к родовым понятиям (человека вообще). Наслоение родовых и видовых понятий, в которых мы осмысливаем себя и концептуализируем собственный опыт, уводит нас от своего уникального существования и мешает его постижению. Подобную установку можно считать общей для экзистенциальной философии, и она берет свое начало у предшественника экзистенциализма ХХ века — С. Кьеркегора. В этом же русле Кьеркегор размышляет об истине и вступает в полемику с рационалистической философией своего времени. По мысли Кьеркегора, истина не автономна по отношению к человеку, не существует отвлеченно от него, но лежит в сфере человеческого бытия. Потому экзистенциальная философия не должна развиваться в 7 направлении научного позитивизма, который делает бытие субъекта обезличенным. Для того, чтобы говорить об истине как о некоей объективной сущности, философу необходимо себя расщеплять — в своем знании он отделяет себя как человека в своей экзистенции и как стоящего на позициях вечности, на отвлеченной от себя как существующего во времени позиции. Таким образом, экзистенциальная истина неизбежно становится личной, она есть вопрос о собственном бытии. Мы можем предположить, что в русской экзистенциальной мысли кьеркегоровское понимание истины как субъективной нашло благодатную почву. Наиболее радикальным последователем датского философа в этом отношении стал Л. Шестов, который в своей борьбе с рациональными основаниями философии открыто и бескомпромиссно утверждает несостоятельность рационального начала в противовес личной истине — частной и не обязательной. В этом убеждении Шестова замечает парадоксальность его многолетний собеседник Бердяев: при таком утверждении истины становится невозможным ее сообщение другому, а, следовательно, философия теряет свое назначение и свой смысл вообще. Вместе с тем и сам Бердяев в своем итоговом труде «Самопознание» реконструирует историю собственного «духа», которая складывается равно из его биографических особенностей, черт характера и философских воззрений. Несомненно, что метод философского мышления Бердяева куда более рационален, чем у Шестова, однако мы можем говорить о высокой и важнейшей значимости личного опыта (порой буквально биографического) для построения своих философских настроений и взглядов. Методом Шестова является разговор о себе через другого — через Ницше, Достоевского, Толстого, Кьеркегора и далее. Осуществляя 8 «странствование по душам» других, Шестов «странствует» в первую очередь по своей душе и выхватывает в рассматриваемой им фигуре те положения и направления мысли, которые согласуются с направлением мысли его самого. Таким образом, через философскую интерпретацию другого он транслирует свое. Значимым является то, что в своих работах Достоевском, Ницше, Кьеркегоре как экзистенциальных мыслителях Шестов настойчиво обращает наше внимание на поворотные обстоятельства их личного опыта, особенности биографии, которые в его интерпретации становятся определяющими не просто в жизни, но в мысли указанных фигур. Так, мировоззренческий кризис у Ницше и Кьеркегора связывается Шестовым с их болезнями, перемена убеждений Достоевского и его поворот в сторону «подпольного человека» он связывает с каторжным опытом писателя, во время которого тому открываются «ужасы» жизни. Примечательно в этом отношении замечание исследователя о самом Шестове: пережитая им в 1985 году тяжелая депрессия оказала значительное влияние на его последующую мысль, и то, что он выделяет подобные поворотные моменты в мировоззрении других близких ему фигур, можно считать подтверждением значимости собственного опыта, в особенности опыта болезненного2. Особенную значимость болезненного опыта в творческом развитии мы можем наблюдать у К. Леонтьева, который, хотя напрямую и не признается экзистенциальным философом, но, по нашему убеждению, в его мировосприятии можно проследить элементы экзистенциальной мысли. Воззрения Леонтьева во многом складываются под знаком его эстетизма, и, по убеждению ряда его исследователей, этого эстетизма Ерофеев В. «Остается одно: произвол» (Философия одиночества и литературноэстетическое кредо Льва Шестова) // Вопросы литературы. 1975. №10. C. 156. 2 9 Леонтьев до конца жизни так и не смог преодолеть. Однако в 1871 году в его жизни происходит духовный переворот, обстоятельства и причины которого так и остались не полностью проясненными в творческом наследии Леонтьева. В письме Розанову от 14 августа 1891, говорит в числе прочего о постигшей его болезни, которая поставила его перед лицом смерти3. Глубоко пережитый страх наступающей смерти становится причиной последующего «перерождения убеждений», по выражению Шестова. Это обстоятельство будет особо рассмотрено позднее, сейчас же нам важно отметить встроенность Леонтьева в выделенную нами тенденцию. Так, страх смерти, греха, наказания окрашивает всю дальнейшую пессимистическую мысль Леонтьева. Личное переживание становится определяющим в его воззрениях, и это не ускользает от внимания Бердяева (впрочем, об этом обстоятельстве пишет не только он, также С. Н. Булгаков, Ю. П. Иваск, А. Ф. Сивак). Взгляд Бердяева как одного из «открывателей» Леонтьева и одновременно представителя русской экзистенциальной философии для нас особо важен. Метод самого Бердяева — самопознание. Источником его философии становится «пережитый внутренний опыт, внутреннее озарение»4. Так, в отношении главных тем своего осмысления — свободы и творчества — он исходит из лично пережитого ощущения. Об этом подробно будет сказано позднее, однако уже заметим, что все основные темы своей философии Бердяев, по собственному признанию, находит в своей душе. Розанов В. В., Леонтьев К. Н. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованнные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой; изд. подгот.: А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев, А. п. Палиевский. — СПб.: Росток, 2014. С. 137. 4 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: «Книга», 1991. С. 208. 3 10 Обозначив важность экзистенциальных личного философов переживания (или в случае для русских Леонтьева — предэкзистенциального философа5), мы обратимся к фигуре Георгия Иванова как воплощающего в своем поэтическом творчестве эту сторону экзистенциальной философии. Художественное творчество в принципе более, чем философское, зависит от личности творящего, оно целиком завязано на личном переживании, из которого вырастает произведение. Однако ситуация Георгия Иванова в этом свете представляется особенной — его существование как поэта непредставимо без известных обстоятельств его личной жизни как человека. Так, по заявлению В. Маркова, Георгий Иванов мыслит себя и мыслим другими именно как поэт эмиграции, и это происходит по двум причинам: во-первых, именно благодаря эмиграции Георгий Иванов становится поэтом, во-вторых, он более всех писал об эмиграции, о прошлом он вспоминает скорее ностальгически или иронически6. Так, лирический герой Иванова — эмигрант: «С распроклятой судьбой эмигранта // Умираю…». Крайне уместно здесь и пророческое высказывание Ходасевича в его рецензии на ранний сборник Иванова его петербургского периода «Вереск»: «Г. Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет едва ли. Разве что случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать»7. Таковой «большой житейской катастрофой» в действительности стала эмиграция, однако она вынужденно случилась не только у Георгия Иванова. И. Гурвич отмечает: ««...роль «доброй Морозова И. Русский предэкзистенциализм: К.Н. Леонтьев // Studia Rossica Gedanensia. 2021. С. 121-131. 6 Марков В. О поэзии Георгия Иванова // Опыты (Нью-Йорк). 1957. Кн. 8. 7 Цит. по кн.: «Русская литература конца XIX – начала XX в. 1908 – 1917», М., 1972, с. 636. 5 11 встряски» сыграла не сама по себе участь эмигранта, а порожденное ею, в предчувствии конца, экзистенциальное, пограничное состояние – одиночество на рубеже жизни и смерти, бытия и небытия. Потребовалось вступить в полосу умирания, не обязательно диагностированного, но субъективно ощущаемого, потребовалось испытать неумолимое воздействие биологического на духовное, чтобы найти для поэзии перспективные точки отсчета.»8 Так, эмиграция создает для Иванова экзистенциальную ситуацию, и все его поэтическое творчество эмигрантского периода вращается вокруг ее изживания. Помещенность поэта в буквально чуждый мир открывает для него то, что в экзистенциальной философии именуется «заброшенностью». Так, поэзия Георгия Иванова становится в высшей степени попыткой осмысления и запечатления личного переживания. Катастрофическое внешнее событие не просто приводит к мировоззренческому сдвигу, но порождает особого рода внутреннее переживание, создает «пограничную ситуацию» в терминах экзистенциальной философии. Более того, характерно для Иванова и самопознание в понимании Бердяева. Можно заметить, что от первого эмигрантского сборника («Розы») к последнему («1943—1958 Стихи” и “Посмертный дневник») нарастает исповедальный тон автора, его поэтика все более строится не из многочисленных образов (розы, звезды, голубой/синий, розовый, черный цвета, лед и др.), а представляет собой констатацию внутреннего переживания как непосредственно данного, его слово становится проще и гораздо более о нем. Об этом пишет В. В. Заманская: «Сам писатель делает себя, свою жизнь, собственную судьбу предметом изучения в качестве экзистенции человека и не извне, а изнутри своего Я. В своей судьбе Гурвич И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. 1998 №4. C. 41. 8 12 он пытался дойти до последней сути — до сути и судьбы экзистенции человека, а в себе найти человека как такового.»9 Таким образом, особенность поэзии Георгия Иванова находит себе соответствие в экзистенциальной философии с ее ориентацией на внутреннее переживание как первичное и ориентацией субъекта познания на самого себя. 1.2. Категория страха в философии К. Леонтьева и поэзии Г. Иванова Константин Леонтьев, как правило, не рассматривается исследователями как один из зачинающих традицию русского экзистенциализма. Таковой фигурой, по общему признанию, является скорее Ф. М. Достоевский, с которым, следует заметить, у Леонтьева были довольно напряженные взаимоотношения, к чему мы еще обратимся. Однако, на наш взгляд, некоторые определяющие элементы мысли Леонтьева могут быть рассмотрены как такие, которые впоследствии стали называться экзистенциалистскими. Таким основанием для определение Леонтьева к традиции русского экзистенциализма становится его внутреннее религиозное чувство. Прежде чем перейти к особенностям религиозных воззрений Леонтьева представляется важным определить его место в русской философии. Как уже было указано, ряд исследователей отмечает одиночество Леонтьева как мыслителя. Таковыми в первую очередь были Розанов и Бердяев. Однако А. Ф. Сивак указывает на них как на создателей мифа о Леонтьеве как одинокой фигуре. Сивак объясняет позицию Бердяева по отношению к Леонтьеву как позицию «первооткрывателя», он стремился переоткрыть не услышанного в Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX В.: диалоги на границах столетий. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 263. 9 13 свое время философа и неизбежно интерпретирует его несколько субъективно. Таким образом, место Леонтьева в русской мысли неоднозначно. Относительно взгляда Бердяева на Леонтьева следует обозначить, что нас интересует если не «первооткрытие», то «переоткрытие» философа, которое во многом случилось в связи с известными обстоятельствами русской истории начала ХХ века. Бердяев пишет о Леонтьеве дважды — статья 1905 года «К. Леонтьев — философ реакционной романтики» и более поздняя и объемная работа 1926 года «Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной мысли)». Уже в первой работе Бердяев выстраивает линию Леонтьева как одинокого мыслителя, говорит о его эстетизме и натуралистском мышлении, однако тон повествования в двух работах разительно отличается. В ранней статье Бердяев категорически не принимает Леонтьева: тот для него кощунствует, является «сатанистом, надевшим на себя христианское обличие»10, садистом, изувером и воспевателем зла. В 1926 году тон Бердяева меняется: уже не так рьяно он говорит о темной и «сатанистской» натуре Леонтьева (второе уже и вовсе отрицает как «неосновательное»), более того, теперь Леонтьев становится фигурой скорее трагической, чем «злой». И в этом отношении он предлагает рассматривать Леонтьева не как духовного проводника учителя, но как урок. Вероятно, подобное переоткрытие фигуры Леонтьева как трагической связано с самими событиями истории, которые не могли не подтолкнуть к подобному переосмыслению. Так, Бердяев признает пророчественность Леонтьева, и хотя бы уже поэтому к нему стоит прислушаться. Бердяев Н. А. К. Леонтьев — философ реакционной романтики / Леонтьев К. Н.: pro et contra. Книга 1. / Вступ. ст. А. А. Королькова, сост., послесл. и примеч. А. П. Козырева. — СПб.: РХГИ, 1995. С. 213. 10 14 А. В. Золотарев11, отмечает, что именно Бердяев одним из первых увидел в мысли Леонтьева вопросы экзистенциального толка — его в первую очередь волнует проблема собственного существования. Исследователь ставит рядом с Леонтьевым Кьеркегора, утверждая сходство их мысли относительно личного существования как приоритетного вопроса. У Леонтьева наибольшее выражение это получает в его «трансцендентном эгоизме» — религии личного спасения. Так, выступая с критикой эвдемонизма, возможности всеобщего прогресса и гармонии, он проповедует «суровый и печальный пессимизм»12: достижение высшего блага для всех невозможно, единственно возможная гармония — соотношение горя и радости, «одним будет хуже, другим лучше». Леонтьеву свойственно эсхатологическое мироощущение. Человечеству суждено подойти ко всеобщему концу, а не прогрессу, потому надо заботиться более всего о себе, о своих ближних людях, а не о дальних, о своих ближайших делах. Продолжая проводить мысль Леонтьева по экзистенциальному пути, Золотарев говорит и об отмечаемой обвинителями философа противоречивости и бессистемности. Но, по мнению исследователя, противоречивость и парадоксальность являются одними из свойств экзистенциальной мысли. Рациональное, системное, согласованное знание не отвечает самой сущности жизни, которая построена на противоречиях и не сводится к стройной схеме. Именно против такого Золотарев А. В. Константин Леонтьев как экзистенциальный философ // Руссковизантийский вестник. № 4. 2022. С. 86-96. 11 Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М, Достоевского на Пушкинском празднике. М.: Республика, 1996. С. 323. 12 15 знания выступают экзистенциальные философы, в том числе Кьеркегор, который в некоторых моментах оказывается близок Леонтьеву. Наконец, перейдем к рассмотрению религиозного чувства Леонтьева. Продолжая выстраивать линию сравнения Леонтьева и Кьеркегора, Золотарев замечает, что «религиозный переворот» Леонтьева «в терминах кьеркегоровской философии можно было бы назвать скачком с эстетической стадии существования на стадию религиозную»13. У Леонтьева, действительно, случается мировоззренческий кризис в духе экзистенциальных мыслителей: он оказывается в типичной «пограничной ситуации» — испытывает страх перед смертью. Здесь нам кажется уместным представить отрывок из письма Леонтьева к Розанову, в котором он проясняет произошедший с ним переворот: «Но в лето 1871 года, <...> лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери… <...> Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти…»14. Так, религиозный поворот происходит под знаком страха и ужаса, и это переживание превращает христианство Леонтьева в религию страха перед Богом, наказанием и грехом. Вера Леонтьева вырастает из страха — сначала физического, а затем духовного. Он проповедует «черное» христианство и выступает с Золотарев А. В. Константин Леонтьев как экзистенциальный философ // Руссковизантийский вестник. № 4. 2022. С. 14 Розанов В. В., Леонтьев К. Н. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованнные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой; изд. подгот.: А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев, А. п. Палиевский. — СПб.: Росток, 2014. С. 138. 13 16 критикой Толстого и Достоевского как представителей «розового» христианства, основанного на любви. Главные его критические работы, направленные против «розового» христианства — «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы?» и «О всемирной любви», где Леонтьев отзывается на Пушкинскую речь Достоевского. Любовь к ближнему, которую и Толстой, и Достоевский воспевают как основание и главный смысл христианства, Леонтьев считает только «плодом, «корнем» же является страх. Именно страдательная сторона христианства Леонтьеву кажется не только более привлекательной, но и реальной. Так, далеко не каждый может в действительности ощущать любовь к ближнему, к каждому человеку вообще, а вот страх — куда более близкое и понятное чувство, страх перед Богом, наказанием, страх за совершенные грехи доступен каждому. Человек осмысляется Леонтьевым как существо в некотором смысле ничтожное — ему изначально доступен только страх перед наказанием и грехом, постоянно присутствующим в его жизни, любовь есть то, к чему можно прийти при определенных усилиях, страх же представляется как имманентное человеку чувство и мироощущение. Природа человека складывается из «желания, искания веры, усиления, молитвы против маловерия и слабости, отречения и покаяния.»15 Страх и страдание становятся для Леонтьева основными двигателями человеческой души, наиболее же доступная человеку гармония — только сосуществование темных и светлых сторон жизни. «Черное» христианство Леонтьева яро выступает против того, чтобы «все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь принимать, а все грозное, Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М, Достоевского на Пушкинском празднике. М.: Республика, 1996. С. 329. 15 17 суровое и мучительное отвергать, как несущественное»16. Жизнь человека трагична, но ее трагизм, по Леонтьеву, открывает перед человеком высшую правду, так она была открыта ему самому. Человеческое существование окрашено как темными, так и светлыми тонами, и воспевание страха Леонтьевым призвано дать право темным тонам на проявление. Человек не должен стремиться к всеобщей гармонии, торжеству любви и абсолютного счастья — таким образом он отдаляется от самой жизни, которой присущ трагизм. Леонтьев неустанно напоминает: «Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными – и больше ничего. В высшей степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, – и больше ничего!»17 Таким образом, религиозный страх является основанием веры для Леонтьева, но еще более важно, что страх, как и все проявления человеческого страдания, он признает неизбежными качествами самой жизни, которая проходит в постоянных столкновениях добра, радости, утешения со злом, горем и всеми темными чувствами человеческой души. Это замечает Георгий Иванов, который называет свою статью о Леонтьеве «Страх перед жизнью». Название статьи отсылает к ключевому для Леонтьева страху перед Богом. Тон Иванова здесь — негативный и даже саркастический. Основное его опасение состоит в том, что Леонтьев, словно «склянка с ядом», открывается современности, которой он стал наконец созвучен. Однако мы бы хотели отметить парадоксальность статьи Иванова: несмотря на то, в каком опасливом и одновременно язвительном тоне ведется Леонтьев К. Н. Четыре письма с Афона. М.: Русская книга, 2002. С. 446. Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М, Достоевского на Пушкинском празднике. М.: Республика, 1996. С. 327. 16 17 18 повествование, находится довольно много мест, которые можно отнести и к самому Иванову, и именно на эти места мы бы хотели обратить внимание. Иванов резко окрестил Леонтьева «неудачником»: «всю жизнь был неудачником, неудачником и умер»18. Этот знак неудачливости висит над всей жизнью мыслителя — и биографической, и духовной. В неудавшейся жизни состоит трагическая судьба Леонтьева, он бросается от «поэзии» и красоты жизни к Богу, но ни в чем не находит успокоения и остается обделенным и неприкаянным19. Нам представляется, что подобное описание можно отнести и к самому Иванову: очевидна его «неприкаянность» в эмиграции, трагическое существование в чужом мире («с распроклятой судьбой эмигранта // умираю…»), разочарование в собственной судьбе («На осколки жизнь разбивается, // Исчезают имя и отчество, // И фамилия расплывается…», также «Я бы зажил, зажил заново // Не Георгием Ивановым…»). Примечательно, что А. Ю. Арьев пишет про поэта, что тот «жил как будто затем, чтобы убедиться в ущербной неполноте обычных житейских связей и самой человеческой жизни»20. Обделенность и разочарование становятся магистральными линиями, в соответствии с которыми выстраивается поэзия Иванова. Его жизнь в этом смысле такая же неудавшаяся: Иванов Г. В. Страх перед жизнью. Константин Леонтьев и современность//Константин Леонтьев серия pro et contrа в 2-х кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С.188. 19 Вопрос о том, действительно ли Леонтьев “бросается” от эстетики к Богу, не является предметом нашего рассмотрения, так как нас интересует интерпретация Иванова. 20 Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 105. 18 19 В доме скрипнет половица, На окошко сядет птица, В стенке хрустнет. Это — он. И тому, кто в доме, жутко, И ему — ох! — тяжело. А была одна минутка. Мог поймать. Не повезло. Выражением того же чувства является в стихотворении «В шуме ветра, в детском плаче…» рефрен — «А могло бы быть иначе». Так, лирический герой Иванова ощущает себя как неудачливого — того, кому «не повезло», с кем не случилось иначе, а могло бы, и «В конце концов судьба любая // Могла бы быть моей судьбой.» Интересно, что последние строки можно понимать двумя способами: либо как «я мог бы быть кем угодно», либо как «мной бы мог быть кто угодно». В обоих случаях мы наблюдаем разочарование в собственной судьбе, индивидуальность и значимость которой обесценивается с двух позиций — с позиций Георгия Иванова как человека и как поэта. Так, утверждение «я мог бы быть кем угодно» в духе уже отчасти цитированного нами стихотворения: Я бы зажил, зажил заново Не Георгием Ивановым, А слегка очеловеченным, Энергичным, щеткой вымытым, Вовсе роком не отмеченным, Первым встречным-поперечным — Все равно какое имя там… 20 Это разочарование именно в своей человеческой судьбе, мечты о том, как могло бы быть, если бы он родился другим человеком, в других обстоятельствах. Утверждение же «мной мог бы быть кто угодно» есть отрицание себя как уникального поэта, воспроизвести мысль героя Иванова можно следующим образом: я стал поэтом в эмиграции, но в эмиграции оказались многие, следовательно, кто-нибудь другой при таких же обстоятельствах мог бы занять мое место, если бы его не занял я. Это разделение себя на человека и поэта прослеживается и в другом стихотворении Иванова: Игра судьбы. Игра добра и зла. Ира ума. Игра воображенья. «Друг друга отражают зеркала, Взаимно искажая отраженья…» Мне говорят — ты выиграл игру! Но все равно. Я больше не играю. Допустим, как поэт я не умру, Зато как человек я умираю. Примечательно, что в статье «Страх перед жизнью» Иванов обращает внимание на подобную двойственность Леонтьева — он был Леонтьевым-теоретиком и Леонтьевым-человеком: «Россия, Бог, византийство, эстетика — все, о чем Леонтьев-теоретик так много, так настойчиво и «планомерно» говорит в своих книгах, — для Леонтьевачеловека большого значения не имеет, хотя он и скрывает это, скрывает даже от самого себя. Но, по существу, — от юности до последних дней — одна только страсть наполняет Леонтьева, растворяя и покрывая все 21 остальные: «Тоска по жизни и блестящей борьбе»21. Эту основную «страсть» Леонтьева Иванов объясняет как жажду «трибуны», но обстоятельства жизни «трибуны» не предоставили. Здесь Иванов выступает с резкой критикой мыслителя, радуясь тому, что жизнь не позволила Леонтьеву обрести влияние, которое бы его испортило как писателя, ожесточило бы и огрубило как человека. Однако само в определенном смысле раздвоение личности, которое здесь происходит, вполне характерно и для Иванова, как мы уже отметили. У него нет тоски по «блестящей борьбе», он «выиграл игру» («Игра судьбы. Игра добра и зла. // Игра ума. Игра воображенья.», интересно в другом стихотворении — «еще люблю игру теней и света»), но мотива борьбы здесь не наблюдается, потому что борьба есть проявление жизни, а состояние героя Иванова в этом стихотворении — предсмертное равнодушие, восхождение над категориями и оппозициями человеческой жизни. Приведенное стихотворение является одним из итоговых, напечатанным в сборнике «Посмертный дневник», который творился Ивановым во время болезни незадолго до смерти, и только сейчас он «больше не играет». Постоянные противопоставления, «игра теней и света» характерна для его поэзии. Приведем процитированное самим Ивановым здесь другое его стихотворение: Друг друга отражают зеркала, Взаимно искажая отраженья. Иванов Г. В. Страх перед жизнью. Константин Леонтьев и современность//Константин Леонтьев серия pro et contrа в 2-х кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 192. 21 22 Я верю не в непобедимость зла, А только в неизбежность пораженья. Не в музыку, что жизнь мою сожгла, А в пепел, что остался от сожженья. Представленное мироощущение вполне схоже с мыслью и чувством Леонтьева. Жизнь проходит в поставленных двух против друга зеркалах, и оттого не может не быть искаженной, трагичной. Мы видели, что для Леонтьева неотъемлемым свойством жизни являлось ее постоянное колебание от темного к светлому. Иванов делает это свойством своей поэзии. Так, характерно, что основная палитра у Иванова — черный, синий/голубой22 и розовый цвета23, которые в рамках одного стихотворения сталкиваются между собой, а иногда сливаются (образ «темной розы»). Сталкиваются между собою также образы сияния и мрака, более абстрактно — счастья, которое все же появляется в поэзии Иванова и не всегда как недостижимое, и отчаяния, страха, безнадежности и разочарования. В подобных крайностях выстраивается поэтический мир Георгия Иванова. Более подробно об этой противоречивости мы скажем далее, но уже заметим, что эта особенность восприятия жизни наблюдается и у Леонтьева как свидетельство экзистенциального образа мысли. Эпитет «голубой» имеет особую связь со статьей о Леонтьеве: Иванов несколько раз вспоминает «занавесочки из голубой марли», о которых Леонтьев просит своих друзей незадолго до смерти, а те находят «занавесочки» в гробовой лавке. Эта деталь появляется в стихотворении «Свободен путь под Фермопилами» в лице «голубых комсомолочек». Об этом: Есаулов И. А. О «голубых комсомолочках»: континуальность и/или дискретность русской культуры. 23 Здесь не может не вспомниться «черное» и «розовое» христианство, что мы трактуем как случайное, но характерное пересечение. 22 23 В ряд игры «добра и зла», «света и тени» и далее встает «игра страха и надежды в одинокой человеческой душе»24. Сложно представить, что в том восприятии жизни, которое представляет нам Георгий Иванов, нет места страху — и перед жизнью, и перед смертью. Но удивительно, что герой Иванова почти не говорит о том, что он боится, он скорее чаще отчаивается, злится, тоскует или даже скучает. Редкая для него обмолвка: «И не страшны мне ночные часы, // Или почти не страшны…» или «И вижу — огромное, страшное, нежное // Насквозь ледяное, навек безнадежное…». Мы предполагаем, что подобное отсутствие категории страха (или его крайне редкое упоминание) в поэзии Иванова — отсутствие значимое, сознательное умолчание. Он открещивается от страха: В самом деле — что я трушу: Хуже страха вещи нет. Ну и потеряю душу, Ну и не увижу свет. Подобный жест отрицания тоже вполне характерен для поэтики Иванова, самый громкий пример — «Хорошо, что нет Царя…». Относительно последнего стихотворения интересно для нас замечание Ю. П. Иваска, в журнале которого печатался Иванов. В письме Струве25 Иваск говорит о кризисе современной ему поэзии, которая «не звучит». И только Иванову, которого Иваск называет «кощунственным циником», более всех удается говорить о бывших святынях и в какомИванов Г. В. Распад атома // Собрание сочинений: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2. С. 29. 25 Иванов Г. Шестнадцать писем к Юрию Иваску. Вступительная статья, публикация и комментарии А. Арьева / Г. Иванов, А.Ю. Арьев // Вопросы литературы. 2008 №6. C. 282-308. 24 24 то смысле все же их утверждать, так как «каждый кощунствующий еще во что-то верит». Так, отрицание у Иванова имеет двойной смысл — оно же есть утверждение, через отрицание им проживается страдание. Однако отрицание страха выражено у Иванова в приведенном отрывке совсем не тем тоном, которым он отрицает Царя, Россию, Бога. Мы снова предполагаем, что это свидетельствует о том, что страх — одно из самых сильных чувств героя Иванова, и оно сильно настолько, что оказывается невыразимым. Для подтверждения нашего предположения обратимся к одному сюжету из воспоминаний «Петербургские зимы». В рассказе о Сологубе мы встречаем следующее откровение, которое приведем целиком: Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком): — Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу. — О самом главном? — Да. О страхе перед жизнью. И , в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба: — Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.26 26 Иванов Г. И. Петербургские зимы. М.: Согласие. 1994. С.139-140. 25 Соответственно, «самое главное» остается несказанным и невыраженным. В этом смысле «искусство — одна из форм лжи», и самое «кошмарное» лежит за его границами. «Липкий тошнотворный страх»27 не может быть преображен искусством, и потому Иванов о нем почти не говорит. «Страх перед жизнью» остается в переданных словах Сологуба, в очерке о Леонтьеве, а в поэзии Иванова напрямую остается невыраженным, потому что, действительно, «хуже страха вещи нет». Таким образом, глубокое восприятие страдательной стороны жизни и страх перед ней являются общими для Леонтьева и Иванова, и статью последнего можно толковать как типичный жест отрицания, за которым на деле скрывается согласие и утверждение. 1.3. Философия трагедии Л. Шестова и ее отражение в поэзии Г. Иванова Для русской экзистенциальной философии роль учителей и предшественников заняли Ницше и Достоевский, и за мыслью Шестова стоят эти две фигуры — так, свою «философию трагедии» он посвящает именно им. Заранее скажем об особенности взгляда и метода Шестова, которую следует учитывать при реконструкции его мысли. Шестов всегда выстраивает свою мысль вокруг другого, он совершает обозначенное им самим «странствование по душам». Так, каждый из героев, который попадает в поле зрения Шестова, по выражению Бердяева, подвергается «шестовизации». Именно через разговор о другом (будь то Ницше, Достоевский, Кьеркегор, Чехов и др.) он рассказывает о своем. Интересно здесь и то, что часто Шестов не просто выстраивает свою интерпретацию другого и обнаруживает через нее собственную мысль, но он сталкивает между собой 27 распад атома 26 выбранные им фигуры (Толстой и Ницше, Достоевский и Ницше, Лютер и Толстой и др.) и в этом столкновении им вытачивается собственная философия. Так, Бонецкая об этом пишет следующим образом: «Шестовский «герменевтический круг» можно уподобить двум зеркалам, наведенным друг на друга, создающим эффект взаимообуславливающих бесконечностей. «Зеркала» ставятся одно против другого, и запускается про-цесс нахождения экзистенциальных черт одного творца в дру-гом и наоборот.»28 Сложно здесь не вспомнить «зеркала» Георгия Иванова, взаимно искажающих друг друга. К этому стихотворению мы вернемся позднее, но уже примечательно, что в некотором смысле метод Шестова и Иванова оказывается схож: Шестов ставит друг напротив друга своих героев, и получаемое «искаженное отражение» есть его собственная мысль, у Иванова за образом отражающих друг друга зеркал следует «я верю в…». Делая подобное наблюдение мы не говорим о каком-либо прямом влиянии одного на другого, которое прослеживается с трудом, но скорее мы хотим заметить схожесть направления мысли Иванова и Шестова как представителей многоликой и разнообразной, но все же в чем-то единой линии русской экзистенциальной традиции. Как уже было сказано, Шестов был учеником Ницше и Достоевского, но учеником своеобразным. К фигуре Ницше Шестов обращается в работе «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: философия и проповедь», в которой он совершает выпад против добра. Примечательно, что с этой работы начинает складываться «философия трагедии» Шестова. Так, если в более раннем труде «Шекспир и его критик Брандес» Шестов понимал трагедию как необходимый 28 Бонецкая Н. К. Русский экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 2021. С. 78. 27 «воспитательный» элемент в жизни, страдания и «ужасы» которой получают свое оправдание в добродетельном преображении духовной жизни человека, то позднее Шестов от этой идеи отходит под влиянием Ницше, и трагедийность становится непреодолимой и самодовлеющей стороной жизни. Так, Шестов начал свое выступление против этических категорий добра и зла как ориентиров в жизни человека и переходит к «философии трагедии», которая представляет для нас наибольший интерес. Героем Шестова в его «философии трагедии» становится человек на окраине жизни — он выходит из-под опеки разумного и этического и потому оказывается в катастрофическом состоянии страдания, отчаяния и одиночества. Такими людьми для Шестова являются Достоевский и Ницше, и он ставит своей задачей проследить причину их «смены убеждений». Шестов разделяет все творчество Достоевского на два периода: от «Бедных людей» до «Записок из мертвого дома» и от «Записок из подполья» до Пушкинской речи. Свой задачей философ ставит показать и узнать тайну смены этих периодов и стоящих за ними убеждений. Главным произведением Достоевского для Шестова являются «Записки из подполья», все остальное у него — лишь комментарии к «Запискам». Более того, изображенное там является наиболее близким к личности самого автора, а если еще точнее, это констатация столкновения его самого с открывшимися ему ужасами. Именно чтобы от них прикрыться создаются фигуры князя Мышкина, Алеши Карамазова и им подобных. Характерно, что «Записки из подполья» Шестов воспринимает исключительно как автобиографическое повествование, для него важно рассмотрение и Достоевского, и Ницше как лично столкнувшихся с «ужасами» жизни и ощутивших ее трагедию как неизбежное и непреодолимое. Р. А. 28 Гальцева отмечает, что Шестов ищет истину там, где ее прежде не искали, — в ненормальном, болезненном состоянии человека. Шестова как экзистенциального философа интересует непосредственное переживание, а подобные состояния крайности в силу своей яркости и неподдельности оказываются наиболее показательными: «здесь в качестве источника познания так ценится великое страдание и отчаяние – oно более всего способно обнажить «подземную», бессознательно-волевую первооснову души»29. В таком болезненном состоянии пребывает «подпольный человек» Достоевского, который возникает в результате переживания каторжного опыта. Важно, что в интерпретации Шестова писатель стремится забыть каторгу, но «каторга не забыла его»30. «Записки из подполья» — «это раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования — это служение последнему человеку.»31. «Записки из подполья» — прощание с прежними идеалами, идеалами гуманизма, здесь Достоевский открывает в себе «страшное». Таким образом, «подпольный человек» Достоевского открывает философию трагедии. Далее мы рассмотрим, как Шестовым раскрывается трагическая сторона жизни, и те же основания трагедии применим к поэзии Георгия Иванова. Сразу заметим, что следование заложенной Достоевском традиции наблюдается в романе Иванова Гальцева Р. Защита Львом Шестовым «трагического индивида»: приобретения и потери / «Иск к разуму как дело спасения индивида. (Гносеологическая утопия Льва Шестова)» // Социокультурные утопии XX в. М., 1982. Вып. 2. С.40–74. 30 Шестов Л. Философия трагедии / Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001.С. 24. 31 Там. же. С. 26. 29 29 «Распад атома»32, однако этот сюжет останется вне нашего рассмотрения, и мы обратимся к поэзии Иванова. А. Ю. Арьев говорит о стихотворениях эмигрантского периода Иванова: «Поздние стихи Георгия Иванова — это изживание неизживаемой жизнью трагедии.»33 Так, трагедия — имманентное жизни свойство, она неизбежна в человеческой судьбе. У Шестова скрыть трагедию можно, возведя стену из рационалистических и гуманистических идеалов, и эта стена отделяет человека от самой сущности жизни. Такова «философия обыденности», которая дает человеку спокойствие и даже счастье, но «подпольный человек» предпочитает «расшибить голову о стену, чем примириться с ее непроницаемостью»34. Столкновение человека с трагедией выводит его в состояние одиночества в двух смыслах. Во-первых, далеко не каждый соглашается «расшибать голову о стену», это скорее удел людей «необыкновенных». Познавший трагедию человек «начинает иначе думать, иначе чувствовать, иначе желать»35, и в этом он остается одиноким. Потому мы и у Георгия Иванова читаем: Боже! И глаза я закрываю От невыносимого огня. Падаю в него… и понимаю, Что глядят соседи по трамваю Страшными глазами на меня. Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. Там же. С. 79. 34 Шестов Л. Философия трагедии / Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. С. 59. 35 Там же. с 10. 32 33 30 Так, человек, прошедший через «подполье» рискует остаться непонятым и оттого одиноким в своем «невыносимом» состоянии. Вовторых, одиночество здесь оказывается и более глубоким чувством. В столкновении с «ужасами» жизни человек лишается опоры, попадает в состояние «беспочвенности» — идеалы «нормальной» жизни теряют для него значение, и он встречается с жизнью один без какой-либо опоры: «все красивые априори»36 оказываются ложными, и человек предстает одиноким перед лицом самой жизни, которая по своему существу не устроена на основаниях разумных и этических. В этом отношении рассмотрим стихотворение: На границе снега и таянья, Неподвижности и движения, Легкомыслия и отчаяния — Сердцебиение, головокружение… Голубая ночь одиночества — На осколки жизнь разбивается, Исчезают имя и отчество, И фамилия расплывается… Точно звезды, встают пророчества, Обрываются!.. Не сбываются!.. Герой оказывается в «пограничной ситуации» — он находится на «границе» противоположностей, которые сливаются и вызывают «сердцебиение, головокружение». Прибегая к Шестову, заметим, что 36 Шестов Л. Философия трагедии / Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. 31 человек перед лицом трагедии лишается, как уже было сказано, «всех красивых априори», то есть четких понятий и ориентиров — мы более не знаем, что добродетель есть цель нашей жизни, зла и страдания мы должны избегать, истина указывается наукой и так далее, то есть человек сталкивается с неизвестностью, потому что философия трагедии, по Шестову, заглядывает в ту область, на которую не распространяется философия рационалистическая, или «философия обыденности». Это же размышление применимо и к рассматриваемому стихотворению. Зрение героя расфокусируется, оказываясь на границе, где все расплывается, оттого появляется выбивающаяся из общего ритма строка «сердцебиение, головокружение» — происходит выход из «нормального» состояния. Возвращаясь к стихотворению, отметим, что образный ряд в первой строфе смещается все более во внутреннюю глубину: если мы начинаем с внешних объектов и процессов (снег и таяние), то затем через движимость как свойство, присущее и объекту, и субъекту, через качества уже только субъекта (легкомыслие и отчаяние) мы полностью погружаемся внутрь субъекта (сердцебиение и головокружение Соответственно, во можно почувствовать второй строфе мы только изнутри). оказываемся внутри экзистенциального переживания героя, его столкновения с трагедией. Жизнь, обрамленная в привычные категории, разбивается, и одиночество здесь является именно характерной чертой разбитой жизни. Так, герой лишается имени, фамилии, отчества — того, что привязывает его к внешнему миру, составляет основной его образ в этом мире (у всех есть в первую очередь имя, по которому нас опознают и мы опознаем себя). Герой лишается имени как основной и последней связи с внешней жизнью и переживает столкновение с самой экзистенцией. Но это столкновение трагично — оно не приносит герою никакого знания: пророчества «обрываются» и «не сбываются». 32 Философия трагедии Шестова начинается с разрушения, и подобное разрушение мы видим в приведенном стихотворении Иванова. У Шестова пока что, а у Иванова вообще не видится ничего, кроме этого разрушения и неизвестности, которая открывается человеку как трагедия. Арьев пишет: «Именно Георгий Иванов поставил в русской литературе если и не рекорд одиночества, то рекорд пессимизма.»37 Пессимизм наряду со скептицизмом — качества «подпольного человека» и его философии у Шестова, которые выражаются в уже указанном нами разрушении рациональных и нравственных ориентиров человека, а также в утверждении «бессмыслицы и нелепости в судьбе отдельного человека»38. Примечательно, что если ранее Шестов говорил о положительном смысле трагического случая в человеческой судьбе, то теперь, отрицая добродетель как идеал, он лишается и идеи о замысле судьбы, и выходит наружу ее «бессмыслица и нелепость». Относительно концепта судьбы у Георгия Иванова мы можем сделать два заключения: она 1) чудовищна, 2) случайна. В стихотворениях из сборников «Розы» и «Отплытие на остров Цитеру», для которых характерно обилие цветов и природных образов, судьба сочетается с «отрицательными» цветами в поэтике Иванова — синим/голубым и черным: Взмахи черных весел шире, Чище сумрак голубой — Это то, что в этом мире Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 96. 37 38 Шестов Л. Философия трагедии / Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. С. 75 33 Называется судьбой. А также: «Все равно. Качнулись ветки // Снежным ветром по судьбе…» (выше эти «ветки» характеризуются как «черные»). В более поздних циклах «Дневник» и «Посмертный дневник», где Иванову свойственно более прямое слово, встречаем строки: «Проснуться, чтоб увидеть ужас, // Чудовищность моей судьбы», «Этой жизни нелепость и нежность…». Судьба характеризуется как «то, что ничего не значит // И не знает ни о чем». Так, утверждается отсутствие в ней высшего замысла и оправдания трагедии. Также герой Иванова говорит о себе: «И вот я принесен течением — // В парижский пригород…». И, наконец, высшей степенью подобного утверждения являются строки — «В конце концов судьба любая // Могла бы быть моей судьбой», о которых уже было сказано выше. По мысли Шестова, трагизм жизни проявляется и в ее безнадежности, и эта идея становится основной для статьи о Чехове — «Творчество из ничего»39. Шестову Чехов видится как «певец безнадежности», который отвергает всевозможные «мировоззрения и идеи», он погружает своих героев в «ненормальное» состояние, где они вынуждены «творить из ничего»: «пред ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дела»40. Действительно, надежда предполагает, что у нас остался Эта статья, по заявлению самого Шестова, являлась ключом к неоднозначно принятому современниками труду «Апофеоз беспочвенности»: «Так вот тебе совет: прочти статью о Чехове — в ней связнее и проще передано содержание „Ап[офеоза] б[еспочвенности]«. Правда, связность и упрощение обрезывает материал, но зато дает некоторую нить. Мне кажется, что после статьи о Чехове „Ап[офеоз] бесп[очвенности]« будет понятнее.» (из письма к сестре Фане от 14.04.1905) 39 40 34 какой-то идеал, Чехов же лишает своих героев идеала — «искусство, наука, любовь, вдохновение» не просто не наполняют жизнь человека, но уничтожаются для будущего. Так, чеховские герои для Шестова встают в ряд «подпольных» людей, которые лишены оптимистического взгляда на будущее и их и без того мрачное состояние не имеет просветов. Безнадежность у Шестова появляется вследствие состояния «беспочвенности», то есть ухода от устойчивых основ жизни. Для такого положения характерен хаос и неизвестность — человек сталкивается с необходимостью творить из пустоты и искать в ней новые ориентиры. По замечанию исследователя41, творчество для самого Шестова было «творчеством из неизвестности». В трагическом состоянии разрушения основ человеку открывается неизвестность как хаос: «Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие.»42 Так, «мучительное самочувствие» становится некоторой платой за творческий акт и его результат. Интересно, что и у Георгия Иванова читаем: В награду за мои грехи, Позор и торжество, Вдруг появляются стихи — Вот так… Из ничего. Сенчихина Ю. Б. Апология неизвестности: концепция творчества Льва Шестова // Вестник Московского ун-та. 2007, №3. С. 26-37. 42 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: АСТ, 2004. С. 220. 41 35 или: «Творю из пустоты ненужные шедевры». Герой Иванова оказывается в пустоте, в которой он будто бы наощупь подбирает слова, «подчиняясь рифмы произволу»: в условиях ушедшей из-под ног почвы он цепляется за рифму и созвучия, из которых выстраивается текст: Полу-жалость. Полу-отвращенье. Полу-память. Полу-ощущенье, Полу-неизвестно что, Полы моего пальто... В таком же ключе осмысливается и состояние безнадежности, которое часто стоит в одном ряду с «нежностью» то ли по причине «произвола рифмы», то ли как отражение неопределенного состояния, в котором герой выхватывает из пустоты все, попавшееся под руку: И вижу огромное, страшное, нежное, Насквозь ледяное, навек безнадежное. Также мы встречаем ряд: «еще нежней, бессердечней, безнадежней», «Одевает в саван нежный // Всю тщету, все неудачи // Тень надежды безнадежной». Интересно, что безнадежность видится герою там, где обычно находится надежда (вероятно, поэтому у него становится возможным «безнадежная надежда»). Здесь мы снова сталкиваемся с подрывающей силой трагического переосмысления жизни, уходом от «обыденности», в которой выстроены прочные связи между словами и понятиями. Поэт 36 разрушает эти связи, и в отношении к нему применимо то, что Шестов говорил о Чехове: «переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают.»43 Так, «жизнь иная» обычно порождает в людях надежду, особенно в христианской культуре, к которой принадлежал Иванов. Но у него все то, что принадлежит к этой неземной жизни, существует под знаком безнадежности: это «безнадежный покой», «безнадежная линия // бесконечных лесов», сияние, которое обыкновенно есть образ божественного, становится «сиянием безнадежности», и, наконец, отрывок: Разрушая, снова начиная, Все автоматически губя, В доказательство, что жизнь иная Так же безнадежна, как земная, Так же недоступна для тебя. Причиной такого перевернутого восприятия становится «талант двойного зренья», который «исковеркал жизнь» герою Иванова. Он говорит об обладании «чудным даром», даже «Божьим даром», но платой за него становится жизнь: «Но к нему еще доплатишь // Жизнь, погубленную зря». Возможным источником этого «таланта» Арьев называет Тютчева, а именно его «двойное бытие»44. С ним не соглашается Н. Ю. Грякалова и предлагает воспринимать метафору «двойного зрения» если и через Тютчева, то прошедшего через Шестов Л. Творчество из ничего / Чехов А.П. pro et contra // Издательство: РХГА, 2002, 1072 стр. С. 399. 44 Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 84. 43 37 символистскую рецепцию45. Однако символистское «двойное зрение», которое обеспечивает гармонию внешнего и внутреннего (концепция «реалистического символизма» Вяч. Иванова) кажется исследователю далекой от Георгия Иванова. Более близким источником метафоры Грякаловой видится текст Шестова «На весах Иова (Странствования по душам)», а именно самоочевидностей», одна из его посвященной частей — Достоевскому. «Преодоление Мы склонны соглашаться с исследователем, так как экзистенциалистская оптика близка Иванову: «двойное зрение» у Шестова углубляет трагическое мироощущение, а не способствует гармонии, как и у Иванова жизнь изза этого таланта загублена и «исковеркана». Шестов пересказывает притчу об ангеле смерти: если он прилетает за душой человека слишком рано, когда не пришло ему еще время, то оставляет тому пару из своих бесчисленных глаз. С того момента человек обретает «двойное зрение», но оно дарует человеку не радость, а муки. «Новое» зрение открывает то, что не было доступно его природному взгляду, и в этот момент взгляд двоится: «так как остальные органы восприятия и даже сам разум наш согласован с обычным зрением и весь, личный и коллективный, "опыт" человека тоже согласован с обычным зрением, то новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто призраками воображения»46. или «Новое» и галлюцинациями расстроенного «старое» находятся зрение в рассогласовании, между ними происходит борьба, и все наше природное, «естественное» существо противится приобретенному «второму зрению», от которого нельзя отказаться. Мы предполагаем, что можно понимать «талант двойного зренья» у Иванова через Грякалова, Н. Ю. «Талант двойного зренья». Об одной визуальной метафоре у Георгия Иванова / Н. Ю. Грякалова // Русская литература. - 2009. - № 4. - С. 39-47 45 46 Шестов Л. На весах Иова. М.: Эксмо, 2009. С. 120. 38 Шестова: это неоднозначный дар, который, с одной стороны, открывает человеку «новое», никому более недоступное, а, с другой стороны, рождает в нем сильнейшие муки вследствие обретенной дисгармонии взглядов. Таким образом, мы заключаем, что философия трагедии Шестова во многом реализуется в поэзии Иванова. На данный момент представляется сложным определить, насколько было возможно прямое влияние Шестова на Иванова — в его автобиографических записях и воспоминаниях жены мы не можем найти тому подтверждений. Грякалова предполагает, что возможно восприятие ивановым Шестова через Ж. Батая, который состоял в тесной связи с и с философом, и с поэтом. И даже если обнаружить прямое влияние затруднительно, то, как мы постарались показать, между Шестовым и Ивановым имеется множество линий схождения, центр которых — переживание трагедии. 1.4. Свобода как начало трагедии философского миросозерцания Н. Бердяева и «ледяная» свобода в поэзии Г. Иванова В ряду представителей русского экзистенциализма Бердяев представляет философию с наиболее положительными началами и выводами. Рядом с трагедией человеческого существования у него существует глубокая надежда и даже убежденность в спасении. Бердяев ставит своей задачей создать «философию свободы», которая есть философия не «о чем-то», а «чего-то». Проблема современной философии видится в ее отвлеченном от индивидуального человеческого бытия начале. Мы расщепляем человека на субъект и объект и говорим лишь о втором, и тем самым получаем лишь 39 призрачные и иллюзорные решения «проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности»47. Бердяев же стремится к преодолению этого расщепления человека, хочет обнаружить его целостность. Как философ религиозного толка Бердяев делает предметом своего размышления духовную реальность человека, сущность которой — в свободе. Разрешение вопроса о свободе для Бердяева связано с разрешением вопроса о происхождении и возможности зла. Неоспоримым для него является то, что зло в мире не сотворено Богом. Мысль Бердяева можно представить следующим образом. Всякое бытие (которое понимается и как предикат, и как сам существующий субъект) исходит от Бога, следовательно, зло есть небытие. Так, зло находится вне сферы божественного влияния, Бог не мог принудительно избавить мир от зла, так как сама его сущность определяется свободой. Впоследствии эта конструкция у Бердяева дополняется концепцией «несотворенной» свободы, которая приобретает самостоятельный онтологический статус. Именно следствием такого положения свободы является трагедия человеческого существования. В работе «Философия свободы» причиной неизбежной трагедии является свобода греха: человек не может возложить ответственность за зло в мире на Бога, а Бог не может принудить человека только к добру, так как это противоречит онтологическому основанию самого мироздания. Грех в осмыслении Бердяева есть свободное отпадение от Бога, которое не могло не совершиться, и с этого отпадения начинается трагическая история Бердяев Н. А. Философия свободы / Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 21. 47 40 человечества и человека. Свобода греха лежит в самом основании мира и в основании человеческой жизни, в том числе нравственной. Человек как личность (то есть свободный в понимании Бердяева) неизбежно изначальной, переживает трагедию. исходной, Именно бездонной, в «таинственной, безосновательной, иррациональной»48 свободе он обретает себя как личность, ощущает собственную цельность, но вместе с тем свобода является причиной его изначального одинокого состояния. Так разыгрывается не просто трагедия человеческой жизни, но трагедия всего мира, истории и самого Бога. Таким образом, онтологическая «несотворенная» свобода делает трагичность свойством самого бытия. Человек может забыть об этой изначально данной ему свободе и уйти в «мир вещей», стать не свободной личностью, а рабом и подчиниться необходимости в любых ее социокультурных формах. В таком случае человек не существует в пространстве трагедии, так как он в определенном смысле перестает быть человеком. Но погружение в собственное духовное устройство, по Бердяеву, ведет к осознанию трагичности своего существования, коренящегося в трагедии и парадоксе свободы. Бердяев видит такое же понимает свободы у значимого для него Достоевского. Жестокость Достоевского является следствием его отказа от лишения человека свободы. Бердяев выделяет «первую», которая есть возможность избрания добра или зла, свобода греха, и «вторую» свободу — конечную, в Боге и добре. Именно путь между двух свобод проходят герои Достоевского, и этот путь трагичен. Промежуточной точкой на этом пути является бунт, который Бердяев Н. А. Философия свободы / Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 222. 48 41 совершают его герои: бунтующая лишена положительного содержания, она направлена на саму себя и не знает ничего выше человека, оттого становится близкой к рабству. Иван Карамазов и Раскольников гибнут из-за ложно направленной свободы, и их фигуры становятся указанием на высшую свободу, которая лежит в соединении с Богом. Так, бунтующие герои Достоевского своим богоборчество отходят все далее от свободы и гибнут в необходимости. Наивысшим гимном свободы является «Легенда о Великом инквизиторе», где соединяются важные для Бердяева идеи — предпочтение принудительной гармонии трагедии свободы, которая в конечном счете единственная ведет человека к истинному существованию в божественном. Бердяев констатирует лежащую в самой основе мироздания трагедию, однако для него есть возможность исхода из трагедии — это именно «вторая», конечная свобода. Положение же о свободе как о трагедии и парадоксе человека экзистенциалистское: «на протяжении всей жизни центральной темой его философского творчества была именно экзистенциальная диалектика свободы и личности»49. Эта трагическая свобода прослеживается и у Георгия Иванова, но сразу заметим принципиальное расхождение — Иванов видит только «первую» свободу и не видит «вторую». Вероятно, Бердяев мог бы отнести поэта к бунтующим героям Достоевского, которые вышли на путь свободы, но не пришли к конечной точке. Метафизический взгляд Георгия иванова направлен в «холодное ничто», и вечное у него в большинстве случаев сопровождается Нижников С.А., Гребешев И.В. Экзистенциальная диалектика личности и свободы в философии Н. Бердяева // Вопросы философии. 2018. № 2. С. 146–152. 49 42 образами холодного, синего, далекого. Таковы, например, частые в его поэзии звезды: Приближается звездная вечность, Рассыпается пылью гранит, Бесконечность, одна бесконечность В леденеющем мире звенит. А также: От синих звезд, которым дела нет До глаз, на них глядящих с упованьем, От вечных звезд — ложится синий свет Нам сумрачным земным существованьем. Синева — образ холода: «Или синее, холодное, // Бесконечное, бесплодное // Мировое торжество», также встречается «синий лед». Так, где Иванов пишет «синий», можно читать «холодный» или «ледяной». Вечный покой у него холоден (стихотворение «Слово за словом, страка за сторой…»), это безразличное к жизни пространство, потому «Я — это ты. Ты — это я // На хрупком льду небытия». Интересно, что в значимом для Иванова стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…», с которым он постоянно вступает в диалог, тоже есть образ звезд, но говорящих. У Иванова же в «звездной вечности» мы ничего не слышим, это пространство тишины: «Только тишина, // Только синий лед». Единственный звук, который мы встречаем в приведенном выше отрывке, — звон вечности, который в образном мире Иванова может пониматься как звон ледышек. У Иванова свобода переживается как отрицательная, трагическая, что связано с его эмигрантским мироощущением. Он переживает свободу 43 как оторванность, одиночество, заброшенность. Так, Арьев пишет: «переживание своего беженства, своей заброшенности в чуждый мир, усиливавшееся с годами, составляло экзистенциальную суть свободы Георгия Иванова»50. Пребывание в чуждом мире ставит героя на «хрупкий лед небытия», и осмысление свободы в духе Бердяева оказывается совсем чуждым Иванову. Если для первого в свободе есть божественная сущность человека, трагическая, но в то же время открывающая надежду и путь для возвышения, то для Иванова свобода мыслится со знаком минус, она только трагическая. Свобода есть существование в холодной пустоте: И нет ни России, ни мира, И нет ни любви, ни обид — По синему царству эфира Свободное сердце летит. Более того, свобода у Иванова связывается с безнадежностью, что совсем расходится с философией свободы Бердяева. Состояние свободы есть состояние одиночества в чужом мире. В категориях философии Бердяева мы действительно могли бы мыслить это состояние как ту самую «онтологическую», первичную свободу, с которой начинается отделение человека от сферы божественного бытия, но здесь Иванов останавливается: Вот я иду по осеннему полю, Все, как всегда, и другое, чем прежде: Точно меня отпустили на волю Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 85. 50 44 И отказали в последней надежде. Свобода не есть желаемое состояние для героя Иванова, его «отпускают на волю», то есть это принудительное освобождение. И, наконец, последнее слово Иванова таково: И Тот, кто мог помочь и не помог, В предвеченом одиночестве останется. По мысли Бердяева, Бог ждет ответа от человека, воссоединения с ним, преодоления онтологического состояния свободы, породившего отпадение человека от Бога. Иванов же на такое воссоединение не настроен, он обречен на «предвечное одиночество» и оставляет в нем Бога. И Бердяев, и Иванов переживают эмигрантсво, но осмысляют его совсем по-разному, что мы наблюдаем в том числе на примере их отношения к свободе. Для Бердяева свобода является трагическим началом человеческой жизни, но ее парадокс в том, что будучи источником трагедии, она же становится источником надежды. И если мы будем перекладывать метафизическую философию Бердяева на его эмигрантский опыт, то можем предположить, что в условиях трагической свободы (как негативной свободы от) он находит для себя способ переживания этого состояния, полагая в нем же и надежду. Для Иванова же свобода остается негативной, и в этом отсутствии положительной установки, преодоления трагедии нам видится ключевое и принципиальное расхождение в мироощущении двух эмигрантов. 45 2. Установка на иррациональное познание в русской экзистенциальной мысли 2.1. Л. Шестов: восстание против ratio Еще в ранних работах восстание против рациональных начал жизни (и в философии — идеализма) было для Шестова принципиально. Так, мы видели, что философия трагедии начинается со скептицизма. Потому исследователи имеют основание говорить: «Опровержение рационализма, восстание против разума – основная задача всей философской и литературной деятельности самого Шестова, – единственный пафос всех его писаний и единственное их вдохновение»51. Однако представляется необходимым добавить, какого рода было это восстание и какие цели видел в нем Шестов, и в этом отношении можно выделить два взгляда на Шестова: 1) либо он представляется только как отрицающий, 2) либо как отрицающий и утверждающий.52 Так, первый взгляд выражен С. Булгаковым: по его мысли, философия Шестова, выступая против рационализма, на самом деле сама становится рационалистической, только со знаком минус (она есть только критика). К нему же может присоединиться Бердяев, который не видит у Шестова положительного начала. О работе «Апофеоз беспочвенности» Бердяев пишет как о догматической, несмотря на подзаголовок «опыт адогматического мышления». Бердяев вступает в спор с Шестовым по нескольким позициям — это творчество, которое рождается не только из трагедии, добро, разум 53. В. Ф. Асмус, Лев Шестов и Кьеркегор, «Философские науки», N 4, 1972, стр. 71. Порус В.Н. О так называемом иррационализме Льва Шестова // Вопросы философии. 2016. № 11. 51 52 Бердяев Н.А. Трагедия и обыденность // Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900– 1906 гг.) 53 46 Вывод Бердяева таков: во-первых, Шестов не может уйти от философии как он разумной формы размышления, само размышление по своей природе носит отпечаток разума, и, во-вторых, Шестов не поднимается выше отрицающей позиции, он только отрицает и ничего не творит, потому «Скажем Шестов у свое "да", примем его, но пойдем дальше в горы, чтобы творить.»54 Однако впоследствии Шестов приходит к так называемой философии веры, он предпринимает попытку сделать утверждающий шаг. Так, А. М. Хохлов пишет: «История развития шестовской философии предполагает два последовательных процесса: постепенное освобождение вышеупо- мянутого «божественного произвола» от всяческих рациональных ограничений и последующую попытку «приручения» этого, в чистом своем виде бесполезного, произвола (Чехов) – уже посредством религиозного мифа.»55 Так, вторая позиция исследователей предполагает положительное начало философии Шестова — через философию веры: «Всё шестовское творчество (в особенности позднее) было направлено на то, чтобы преодо-леть последствия грехопадения, рассеять чары дьявола, «раскол-довать» мир»56. Так, рационализма неоспоримо и экзистенциальной то, что Шестов научного знания, что философии, основанием выступал против характерно которой для является переживание, а не знание. Однако спорным остается то, была ли борьба против разума единственной задачей, которую ставил перед собой Шестов, или же Шестову удалось использовать эту борьбу как средство для преодоления ограниченности человека, для его освобождения в Бердяев Н.А. Трагедия и обыденность // Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900– 1906 гг.) 55 Хохлов А. М. «Тяжба об иррациональном: Лев шестов и Альбер Камю» Вестник РГГУ. № 11, 2013. с. 84. 56 Бонецкая Н. К. Русский экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 2021. С. 173. 54 47 пространстве веры. Мы не будем придерживаться в этом отношении какой-либо позиции, но только реконструируем то, каким образом эта борьба велась на примере работы «Киркегард и экзистенциальная философия». Основной вопрос, который беспокоит здесь Шестова, — тайна грехопадения. Она видится ему в разумном знании, которое предпочитается вере. Знание о добре и зле «усыпляет» в человеке дух и с тех пор он живет в наложенных знанием ограничениях, потому грех приравнивается к знанию. Так, разум для Шестова есть Необходимость, под знаком которой живет человек — «необходимое» и «всеобщее» ставятся над индивидуальным и человек оказывается только «случаем» в ряду других. Для того, чтобы выйти из мира необходимости, человек вырывается к невозможному — к абсурду. В этом отношении Шестова (и Кьеркегора) особо интересуют истории Авраама и Иова как преодолевших необходимость обыденности и вырвавшихся к невозможному через веру. К высвобождению от оков рационального Шестов призывает как к пробуждению собственного духа. Так, видим у Бонецкой: «русские экзистенциалисты учили о том, что человек живет в мире, заколдованном разумом, и сам находится как бы в гипнотическом сне»57. Жизнь человека под знаком рационального и «всех красивых априори» понимается как блаженный сон, в котором человеку спокойно, так как он не сталкивается с трагическим. Рациональные построения ограничивают человека, и это ограничение в духе «Великого инквизитора» — ограничение для мнимого счастья, не 57 Бонецкая Н. К. Русский экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 2021. С. 113. 48 отягощенного просветами трагического бытия. Так, приведем отрывок из работы Шестова «Гефсиманская ночь»: «И свои усилия, направленные к тому, чтобы сохранить это сонное оцепенение, мы, ослепленные Богом или, лучше сказать, теми "истинами", которые сорвал наш праотец с запретного дерева, принимаем за наиболее естественную душевную деятельность. И тех, кто помогает нам спать, убаюкивает нас и прославляет наш сон, мы считаем своими друзьями и благодетелями, тех же, кто пытается пробудить нас, — своими злейшими врагами и преступниками. Мы не хотим думать, не хотим всматриваться в себя, чтоб не увидеть настоящей действительности. Все, потому, для человека лучше, чем одиночество. Он ищет подобных себе сновидцев, надеясь, что "общие сновидения" (Паскаль не побоялся и об "общих сновидениях" говорить!) еще больше укрепят в нем сознание реальности его иллюзий.»58 Интересно, что мотив сна и пробуждения встречается и в поэзии Георгия Иванова. Мы можем выделить две функции этого мотива: 1) сон как забвение, буквальный уход из жизни, 2) пробуждение как прозрение. именно состояние пробуждения наиболее нас интересует, так как здесь видится то же самое столкновение с непосредственно данной жизнью, как это происходит у Шестова. Наиболее показательно стихотворение: Все неизменно, и все изменилось В утреннем холоде странной свободы. Долгие годы мне многое снилось, Вот я проснулся -- и где эти годы! Шестов Л. Гефсиманская ночь // Сочинения в 2-х томах. Том 2. — М. : Наука, 1993. С. 290. 58 49 Вот я иду по осеннему полю, Все, как всегда, и другое, чем прежде: Точно меня отпустили на волю И отказали в последней надежде. Здесь мы видим интересное переплетение приемов, характерных для поэтики Иванова. Сочетание простой констатации фактов внешнего мира (в духе «Утро было как утро…») и метафизических откровений, а также столкновение противоречивого, встречающее нас с первой строки: «все неизменно, и все изменилось». Герой Иванова оказывается в «странном» состоянии — это состояние прозрения. При неизменности внешнего мира и порождаемых им ощущениях («вот я иду по осеннему полю», «утренний холод»), изменяется внутреннее состояние героя. Это экзистенциальное открытие жизни как странной, противоречивой, свободной, что для Иванова равно безнадежной. Это открытие достигается не рациональным осмыслением, оно происходит «вдруг»: И, проснувшись от резкого света, Видим вдруг -- неизбежность пришла, Как в безоблачном небе комета, Лучезарная вестница зла. Таким образом, мотив пробуждения у Иванова схож с пробуждением от сна, в которую погружает человека разум, у Шестова. 2.2. Мистическое познание Н. Бердяева Как экзистенциалист Бердяев разворачивает критику рационалистический философии и рационального познания. Метод Бердяева наиболее очевидным образом раскрывается в работе 50 «Самопознание», в которой он ставит задачу проследить историю развития и воплощения своего внутреннего духовного опыта. Все основные категории и положения своей философии Бердяев выводит из пережитого им опыта — стремление к свободе он делает фундаментальной эсхатологический характеристикой взгляд на историю собственной связывает личности, с личными ощущениями, творчество понимается как основная духовная практика, обеспечивающая подъем личности и прорыв к трансцендентному. Опыт переживания становится для Бердяева тем основанием, на котором он выстраивает свои философские воззрения. Особенно значимым для него событием становится опыт мистического «озарения»: констатируя тему о творчестве как ключевую, Бердяев сообщает, что «постановка этой темы не была для меня результатом философской мысли, это был пережитый внутренний опыт, внутреннее озарение»59. Творческий подъем, который возвышает человека, Бердяев переживает сам, и результатом осмысления становится его философия. Так, задачей Бердяева, по замечанию Н. К. Бонецкой, становится познание самого себя как субъекта, его осмысляющее «я» направлено на переживающее «я». Именно такой способ повествования наиболее подходит для самой сущности мысли философа, которая исходит из его внутренних интуиций и ощущений. Бердяев усматривает в себе мистические открытия, «внутренние озарения», которые затем подвергаются теоретическому осмыслению, — Бонецкая называет это «мистическим подъемом и гностическим спуском». Признание источником мысли неведомые «озарения» предполагают новый тип философствования: «тезисы, максимы 59 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: «Книга», 1991. С. 208. 51 Бердяева не требуют обоснования и стремятся походить на спонтанные световые вспышки, рассеивающие тьму неведения»60. Можно заметить, что образы света и озарения становятся ключевыми для Бердяева. Частыми в его повествовании становятся выражения «вечный свет», «неизъяснимы и невыразимый божественный свет». Свои духовные перемены он описывает как озаренные светом: «тьма сгустилась, но в моей душе вдруг блеснул свет»61, «наиболее важные для меня мысли приходят мне в голову, как блеск молнии, как лучи внутреннего света»62 — примеры можно множить. Обретения света становится целью духовной жизни и философии Бердяева, основанной на мистическом познании. Образ света и озарения Бердяева своеобразно реализуется в поэзии Георгия Иванова. В принципе следует отметить, что свет как прозрение о высшем, божественном — довольно типичный образ. В поэзии Иванова он реализуется в образе «сиянья», который занимает разные и иногда противоречащие друг другу положения. Ожидаемо, что сиянье становится особым родом познания. Оно возникает «в глубине, на самом дне сознанья», и открывает то, что «что выше пониманья» («Гляди в холодное ничто, // В сияньи постигая то, // Что выше пониманья»). Но вместе с констатируется и недостоверность этого сиянья: В сумраке счастья неверного Смутно горит торжество. Нет ничего достоверного Бонецкая Н. К. Н. А. Бердяев: мистик, гностик, экзистенциалист // Вестник культурологии. 2021. №1 (96). 61 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: «Книга», 1991. С. 227. 60 62 Там же. С. 115. 52 В синем сияньи его. Сиянье есть свидетельство торжества, которое мы можем понимать как божественное. Оно прямо называется неземным: «над бедной землей неземное сияние», «от вечных звезд — ложится синий свет // над сумрачным земным существованьем», «над темным миром зла // высоко сиял венец звезды полярной». Потому в этом сиянии происходит краткое, но все же исцеление героя. Его «сумрачное существование», «земное хожденье по мукам» все же предполагает просветы. Потому, например, В. Марков называет нигилизм Иванова «светоносным» (перевод Арьева)63: через взгляд в «холодное ничто», трагическое отрицание жизнеутверждающих начал, он все же доходит до просветления. Так, мы читаем: «тревога в сияньи померкла» или «тень надежды безнадежной // превращается в сиянье». И, более того, не только осветляется трагическое существование, но и, что совсем удивительно, «сияет жизнь улыбкой изумленной», герой мечтает: Широко распахнуть окно И благодарно улыбнуться Сиянью завтрашнего дня. Однако этим образ сиянья у Иванова не исчерпывается. «Светоносность» легко обращается у него в пустоту и катастрофу: «Душа провалится в сиянье // Катастрофы или торжества». В этом, вероятно, и заключается недостоверность. Жизнь, действительно, сияет «улыбкой изумленной», но: Сияет жизнь улыбкой изумленной, Markov, Vladimir. «Georgy Ivanov: nihilist as light-bearer». The Bitter Air of Exile, edited by Simon Karlinsky and Alfred Appel, Berkeley: University of California Press, 1973, pp. 139-163. 63 53 Растит цветы, расстреливает пленных… Так, довольно часто это сияние напоминает о смерти: …Над темным миром зла Высоко сиял венец звезды полярной, И жестокой, чистой, грозной, лучезарной Смерть твоя была. Потому оно может быть синим (у Иванова это цвет холода) и пустым («сияющая пустота»), и мы уже наблюдаем не божественное озарение, а сияние самого небытия. И это относится не только к человеческой смерти, но к исчезновению самого мира: Не станет ни Европы, ни Америки, Ни Царскосельских парков, ни Москвы Припадок атомической истерики Все распылит в сияньи синевы. Так, образ сияния у Иванова в высшей степени противоречив и «недостоверен». Возникая «на самом дне сознанья», оно напоминает внутренний свет, который является в человеке отражением божественной природы (так это происходит у Бердяева), и в таком случае действительно тон героя становится если и не жизнеутверждающим, то хотя бы менее трагичным. Но герой Иванова не забывает про пустоту, небытие, катастрофу, которые являются непоколебимыми свойствами его мироощущения, и во всех рассматриваемых нами циклах эмигрантского периода наблюдается 54 это колебание от «торжества» к «катастрофе» с перевесом в пользу последнего. 2.3. «Логические сдвиги» Г. Иванова Одной из ярких особенностей эмигрантской поэзии Иванова является постоянное столкновение противоположного как на уровне образов, так и на уровне абстрактных понятий. экзистенциальная черта его поэзии. Мы экзистенциалисты стремятся к рационалистических схем причине по В этом видится уже говорили, что разрушению их стройных искусственности. Человеческая жизнь не может быть вполне осмыслена в границах рациональных построений, в глубине своей она парадоксальна и оттого трагична. Слом логической последовательности, удвоение смысла или даже его кажущееся противоположного — исчезновение, эти приемы смешение логически представляют поэтическое творчество Иванова как экзистенциалистское. Уже в первом цикле эмигрантского периода «Розы» обнаруживаются названные приемы. Здесь в первую очередь Иванов переворачивает классические образы русской поэзии. Розы, весна, звезды как образы романтической поэзии переосмысливаются — они помещаются в метафизическое пространство, которое для Иванова существует под знаком трагедии и темноты: Грустно, друг. Все слаще, все нежнее Ветер с моря. Слабый звездный свет. Грустно, друг. И тем еще грустнее, Что надежды больше нет. 55 Это уж не романтизм. Какая Там Шотландия! Взгляни: горит Между черных лип звезда большая И о смерти говорит. Пахнет розами. Спокойной ночи. Ветер с моря, руки на груди. И в последний раз в пустые очи Звезд бессмертных -- погляди. Весна, розы (в особенности розовый цвет), нежность — знаки чужого мира: «розовый, нежный, парижский закат». Родной мир героя Иванова — зима, Россия у него, как правило, в снегах. Потому весна у него «слишком нежная», небо «розовое до муки», а «...вечность, как темная роза, // в мировое осыпется зло». По этой же причине возникают строки: «Мне весна ничего не сказала — // Не могла. Может быть — не нашлась». Заброшенность в чуждой мир создает у героя Иванова экзистенциальную ситуацию переживания смерти, потому в его розовой весне чувствуется смертоносное дыхание: В небе, розовом до края, Тихо кануть в сумрак томный, Ничего, как жизнь, не зная, Ничего, как смерть, не помня. В другом стихотворении Иванов задает вполне риторический вопрос: «И кому страшна о смерти весть, // Та, что в этой нежности есть?». Так, устоявшаяся система образов в некоторой степени разрушается. 56 Еще большим показателем иррациональности становится столкновение и даже слияние противоположного. Довольно часто рядом или через запятую Иванов помещает противоположные друг другу образы и понятия, сталкивая их между собой. Так, многие стихотворения строятся по отмеченному самим поэтом искажающих друг друга зеркал. Многочисленные «игры» противоположностей мы уже отмечали выше, теперь мы дополним этот ряд: Я слышу -- история и человечество, Я слышу -- изгнание или отечество. Я в книгах читаю -- добро, лицемерие, Надежда, отчаянье, вера, неверие. И вижу огромное, страшное, нежное, Насквозь ледяное, навек безнадежное. И вижу беспамятство или мучение, Где все, навсегда, потеряло значение. И вижу, вне времени и расстояния, -Над бедной землей неземное сияние. Так, каждая строфа представляет собой новый уровень противопоставления, где все более размываются границы. Так, мы начинаем с наиболее разграниченного — того, о чем слышат и читают. В третьей же строфе герой видит (вероятно, своим «двойным зрением») полное смешение. В одном ряду, через запятую (не союзы, как в первой строфе) мы наблюдаем случайный набор определений. Сами по себе 57 они не случайны для автора, но вот их последовательность не системна, как в первой и второй строфах. И в этом смешении границы настолько размываются, что мы доходим до потери смысла. Так, И. Гурвич говорит о логических «зигзагах» у Иванова: «Зигзаги словно бы неорганизованной речи, а на глубине – трезво осознаваемая безысходность»64. Кульминационным образом здесь становится сиянье «вне времени и расстояния», то есть вне системно организованного опыта, а потому полностью иррациональное. Частые алогичные слияния образов («холодная нежность», «надежда безнадежная», «затхлый воздух свободы», «вольный воздух тюрьмы») существуют наряду с такого же типа «непонятными» состояниями: например, «Все прощено. Ничего не прощается…» или «Все неизменно, и все изменилось…». Подобные состояния не могут быть осмыслены рационально, разум требует от нас четкого различения. Лирический герой Иванова часто обнаруживает себя в таких положениях, которые не поддаются подобному разделению. Именно в этом ощущении он открывает для себя экзистенциальную картину жизни как противоречивой и невозможной к определению. Интересно, что сам герой у Иванова склонен к постоянным изменениям, и, вероятно, по этой причине, представляется затруднительным определить четкие функции некоторых его образов (как мы постарались показать на примере образа сиянья). Так, исследователь пишет: «Творения «нового Иванова» основываются на логических сдвигах и перебивах, на повторяющихся переходах из одного измерения в другое; лирическое «я» – мыслящая, чувствующая личность – совершенно свободно отстраняется от привычных Гурвич И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. - 1998 №4. - C. 36-63 64 58 умозаключений, напрашивающихся ответов, и неожиданность концовки отливается в форму то иронического, то трагического парадокса»65. Невозможность сказать окончательное слово видится также в видится в частых полутонах у Иванова: полужизнь, полузима, полу-весна, полу-мечта, полу-хвала, и «Полу-жалость. Полуотвращенье. // Полу-память. Полу-ощущенье, // Полу-неизвестно что…». Так, мы снова наблюдаем что-то нечеткое, слова у Иванова постоянно проходят по размытым границам разнообразных и противоположных друг другу ощущений. Наконец, наибольший логический сдвиг и уход от прямого смысла характерен для так называемых «наоборотов» в творчестве Иванова. Ю. Иваск в эссе «Поэзия — это что?» пишет: «Иногда воспеваемое поэтами и изображаемое в живописи зло — только маска, за которой скрывается тоска по добру. Это те наобороты, которые я нашел в поэзии Георгия Иванова…»66 Один из самых главных таких «наоборотов» — стихотворение «Хорошо, что нет Царя», о котором мы уже писали выше. Согласно Иваску и вслед за ним Арьеву, за отрицанием здесь кроется утверждение и «проблеск надежды». Такое отчаянное и абсолютное отрицание не может исходить из холодных рациональных оснований, это скорее горячий жест. Это упоение трагедией, полное ее проживание, имеющее целью очищение — катарсис. Так, подобные утверждения в поэзии Иванова указывают на неполноценность прямого смысла, и, по замечанию Арьева, «вместо насыщения смыслом сюжет ивановских стихов подводит к указанию Гурвич, И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. - 1998 №4. - C. 36-63 65 66 Цит. по: Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. 59 на относительность границ этого смысла» 67. Интересно, что И. И. Болычев также говорит о смысловом распаде слова у Иванова. Если принимать слова в его поэзии исключительно в прямом их значении, то смысл теряется, становится невозможным построить логическую цепочку от одного к другому. Но само стихотворение все же не распадается, оно держится на «интонационно-звуковом уровне», который сам образовывает смысл из распавшихся на атомы слов. Так, к стихотворениям Иванова нельзя подходить напрямую, такой подход не раскрывает их содержания. Необходимо смотреть на то, что находится за словами, что их скрепляет между собой, каково их общее впечатление. Важно и то, что именно этим исследователь объясняет, почему при номинальном отрицании реальный смысл оказывается противоположным: «исходя из словарных значений слов, утверждения Иванова пессимистичны, но слова трансформированы в интонационном поле стихотворения, подстроены под главный смысл и, «забыв» о своих прямых значениях, работают на главный смысл, позитивный». Так, здесь прослеживается уже высказанная мысль об определенной недостоверности прямого слова в поэзии Иванова. Мы заключаем, что стихотворения Георгия Иванова существуют в сфере иррационального, и в этом кроется залог их понимания. Поэт определенным образом разрушает прямое значение слова, доводя его до своей противоположности. Постоянное существование на границе смыслов, в их полутонах делает невозможным устойчивость образных систем. В этом отношении Иванов не рационален в той же степени, в какой не рациональны Бердяев и Шестов. Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. С. 62. 67 60 3. Вера и творчество как пути преодоления трагедии в русском экзистенциализме 3.1. Вера как спасение в философии Л. Шестова Интересующие нас аспекты экзистенциальной философии Шестова и Бердяева, на наш взгляд, были изложены достаточно подробно. Обозначив трагичность человеческого существования, они вместе с тем видят пути ее преодоления. Для Шестова таковой становится вера. Как мы писали выше, Шестов совершает переход от философии трагедии к философии веры. Если разум есть ограничение Необходимостью, то вера становится ее преодолением. Она не только освобождает человека, но выводит его из состояния отчаяния. Разрушая «стену» рационально выстроенных основ жизни, Шестов оставляет человека в двойственном положении — с одной стороны, снимаются ограничения, но, с другой стороны, еще не утверждается невозможное. Отказ от разума влечет за собой и отказ от этического. Так, человек остается один перед лицом «голой» жизни. Потому закономерен вопрос: не это ли являет собой предел человеческого ужаса? Но Шестов напоминает, ссылаясь на Кьеркегора, что «экзистенциальная философия начинается с отчаяния»68. Освобождаясь от ограничений, человек встает перед невозможным и испытывает бессилие. Это бессилие открывает возможность для последнего спасительного шага — именно в этой точке совершается прыжок веры. Мы не остаемся в обессиленном состоянии, к которому Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Прогресс — Гнозис, 1992. С. 75 68 61 нас приводит разум и этика, накладывая ограничения на возможности человека и принуждая его покориться. Верой преодолевается знание, которое для Шестова равнозначно греху. Знание о добре и зле и свобода выбора между ними есть на деле только рабство. В действительности же человек освобождается только в преодолении этого знания, в выходе в пространство веры, для которой нет ограничений. Здесь Шестова особенно интересуют истории Авраама и Иова, которые преодолевают рациональное и повседневное в акте своей веры. Относительно фигуры Иова Шестову важно не то, что он смиренно склоняется перед божественной волей, но то, что в своей скорби он требует сделать «бывшее небывшим» — «чтоб убитые дети оказались бы не убитыми, чтобы сожженное добро оказалось несожженным, чтоб утерянное здоровье – неутерянным»69. И для Бога это возможно. Он существует вне законов разумной действительности, которая на скорбь и страдание человека отвечает лишь «утешительным» призывом к принятию неизбежного. Для Бога такого неизбежного не существует, и потому только вера в него может быть настоящим утешением и настоящей свободой: «Бывшее становится небывшим, человек возвращается к состоянию невинности и той божественной свободе, свободе к добру, перед которой меркнет и гаснет наша свобода выбора между добром и злом или, точнее, пред которой наша свобода обнаруживается как жалкое и позорное рабство.»70 Ворожихина К. В. «Вечные истины» и свобода от разума. О некоторых чертах философии Льва Шестова на примере книги «Афины и Иерусалим» // Философский журнал. 2015. Т. 8. №3. 70 Ворожихина К. В. «Вечные истины» и свобода от разума. О некоторых чертах философии Льва Шестова на примере книги «Афины и Иерусалим» // Философский журнал. 2015. Т. 8. №3. 69 62 Так, философия трагедии Шестова констатирует одинокое, безнадежное, полное страданий человеческое существование. Этого состояния человек достигает, когда видит иллюзорность «законов» действительности, в глубине которых лежит приобретенное знание как грех. Но Шестов не оставляет человека в таком состоянии, ему видится возможность спасения в вере, которая все, полагаемое разумом как невозможное, делает возможным. 3.2. Творчество как свободный акт в философии Бердяева Бердяев мыслил себя как философа свободы, и его концепция творчества обусловлена этим фактом. Как мы уже отмечали, свободой обусловлено отпадение человека от Бога, но одновременно с тем, именно осознание себя как свободной личности открывает человеку путь для воссоединения с Богом. Открытие в себе божественной природы происходит через творчество. Творчество для Бердяева — богоподобный акт свободного творения. Творческие подъемы возвышают человека над «миром объектов» и открывают для него новый уровень духовной жизни. Так свидетельствует о себе самом Бердяев, для которого творчество (так он мыслит и свою философию) становится преодолением несвободы, греха, восхождением к свету божественного. Следовательно, замечаем, что творческий акт есть проявление, во-первых, свободы, и, во-вторых, божественной природы человека. Потому, когда Бердяев говорит о богочеловечестве, о третьем откровении, основное его внимание направлено на творческий процесс: «Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути творчества и оправдание 63 творчества»71. В этом смысле у Бердяева тоже есть формула «творчество из ничего», но здесь она понимается иначе, чем у Шетова. Если для Шестова творчество из ничего есть творчество из пустоты, которая образовалась на месте разрушения, то для Бердяева творчество из ничего — это творчество из свободы. Здесь тоже подразумевается «уход от мира» как мира вещей, ограниченности и необходимости, но для Бердяева крайне важна именно положительная установка — стремление через свободное обнаружение своей богоподобной природы в акте творчества дойти до высшего уровня духовной жизни, которая есть жизнь с Богом. 3.3. Невозможность преодоления трагедии у лирического героя Г. Иванова Трагедия есть свойство жизни, она неискоренима. И выясняется, что это так, когда человек сталкивается с собственной экзистенцией. Существование в корне своем трагично. Однако Бердяев и Шестов видят пути исхождения из трагедии через соприкосновение с божественным. Если трагедия есть свойство индивидуального существования, то необходимо выйти за его границы. У Шестова через веру мы восходим расширяем границы невозможного, или, более точно, уничтожаем эти границы вообще. Бердяев же видит в свободе и корень трагедии, и спасение от нее через свободный творческий акт. Так, здесь происходит возвышение человека на уровень божественного, космического. Бердяев Н. А. Смысл творчества / Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 328. 71 64 Для Георгия Иванова преодоление трагичности собственного существования не происходит. Мы видим, что в его поэзии встречаются «просветы», момент божественного просветления, но они довольно быстро затухают, он все же мечется между «катастрофой» и «торжеством». А если и выбирает «торжество», то оно мимолетно и не дает успокоения, оказывается «напрасным»: Это все. Ничего не случилось. Жизнь, как прежде, идет не спеша. И напрасно в сиянье просилась В эти четверть минуты душа. Характерно, что в наиболее поздних и итоговых стихотворениях все чаще он говорит о скуке и безразличии, что совсем не встраивается в поэтический мир сборников «Розы» и «Отплытие на остров Цитеру». Лирический герой Иванова изможден борьбой и изживанием своей трагедии, отттго появляются строки: И наблюдаю с безучастием, Как растворяются сомнения, Как боль сливается со счастием В сияньи одеревенения. Он констатирует «...безразличье // к жизнь, к вечности, к судьбе». Потому у Иванова заканчивается игра: «Но все равно — я больше не играю». Интересно, что в этом же стихотворении поэт ставит свою человеческую смертность выше вечной жизни в качестве поэта: «Допустим, как поэт я не умру, // Зато как человек я умираю.» Подобным утверждением он будто признает свой проигрыш, полную 65 раздавленность экзистенциальной трагедией. Единственное, на что мог бы уповать герой Иванова — на преодоление человеческой ничтожности, смертности, заброшенности через собственное творчество. И, действительно, подобные попытки встречаются: В ветвях олеандровых трель соловья. Калитка захлопнулась с жалобным стуком. Луна закатилась за тучи. А я Кончаю земное хожденье по мукам, Хожденье по мукам, что видел во сне — С изгнаньем, любовью к тебе и грехами. Но я не забыл, что обещано мне Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами. Так, «хожденье по мукам» все же будет вознаграждено, и в определенном смысле поэт приближается к вечности. Но именно преодоления трагедии самого существования не происходит. Здесь характерно, что Иванов разделяет себя на человека и поэта, что мы отмечали выше. Может быть, он и воскреснет как поэт, но как человек он умирает и для Иванова-человека никакого спасения не оказывается. Оттого и появляется это безразличное отношение к миру в позднем творчестве: страдание и муки неизбежны, можно оставить только «стихи» и звезды, которые в поэтике Иванова являются свидетельствами холода и пустоты, можно сказать богооставленности («Стихи и звезды остаются, // А остальное — все равно!..»). Также преодоление трагедии индивидуального существования через творчество нам видится в крайней цитатности Иванова. Так, его поэзии свойственно постоянное цитирование не только других, но и себя. 66 Цитирование у Иванова осуществляется в разных формах — от еле заметных аллюзий до полноценных закавыченных цитат. В этом нам видится особая форма существования поэта: он стремится увековечить себя не просто «стихами», но войти в пространство творчества вообще через чужое слово или укоренить собственные стихотворения друг в друге. Однако снова заметим, что это именно увековечивание себя как поэта, а человека Иванов оставляет умирать. Даже его воскресенье — это только возвращение в Россию и не более того. Иванов-человек избирает позицию терпения, а не преодоления, и, чтобы терпеть было проще, он начинает скучать: Ежедневной жизни муку Я и так едва терплю. За ритмическую скуку, Дождик, я тебя люблю. Барабанит, барабанит, Барабанит, -- ну и пусть. А когда совсем устанет, И моя устанет грусть. Таким образом, духовного восхождения у Иванова не происходит, и, более того, мы наблюдаем его нисхождение. Так, в поздних стихотворениях довольно частыми становятся образы повседневной жизни, на которую все больше обращает внимание поэт. Можно сказать, что, в терминах Шестова и Бердяева, он снижается до уровня «обыденности, входит в «мир объектов» и подчиняет себя их ограничивающей необходимости. Так, Иванов не совершает никаких дерзновений и прыжков, не ощущает творческих подъемов. Его герой 67 не выдерживает открывшихся ему переживаний, и экзистенциальный накал постепенно спадает: Что-то сбудется, что-то не сбудется. Перемелется все, позабудется... Но останется эта вот, рыжая, У заборной калитки трава. ...Если плещется где-то Нева, Если к ней долетают слова Это вам говорю из Парижа я То, что сам понимаю едва. Примечательно, что эти образы повседневности у Иванова сниженные или до крайности простые — это «обмызганная кошка», «скрипучая шарманка», обезьянки, белочки, елочки, «голодные собаки». Там, где ранее Иванов пошел бы дальше, он останавливается, как вполне обычный человек: Я твердо решился и тут же забыл, На что я так твердо решился. День влажно-сиренево-солнечный был. И этим вопрос разрешился. Или еще более показательно: …Вот я иду по осеннему саду И папиросу несу, как свечу. 68 Вот на скамейку чугунную сяду, Брошу окурок. Ногой растопчу. Это отрывок стихотворения из цикла «Дневник», а в более раннем цикле «Портрет без сходства» герой шел по «осеннему полю»: Вот я иду по осеннему полю, Все, как всегда, и другое, чем прежде: Точно меня отпустили на волю И отказали в последней надежде. Гурвич отмечает, что для развития поэтического творчества Иванова свойственен переход от описательности к исповедальности (первое характерно для петербургского периода, второе — для эмигрантского)72. Мы же добавим, что в позднем творчестве Иванов совершает обратный поворот: он снова переходит к описательности, о чем свидетельствуют приведенные отрывки. Оговоримся, что этот переход не совершается полноценно, все же наряду с «описательными» встречается большое число «исповедальных» стихотворений. И все же даже частичное изменение кажется значительным. Георгий Иванову не удается преодолеть экзистенциальную тревогу и трагедию жизни, и ощущение ее было настолько сильно, что он будто срывается, и желает забыть о своем «таланте двойного зренья». Таким образом, для Шестова и Бердяева экзистенциальное начало их философии открывает путь к спасению. Разрушая привычные и устоявшиеся ориентиры жизни, философские установки Гурвич И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. 1998 №4. C. 43 72 на 69 рациональное познание, они сталкиваются с неизбежной трагедией, но она же становится началом пути к преодолению, к возвышению человека до космического, божественного уровня. В поэзии Иванова этот путь не открывается. Так, отправившись из схожей точки, он приходит в противоположное — экзистенциальное переживание разрушает его героя, ему более «не о чем петь», и следствием этого становится сознательное снижение человека. Не он изживает трагедию, но трагедия изживает его. Заключение Поэзия Иванова указанного периода строится вокруг переживания заброшенности в чуждый мир: буквальное переживание опыта эмиграции вырастает у него в экзистенциальные ощущение своей чуждости, случайности, одиночества. Так, происходит «распад» внешней и внутренней жизни в ее устойчивых конструкциях и поэзия Иванова представляет нам трагическое переживание этого «распада». В этом отношении основные мотивы его поэзии могут быть соотнесены с религиозным страхом и ужасом Леонтьева, однако интересно отметить, что страх умалчивается лирическим героем Иванова, что мы понимаем как значимое отсутствие и невозможность выражения наиболее «кошмарного» ощущения. Экзистенциальная составляющая поэзии Иванова раскрывается также через философию трагедии Шестова, где трагедия полагается как неискоренимое свойство жизни, с которой снимаются рациональные и этические наслоения. 70 Соотнесение же с Бердяевым представляется нам не таким однозначным в силу того, что для Бердяева наиболее важным становится не постановка проблемы, а ее преодоление. Он констатирует трагическое начало жизни в онтологической свободе, но основная его мысль направлена на то, чтобы это начало преодолеть. Мировосприятие Иванова в этом отношении лишь соприкасается с Бердяевым, оно положительную лишено столь серьезной программу, какую мы Иррациональность является ориентации видим у фундаментальной на Бердяева. установкой экзистенциальной мысли, что ярко проявляется у Шестова в его борьбе с рационализмом, в мистическом познании Бердяева и иррациональном устройстве поэтического мира Иванова. Констатируя трагичность жизни, русские экзистенциалисты направляются к ее преодолению. Так, если трагедия есть свойство индивидуального существования в мире, то для ее преодоления необходимо перейти на новый духовный уровень развития — существование в божественном. Шестову спасение является в вере как пространстве снятых ограничений, Бердяеву — в свободном творческом акте, который по своему существу богоподобен. Однако мы полагаем, что здесь намечается расхождение Иванова с русскими экзистенциалистами: ни вера, ни творчество для него не спасительны. Оттого он уходит в сознательное снижение своей фигуры. Это проявляется в обилии повседневных образов его поздней поэзии, которыми Иванов перекрывает экзистенциальную тревогу. Поэтический мир Ивановских циклов и сборников, противоречивое развитие образов, мотивов и самого мироощущения лирического героя Иванова. По этой причине несколько затруднительно складывать 71 целостное представление о его поэтическом творчестве, и ряд образов и мотивов может подразумевать расширение представленной нами трактовки. Также мы наблюдаем некоторый парадокс: несмотря на то, что экзистенциализм Иванова является общим местом, отдельные исследования о его соприкосновениях именно с экзистенциальной философией почти не представлены. В этом нам видятся перспективы дальнейшего исследования поэтического творчество Георгия Иванова в выбранной нами оптике. 72 Список литературы 1. Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова) // Иванов Г. Стихо-творения / Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. А. Ю. Арьева. СПб., 2005. 2. Арьев А. Ю. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова). СПб., 2005. 3. Арьев А. Ю. Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование. СПб.: Журнал «Звезда», 2009. 514 с. 4. Арьев А. Ю. Свое в чужом // Звезда. 2019. № 11. С. 245–261. 5. Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Т. I. — Париж: La Presse Libre, 1983. 6. Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Париж: YMCA-Press, 1926. 7. Бердяев Н. А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского / Николай Бердяев. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 512 с. 8. Бердяев Н. А. Самопознание. М.: «Книга», 1991. 445 с. 9. Бердяев Н.А. Трагедия и обыденность // Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900– 1906 гг.) / сост. и коммент. В.В. Сапова. – М.: Канон+, 2002. – С. 277–309. 10.Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.- 608 с. 11.Бонецкая Н. К. Н. А. Бердяев: мистик, гностик, экзистенциалист // Вестник культурологии. 2021. №1 (96). 12.Бонецкая Н. К. Русский экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 2021. 13.Булгаков С. Н. Победитель — Побежденный // Константин Леонтьев. Серия pro et contra в 2-х кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ. C. 376–393. 14.Волкогонова О. Д. Константин Леонтьев // Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2013 15.Ворожихина К. В. «Вечные истины» и свобода от разума. О некоторых чертах философии Льва Шестова на примере книги «Афины и Иерусалим» // Философский журнал. 2015. Т. 8. №3. С. 79-91. 16.Гальцева Р. Защита Львом Шестовым «трагического индивида»: приобретения и потери / «Иск к разуму как дело спасения индивида. (Гносеологическая утопия Льва Шестова)» // Социокультурные утопии XX в. М., 1982. Вып. 2. С.40–74. 73 17.Георгий Владимирович Иванов: Материалы и исследования: 1894 — 1958: Международная научная конференция / Сост. и отв. ред. СР. Федякин. — М.: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2011. 464 с. 18.Георгий Владимирович Иванов: Новые исследования и материалы: 1894 — 1958: Коллективная монография / Сост. Р. Р. Кожухаров (и отв. редактор), И. И. Болычев, С. Р. Федякин. — М.: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2011. 464 с. 19.Грякалова, Н. Ю. «Талант двойного зренья». Об одной визуальной метафоре у Георгия Иванова / Н. Ю. Грякалова // Русская литература. - 2009. - № 4. - С. 39-47 20.Гурвич И. Георгий Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. - 1998 - №4. - C. 36-63 21.Ерофеев, В. «Остается одно: произвол» (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова) // Вопросы литературы. - 1975 - №10. - C. 153-188 22.Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2002. – 304 с. 23.Золотарев А. В. Константин Леонтьев как экзистенциальный философ // Русско-византийский вестник. № 4. 2022. с. 86-96. 24.Иванов Г. В. Петербургские зимы. // Собрание сочинение: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т.3. С. 5-220. 25.Иванов Г. В. Распад атома // Собрание сочинений: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2. С. 6–34. 26.Иванов Г. В. Страх перед жизнью. Константин Леонтьев и современность//Константин Леонтьев серия pro et contrа в 2-х кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С.187-196. 27.Иванов Г. Стихо-творения / Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. А. Ю. Арьева. СПб., 2005. 28.Иванов Г. Шестнадцать писем к Юрию Иваску. Вступительная статья, публикация и комментарии А. Арьева / Г. Иванов, А.Ю. Арьев // Вопросы литературы. - 2008 - №6. - C. 282-308 29.Иванов Г. Шестнадцать писем к Юрию Иваску. Вступительная статья, публикация и комментарии А. Арьева / Г. Иванов, А.Ю. Арьев // Вопросы литературы. 2008 №6. C. 282-308. 74 30.Козырев А.П. Константин Леонтьев в «зеркалах» наследников // Константин Леонтьев. Серия pro et contra в 2-х кн. Кн. 1. СПб.: РХГИ, С. 417–436. 31.Кублановский Ю. Голос, обретенный от скорби // Георгий Иванов. Стихотворения. Париж. 1987. 32.Лазарев В. В. Философия трагедии Н. А. Бердяева // Философская антропология 2017. Т. 3. № 2. С. 57–80. 33.Леонтьев К. Н.: pro et contra. Книга 1. / Вступ. ст. А. А. Королькова, сост., послесл. и примеч. А. П. Козырева. — СПб.: РХГИ, 1995. 480с. 34.Леонтьев К. Н.: pro et contra. Книга 2. / Вступ. ст. А. А. Королькова, сост., послесл. и примеч. А. П. Козырева. — СПб.: РХГИ, 1995. 704с. 35.Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянств: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872—1891). М.: Республика, 1996. 799 с. 36.Леонтьев К. Н. Избранное. М.: «Рарогъ», «Московский рабочий», 1993. 400 с. 37.Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. Воспоминания. Сост., вступ. статья, примеч. Т. Ф. Прокопова. — М.: Русская книга, 2002. 528 с. 38.Марков В. О поэзии Георгия Иванова // Опыты (Нью-Йорк). 1957. Кн. 8. 39.Морозова И. Русский предэкзистенциализм: К.Н. Леонтьев // Studia Rossica Gedanensia. 2021. С. 121-131. 40.Нижников С.А., Гребешев И.В. Экзистенциальная диалектика личности и свободы в философии Н. Бердяева // Вопросы философии. 2018. № 2. С. 146–152. 41.Порус В.Н. О так называемом иррационализме Льва Шестова // Вопросы философии. 2016. № 11. 42.Розанов В. В., Леонтьев К. Н. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованнные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой; изд. подгот.: А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев, А. п. Палиевский. — СПб.: Росток, 2014. 1182 стр. 75 43.Семина А. А. Мотив распада в творчестве Георгия Иванова: наследие символизма и экзистенциализм // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, No 9: Филология. С. 193–205. 44.Сенчихина Ю. Б. Апология неизвестности: концепция творчества Льва Шестова // Вестник Московского ун-та. 2007, №3. С. 26-37. 45.Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. 46.Струве Г. П. Русская литература в изгнании / Глеб Струве. — 3е изд., испр. и доп. Краткий биографический словарь русского Зарубежья / Р. И. Вильданова, В. Б. Кудрявцев, К. Ю. ЛаппоДанилевский. Вступ. ст. К. Ю. Лаппо-Данилевского. — Париж: YMCA- Press; M.: Русский путь, 1996. — 448 с. 47.Хохлов А. М. «Тяжба об иррациональном: Лев шестов и Альбер Камю» Вестник РГГУ. № 11, 2013. с. 81-89. 48.Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: АСТ, 2004. 224 с. 49.Шестов Л. Афины и Иерусалим. М.: АСТ, 2007. 416 с. 50.Шестов Л. Гефсиманская ночь // Сочинения в 2-х томах. Том 2. — М. : Наука, 1993. С. 278-325 51.Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Прогресс — Гнозис, 1992. 304 с. 52.Шестов Л. На весах Иова. М.: Эксмо, 2009. 560 с. 53.Шестов Л. Творчество из ничего / Чехов А.П. pro et contra // Издательство: РХГА, 2002, 1072 стр. С. 590-605. 54.Шестов Л. Философия трагедии / Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. 475 с. 55.Markov, Vladimir. «Georgy Ivanov: nihilist as light-bearer». The Bitter Air of Exile, edited by Simon Karlinsky and Alfred Appel, Berkeley: University of California Press, 1973, pp. 139-163.