Соколова Е.Т., Особенности личности при пограничных
advertisement
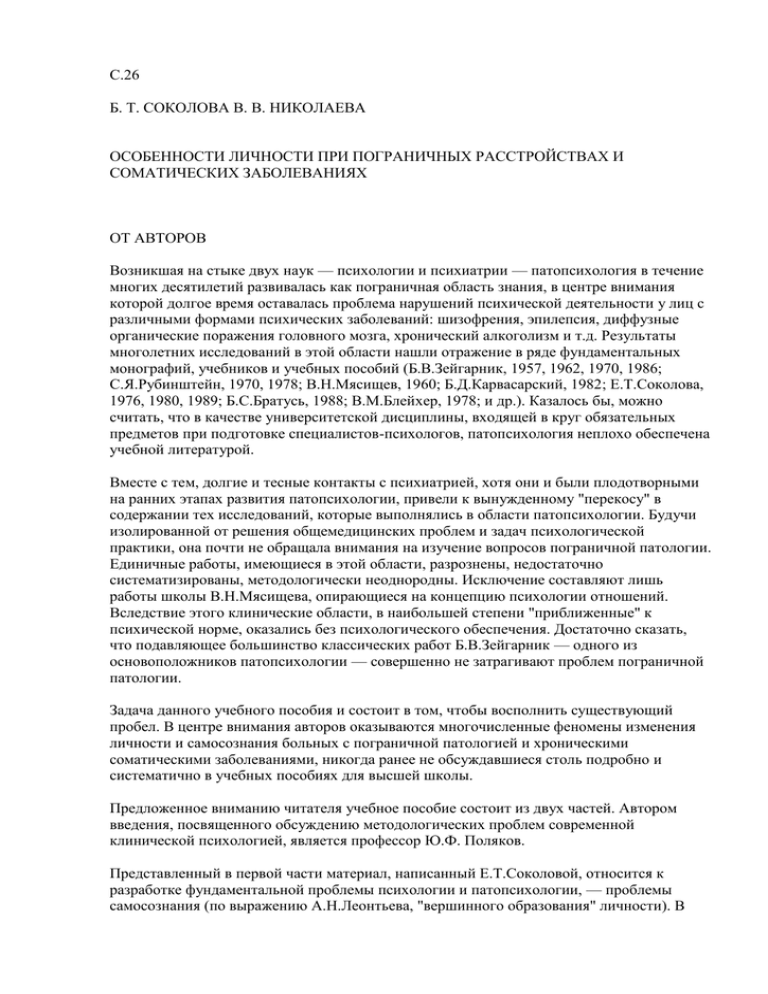
С.26 Б. Т. СОКОЛОВА В. В. НИКОЛАЕВА ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХ И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОТ АВТОРОВ Возникшая на стыке двух наук — психологии и психиатрии — патопсихология в течение многих десятилетий развивалась как пограничная область знания, в центре внимания которой долгое время оставалась проблема нарушений психической деятельности у лиц с различными формами психических заболеваний: шизофрения, эпилепсия, диффузные органические поражения головного мозга, хронический алкоголизм и т.д. Результаты многолетних исследований в этой области нашли отражение в ряде фундаментальных монографий, учебников и учебных пособий (Б.В.Зейгарник, 1957, 1962, 1970, 1986; С.Я.Рубинштейн, 1970, 1978; В.Н.Мясищев, 1960; Б.Д.Карвасарский, 1982; Е.Т.Соколова, 1976, 1980, 1989; Б.С.Братусь, 1988; В.М.Блейхер, 1978; и др.). Казалось бы, можно считать, что в качестве университетской дисциплины, входящей в круг обязательных предметов при подготовке специалистов-психологов, патопсихология неплохо обеспечена учебной литературой. Вместе с тем, долгие и тесные контакты с психиатрией, хотя они и были плодотворными на ранних этапах развития патопсихологии, привели к вынужденному "перекосу" в содержании тех исследований, которые выполнялись в области патопсихологии. Будучи изолированной от решения общемедицинских проблем и задач психологической практики, она почти не обращала внимания на изучение вопросов пограничной патологии. Единичные работы, имеющиеся в этой области, разрознены, недостаточно систематизированы, методологически неоднородны. Исключение составляют лишь работы школы В.Н.Мясищева, опирающиеся на концепцию психологии отношений. Вследствие этого клинические области, в наибольшей степени "приближенные" к психической норме, оказались без психологического обеспечения. Достаточно сказать, что подавляющее большинство классических работ Б.В.Зейгарник — одного из основоположников патопсихологии — совершенно не затрагивают проблем пограничной патологии. Задача данного учебного пособия и состоит в том, чтобы восполнить существующий пробел. В центре внимания авторов оказываются многочисленные феномены изменения личности и самосознания больных с пограничной патологией и хроническими соматическими заболеваниями, никогда ранее не обсуждавшиеся столь подробно и систематично в учебных пособиях для высшей школы. Предложенное вниманию читателя учебное пособие состоит из двух частей. Автором введения, посвященного обсуждению методологических проблем современной клинической психологией, является профессор Ю.Ф. Поляков. Представленный в первой части материал, написанный Е.Т.Соколовой, относится к разработке фундаментальной проблемы психологии и патопсихологии, — проблемы самосознания (по выражению А.Н.Леонтьева, "вершинного образования" личности). В имеющихся учебниках и учебных пособиях не отыщется главы под таким названием — и не случайно, поскольку и в самой патопсихологии данная тематика представлена крайне немногочисленными и фрагментарными исследованиями отдельных параметров самооценки. Таким образом, психологические закономерности и механизмы процесса осознавания, интра- и интерпсихические условия, факторы его трансформаций ускользают от внимания исследователей. Студенты, обучающиеся клинической психологии, не всегда имеют доступ к соответствующим публикациям, что, естественно, не позволяет им получить систематизированное и целостное представление о месте проблемы самосознания в патопсихологической науке и затрудняет овладение как конкретными методами изучения его изменений в практике диагностической работы, так и методами психологической помощи, психотерапии. В учебном пособии дается развернутое изложение теоретико-методологических положений Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.В.Зейгарник и ряда других исследователей, чьи воззрения оказали влияние на авторский подход к изучению самосознания: описаны методы его исследования в клинике пограничных расстройств. Спецификой данного подхода, в частности, является отход от узкого понимания клиники и соответственно — квалификации выявленных феноменов в терминах "патологии", "аномалии" и т.п. Благодаря такому подходу в круг изучаемых явлений вновь попадает "психопатология обыденной жизни", широко представленная феноменами "потери", "краха", "внутреннего землетрясения", переживаемых сегодня нашим обществом (Е.Т.Соколова, 1987, 1991, 1994). Представленный под таким углом зрения исследовательский материал позволит студентам познакомиться с наиболее универсальными стратегиями и способами практической работы с людьми, образно говоря, из разных "отделений клиники жизни" — с жертвами насилия, теми, кто испытывает проблемы в семейной жизни, и теми, кто страдает от полиморфных невротических симптомов, но удерживается пока на грани дезадаптации, и теми, чье состояние квалифицируется как болезненное, требующее совместной медикаментозной и психотерапевтической помощи. Наряду с экспериментальными исследованиями по проблеме самосознания мы посчитали также уместным включить в текст учебного пособия анализ конкретного случая из психотерапевтической практики, иллюстрирующего разработанную нами стратегию психотерапевтической работы, что позволяет читателю соприкоснуться с живым человеческим страданием, а может быть, и узнать черты лично пережитого. Наш опыт многолетнего преподавания на факультете психологии и в иных аудиториях доказал уместность сопричастного личностно-пристрастного дидактического стиля при обучении такому специальному предмету как психотерапия, где параллельно профессиональному самосовершенствованию необходимы собственный личностный рост, осознавание и обогащение опыта личных переживаний. Подбирая литературу к представленному в тексте материалу, мы стремились, помимо ориентации в узкой тематике глав, дать возможность студентам увидеть эту тематику в более широком теоретическом и исследовательском контексте. Прекрасно отдавая себе отчет в необходимости доработки настоящего текста, а также и в том, что многие разделы патопсихологии не вошли в него, мы тем не менее полагаем, что в него вошли именно те проблемы, а также материалы конкретных исследований, без знания которых невозможна высокопрофессиональная работа современного психолога. Вторая часть пособия, написанная В.В.Николаевой, посвящена проблемам личности больных с хроническими соматическими заболеваниями. Тяжелые соматические заболевания всегда сопровождаются воздействием соматогенных вредностей (интоксикации, гипоксии) на организм и мозг больного. Это приводит к изменению функционального состояния мозга и организма в целом и сопровождается общим падением энергетического потенциала деятельности, снижением операционального уровня ее выполнения. Следствием подобных изменений может стать обеднение и оскудение личности больного. Дано теоретико-методологическое обоснование психологического подхода к изучению личности соматически больных, базирующееся на теоретических положения школы Выготского — Леонтьева — Зейгарник. Существенно новым является предложенное в работе содержательное наполнение понятия "социальная ситуация развития", рассматриваемая как возникающее в деятельности человека динамическое единство внешних, презентированных в образе мира субъекта и получивших благодаря тому качество субъективной значимости и пристрастности, условий развития, и внутренних предпосылок деятельности. Возникшая вследствие тяжелой хронической болезни дефицитарная социальная ситуация развития может привести к развертыванию ситуационно обусловленного кризиса развития, динамика которого зависит от особенностей сформированной в преморбиде иерархии мотивационной сферы и эффективности личностно-смысловой регуляции деятельности. В учебном пособии дана психологическая квалификация наблюдаемых в условиях хронического соматического заболевания личностных изменений, основными из которых являются общее сужение личностной направленности и сокращение временной перспективы. Основными показателями возникающих в условиях болезни изменений личности являются качество и динамика эмоциональной составляющей внутренней картины болезни. Установлено, что закреплению мотивационных изменений способствует наличие в обществе устойчивых негативных социальных стереотипов в отношении больныххроников. Специальный раздел работы посвящен рассмотрению личностно-смысловой регуляции как особой формы внутренней активности субъекта, направленной на овладение собственной мотивационно-потребностной сферой с целью ее гармонизации. Описаны индивидуально-типические способы опосредствования, применяемые больными для изменения собственного психического состояния и снижения тем самым общей травматичности жизненной ситуации в условиях болезни. Дана характеристика более или менее эффективных средств личностно-смысловой регуляции. Описаны спонтанные способы преодоления критической ситуации болезни у детей с тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями. В пособии содержится также обоснование принципов психологической диагностики и коррекции выявленных нарушений. Предложена модификация ряда психодиагностических методик, адекватных задачам изучения личности больных с хроническими соматическими заболеваниями. Учебное пособие адресовано студентам, изучающим психологию в вузах различного профиля: медицинских, педагогических, психологических, а также широкому кругу специалистов, деятельность которых направлена на оказание психологической помощи лицам с пограничными формами патологии (врачам, педагогам, психологам, социальным работникам, специалистам служб занятости и т.д.). Авторы выражают искреннюю благодарность коллективу кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова за внимание к работе и доброжелательную поддержку всех начинаний авторов. Введение Теоретико-методологические проблемы патопсихологии Возникнув раньше других областей (нейропсихология, психосоматика, аномальный онтогенез и др.) в рамках классической психологии, патопсихология сформировалась как научная дисциплина на стыке двух сфер науки — гуманитарной и естественнонаучной, на стыке психологии и такой отрасли медицины, как психиатрия. На протяжении последнего столетия по мере эволюции отношений между психологией и психиатрией менялись не только степень их сближения, но и характер взаимосвязей. На разных исторических этапах такие изменения детерминировались прежде всего взглядами на предмет психиатрии, сущность психических болезней, природу и структуру психики. С современных позиций союз психиатрии и психологии определяется общим пониманием психических болезней как заболеваний человеческого организма с выраженным нарушением психической деятельности, т.е. отражательной функции мозга. Психология — наука о природе, детерминации и структуре психической деятельности, той функции мозга, нарушение которой дает круг болезней, изучаемых психиатрией. Для решения основных задач клинической психиатрии — предупреждения и лечения психических болезней — необходимо знать причины, условия и механизмы их возникновения, т.е. материальные (субстратные) основы психических болезней. В выявлении всей цепи процессов, опосредующих связь психопатологических проявлений с патобиологическими их механизмами, в раскрытии природы этих заболеваний, существенную роль играет патопсихология — область психологии, изучающая закономерности нарушения структуры и развития психических процессов, а также изменения психических свойств личности при разных видах патологии мозговой деятельности. Теория психиатрии, естественно, не сводится к психологии и не ограничивается только анализом нарушений психики, поиском психологических основ болезней. Однако и недооценка связи психиатрии с научной психологией весьма сужает возможности психиатрии в познании природы психических болезней и решении задач клинической практики. Выделяют три основные линии связей между психиатрией и психологией: 1) теоретическое использование системы психологических знаний в построении общей патопсихологии (общего учения о психологических болезнях); 2) включение экспериментально-психологических исследований в мультидисциплинарное изучение природы психологических болезней и патологических состояний мозга; 3) участие патопсихологической службы в решении практических задач психиатрической клиники. Общая психопатология как теория психиатрии или общее учение о психических болезнях, относясь к медицинским дисциплинам, представляет собой один из разделов общей патологии. В его сферу входит изучение как частных, так и общих закономерностей нарушения психической деятельности. Для того, чтобы быть действенной, вооружать практику и ориентировать конкретные исследования психических болезней, теория психиатрии должна прежде всего располагать знанием общих, закономерностей нарушения психики. Построение такой теории (опирающейся на положения общей патологии, биологии, нейрофизиологии и т.п.) во многом определяется исходными общепсихологическими взглядами на природу и детерминацию психики, на структуру и формирование психической деятельности. Не только понимание общих принципов и закономерностей нарушения психической деятельности, но и вся система конкретных психопатологических понятий (симптоматология, синдромология) существенно зависят от исходных психологических позиций. Они в значительной мере определяют как критерии выделения психопатологических симптомов (синдромов), так и принципы их систематики. В истории психиатрии можно отчетливо проследить связь всех наиболее значимых психопатологических концепций с взглядами тех или иных общепсихологических школ. Психическое представляет собой процесс, деятельность. Положение И.М.Сеченова о том, что формой существования психического является процесс, стало основополагающим принципом, развиваемым и конкретизируемым в современной материалистической психологии. Основной порок предшествующих психологических концепций, наиболее заметно отразившийся на системе психопатологических понятий, заключался в попытках непосредственного анализа идеальных продуктов — образов, понятий, идей и т.д. — вне их связи с той отражательной (психической) деятельностью, результатом которой они являются. Исходным должно быть понимание психики как отражательного процесса, и по отношению к нему идеальное (образ, идея и т.п.) оказывается производным, результативным. В психической деятельности всегда возникает то, что отраженно представляет объективную действительность, т.е. тот или иной ее образ. Сам по себе, вне психического процесса, этот образ не может существовать, а следовательно, не может быть предметом психологического исследования. Современная психология утверждает, что не мозг рождает психическое и не внешние воздействия вызывают тот или иной психический феномен, а внешние воздействия в результате опосредования сложными внутренними психическими процессами дают в конечном итоге образы, мысли, идеи. Главным объектом изучения современной психологии являются именно закономерности формирования и течения психических процессов. Существенную эволюцию в современной психологии претерпело также само понятие психической функции. На смену прежнему представлению о психических функциях как неких первичных, элементарных и неразложимых свойствах душевной жизни пришло понятие о сложнейших многокомпонентных функциональных системах, формирующихся в течение жизни субъекта на основе большого комплекса мозговых структур и физиологических механизмов, которые подчиняются определенным закономерностям развития. При таком понимании природы психических функций иначе решается и вопрос об их локализации. Вместо устаревших психоморфологических взглядов узкого локализационизма развиваются представления о динамической системной локализации психических функций (о так называемых динамических структурах). Их основы были заложены еще в трудах А.А.Ухтомского и И.П.Павлова. На указанных теоретических положениях и многочисленных клинических и экспериментальных данных нейропсихологии и патопсихологии основывается тезис о том, что при патологии мозга любая сложная психическая функция не "выпадает", не "уменьшается", а лишь изменяет свое течение, т.е. меняет свою структуру в соответствии с нарушением тех или иных компонентов (звеньев), входящих в ее состав. Клиническая картина патологии мозга может быть результатом нарушения весьма различных звеньев тех или иных психических процессов. Измененное вследствие патологии мозга течение психических процессов приводит к искажению детерминации внешним миром поведения больных, делает его реакции неадекватными окружающей среде. Приведенные положения современной материалистической психологии служат разработке и построению теории общей психопатологии. Они также служат основой для участия психологии в системе мультидисциплинарных исследований природы конкретных психических болезней и патологических состояний мозга. Трудность раскрытия природы психических заболеваний обусловлена прежде всего чрезвычайной сложностью и опосредованностью связи между основными клиническими (психопатологическими) проявлениями болезней и их биологической сущностью. Психопатологические феномены в виде измененного поведения больных, их поступков, идей, высказываний и т.п. представляют собой выражение нарушенного течения сложной цепи мозговых процессов. При основных психических болезнях (психозы на почве органического поражения головного мозга, эпилепсия, шизофрения и т.п.) предполагается нарушение структуры или химизма мозга, что обуславливает изменения в течение основанных на них физиологических процессов. Расстройство последних приводит к изменению прижизненно сформированных на их основе психических процессов. Это в свою очередь нарушает отражение человеком внешнего (и внутреннего) мира, что проявляется психопатологическими симптомами болезни. Поскольку психопатологические проявления представляют собой результативное выражение скрытых изменений сложных мозговых процессов, то раскрыть характер лежащих в их основе нарушений мозговой деятельности на основании анализа только этих проявлений нельзя. Приходится изучать закономерности нарушения мозговых процессов на всех уровнях сложности методами психологии в комплексе с нейрофизиологией, биохимией, биофизикой и др. Основная задача экспериментальных патопсихологических исследований в изучении природы психических болезней и патологических состояний мозга состоит в исследовании закономерностей нарушенного течения тех или иных психических процессов при разных видах патологии мозга. Если клинические (психопатологические) исследования выявляют закономерности проявлений нарушенных психических процессов, то экспериментально-психологические исследования должны ответить на вопрос: как нарушено течение (т.е. структура) самих психических процессов. В этом и реализуется путь познания болезни от явления (т.е. психопатологического феномена) к сущности все более глубокого порядка. Актуальность этой задачи связана с ошибочным отождествлением описания психопатологических проявлений с характеристикой нарушения психических процессов, в то время как последние при большинстве психопатологических синдромов еще не изучены. Неосознанное использование этих подмененных, необоснованно отождествляемых характеристик проявляется, например, в таких понятиях, как "разорванность", "вычурность", "соскальзывание", "расщепление" мышления и т.д. Считают, что в этих понятиях отражаются нарушения процесса мышления. В действительности они лишь описывают то, как мы воспринимаем проявления нарушений (в виде вы, оказываний и поступков больных) и вовсе не означают, что именно таким образом нарушены ("разорваны", "расщеплены и т.п.) сами процессы мышления. Закономерности их изменения при данных клинических проявлениях можно и нужно изучать в специально построенных психологических экспериментах. В изучении природы конкретных аномалий развития личности и недоразвития психики основные задачи экспериментально-психологических исследований связаны с выявлением тех основных компонентов психической деятельности, недоразвитие или аномалии развития которых обусловливают формирование общей патологической структуры психики. При психопатиях, например, такие факторы выделяются преимущественно в эмоционально-волевой сфере, тогда как при олигофрении — прежде всего в особенностях интеллектуальных, речевых, а также волевых процессов. Особое значение в психологических исследованиях приобретает использование общих закономерностей онтогенетического формирования психики (принцип хроногенности ее формирования, меняющаяся роль того или иного фактора на разных этапах онтогенеза). В области психогений (неврозы и реактивные состояния), в основе которых лежат функционально-динамические нарушения нервной деятельности, психологические исследования направлены прежде всего на изучение структуры и индивидуальнотипологических особенностей личности. Это необходимо для установления патогенеза заболевания и разработки адекватных психотерапевтических мероприятий. Наиболее интенсивно в мировой психиатрии психологи включены в разработку проблем пограничной психиатрии (неврозы, психопатии), где они участвуют как в изучении генезиса этих патологических состояний и аномалий развития, так и в разработке профилактических психокоррекционных, а также реабилитационных мероприятий. В области экзогенных психических расстройств их (психологов) участие более скромное и достаточно четкое. Здесь психологические исследования направлялись прежде всего на решение диагностических вопросов и задач экспертизы (трудовой, судебной, военной). Наиболее широкими, сложными и разнообразными оказываются задачи, встающие перед психологическими исследованиями в связи с изучением эндогенных психозов. Характер этих задач определяется, с одной стороны, местом психологических исследований среди других научных дисциплин в системе мультидисциплинарного изучения эндогенных психозов. С другой стороны, они обусловлены рядом факторов, связанных с уже известными особенностями природы и генеза этих заболеваний. Ведущим является тот факт, что эндогенные психозы характеризуются пока отсутствием сколько-нибудь значительных неврологических и других соматических проявлений при массивной психопатологической симптоматике, почти исчерпывающей на сегодня клиническую картину болезней. Основными проявлениями ее являются более стойкие и преходящие изменения психических свойств личности и психических процессов (мыслительных, эмоциональных, волевых и др.). Этот фактор определяет общее значение уровня психологических исследований в системе мультидисциплинарного изучения как шизофрении, так и маниакально-депрессивного психоза. Исследования на всех уровнях (клинико-психопатологическом, экспериментально-психологическом, нейрофизиологическом, биохимическом, биофизическом, морфологическом и т.д.) должны вестись одновременно. Однако слишком большая опосредованность связи между исходным психопатологическим уровнем и уровнями более "низкими" не дает возможности для построения на основе психопатологических данных достаточно продуктивных гипотез для построения прицельных исследований на этих уровнях. Поэтому возрастает значение стратегии последовательного движения исследований "сверху" — "вниз", при котором уровень экспериментально-психологического изучения патологии мозговой деятельности является наиболее актуальным, ближайшим к исходному, тщательно разработанному уровню клинико-психопатологических исследований. Дальше возможен переход на уровень нейрофизиологический и т.д. Другим фактором, определяющим в настоящее время особую роль психологических исследований, является факт генетической обусловленности предрасположения к заболеванию эндогенными психозами, что выдвигает на передний план проблему изучения "предиспозиционных" характеристик, тех аномалий развития психики, на фоне (почве) которых может возникнуть психоз. Это резко повысило за последние годы во всем мире интерес к поискам психологических "предикторов" заболеваний, к анализу преморбидного склада психики этих больных. В зависимости от решения этих фундаментальных психологических проблем находится решение широкого круга более прикладных задач. Например, таких как — раннее выявление факторов риска заболевания; квалификация и анализ структуры и степени преморбидных аномалий психики для разработки профилактических мероприятий, для решения разных экспертных вопросов, для психолого-педагогической коррекции. Результаты экспериментально-психологических исследований природы и патогенеза отдельных психических болезней составляют основу для участия патопсихологов в решении ряда практических задач психиатрии. В рамках разных психиатрических направлений объем этих задач значительно различается — от чрезмерно широкого круга функций клинического психолога, порой неотличимых от функций психиатра (в США и некоторых странах Латинской Америки), до более узкой роли в клиническом обследовании и лечении больных (в СССР, Франции, Чехословакии, ГДР, Австрии и ряде других стран). Условно можно выделить 4 группы, или круга практических задач психолога в психиатрической клинике: 1) распознавание и дифференциальная диагностика психических болезней; 2) экспертная практика; 3) реабилитационная и психокоррекционная работа; 4) вопросы, связанные с динамикой нарушений психической деятельности и оценкой эффективности терапии. В психиатрической литературе существуют разные точки зрения на место и роль экспериментально-психологических методов в распознавании и диагностике психических заболеваний, отражающие как недооценку, так и переоценку возможностей этих методов в решении данной задачи. Разногласия в этом вопросе обусловлены прежде всего особенностями общеклинических и психопатологических позиций психиатров, принадлежащих к разным школам и направлениям, различием их исходных психологических концепций, а также широким диапазоном и неоднородностью как самих экспериментально-психологических методик, так и принципов их применения. В отечественной психиатрии стало традиционным широкое использование методов экспериментальной психологии в распознавании и клинико-нозологической диагностике психических болезней. Сначала экспериментально-психологические методы выступали в качестве своего рода инструмента более утонченного психопатологического анализа, являясь его продолжением и способствуя выявлению определенных психопатологических симптомов тогда, когда их обнаружение клинико-психопатологическим методом затруднено. В этой простой вспомогательной функции психологический эксперимент вошел в клиническую практику довольно рано (его применяли В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, В.Ф.Чиж, А.И.Сербский, А.Н.Бернштейн и другие) и в настоящее время активно используется не только специалистами-психологами, но и психиатрами. В психиатрии он принимает форму "естественного эксперимента" в процессе общения врача с больным в рамках обычной клинической беседы. В процессе многолетнего сотрудничества клиницистов и психологов разработан ряд психологических методик, оправдавших себя в психиатрической практике и прочно вошедших в арсенал рабочих приемов клиницистов-психиатров и патопсихологов (Рубинштейн С.Я., 1970). Как правило, психологические методы, используемые в целях диагностики, представляют собой следующее: больным предлагаются довольно простые виды умственных и практических знаний в разных вариантах и комбинациях в зависимости от конкретных целей дифференциальной диагностики и направленности на выявление тех или иных расстройств психики. При диагностических задачах, связанных, например, с обнаружением симптомов утомляемости, ослабления внимания, снижения темпа психической деятельности, применяют корректурную пробу (вычеркивание из стандартного типографского текста определенных букв), метод отыскивания чисел (по таблицам Шульте, где цифры от 1 до 25 приведены вразброс), счет по Крепелину (элементарное арифметическое сложение ряда чисел попарно, "столбиком"), метод последовательного вычитания (обычно из 100 по 7, из 200 по 13 и т.п.). Для выявления расстройств памяти используют тесты на заучивание слов (или цифр), пересказ специальных сюжетных рассказов, опосредованное запоминание попарно предъявляемых слов, опосредованное запоминание с помощью зрительных образов (метод пиктограмм) и т.п. Для выявления патологии мышления используют широкий круг психологических методов: сравнение предметов (признаки сходства и отличия); определение понятий; раскрытие переносного смысла пословиц и метафор; классификацию геометрических фигур; выделение существенных признаков предметов; установление последовательности событий по серии сюжетных картин и др. Существует множество патопсихологических и нейропсихологических методов изучения расстройств речи, восприятия и праксиса как симптомов очаговой патологии головного мозга при сосудистых заболеваниях, болезни Пика, болезни Альцгеймера, старческом слабоумии и т.п. Перечисленные методы направлены преимущественно на выявление интеллектуальных, речевых, перцептивных, мнестических расстройств, а возможности экспериментальнопсихоло гического обнаружения симптомов изменения свойств личности (эмоциональноволевых, мотивационных и др.) более ограничены. Экспериментально-психологические методы исследования в этой своей функции представляют собой как бы продолжение и дополнение клинического анализа психического статуса больного. Чаще всего их применяют при стертых, благоприятных, малосимптомных вариантах течения разных психических болезней, в начальных стадиях заболевания или ремиссии, когда психические расстройства мало выражены, а также в случаях замаскированности той или иной симптоматики (в частности, негативной) другими психопатологическими симптомами. Наряду с выделением определенных психопатологических симптомов экспериментальнопсихологические методы играют и другую, более самостоятельную роль в распознавании и диагностике психических болезней. В этом случае они, так же как и другие лабораторные исследования, расширяют возможности клинического анализа, позволяя получать дополнительную диагностически значимую информацию, лежащую вне рамок обычного психопатологического анализа. Использование в этих целях экспериментально-психологических методов основывается на результатах многочисленных специальных клинико-лабораторных корреляционных исследований, в ходе которых экспериментальным путем были установлены определенные характеристики психической деятельности, имеющие ту или иную дифференциально-диагностическую ценность. Реализация этой функции экспериментально-психологических исследований относится к компетенции специалистов-патопсихологов и требует наряду с психологической квалификацией и опыта экспериментальной работы. В многообразии методических приемов, используемых для получения дополнительных дифференциально-диагностических (патопсихологических) данных в психиатрических клиниках разных стран, нашли отражение весьма различные методологические принципы создания, отбора и использования экспериметально-психологических методик (Зейгарник Б.В., 1962; 1976; Лурия А.Р., 1963; Поляков Ю.Ф., 1974). Один из основных и наиболее плодотворных путей, по которому успешно следует патопсихология, — экспериментальное изучение закономерностей измененного протекания (структуры) психических процессов — мыслительных, перцептивных, речевых, эмоциональных и т.д. — при разных видах патологии мозга и использование этих данных в качестве дополнительных клинико-диагностических критериев. Этот подход характеризуется следующими методологическими принципами. Во-первых, экспериментальные исследования (и соответствующие им методики) не унифицированы, поскольку они предполагают своего рода "прицельность", т.е. направленность на анализ определенных видов патологии психики. Эти методики, как правило, создаются для изучения конкретных вариантов нарушения психической деятельности, хотя многие из них используются широко для выявления и других нарушений психических процессов в соответствии с поставленной дифференциальнодиагностической задачей. В качестве примеров можно привести метод формирования искусственных понятий, предложенный и примененный в психиатрии в связи с гипотезой о нарушении понятийного мышления при шизофрении (Выготский Л.С, 1956), и метод классификации предметов, разработанный для изучения "категориальности" психической деятельности (процессов абстракции и обобщения), которые используются сейчас при изучении различных аспектов патологии мышления и при самых разных заболеваниях. Во-вторых, экспериментальные методики строятся по принципу моделирования определенных (воспроизводимых и контролируемых) ситуаций, требующих от больного выполнения каких-либо заданий, в процессе которых и проявляются интересующие экспериментатора изменения тех или иных сторон психической деятельности. Например, метод исключения предмета ("четвертый лишний"), требующий от обследуемого выделить из нескольких предъявленных предметов один и аргументировать общность остальных. Этот метод моделирует деятельность, связанную с выделением существенных признаков объектов и обобщением их, что позволяет анализировать способность к отвлечению и абстракции. В описанном подходе большое значение имеет определенный принцип анализа экспериментальных данных, органически связанный с существом самих методических приемов. Заключение экспериментатора строится на оценке не столько конечного результата (эффекта) деятельности больного, сколько особенностей выполнения экспериментального задания. Экспериментальное исследование больного строится на основе индивидуально подобранного комплекса методик, изменяемых в соответствии с конкретной дифференциально-диагностической задачей, состоянием больного в момент исследования, его образованием и возрастом. Результаты таких исследований позволяют использовать определенные характеристики измененной структуры психической деятельности в качестве дополнительных дифференциально-диагностических критериев. При шизофрении, например, устанавливают искажение процесса обобщения, тогда как при заболеваниях органического генеза (травмы, церебральный атеросклероз и т.д.) на первый план выступает снижение уровня обобщений. Патология мыслительной деятельности больных шизофренией заключается в "разноплановости", многоаспектности подхода к тем или иным объектам и явлениям, при котором в равной степени актуализируются и используются как существенные, практически значимые, так и случайные или незначительные свойства и характеристики объектов. Такие нарушения могут сочетаться с сохранностью операционной стороны мыслительной деятельности и запаса знаний, а также с формальнологической правильностью суждений. Кроме того, при шизофрении проявления патологии интеллектуальной деятельности больных обычно не зависят от сложности экспериментальных заданий. Наиболее отчетливо эта особенность выявляется при использовании методик с "глухой", ненаправленной инструкцией, позволяющей больному самостоятельно выбрать подходы к выполнению экспериментального задания. При экспериментально-психологическом анализе интеллектуальной деятельности больных эпилепсией на первый план выступает снижение способности к обобщению, абстрагированию, выделению существенного наряду со склонностью к детализации, застреванию на второстепенных обстоятельствах и трудностью переключения мыслительной деятельности. Указанные особенности мышления больных эпилепсией сочетаются, как правило, с уменьшением объема внимания и трудностью его распределения (переключения). Для них характерно также ухудшение памяти — снижение способности к запоминанию нового материала и воспроизведению, т.е. актуализации прежних знаний. Отмечается общее замедление темпа интеллектуальной деятельности. Наряду с таким "прицельным" применением экспериментально-психологических методов в психиатрической диагностике были попытки их принципиально иного использования. В зарубежной клинической психологии значительное распространение получил подход, основанный на использовании различных "универсальных", стандартизованных методов, в основном психологических тестов, созданных, а затем привлеченных в клиническую практику, безотносительно к существу исследуемой психической патологии. Эти методы не связаны с изучением структуры самих психических процессов. Они направлены только на установление и определение выраженности тех или иных "способностей", свойств психики. Условно эти методы (тесты) делятся на две группы — интеллектуальные и личностные. К первой группе относятся такие известные тесты, как метод Вине (и его вариант Стенфорд — Бине), сконструированный для определения "умственного возраста" (коэффициент умственного развития — 10) детей; методика Векслера, предназначенная для оценки "общего уровня интеллекта", и ряд тестов измерения специальных способностей (счетные способности, пространственная визуализация, вербальное понимание и т.п.). Вторая группа тестов прежде всего — набор проективных методик исследования, использующих неопределенность, незавершенность стимульной ситуации для выявления некоторых индивидуальных характеристик личности. Среди них наибольшей известностью пользуется метод "чернильных пятен" Роршаха (1921) (созданный автором для изучения индивидуальных особенностей зрительного восприятия и затем примененный для оценки некоторых свойств личности), а также метод ТАТ, разработанный для диагностики индивидуально-психологических особенностей воображения (а через них — личности) при предъявлении обследуемому неоднозначных сюжетных изображений. Вопрос об эффективности использования проективных методов спорен. Недостаток этих методов заключается в отсутствии избирательной направленности на анализ тех или иных видов патологии. Поскольку при их создании, как правило, не ставилась задача изучения патологии психики и лишь впоследствии они были применены клиническими психологами для диагностики психических состояний, эти методы не ориентированы прицельно на выявление каких-либо конкретных вариантов патологии психической деятельности. Попытки их применения для распознавания и клинико-нозологической диагностики психических болезней чисто эмпирические и основываются на малоэффективном методе "проб и ошибок ", на исследовании тем или иным методом разных категорий больных в надежде обнаружить какие-либо диагностически значимые различия по тестируемым показателям. Несмотря на многолетнее активное применение указанных методов при обследовании психических больных (Л.Ф.Бурлачук, 1979; М.М.Кабанов с соавт., 1983; Е.Т.Соколова, 1976, 1980, 1989; и др.), их значение для узкой клинической диагностики, на наш взгляд, остается весьма скромным, а в некоторых случаях и спорным. Данные разных авторов нередко противоречивы и по этой причине не позволяют сформулировать сколько-нибудь существенных критериев для нозологической диагностики. В последние десятилетия в психиатрии ряда стран наблюдаются снижение уровня клинико-психопатологического анализа, недооценка биологической обусловленности природы психических болезней и роли нозологического подхода в их диагностике. Довольно широкое применение проективных методов в психиатрической практике по сути дела выражает характерную для психиатрии и клинической психологии этих стран тенденцию к подмене психиатрической диагностики диагностикой психологической. Ряд практических задач, в решении которых активно участвуют патопсихологи, связан с вопросами психиатрической экспертизы (врачебно-трудовая, медико-педагогическая, военно-врачебная, судебно-психиатрическая). Общим для этого круга задач является необходимость соотнесения определенных особенностей психики больного с психофизиологическими требованиями и особенностями структуры той или иной конкретной деятельности (трудовой, учебной) или действия, поступка. Значение психологических исследований в этой области определяется прежде всего тем, что экспертиза связана с учетом не только медицинских, но и социальных и психологических факторов. Для их решения обычно нужны детальные данные об особенностях психического склада больного и соотнесение его психофизиологических возможностей с особенностями той деятельности (или действия), в отношении которой проводится экспертиза. Экспертиза трудоспособности психически больных связана, например, с требованиями той или иной профессии к психическим и физическим функциям человека. Для этого наряду с нозологическим (синдромальным) устанавливается и функциональный диагноз, учитывающий не только пораженные, но и сохраненные функции, и определяющий компенсаторные возможности больного и его способности к трудовой деятельности. При этом необходимо учитывать индивидуальные возможности личности, мотивов, установок больного и т.д. При решении, например, вопросов, связанных с прогнозом учебной деятельности и отбором детей в специальные школы разного типа, основным экспертным принципом является комплексное изучение ребенка (врачебное, психологическое, педагогическое) с обязательным установлением особенностей его развития и выявлением потенциальных положительных возможностей обучения. В судебно-психиатрической экспертизе центральным моментом остается вменяемость — невменяемость. Установление невменяемости основывается на двух обязательных критериях — медицинском и юридическом (психологическом), выходя тем самым за рамки психопатологического анализа. Место и фактическая роль психологических исследований в этой области определяются, таким образом, необходимостью разностороннего анализа особенностей психического склада больного, его психических процессов и свойств личности. Они имеют особое значение (независимо от их отношения к диагностике и лечению) для тех или иных видов деятельности или совершения отдельных поступков. Особая роль экспериментально-психологических исследований в решении этих вопросов обусловлена тем, что для обоснованного экспертного заключения недостаточно лишь оценки снижения тех или иных психических функций и свойств больного, а необходим качественный, структурный анализ изменений его психической деятельности. Врачебнотрудовая экспертиза, например, не ограничивается вычислением процента потери трудоспособности, а строится на основе определения фактической возможности больного выполнять ту или иную работу без вреда для здоровья. Для решения этой задачи с помощью психологических методов выявляются характер и выраженность изменений психических процессов и возможности их компенсации с учетом психологических особенностей той или иной деятельности. Экспериментально изучают, например, утомляемость при различных видах труда (однообразном, динамичном, непрерывном, прерывистом, автоматизированном, творческом, сенсорном или моторном и т.д.). Экспериментальное исследование структуры изменений интеллекта может выявить, например, соотношение между способностью к абстрагированию, конструктивному мышлению, усвоению новых знаний в их практическом использовании в конкретной предметной деятельности. Существенное значение для оценки трудоспособности больного может иметь структура расстройств памяти (преобладание нарушений краткосрочной или долговременной памяти, определение ее различных модальноспецифических типов — зрительной, слухоречевой и др.) и соотнесение этих характеристик с особенностями профессионально-трудовой деятельности, рекомендуемой больному. При медико-педагогической экспертизе детей и подростков с разными формами дизонтогенеза психологическое исследование, как уже говорилось, позволяет оценить не только структуру аномалии личности и задержку умственного развития, но и потенциальные возможности психического развития ребенка. Поскольку нарушения и отставание в психическом развитии обусловлены как олигофренией, так и другими причинами (педагогическая запущенность, последствия длительной астенизации, прогредиентное психическое заболевание), данные психологического исследования помогают психиатру в установлении природы дизонтогенеза и в выборе путей общеобразовательного и трудового обучения (массовая школа, санаторная школа, вспомогательная школа или специализированное ПТУ). При решении задач экспертной психиатрической практики методы и принципы работы патопсихологов сближаются с таковыми в других областях психологии, например, в психологии профотбора и профориентации, дефектологии и юридической психологии. Требования к патопсихологии в области реабилитации, психокоррекционной работы с психически больными аналогичны тем, которые упоминались при изложении вопросов экспертизы. Реабилитационные мероприятия, направленные на предупреждение инвалидизации, предотвращение или уменьшение стойких последствий заболеваний, на сохранение и восстановление личностного, трудового и социального статуса больного, служат одновременно и средством компенсации нарушенной психической деятельности. Функции психологических исследований здесь также определяются необходимостью анализа склада личности, помогающего выяснить компенсаторные возможности больного и разработать адекватные восстановительно-профилактические мероприятия. Значительное место в решении этих задач занимают исследования особенностей психики (психических процессов и свойств личности), имеющих значение для социальной и профессиональной адаптации больных. Эти исследования включают определение структуры изменений и сохранности основных свойств личности, а также выяснение системы значимых отношений, мотивационной направленности и ценностных ориентаций больного. Определенное значение имеет исследование "внутренней картины болезни", изучение "зоны конфликтных переживаний" больного, способов разрешения конфликтов и механизмов психологической компенсации. Задачи патопсихологии в этой области сближаются с задачами социальной психологии. Их роднят и методы исследования, которые пока, к сожалению, недостаточно совершенны. Отмечаемая за последние три десятилетия общая эволюция зарубежной клинической психологии от проблем диагностики недоразвития психики (путем тестирования) к проблемам индивидуальной и групповой психотерапии в целях реабилитации психически больных повлекла за собой использование ряда методов "психологической диагностики личности", имеющих очень слабое теоретическое обоснование, и чаще всего чисто эмпирических. Возможности применяемых в настоящее время в области реабилитации и психокоррекционной работы с психически больными различных опросников типа MMPI, так же как и прожективных методов (ТАТ, метод Роршаха и др.), еще весьма ограничены. Результаты, получаемые посредством применения опросников при индивидуальном анализе психики больного, дают менее значимую информацию, чем та, которую можно получить при квалифицированном клинико-психопатологическом анализе. Исследование таких методов целесообразно при массовых обследованиях, при необходимости групповой оценки обследуемых в условиях дефицита времени и персонала. Исследование прожективными методами дает индивидуальные характеристики обследуемых, но они, как правило, весьма произвольны, поскольку сильно зависят от искусства и квалификации экспериментатора, его клинических и психологических воззрений. Такая ситуация отражает прежде всего известное отставание и недостаточную теоретикометодологическую разработку проблем психологической диагностики личности. Необходимо создание теоретической базы для разработки адекватных методов психологической диагностики. Наряду с отмеченными выше возможностями экспериментально-психологических исследований в решении задач дифференциальной диагностики, экспертной практики и реабилитационной работы психологический эксперимент (в связи с воспроизводимостью и стандартностью его условий) позволяет также объективизировать и количественно оценивать динамику некоторых сторон психической деятельности путем повторных исследований одного и того же больного. В последнее время выявляется тенденция к использованию этих возможностей экспериментальной психологии для анализа динамики психических расстройств и оценки эффективности терапии. Так, например, знание динамики тех или иных сторон психической деятельности важно для оценки глубины и стойкости ремиссий, определения прогноза на начальных (малосимптомных) этапах заболеваний, при необходимости более детального функционального диагноза и т.д. Все более широкое применение фармакотерапии, лекарственный патоморфоз психических болезней, внедрение новых форм социальной и трудовой реабилитации больных также предъявляют новые требования к данной стороне экспериментально-психологических исследований. В этой области обычно применяются элементарные методы экспериментальной психологии, результаты которых поддаются однозначной интерпретации и могут быть оценены количественно. Широкий круг научных и практических задач, решаемых на базе психиатрической клиники патопсихологией, связывает ее практически со всеми основными психологическими дисциплинами и диктует целесообразность исследований в комплексе с другими разделами психологии. Возможности патопсихологии, ее обращенность к различным патологиям и аномалиям развития психики привлекают к ней все большее внимание представителей других наук и открывают еще далеко не использованные пути эффективного решения многих проблем, оказывающихся общими для расходящихся, самоизолирующихся, если можно так сказать, отдельных областей психологии. Возможности использования данных патопсихологических исследований для раскрытия структуры психической деятельности, закономерностей формирования ее индивидуальных психологических особенностей, для изучения роли социально-средовых и биологических факторов в процессах развития и распада психики для разработки методологических принципов в психологической диагностике личности и так далее — все это основывается на специфике объекта исследования этой дисциплины. Она связана с тем, что, благодаря такому естественному эксперименту, каким являются различные патологические изменения мозга, удается преодолеть многие принципиальные ограничения, которые существуют в изучении здоровых людей. Основная трудность при изучении нормально функционирующего мозга, психики здорового человека связана с ограниченными возможностями со стороны исследователей при воздействии на конструкцию, состояние изучаемой системы. Принцип черного ящика, господствующий при изучении психики человека, означает, что исследователи вынуждены изучать закономерность психической деятельности путем варьирования входов, регистрации соответствующих изменений на выходе, не имея сколько-нибудь достаточных возможностей варьировать конструкцию и состояние отдельных "звеньев" самой структуры психической деятельности. Изучение патологии расширяет возможности психологической науки благодаря тому, что при болезненных поражениях мозга, при нарушении тех или иных морфологических, химических или иных характеристик деятельности происходит нарушение ряда базирующихся на них компонентов, звеньев психической деятельности. Болезненно измененный мозг представляет собой систему, функционирование которой отличается от психической деятельности здорового человека изменением некоторых более или менее фундаментальных ее факторов. Это позволяет путем сравнительного исследования деятельности здоровых и больных, аномальных людей выявлять и анализировать скрытые при нормальной работе мозга сдвиги в составе различных психических процессов и изучать их роль и место в структуре психической деятельности в целом. Следует признать, что в настоящее время такой путь более успешно реализуется именно в нейропсихологии, на материале клиники локальных поражений мозга. Этот путь был начат и продолжен А.Р.Лурией и его учениками. Последнее время началось движение по этому пути и в другой области — в патопсихологии, в области изучения психических болезней. При поражениях мозга, возникающих при психических болезнях, в психиатрии, как правило, нарушаются более общие, чем в клинике локальных поражений мозга, более фундаментальные факторы психики. Субстратная основа большинства психических болезней пока неизвестна и неизучена. Но зато при поражениях мозга, соответствующих психическим болезням, как правило, нарушаются более фундаментальные, более общие факторы психики, психической деятельности, и проявляется это в том, что для психопатологической природы этих синдромов не характерны очерченные нарушения одной или ограниченного комплекса психических функций, а типично одновременное нарушение более широкого круга психических процессов, познавательных, эмоциональных, волевых одновременно. Эта особенность, в частности, отразилась в определении психических болезней, которые издавна (еще С.С.Корсаковым) определялись как патологические "изменения целостной личности". При этом он пояснял, что под "личностью" имеет в виду совокупность всех душевных свойств и качеств человека, то есть подчеркивал широкий объем нарушающейся сферы психики. Исследования патологии психической деятельности вносят серьезный вклад в решение важнейших проблем генезиса и функционирования человеческой индивидуальности. Болезнь, как отмечал Т.Рибо, превращается в тонкое орудие анализа, "производя для нас опыты, никаким другим путем неосуществимые". Эти возможности не осознаны еще в должной мере нашей психологической наукой, вероятно, и по вине самих патопсихологов, недостаточно активно включающих результаты своих исследований в общепсихологический контекст. В то же время уже сегодня можно оценить значение патопсихологических данных и потенций этой науки, являющейся не только фундаментом для интенсивно развертывающейся медико-психологической службы, но и базисной для решения кардинальных общепсихологических проблем. Так, например, в раскрытие мозговых основ психической деятельности наиболее серьезный вклад вносится разделом медицинской психологии — нейропсихологией. В последние годы патологический материал все более проливает свет на биохимические механизмы психической деятельности. Исследования биологически детерминированных аномалий развития психики, так же как и генетически обусловленных психических заболеваний, являются сегодня наиболее эвристичным путем выяснения конкретных взаимоотношений биологических и средовых факторов в развитии психики. Работа Э.Кречмера отчетливо показала возможности медицинской психологии в раскрытии индивидуальнотипологических различий психического склада и их биологических оснований. Перспективы резкого углубления в этом плане дает область изучения психопатических и акцентуированных личностей, выражающих единственную в своем роде естественную типологию человеческой психики. Именно патология психики породила разработку проблем психологической диагностики и оказывает постоянное влияние на их решение, трансформируя богатый опыт и принципы медицинской диагностики. Путем сравнительного изучения разных видов нарушения психики удается наиболее продуктивно вскрывать генезис и строение психических процессов и свойств психики благодаря уникальной возможности синдромного (структурного) анализа ее состава. Очевидна привилегия и сила медицинской психологии в изучении неосознаваемых форм психической жизни. Оценивая значение связей между психологией и психиатрией для решения общепсихологических проблем, нельзя не согласиться со словами великого Гарвея, сказанными более 200 лет назад: "Нигде так ясно не открываются тайны природы, как там, где она отклоняется от проторенных дорог. Ибо давно известно, что полезность и значение любой вещи мы осознаем лишь тогда, когда мы ее лишаемся, или когда она выходит из строя". Часть I Глава 1 Изучение личностных особенностей и самосознания при пограничных личностных расстройствах 1.1. Методологическая и теоретическая парадигма исследования самосознания при пограничных личностных расстройствах Методологический и теоретический анализ представленных в западной психологической литературе точек зрения убедительно доказывает несостоятельность "атомистического" и метафизического противопоставления и изолированного изучения когнитивных и аффективных детерминант целостного процесса самосознания. Основы иного понимания природы и механизмов самосознания вытекают из принятого и развиваемого в отечественной психологии тезиса о единстве аффекта и интеллекта (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.), самопознания и самоотношения (Ананьев Б.Г., Кон И.С., Рубинштейн С.Л., Столин В.В., Чеснокова И.И.). В конкретных эмпирических исследованиях это важное методологическое положение реализуется в изучении роли индивидуальных и личностных факторов в познавательной деятельности (Брушлинский А.В., Гуревич К.М., Кучинский Г.М., Тихомиров O.K. и др., 1988), в общении (Мясищев В.Н., Бодалев А.А., Петровский А.В. и другие), в структуре индивидуального сознания (Артемьева Е.Ю., Зинченко В.П., Петренко В.Ф., Смирнов С.Д., Шмелев А.Г.), в стиле исполнительского звена деятельности (Гуревич К.М., Климов Е.А., Мерлин B.C. и другие). В цикле публикаций, начиная с 1970 г., а также в монографиях1 и в тексте доклада, представленного на соискание ученой степени доктора психологических наук (М., 1991) изложены разработанные нами теоретические посылки, экспериментальные и методологические приемы исследования аффективно-когнитивных взаимодействий в структуре перцептивной деятельности. Выявлены недостаточно изученные ранее в патопсихологии разнообразные феномены и механизмы прямого и опосредованного влияния мотивационных и личностных факторов на восприятие, представлены результаты исследования больных шизофренией, эпилепсией, пациентов с локальными мозговыми поражениями, невротическими расстройствами. Проведенные исследования позволили выработать и обосновать целостную теоретическую и экспериментальную парадигму исследования "искажений" самовосприятия и самосознания. В развиваемом подходе к изучению патологии психической деятельности обоснован и реализован принцип опосредованного изучения изменений личности и самосознания как преобразованных форм взаимодействия аффективных и когнитивных процессов в структуре целостного стиля личности. Применение этой методологической и теоретической парадигмы в эмпирических исследованиях позволило выявить ряд новых или недостаточно изученных экспериментальным путем феноменов, закономерностей и механизмов формирования искажений самосознания при пограничных личностных расстройствах. 1 См.: Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976; Она же. Проективные методы исследования личности. М., 1980; Она же. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989. Развиваемый в работе личностный этико-психологичес-кий подход к пониманию особенностей "пограничного" самосознания требует изложения его основных методологических посылок (Соколова Е.Т., 1989, 1991). Его ключевыми понятиями являются пристрастность и смысловая позиция. Первое из них в марксистской психологии традиционно раскрывается через анализ бытийной, прежде всего производительной, деятельности субъекта и имеет совершенно определенное семантическое и лексическое оформление, восходящее к парадигме производства и потребления. Рассматриваемая с этих позиций связь субъекта и присваиваемого им в производительной деятельности мира изначальна, но отнюдь не однозначна и раскрывается через развитие и изменение характера связи субъекта с осваиваемой им реальностью. Первоначально она предстает в своей слитности с потребностями людей — исключительно в качестве удовлетворения их потребностей, как то, что является для них "благами". На определенных этапах общественного развития эта первичная слитность объектов и опредмеченных в них потребностей разрушается вследствие тех процессов, которые К.Маркс характеризовал как отчужденный труд, отчуждение человеческой сущности, самоотчуждение человека. В рамках этого отчуждения складывается чисто "потребительское" отношение к производству и его продуктам, в результате чего и собственная деятельность (поскольку она является "трудом") воспринимается индивидом лишь как средство (более или менее "пригодное") для достижения им не-собственных целей, а следовательно, как чуждое, навязанное извне, от которого нельзя освободиться иначе, как через лишение себя самого необходимого1. 1 Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 года. М., 1974. Сознание, отвечающее этим разным этапам развития человеческой деятельности, отличается разным уровневым строением: слитностью значений и личностных смыслов в одном случае и их противопоставлением, вплоть до дезинтеграции — в другом1. В онтогенезе развитие самосознания, как и развитие сознания, связано с движением его "образующих" — чувственной ткани, значений и личностных смыслов, их трансформациями и взаимопереходами, благодаря которым образ Я врастает в надиндивидуальный социокультурный контекст деятельности и обогащается "обертонами" субъективно-пристрастных отношений индивидуальной человеческой жизни. Различение потребности и мотива имеет, на наш взгляд, принципиальные следствия для понимания психологической природы пристрастности человеческого сознания и самих ее форм. Именно благодаря насыщенности потребностями и мотивами самосознание впускает в себя мир и открывается миру, между Я и миром устанавливается полнокровная бытийная связь, репрезентирующая субъекту "мир-в присутствии Я"2 (Соколова Е.Т., 1991). Однако именно в "укорененности" самосознания, в бытийности, таится угроза сугубо утилитарного, потребительского отношения к миру и собственному Я. Пристрастность, определяемая исключительно через соотнесенность с опредмеченными в мотивах потребностями Я, есть не что иное, как пристрастность "потребления", вчувствования Я (термин Т.Липпса), атрибуции собственных желаний, представлений и идей в мир, т.е. фактически его приспособление и "уподобление" Я3. Смысловая личностная позиция "потребления" превращает в средства удовлетворения собственных потребностей и других людей, выступающих для субъекта лишь в качестве его "опредмеченных потребностей". Естественно, она предполагает взаимозависимость, поскольку Другой, вовлеченный, "вчувствованный", воспринимается не иначе, как часть Я, а его независимое от Я существование переживается как "потеря". В отличие от описанной выше "зависимой" смысловой позиции самосознания, отождествляющей Я с другим как объектом потребности и делающей его "частью Я", самоотчужденное сознание предполагает жесткую дихотомию и противопоставленность Я и Другого, смыслов и значений. Мир презентируется исключительно сквозь призму "благоприятствований" или "преград", или "хорошего" (удовлетворяющего Я) или "плохого" (фрустируемого Я). Ставшая смыслом, мерилом Я и Других, подобная позиция не может быть ничем иным, как искажением, насилием и разрушением — в широком смысле слова, картины мира и образа Я. "Манипуляторство", естественное выражение пристрастности подобного рода, — это не только стиль общения, это способ существования, этическая (вернее, аэтическая) позиция по отношению к миру и своему Я, порождающая условное приятие Я и Другого. Таковы два главных паттерна отношений, присущих "пограничной" личности. 1 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977. 2. Снятие противопоставления сознания и самосознания вполне оправдано методологией настоящего исследования: "пристрастное" сознание всегда предполагает присутствие сознающего Я, другое дело, что "включенность" самосознания не обязательно подразумевает осознанность Я-опыта во всей его целостности и полноте; какие-то его аспекты могут репрезентироваться субъекту исключительно на уровне непосредственночувственных и неосознаваемых переживаний. 3. "Мир, — пишет Э.Фромм, характеризуя нарциссическую жизненную позицию, — это один большой предмет нашего аппетита, большое яблоко, большая бутылка, большая грудь; мы — сосунки...". Фромм Э. М., 1990. С.52. Иная позиция и иной тип пристрастности задаются смысловой позицией "вненаходимости" субъекта, которая вовсе не тождественна отсутствию субъективности, напротив, настаивает на присутствии человека в этом мире, его причастности, его "не алиби в нем" (Бахтин М.М.). Позиция вненаходимости означает "вслушивание" в другого человека, в самого себя, в мир всего живого, она означает диалогические отношения со всем сущим на Земле. Она предполагает отказ от всякого насилия над собой, Другим и Миром в виде переделки их в соответствии с собственными желаниями или идеями; она предполагает понимание и приятие, и ее девиз известен — "благоговение перед жизнью" (Толстой Л.Н. и Швейцер А.). В основе диалогической позиции лежит переживание самоценности и глубокой близости с миром, поскольку "ни один человек не может быть для другого полностью и навсегда чужим... Этика уважения к жизни требует, чтобы каждый из нас в чем-нибудь был для людей человеком"1. Пристрастная диалогическая смысловая позиция не предполагает противопоставления сопричастности — независимости, поскольку истинный интерес к Другому бескорыстен, ибо лежит не в отношении этого Другого к моим потребностям, а в его и моей самоценности. Диалогическая позиция расширяет сознание и самосознание, впускает" в него мир и Я во всех его противоречиях и конфликтах. Она является важным условием саморазвития, обеспечивающим доступность переживанию и саморефлексии любой части Я-опыта; благодаря ей полнокровно звучит "многоголосица" самосознания, т.е. порожденные сложным пересечением и переплетением жизнедеятельностей образы и чувства Я. 1 Швейцер А. — великий гуманист XX века. Воспоминания и статьи. М., 1970. С.206. Важные выводы следуют из этих положений применительно к пониманию проблемы самосознания: пограничной личностью "производится" тотально-зависимая или фрагментарно-репрессивная структура самосознания, жестко и однозначно дихотомизированная в зависимости от удовлетворения/фрустрации базовых потребностей и потому — пристрастно-искаженная, суженная. Феномены пограничного самосознания могут быть поняты, таким образом, как следствие несформированности смысловой диалогической позиции Я, в целостной системе жизнедеятельности субъекта. Подводя итог изложению методологической парадигмы настоящего исследования, еще раз отметим следующее. Самосознание возникает как высший уровень организации, структурации и саморегуляции жизнедеятельности субъекта. С его появлением сознание обретает новое "измерение" — пристрастность, репрезентирующую субъекту "мир-вприсутствии Я". Это не означает, однако, что на более элементарном уровне психического отражения пристрастность вовсе отсутствует; она проявляет себя в известных феноменах интенциональности, избирательности психических процессов под влиянием аффективных состояний индивида, в организующем воздействии прошлого опыта ("схем", "гипотез"), в опосредовании актуального опыта антиципирующими установками и "образом мира". Таким образом, первый "низший" уровень пристрастности задан и определен самим фактом бытийной, деятельностной природы человека, "пуповинной", связью с реальностью его бытия (Соколова Е.Т., 1976). Пристрастность более высокого порядка задается развитием ценностно-смысловой, этической позиции личности как ее способа существования в этом мире, отношения к себе и Другим. Дальнейший теоретический анализ проблемы требует введения ряда новых теоретических конструктов, благодаря которым "личностная парадигма" изучения самосознания наполняется конкретно-психологическим содержанием. Самосознание как высшая форма развития личностной интеграции подчиняется тем же закономерностям развития, что и "порождающая" его личностная структура. Именно в этом смысле мы понимаем утверждение С.Л.Рубинштейна, что самосознание вставлено", "внедрено" в жизнь личности. В развиваемом в исследовании личностном подходе это положение раскрывается в двух методологических тезисах: во-первых, признании пристрастности самосознания, его опосредованности системой потребностей, мотивов и этических ценностей личности; во-вторых, в трактовке источников формирования и движущих сил его внутренних трансформаций как процессов дифференциации и интеграции личностной структуры. Специфика пограничного самосознания конкретизируется и раскрывается через категорию "зависимый стиль" личности. Ранее личностная парадигма была апробирована нами при исследовании нарушений перцептивной деятельности психических больных, где было показано, что пристрастность субъективного отношения в патологии искажает, а нередко полностью подменяет, вытесняет объективное содержание познавательной деятельности: нарушения восприятия не выступают изолированно от особенностей других познавательных процессов, а характеризуют целостную структуру (стиль) психической деятельности и личности (Соколова Е.Т., 1973, 1974, 1976, 1977). Применение категорий пристрастности и личностного стиля к новой проблемной области не могло происходить без дополнительной их рефлексии, уточнения природы стоящих за ними психических реалий и их интерпретации в рамках существующих психологических концепций. Факт пристрастности самосознания не вызывает сомнения у исследователей самых различных школ и психологических ориентаций. В частности, это находит выражение в выделении в самосознании двух образующих, двух его компонентов — самопознания и самоотношения. В нашей монографии "Самосознание и самооценка при аномалиях личности" (1989) дается развернутый критический анализ эмпирических исследований и теоретических концепций, развиваемых в современном психоанализе и когнитивной психологии представлений о строении и функциях аффективных и когнитивных процессов в структуре образа Я. Подчеркиваем, что характерная для большинства западных исследователей тенденция к абсолютизации одного из компонентов самосознания, своеобразный "аффективный" или "когнитивный" редукционизм, уместный скорее в научной полемике, чем при реализации конкретных эмпирических исследований, приводит к неоправданным акцентам и обобщениям, искусственной инкапсуляции каждой из исследовательских парадигм. В итоге психоаналитическое направление "узурпирует" тематику изучения аффективных детерминант самосознания, результирующих в переживания удовлетворенности, гордости собой или вины, стыда, унижения. В рамках этого же направления осуществляется по преимуществу клиническое изучение разнообразных механизмов защиты Я, направленных на контроль и трансформацию негативных чувств в адрес Я. И хотя обращение к изучению защитных механизмов самоотношения содержит, на наш взгляд, указание на задействованные в них когнитивные структуры, сторонники психоаналитического направления предпочитают трактовать их как имеющие чисто аффективную природу и закономерности внутреннего развития (Боулби Дж., Винникот Д., Кохут X., Кернберг О., Малер М., Мастерсон Дж., Моделл А., Тиссон П. и другие). Когнитивистская ориентация, оперируя понятиями Я-схема, Я-модель, стиль самоатрибуции и др., фокусирует внимание исключительно на "ментальных", внутренних процессах как способах построения и функционирования Я-концепции (Баумейстер Р., Бек А., Карвер Ч., Райл А., Селигман М., Теннен X. Элайк М., Дж. Янг и другие). В рамках этого направления аффективное содержание Я-образа попросту изгоняется, так что остается не вполне ясным, что же оформляется, структурируется посредством разнообразных когнитивных тактик и стратегий. Наша точка зрения, достаточно ясно представленная в публикациях и при интерпретации эмпирического материала, заключается в психологическом анализе феноменов искажения самосознания как продуктов системного аффективно-когнитивного взаимодействия. Здесь мы в значительной мере развиваем применительно к изучению самосознания идеи К.Левина и Л.С.Выготского о системном строении высших психических функций. Указывая на необходимость учета характера связи аффекта и интеллекта как критерия развития, Л.С.Выготский высказывает мысль о том, что этот критерий может быть применен как к оценке уровня индивидуального личностного развития, так и к объяснению механизма развития аномалий личности. "В определенном смысле, — пишет он, — существует функциональная эквивалентность между высокой степенью дифференцированности личности и большей подвижностью личности в отношении определенных ситуаций и задач"1. По-видимому, именно в те годы впервые в отечественной психологии столь отчетливо прозвучала мысль о системно-структурной организации психического функционирования, определяемой через степень дифференциации, автономности и взаимоопосредования аффективных и когнитивных процессов. 1 Выготский Л.С. Собр. соч. М., 1983. Т.5. С.241. В личностной парадигме исследования самосознания методология аффективнокогнитивных взаимодействий является ведущей и определяет как построение частных экспериментальных исследований, так и психологическую интерпретацию выявляемых феноменов, условия и механизмы их порождения. Центральной объяснительной категорией в этих исследованиях выступает стиль личности, рассматриваемый в качестве структурно-процессуальной характеристики уровня индивидуального личностного развития, в основе которого лежит определенный принцип организации аффективнокогнитивных взаимодействий. В самом общем виде стиль может быть определен как систематически организованный, относительно стабильный на значительных отрезках жизни, индивидуально очерченный у каждого человека паттерн взаимодействия обобщенных и генерализованных стратегий конструирования субъективно-пристрастной картины мира и образа Я. В качестве его операционального референта в конкретных экспериментальных исследованиях используется более узкое понятие — "когнитивный стиль", изучаются параметры когнитивного стиля — мера когнитивной дифференцированности и полезависимости1 (Соколова Е.Т., 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1989; 1991; Соколова Е.Т., Федотова Е.О., 1982, 1983, 1986; Соколова Е.Т. в соавт. с Коркиной М.В., Дорожевцом А.Н., Каревой М.А., Цивилько М.А. и другие, 1986). Проведенный в наших работах развернутый критический анализ эмпирических и теоретических исследований по проблематике стиля обнаруживает довольно серьезные противоречия в подходах, теоретических парадигмах и направлениях его изучения. Вопервых, выделяются два существенно отличных методологических подхода: гуманитарный и эмпирически ориентированный, каждый из которых в свою очередь объединяет разнородные и разноуровневые концепции. В основе развиваемого нами подхода лежит принцип системности, целостности, диалектического единства "содержания" и "формы". Личностный стиль в качестве своей формально-динамической характеристики подразумевает: а) дифференциацию и специализацию любых психических структур и форм психического функционирования, в том числе и самосознания; б) наличие ясно очерченной сети связей, взаимодействий между различными "подсистемами" (потребностями и мотивами, познавательными и аффективными процессами, частными образами Я и самооценками и т.д.), обеспечивающими интеграцию всех "образующих" личности в относительно стабильную и способную к саморазвитию структуру. Содержательные аспекты личности выражаются в стиле так же, как понятия — в языке, раскрываясь во взаимодействии структурных и динамических его особенностей. Стиль интенционален и внутренне связан с интимным миром отношений личности, он развивается и отражает уровень развития Я, качественное своеобразие индивидуального жизненного пути, способа ее самореализации2. 1 В последние годы в отечественной и зарубежной психологии проблематика стиля становится все более популярной и имеет достаточно солидное обоснование в признании индивидуально-типологического своеобразия и целостности личности в процессах ее жизнедеятельности (Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., Гуревич К.М., Егорова М.С., Ольшанникова А.Е., Палей А.И. и др.; Бек А., Бертчнелл, Биери Дж., Виткин Г., Гарднер Р., Келли Дж., Клейн Дж., Оллпорт Г., Роттер Дж., Селигман М., Уилкинсон И. и др.). 2 В этом смысле стиль для психолога-исследователя является тем же самым, чем отпечаток пальца для криминалиста — так Г.Роршах разработал свою систему понимания душевного мира человека через анализ формально-структурных параметров "мира" моторно-перце-птивных образов. Введением в эмпирические исследования категории "стиль" мы получаем возможность изучения исторической и системной детерминации феноменов пограничного самосознания, развития их в актуалгенезе. Поясним сказанное. Исследуемые методом "среза" психопатологические феномены содержат в снятом виде следы двух видов детерминации: историческая (генетическая) причинность обнаруживает себя как "эхо" прошлых событий или воспоминаний о них, в качестве их "меток", как кристаллизации прошлого (бывшего "там и тогда") в структуре актуального, "здесь и теперь" существующего; что касается системной причинности, то ее следы прослеживаются в синдромном характере аномального явления. Подобное понимание причинности, утвердившееся в психологии благодаря идеям Л.С.Выготского, Б.В.Зейгарник, К.Левина, лежит, в частности, в основе патопсихологического эксперимента, позволяющего интерпретировать данные патопсихологических диагностических проб в качестве целостных системных характеристик психической деятельности и одновременно как продукт их формирования в искаженных болезнью условиях жизнедеятельности, как новообразования личности (Соколова Е.Т., 1986). В свете сказанного пограничная личностная структура определяется как сложившийся в патогенных семейных условиях ригидный паттерн (стиль) интра- и интерпсихических связей, системообразующие радикалы которого — психологическая недифференцированность и зависимость, характеризуют три взаимосвязанных составляющих его структуры: образ Я, стратегии саморегуляции и коммуникации. Подобная трактовка не предполагает принципиального расхождения с клиническим пониманием развития пограничных расстройств как результата стадийно развертывающегося процесса трансформаций первичных невротических реакций в транзиторные стадии собственно невроза, при затяжном течении переходящего в стойкие характерологические акцентуации и нарушения поведения (Карвасарский Б.Д., Ковалев В.В., Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Шкловский В.М., Ушаков Г.К., Петрилович Н., Вольгель Е. и другие). Вместе с тем, если в клинически-ориентированных исследованиях подчеркивается и особо выделяется связь преморбидных особенностей (клинических радикалов) с развивающимися на их основе соответствующими формами пограничных расстройств, то предлагаемый нами психологический подход в определенной мере (но не абсолютно) отвлекается от специфики, привносимой клиническим радикалом" ради выявления узловых, системообразующих личностных нарушений, общих для всех клинических форм пограничных расстройств. Модель пограничного самосознания исходит из введенного А.Н.Леонтьевым и развиваемого в современной отечественной психологии представления о структуре сознания как единстве трех его образующих — значения, чувственной ткани и личностного смысла. Таким образом, мы продолжаем традицию объединения некоторых принципиальных концепций теории деятельности и их ассимиляцию клинической психологией, в частности, применительно к проблеме структуры и генеза пограничного самосознания (Соколова Е.Т., 1976, 1977, 1981, 1989, 1991; Соколова Е.Т., Федотова Е.О., 1986; Соколова Е.Т., Дорожевец А.Н., 1991 и другие). Основная гипотеза, последовательно доказываемая в циклах клинико-экспериментальных исследований, которые будут описаны далее, состоит в следующем: целостная интеграция образующих самосознания при пограничном развитии разрушается, относительную самостоятельность начинают приобретать отдельные его образующие, которые трансформируются либо в автономные и конфронтиру-ющие уровни функционирования, либо в сцепленные и слитые, монолитные структуры. Первый тип функциональных связей порождает множественность, фрагментарность Я, сосуществование в самосознании жестко очерченных и некоммуницируемых частных и обобщенных образов Я, обусловливающих, в силу сегментарного характера внутренней структуры самосознания, нестабильность целостной системы во времени (изменчивое, альтерирующее Я). Монолитная структура самосознания подразумевает сцепленность, слитность (и потому бедность) отражаемых качеств Я с их аффективной оценкой, недостаточное развитие, специализацию и автономизацию образов Я от разного рода интерферирующих аффективных воздействий, что служит источником повышенной хрупкости образа Я и самоотношения, их сверхзависимости от оценок значимых других, доходящей до потери личной автономии и индивидуальности. Пограничное развитие личности подразумевает поражение целостной структуры самосознания, а не исключительно какого-либо изолированного его уровня, поскольку поражение нижележащего уровня создает искаженные условия развития вышележащему, так, что каждый новый этап неизбежно порождает присущий ему паттерн аномального новообразования. В то же время можно говорить о превалировании того или иного "пласта" или уровня самосознания вследствие нарушения баланса процессов дифференциации и интеграции. Каждое аномальное новообразование самосознания характеризуется заостренностью, акцентуацией ведущих для данного уровня тенденций развития, и, что представляется чрезвычайно важным, разрушаются горизонтальные и вертикальные связи между его уровнями. Зрелое интегрированное самосознание предполагает репрезентированность Я как объекта отражения во всем объеме непосредственно переживаемых чувственных образов, объектированных в понятиях надиндивидуальных значений и "пристрастных" личностных смыслов. Образ Я, существующий в трехмерном пространстве образующих самосознания, обладает конкретно-чувственной витальностью, живостью и "полихром-ностью", присущей его организмическому уровню; он вербализуем, осознан, подконтролен и коммуницируем благодаря своей означенности, и он индивидуален, пристрастен как "мой" образ Я. При этом сохраняется принципиальная возможность "перевода" содержания образа Я на любой уровень сознания, его представимость на языке телесности или значений, с большей или меньшей долей субъективной окрашенности. Иначе обстоит дело при расщеплении и диссоциации разных уровней самосознания или в случае их слипания при низком уровне диффе-ренцированности и автономности. Зависимость как системное свойство самосознания предполагает слабую дифференцированность и специализированность образующих его подсистем, что находит выражение в функциональном недоразвитии высших структур опосредования и самоконтроля. Словарь значений, в которых только и может осуществляться самопознание и рефлексия Я, оказывается бедным (низкая "когнитивная оснащенность" Я), а это значит, что значительная область переживаний Я оказывается вне осознания и контроля. Функции последнего берут на себя механизмы психологической защиты преимущественно "телесной" природы. Сильная аффективная заряженность значений по существу превращает их в значения — для-себя (личностные смыслы), обуславливая высокую пристрастность образа Я. Смещенность баланса когнитивно-аффективных взаимодействий в структуре самосознания в сторону превалирования последних означает, в том числе, низкий уровень самоидентичности, автономии Я, зависимость самоотношения от оценок значимых других (вплоть до их полной слитности и отождествления) и низкую способность к саморегуляции аффективного опыта в целом. Монолитная (низкодифференцирован-ная) структура самосознания предполагает в то же время его особую "ранимость", "хрупкость" в противовес эластичному, гибкому самосознанию высокодифференцированной структуры. Слитность "образующих" самосознания порождает ряд эффектов трансформации всей системы значений. Первый и наиболее очевидный заключается в наполнении системы значений личностно-значимым содержанием, вследствие чего общепринятые "надындивидуальные" социокультурные нормы и заключенные в них "правила жизни" и схемы мировосприятия усваиваются и присваиваются как генуинно присущие Я. Метафора человека с подобным стилем самосознания — "человек в футляре", человек долга и долженствования, банальных "правильностей" и ригористических моральных норм. Другим эффектом сцепленности значений и личностных смыслов может стать парадоксальное на первый взгляд их противопоставление и даже конфронтация за счет "переизбытка" пристрастности и наполненности значений только "мне—одному—ведомым смыслом" — таково магическое сознание, к примеру, современных экстрасенсов и специалистов по НЛО, а также обсессивных личностей. Удивительное и необъяснимое стремление транссексуалов к смене гражданского и биологического пола (Соколова Е.Т., 1989), вероятно, объяснимо их особым переживанием своего телесного Я, полностью противоположным тому "значению", в котором оно выступает для других. Можно также полагать, что подобный механизм лежит в основе расслоений Я на множество слабо связанных друг с другом обобщенных образов, каждый из которых представляет собой отдельную смысловую позицию самосознания. Таковы "личное" и "публичное", "зависимое" и "могущественное" и т.д. (Соколова Е.Т., 1989, 1991). Следуя той же линии рассуждений, мы с неизбежностью должны будем признать, что низкая дифференцированность и зависимость ответственны также за избыточную вовлеченность телесного пласта самосознания в итоговый образ Я. Разнообразная конверсионная симптоматика, наблюдаемая при самых различных формах пограничных расстройств, с одной стороны, говорит о непредставимости конфликтных переживаний Я на языке высокоцензурированных значений, с другой — о насыщенности последних чувственно-образными смыслами. Язык телесности избавляет, таким образом, самосознание от необходимости вербализовывать и осознавать конфликт личностных смыслов Я и стоящие за ним амбивалентные чувства. В этом случае телесный пласт самосознания становится ведущим, стилевым, и он принимает на себя базовый личностный конфликт, утаенный от осознания на уровне рефлексивного Я и проявляющийся в нем лишь в своей трансформированной, защитной форме. Низкий уровень дифференциации проявляется также в диффузности "границ Я", их слабой очерченности, недостаточной определенности, что делает "личностное пространство" повышенно виктимным, доступным для проникновения извне чужих оценок, идей, мнений о Я и об окружающем мире. Банальность, стереотипность, ориентация на авторитеты и общепринятые нормы не только "уплощают", но и "сужают" самосознание. Все сказанное позволяет сделать вывод о нарушении нормального хода процесса индивидуации самосознания, в основе которого, согласно нашей генетической гипотезе, лежит разрушение отношений эмоциональной привязанности вследствие таких факторов как материнская депривация, симбиоз, так же, как и экстраординарных внутрисемейных конфликтов, таких, как психологическое или физическое насилие или инцест на кризисных стадиях онтогенеза (Соколова Е.Т., 1981, 1985, 1989, 1991, 1994). Критический анализ сложившихся в современной западной клинической психологии подходов к изучению генеза пограничного Я как результата дисгармонического личностного развития обнаруживает традиционность данной тематики для психодинамического направления; новым можно считать привнесение из смежных психологических областей и дальнейшее развитие идеи социализации как интернализации в процессе общения со значимыми другими "паттернов" социального взаимодействия и внутреннего самоконтроля. В отличие от традиционного психоанализа и неофрейдизма интерес современных представителей так называемой эгопсихологии или психологии Я сосредоточен на изучении реальных внутрисемейных отношений, складывающихся в первые месяцы и годы жизни ребенка и предшествующих стадии "Эдипова комплекса". Большое значение придается изучению стадийно разворачивающегося процесса развития "объектных отношений", в ходе которого формируются интра- и интерпсихические личностные структуры, разрушение которых авторы склонны рассматривать в качестве основного фактора развития нарциссической и пограничной личностной организации (Соколова Е.Т., 1989; Кернберг О., Кохут X., Малер М., Мастерсон Дж., Фэйрберн Ч. и другие). Анализ современных западных теорий и клинико-ориентированных исследований позволяет заключить, что многие развиваемые в отечественной психологии идеи, в частности, связанные с концепцией культурно-исторического развития и знаковой опосредованности психической деятельности, находят все больше сторонников и рассматриваются западными исследователями в качестве наиболее пригодной теоретической парадигмы понимания аномального развития личности1. Возражение вызывает некоторая упрощенность трактовки природы базового личностного конфликта и сведение обуславливающих его причин то исключительно к "внутренним" закономерностям развертывания фаз и стадий, то к непосредственному воздействию неблагоприятных "внешних" средовых факторов. Из поля зрения исследователей, по существу, выпадает главный аспект проблемы, а именно, психологические механизмы развития целостной искаженной структуры самосознания, феноменов его "искажения" и системно-генетических механизмов их формирования. Нарушения самооценки традиционно считаются узловым системообразующим дефектом при неврозах (Вольперт И.С, Гарбузов В.И., Исаев Д.Н., Захаров А.И., Зачепицкий Р.А., Карвасарский Б.Д., Ковалев В.В., Мясищев В.Н., Спиваковская А.С., Яковлева Е.К., Адлер А., Роджерс К., Хорни К. и другие). Вместе с тем ощущается явный дефицит систематических теоретико-экспериментальных исследований, выполненных в единой теоретической и методолого-методической парадигме. Этим отчасти объясняется множественность используемых в конкретных исследованиях терминов, усложняющая возможности анализа и сопоставления эмпирических данных. Явно недостаточно исследованы факторы и механизмы формирования "искажений" самосознания, их обусловленность особенностями целостной структуры личности, специфическим строением и динамикой "образующих" самосознания, нарушением внутрисемейного общения, в частности, в онтогенезе, являющихся, на наш взгляд, общим патогенетическим фактором в этиологии всех пограничных расстройств, в актуалгенезе выполняющих функцию отрицательной обратной связи, усиливая, воспроизводя и подкрепляя деформации самосознания. 1 Примечательно, что в вышедшей в 1988 г. коллективной монографии Д.Лэпсли и Ф.Пауэра авторы примерно с равной частотой цитируют Л.С.Выготского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и Д.Винникота, Дж.Воулби, Х.Кохута и других исследователей "пограничной личности". Сказанное выше означает необходимость постановки следующих вопросов: 1) о природе нарушений самосознания при пограничном развитии личности; 2) о конкретных феноменах "деформации" самосознания и их источниках, т.е. более широких в отношении к самосознанию процессов, определяющих их становление и развитие как патологических новообразований; 3) о механизмах, "производящих" феномены трансформации, искажения самосознания, т.е. о внутренней динамике процессов самопознания и самоотношения; 4) о развитии особых форм саморегуляции — внутренних (интрапсихических) и внешних (межличностных) манипулятивных стратегий поддержания и защиты образа Я. Решению этих задач посвящены следующие параграфы, в которых конкретный эмпирический материал обсуждается и интерпретируется в широком теоретическом контексте. 1.2. Обоснование проективного диягностико-исследовательского метода феноменологического анализа самосознания Проблема теоретического и эмпирического обоснования проективного метода исследования личности на протяжении многих лет была предметом наших специальных исследований и научных публикаций, в том числе и отдельной монографии (см., например: Соколова Е.Т., 1976, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987). Практическая ценность проективных методик в клинической психологии, ориентированной на запросы консультативной и психотерапевтической практики, сегодня совершенно очевидна. Многие проективные "техники", органично вписывающиеся в ткань психокоррекционного процесса, являются не только инструментом психодиагностики, но и эффективным средством инициации диалога с пациентом, особенно на стадии установления психотерапевтического контакта. В экспериментальных исследованиях конструирование особых проективных процедур, как показали наши исследования, позволяют совместить преимущества проективного подхода (с его "принципами неопределенности" и непреднамеренной проекции личности) с точностью психометрических процедур и статистическим анализом данных (Соколова Е.Т., 1989; Соколова Е.Т., Федотова Е.О., 1982, 1986). Изучение существующих проективных методик, истории их создания, использования и обоснования в рамках современных отечественных и западных психологических течений (психоанализа, эго-психологии, гештальт- и когнитивистскиориентированной психологии) позволяют утверждать, что в основе действенности проективного метода лежит факт пристрастности человеческого сознания. Психический образ действительности не просто находится в отношении подобия с воспринимаемым объектом, главная его особенность состоит в том, что он является "сколком" целостной, субъективно-окрашенной и пристрастной "картины мира — в присутствии-Я". Признание активного пристрастного характера сознания и самосознания делает не удивительным тот факт, что, взаимодействуя с неоднозначно семантически определенными стимулами, человек невольно и неосознанно выражает (проецирует) какие-то значимые для него переживания, а через них — индивидуальные личностные особенности. Нельзя, однако, ограничиться только констатацией этого положения — необходимо ответить на два вопроса: во-первых, какие именно особенности личности и ее внутреннего мира находят свое выражение в ситуации проективного эксперимента; вовторых, почему именно определенным образом построенная ситуация проективного исследования оказывается пригодной для проявления этих личностных особенностей. Ответить на эти вопросы, на наш взгляд, можно, опираясь на разработанную А.Н.Леонтьевым концепцию личностного смысла. По своему содержанию личностный смысл отражает оценку жизненного значения для субъекта объективных обстоятельств и его действия в них. По своей функции, личностный смысл прежде всего делает доступным сознанию личностно-значимые "преградные" качества обстоятельств действия (в соответствии с известным законом осознания, сформулированным Клапаредом). Доступность сознанию не означает, что смысл всегда осознан: он может выступать в виде сознательного словесного представления, а может быть замаскирован" в ткань непосредственных переживаний, т.е. выступать в своей эмоционально-чувственной форме. В этом случае субъект стоит перед задачей саморефлексии, задачей на поиск смысла Я или, напротив, — на сокрытие смысла. Это сокрытие смысла, искажение его в субъективно выгодном направлении и лежит за описанными З.Фрейдом механизмами психологической защиты самосознания. Высказываемый нами тезис состоит в том, что феномен проекции личностно-значимого материала может быть адекватно понят в терминах личностных смыслов и соответствующих действий (внутренних или внешних) субъекта по поиску или сокрытию, маскировке "истинных" личностных смыслов Я. Относительно инвариантная и стабильная конфигурация таких действий образует индивидуальный стиль личности, характеризующий "способ существования человека в мире" (термин С.Л.Рубинштейна), "пристрастную" смысловую установку его сознания и самосознания. Мы утверждаем далее, что, чем более фрустрирована деятельность субъекта вследствие внутренних или внешних конфликтов или преград, тем более будет выражена тенденция к завершению "прерванного действия" в ситуации проективного эксперимента. "Эффект Зейгарник" проявится как в силе запечатления, так и в готовности к воспроизведению и завершению прерванного действия в символическом плане, путем направленной структурации неопределенного стимульного материала. Говоря о структурации, мы подразумеваем не только "оформление" неопределенного стимульного материала, например, чернильных пятен, но вообще создание внутренне связного сюжета, текста, возможно, и невербального, как в графических проективных методиках или телесного, логика построения которого оказывается изоморфичной наиболее общим формально-структурным качествам Я. При этом не имеется в виду, что вычерпываемое проективными методиками содержание сознания полностью сводится к сфере личностных смыслов; оно складывается по большей части из непосредственно переживаемых на неосознаваемом телесном языке эмоционально и мотивационно насыщенных состояний, лишь опосредованно регулируемых смыслом Я. Категория "личностного смысла" позволяет адекватно интерпретировать содержание проецируемого личностно-значимого материала, но она не дает ответа на вопрос, как его опознать, как обнаружить его "метки", в какой эмпирической "одежке" оно выступает в проективном тексте. Проделанный нами структурно-семиотический анализ рассказов ТАТ (Соколова Е.Т., 1976), а также опыт практической психотерапевтической работы показывают, что диагностически-значимое содержание не вычерпывается напрямую из проективных ответов. Оно закодировано, "заключено" в язык структур и метафор, в том числе — и соматических симптомов и требует дешифровки, истолкования, а не прямого перевода на язык тех или иных личностных или поведенческих переменных. Главная же ценность проективных методов состоит в их способности не только объективно, с позиции внешнего наблюдателя вскрывать содержание тех или иных образований личности, но прежде всего — в возможности "услышать" это содержание на "языке" самого обследуемого (а как это для тебя?), сохранив присущий ему "грамматический" и "лексический" стиль. Проективный текст (при том, что он, несомненно, содержит черты наблюдаемого поведения) является "посланием" совсем иного пласта личности, а именно, пласта внутреннего, феноменологического поля самосознания. В ситуации проективного обследования пациент "говорит" не столько о совершенном им, сколько о незавершенном — о возможном, желаемом или отвергаемом. Очевидно также, что создаваемые им картины мира и образ Я глубоко пристрастны, их категоризация искажена под воздействием аффективных переживаний прошлого и настоящего и нередко представляет собой своеобразный личностный "миф" о мире и о себе-в-нем. Проступающие сквозь проективный текст личностные черты и особенности представляют собой не личность "вообще", но уникальную личность-в-диалоге-с совершенно-конкретным собеседником; в этом смысле "проективные тексты" — всегда продукт совместного общения обследуемого и психолога-диагноста "здесь и теперь". В рамках деятельностного подхода могут сосуществовать различные интерпретативные системы, и сам факт множественности психологических реалий, вычитываемых из проективных данных (таких, как образ Я, мотивы, конфликты, защиты и т.д.), так же, как успешность анализа внутри той или иной системы, демонстрируют инвариантность диагностических выводов относительно независимо от избранных интерпретационных систем. 1.3. Факторы формирования пограничной личностной структуры и особенностей самосознания в онтогенезе I.3.1. Роль неблагоприятных семейных условий (современные концепции) В последнее десятилетие проблема структуры и генеза пограничной личности в западной литературе получила новый импульс в исследованиях так называемого пограничного нарциссического расстройства и теории объектных отношений. Его клинические проявления довольно многообразны, в силу чего неоднозначна их нозологическая квалификация. Это прежде всего диффузность самоидентичности — комплекс переживаний, связанный с чувством неполноценности и потери Я; специфическое разлитое чувство душевной и физической усталости и пустоты, ипохондрическая озабоченность, бесцельность жизни, отдаленность и отчужденность от людей; безуспешные попытки обрести уверенность через обладание престижными объектами, чувство внутренней раздвоенности. "Расколотой" структуре внутреннего мира соответствует жесткая дихотомичность образа мира, его черно-белость, зависящая от собственной успешности или неудачи. Речь идет не о парциальных или фрагментарных поражениях какой-то изолированной области интра- или интерпсихического функционирования, а о формировании целостной личностной структуры, особого "рисунка" всего жизненного стиля. В литературе же наиболее распространена точка зрения, согласно которой центральным и конституирующим в синдроме "нарциссической личности" является особая структура самосознания, разными авторами называемая "расколотым Я", "хрупким Я", "нарциссическим Я". Этими терминами пытаются охарактеризовать феномены дезинтеграции самосознания, единое "тело" которого расколото, разъединено, нарушена его целостность и самотождественность. Расколотое самосознание составлено из двух Я: внешнего — защитно идеализированного, фальшивого, грандиозного; и глубинного — пустого, неразвитого, неэффективного1. Их сосуществование как абсолютно противоположных Я-концепций оказывается возможным лишь благодаря примитивным защитным механизмам — расщеплению, отрицанию, примитивной проекции и проективной идентификации, обесцениванию, избеганию. Главную роль среди механизмов защиты играет механизм "разъединения" грандиозного Я и Я-реального. При доминировании грандиозного Я реальное Я представляет собой рудиментарную структуру, образованную вследствие непомерных фрустраций в раннем детстве. Нормальное психическое созревание серьезно повреждается, и завистливое, агрессивное, ослабленное Я ребенка формирует в качестве защиты от реальности грандиозное Я, которое подчиняет себе ослабленное реальное Я (Кернберг О., 1975; Кохут О., 1971, 1977). Двойственность Я накладывает отпечаток и на все остальные аспекты психического функционирования. Так, нельзя сказать, что нарциссическая личность неспособна достичь профессионального успеха или достаточно высокого статуса. Однако мотивация профессиональной активности лежит не в сфере дела, а в стремлении к быстрому успеху, удовлетворению честолюбивых амбиций, всеобщему восхищению. Деловая мотивация быстро истощается, рутинная работа начинает вызывать скуку и утомление; по этой причине уровень профессиональных достижений редко бывает истинно творческим, чаще — поверхностным. 1 Некоторая метафоричность описательного языка сохраняется здесь как и у авторов оригинальных исследований в этой области. В сфере общения "грандиозное Я" побуждает к чрезмерной идеализации и последующему обесцениванию дружеских и интимных отношений. Доминирующими являются эгоцентрическая мотивация, низкий уровень эмпатии и доверительности, нестойкость отношений. Слабое инфантильное реальное Я стремится к сближению с сильными или значительными людьми, компенсируя собственную слабость эксплуатацией силы других. В то же время нарциссическая личность испытывает острое чувство зависти к людям, чьи привлекательные личностные качества для нее самой недостижимы. Тогда эти качества обесцениваются и дискредитируются. Напротив, людей, подобных себе, в которых она узнает свои собственные неприемлемые черты, нарциссическая личность ненавидит и преследует, защищая себя таким образом от признания собственной несостоятельности. В целом, в палитре эмоций доминируют стабильные фоновые эмоции враждебности, зависти, пустоты и скуки, перманентно возникающие ярость и ненависть как устойчивый стиль эмоционального реагирования на фрустрацию потребностей грандиозного Я. Следует также отметить патологическую нетерпимость, непереносимость критики: с одной стороны, она угрожает сохранению образа грандиозного Я, а с другой — еще более фрустрирует слабое и беззащитное реальное Я. Интеллектуальная сфера и познавательные процессы также характеризуются рядом особенностей. С.Бах (1977) выявил общую низкую способность к обучению и усвоению нового. При формальной сохранности и достаточно высоком уровне интеллекта подобный дефект скорее всего имеет мотивационную природу и является результатом слабой деловой мотивации, отсутствия любознательности, быстрого мотивационного пресыщения. Однако, если пациент чувствует себя способным продемонстрировать быстрый эффектный успех в освоении какого-то знания, познавательные процессы функционируют достаточно эффективно. В попытке интерпретировать эти феномены Бах выдвигает гипотезу о наличии специфической мотивации — страхе причинения вреда нарциссическому Я, возникающей, когда пациент обнаруживает, что он чего-то не знает, и снижающей продуктивность любого познавательного процесса. Такова же природа чрезмерно субъективно-пристрастного, эгоцентрического восприятия и мышления, аутоцентрического использования языка и речи, склонности к монологическому, исключающему критичность, мышлению и общению. Исследователи подчеркивают морально-этическую неразвитость, бедность нарциссической личности. Создается впечатление, что прежде всего инфантильноэгоцентрическая ориентация, определяющая мировосприятие и отношение к другим, составляют феномен нарциссической личности, чисто психологическая или клиническая квалификация которого потому и вызывает столько споров, что сам этот феномен находится на стыке клинической психопатологии и этики. По поводу генеза этой формы аномалии личности существуют разные точки зрения. Согласно одной из них, из-за нарушения нормального хода развития детско-родительских отношений (природа и суть которых широко дискутируются в психоаналитической литературе) Супер-эго и Эгоидеал как бы оказываются прерванными в своем развитии. Следствием этого становятся моральная вседозволенность личности, слабость внутренних преград, предпочтение "морали для себя", отсутствие зрелых идеалов и высоких жизненных целей. В межличностных отношениях это ведет к развитию манипуляторного стиля общения, своеобразной эксплуататорской позиции — больше взять, большим или лучшим обладать и т.д. (см. также: Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986). В терминах моральной оценки нарциссическая личность глубоко безнравственна, но какой психологический механизм формирует ее этический профиль? В самом общем виде его связывают с защитными процессами идентификации (самоотождествления) с образовавшимся в результате раскола самосознания "грандиозным Я", играющего роль внутреннего убежища, своеобразного непроницаемого "кокона" (Моделл А., 1975). Доминирование "грандиозного Я", защищающего нереалистические представления о своем совершенстве, заглушает слабый голос совести (Супер-эго), требовательности к себе, самоконтроля и самоограничения. Но такая интерпретация не объясняет, в ответ на какое интрапсихическое или интерпсихическое неблагополучие развиваются столь мощные защитные структуры как механизм расщепления самосознания и формирование "грандиозного Я". Заметим, что представление о "многоголосой" структуре самосознания в современной психологии достаточно аргументировано, различия касаются в основном терминов, используемых внутри психологических направлений (например, в транзактном анализе Э.Берна и гештальт-психологии Ф.Перлса и т.д.). Феномен нарциссической личности представляет интерес как случай, на первый взгляд, противоречащий тезису о диалогической структуре самосознания, поскольку буквально перерезана связь между реальным" и "грандиозным Я". Какие же черты, атрибутируемые обеим структурам, делают "контакт" между ними столь опасным, что требуется прибегнуть к "расщеплению" и их обоюдной инкапсуляции? Объяснения этим аномалиям личностного развития следует искать в специфически искаженных родительских установках и нарушении нормального процесса идентификации ребенка с родительскими требованиями и идеалами, обеспечивающими личностный рост, зрелость и социальную адаптированность взрослого человека. Не исключено также, как это предполагается рядом психоаналитически ориентированных исследователей, что в основе "расколотого самосознания" лежит конфликт "любящего" и "преследующего" Супер-эго, полностью исключающий интеграцию Я (Тиссон П., 1984). Функции любящего Супер-эго в отношении Я могут быть перечислены следующим образом: защита, покровительство, помощь, поощрение и похвала, ласка и забота, знание и понимание, отзывчивость и уважение, прощение и исправление, ожидание хороших взаимоотношений, вера в способность к взаимной любви и праве на счастливую жизнь. Существуя в модальности доверительной установки к миру, любящее Супер-эго обеспечивает условия личностного роста, позитивной самооценки и самоуважения. Преследующее Супер-эго осуществляет функции самоосуждения, самообвинения, самонаказания, является источником мучительных размышлений и нападок в адрес Я, ненависти и самоотвержения вплоть до самоубийства. Если ребенок был любим и принимаем, в структуре его самосоздания любящее Супер-эго будет доминировать. Фрустрируемый и отвергаемый ребенок должен будет интериоризовать паттерн преследующего Супер-эго, в то время как его любящее Суперэго окажется слабым и рудиментарным. Образование защитной структуры грандиозного Я становится условием психологического выживания личности. Благодаря расщеплению самосознания частично сохраняются охранительные функции любящего Супер-эго и ослабляются нападки преследующего Супер-эго, снижается осознание своей униженности, уменьшается чувство стыда. Таким образом, в настоящее время психологи разных теоретических ориентаций сходятся в признании патогенного влияния нарушенных внутрисемейных отношений на психическое и нравственное развитие личности. Среди причин, способствующих формированию психопатологических черт личности и невротических симптомов, обычно называют внутрисемейные конфликты, отсутствие одного из родителей, неправильные воспитательные позиции матери или отца, раннюю изоляцию ребенка от семейного окружения и некоторые другие. Тем не менее, до сих пор многое остается неясным: психологические механизмы воздействия подобных обстоятельств на душевный Мир ребенка, мера их патогенного влияния, парциальность или глобальность нарушений развития, возможность и направленность психотерапевтических воздействий. Утвердившаяся в отечественной психологии традиция Движения психологического анализа от сложившихся (нормальных или аномальных) личностных образований к изучению Условий и механизмов их прижизненного формирования, заставляет нас обратиться к семье и детству и здесь искать источник развития искажений наиболее существенных образований личности. К числу таких образований относится самоотношение, играющее немалую роль в обеспечении эффективного функционирования личности. В первые годы жизни семья является для ребенка основной моделью социальных отношений; в дальнейшем, хотя влияние семьи сохраняется, большее значение приобретают контакты со сверстниками и взрослыми вне дома. Есть основания считать период до трех лет решающим в формировании "базального" Я. Можно предположить, однако, что когнитивная и аффективная составляющие самоотношения развиваются не одновременно — ребенок значительно раньше начинает ощущать себя существом любимым или отвергнутым и лишь затем приобретает способности и средства когнитивного самопознания. Иначе говоря, ощущение "какой Я" складывается раньше, чем "кто Я". Приняв это допущение, выделим в системе внутрисемейных отношений связи, максимально эмоционально насыщенные; таковыми оказываются отношения между ребенком и матерью. Материнское отношение — одобрение, принятие, привязанность, — словом то, что принято называть материнской любовью, становится первым социальным "зеркалом" для Я-концепции ребенка. Ш.Самюэльс в этой связи пишет: "Специфическое поведение родителей значительно менее важно, чем их установка, выражающая сердечность, постоянство, поддержку и одобрение присущей (ребенку) автономии". Э.Эриксон справедливо считает материнскую любовь и заботу в младенчестве фундаментальной основой развития самоидентичности и доверительного отношения к другим. Включенный в эти эмоциональные связи, которые в самые первые месяцы жизни носят симбиотический характер, ребенок к концу первого полугодия оказывается уже в состоянии дифференцировать собственное Я от не-Я — матери. Этот период и считается наиболее сензитивным в развитии отношений, получивших название "поведение привязанности". В традиционных исследованиях, как и в житейском опыте, отношения привязанности связываются прежде всего со специфическими функциями матери — она кормит, ухаживает за ребенком, играет, обычно проводит с ним больше времени, чем другие члены семьи. Следует ли отсюда, что ребенок привязывается к матери "из-за этого", и значит ли, что любой другой человек, хорошо выполняющий эти функции, может заменить мать? Ответ на этот вопрос до сих пор остается дискуссионным и представляет предмет многочисленных исследований. Эксперименты Харлоу с сотрудниками позволяют как будто бы решить этот вопрос позитивно. Малыши обезьянки-резуса показывали все признаки привязанности к мамам-суррогатам, правда, если те были сделаны из мягкой пушистой ткани: они прижимались, ласкались к ним, прятались в их "объятиях", если испытывали страх. Однако, став взрослыми, те же обезьянки обнаруживали грубые нарушения эмоционального реагирования, сексуального и социального поведения: повышенную боязливость и агрессивность, неспособность к копуляции, а в случае материнства — жестокость к детенышам. Интересно, что, по данным Б.Тизарда, приютские дети, лишенные материнского попечения в младенчестве, отличались от воспитанных дома также прежде всего в сфере социальных контактов: их характеризовали, в частности, драчливость, повышенная возбудимость со сверстниками, прилипчивость к взрослым, отсутствие избирательности и постоянства в выборе объектов привязанности. Сопоставление хотя бы этих исследований заставляет предположить, что переадресовка материнских функций другому лицу не порождает сама по себе отношений привязанности. Боулби постулировал два условия, несоблюдение которых влечет за собой невозможность образования эмоциональных связей или их разрыв: наличие одногоединст-венного человека в течение длительного времени ухаживающего за ребенком, и постоянство, непрерывность этих отношений в определенный период сензитивности к ним. В частности, малыши, часто госпитализируемые или отданные в приюты в период после 6 месяцев и до 2—3 лет, впоследствии оказываются неспособными не только восстановить свои прежние эмоциональные контакты с матерью, но и установить их с новыми людьми. (См. Соколова Е.Т., 1981) Наличие сензитивного периода доказывает и острая эмоциональная реакция на разлуку с матерью, диагностируемая у детей не младше 6 месяцев и не старше 3 лет. На первой стадии дистресса дети криком, плачем, мимикой, телодвижением активно выражают протест. На второй — ожидание постепенно сменяется отчаянием и безнадежностью; третья стадия — это полное отчуждение и потеря интереса к родителям. Боулби утверждает, что отрицательный эффект разлуки возникает не вследствие недостатков ухода, а как эмоциональная реакция на потерю совершенно определенного человека — матери. При этом наличие других людей, проявляющих нежность и внимание к, ребенку, например другого родителя или члена семьи, уменьшает дистресс, но не устраняет его вовсе. Итак, разлучение ребенка с матерью в определенном возрасте вызывает остро негативную эмоциональную реакцию. Чем Дольше разлука и чем больше отягчающих ее факторов (плохой уход, дефицит эмоционального общения с другими людьми и т.д.), тем вероятнее, что дистресс разовьется в необратимое отчуждение между родителем и ребенком. В последнем случае Можно говорить не о непосредственном эффекте материнской депривации, а о ее отдаленных последствиях, т.е. устойчивых и малообратимых искажениях личности уже повзрослевшего ребенка. В этой связи привлекает внимание так называемый синдром "аффективной тупости". Его основной радикал — своеобразная неспособность к привязанности и любви, отсутствие чувства общности с другими людьми, холодность, отвержение себя и других, что может находить выражение в агрессии, направленной вовне (антисоциальном поведении) или на собственную личность (склонность к суицидам). М.Раттер уточняет, что этот вариант аномалии личности, повидимому, уходит своими корнями в глобальное нарушение семейных взаимоотношений. Другой вариант искаженного развития по своей феноменологии напоминает классический тип так называемой "невротической личности". Основные черты такой личности — повышенная тревожность, неуверенность, зависимость, жажда любви и навязчивый страх потери объекта привязанности. Подобно психопатам, невротики также испытывают затруднение в установлении доверительных отношений с другими людьми, однако не столько из-за отсутствия душевного тепла, а скорее из-за неуверенности в себе. Впоследствии эти личностные особенности проявляются в стиле супружеских и родительских отношений: например, показана связь между жестокостью родителей и отвержением их самих в детстве, повторяемость разводов в нескольких поколениях, влияние низкой самооценки матери на формирование заниженной самооценки у ребенка. Важно отметить, что такого рода искажения развития встречаются не только у лиц, в раннем детстве разлученных с матерью, но также и у тех, кто испытал влияние неправильных родительских установок. В частности, Боулби выделяет следующие типы патогенного родительского поведения: 1) один, оба родителя не удовлетворяют потребности ребенка в любви или полностью отвергают его; 2) ребенок служит в семье средством разрешения супружеских конфликтов; 3) угрозы "разлюбить" ребенка или покинуть семью, используемые как дисциплинарные меры; 4) внушение ребенку, что он своим поведением повинен в разводе, болезни или смерти одного из родителей; 5) отсутствие в окружении ребенка человека, способного понять его переживания, стать фигурой, замещающей отсутствующего или пренебрегающего своими обязанностями родителя. Возвращаясь к поставленной вначале проблеме, сформулируем ряд гипотез. Неразвитость или разрушение эмоциональных отношений с ближайшим семейным окружением может рассматриваться в качестве механизмов развития пограничной личностной структуры. Неразвитость этих отношений лежит в основе психопатического варианта аномалии, в то время как их нарушение — в основе невротического варианта. Оба типа аномалий, несмотря на ряд феноменологических различий, имеют в качестве общего радикала искажение самооценки и нарушение межличностных отношений. Однако механизм их формирования различен. Неразвитость отношений привязанности между матерью и ребенком в дальнейшем преобразуется в стабильное отвержение ребенком собственного "Я", что в свою очередь приводит к глобальному отвержению мира социальных отношений. Такому человеку недоступно чувство любви, общности и единения с другими людьми, так же, как и другим не дано пробиться к его душе. Дефицит позитивных эмоциональных связей в семье затрудняет идентификацию с родителями, а это вынуждает ребенка искать образцы для сопереживания и подражания вне семьи. Поскольку у ребенка отсутствует эмоционально маркированный образ "хорошего", то нередко его товарищами становятся лица с антисоциальным поведением. Ребенок, часто (и нередко по непонятным для него причинам) разлучаемый с родителем, к которому он более всего привязан, или внезапно лишающийся его любви, бессознательно начинает ощущать, что его любят за "что-то" и что он в любую минуту может потерять расположение близкого человека. Эта ситуация "условного приятия" (К.Роджерс) рождает, с одной стороны, неуверенность в ценности собственного Я (низкое самоуважение, иногда доходящее до самоуничижения), с другой — постоянное стремление заслужить любовь другого человека, всеми силами удержать ее, т.е. зависимость от объекта привязанности. Кроме того, чувство небезопасности, отсутствие доверия к себе, возникшие уже в раннем детстве, в межличностных отношениях оборачиваются враждебностью и подозрительностью к другим вплоть до развития параноида. Согласно нашим исследованиям и психотерапевтической практике оба паттерна отношений могут развиваться как индивидуальные вариации в рамках пограничной личностной структуры. I.3.1 Изучение особенностей подростковой самооценки в семьях с патогенными родительскими установками и нарушением общения (по данным диагностических обследований и психотерапии) Задачей первого излагаемого ниже исследования было эмпирическое изучение типов и особенностей формирования самооценки детей-подростков (12-15 лет) в семьях с дисгармоничной структурой общения. В задачи второго исследования входил анализ структуры самоотношения родителей, испытывающих трудности в воспитании детей. Третий цикл исследований направлен на экспериментальный анализ связи самоотношения (в форме внутреннего диалога) и общения. Всего в исследовании приняло участие 353 человека, со 178 из них была проведена психодиагностическая и психокоррекционная работа. Контрольную группу составили 100 семей (175 человек), не обращающихся за психологической помощью и оценивающих свои семейные отношения как удовлетворительные. Психодиагностическая программа включала обследование с помощью следующих методик: MMPI, цветового теста Люшера, варианта личностного семантического дифференциала, проективной модификации методики самооценки со свободными шкалами (вариант Е.Т.Соколовой), модифицированного варианта методики управляемой проекции-МУП, индивидуального и совместного теста Роршаха, проективных методик "Рисунок человека" и "Моя семья", проективного сочинения "Мой ребенок". Подростковый кризис знаменует собой второе психологическое рождение ребенка, повторяя, оживляя мотивационный конфликт принадлежности — автономии. Вновь, как и в раннем детстве, на одну чашу весов кладется сохранение привязанности и семейного "мы", а на другую — утверждение уникальной самоидентичности. Родители же (мать — в первую очередь) вновь должны выбирать между эгоистическим удержанием ребенка в качестве объекта симбиотической привязанности (но тем самым фрустрации его базовых потребностей) и сбалансированной установкой на поощрение естественного "отделения" с сохранением эмоциональной связи с ним. Подростком этот конфликт переживается как страх потери Я, как дилемма: быть собой со своим особым и отдельным душевным миром и индивидуальными способностями и быть вместе — с теми, кто дорог и ценим. Тринадцатилетняя Аня в отчаянье признается: "Моя мама считает, что я — ее собственность, что даже моя кожа принадлежит ей, потому что она меня родила". Сходную феноменологию переживаний описывает А.И.Захаров, считая, что страх потери социального одобрения, страх "быть не тем" и страх "не быть", не состояться составляет суть невротического конфликта и встречается у детей (и первично у их родителей) со всеми клиническими формами невроза. Ареной борьбы этих противоречивых тенденций становится формирующееся самоотношение подростка. Известный феномен эмансипации подростковой самооценки от оценок значимых других со стороны своей внутренней динамики предстает как "внутренний диалог" родительской оценки и формирующейся самоидентичности подростка. Этот процесс не лишен противоречий и конфликтов, проникновения чужого (родительского) "голоса", вытесняющего на первых порах "голос" ребенка, и собственных, не всегда успешных усилий ребенка отстоять право быть собой, стать точкой отсчета для своего Я. Целью первого исследования являлось изучение закономерностей формирования самооценки подростка в зависимости от оценки его родителями. Объектом недовольства и беспокойства родителей, как правило, являлись: 1) поведение ребенка дома или в школе — неуправляем, "не желает подчиняться школьным требованиям", "невозможно заставить вымыть за собой чашку"; 2) черты характера, которые расценивались с моральной точки зрения как неприемлемые: "на первом месте стоят удовольствия и деньги", "с охотой выполняет только то, что хочет, а не то, что трудно или надо"; 3) особенности общения со сверстниками, в которых усматривалось проявление психической патологии — "сын патологически скован, зажат, трудности в общении со сверстниками"; 4) негативные черты характера, приобретенные наследственно- "астенизированный, взбудораженный, как я", "у сына агрессивность, взрывчатость, возможно, это наследственное, так как ребенок приемный"; 5) собственное отношение к ребенку — "ежедневная жизнь с ним для меня пытка", "у меня потеря контакта с ним, а для меня это — смерть". С помощью варианта методики личностного семантического дифференциала, построенного на базе шкал, максимально связанных с факторами "оценки" и "силы", диагностировалась актуальная самооценка, идеальная самооценка и ожидаемая родительская оценка. Использовался также модифицированный вариант методики самооценки со свободными ("проективными") шкалами. На основании качественного анализа всего массива эмпирических данных выделены следующие типы самоотношения подростка. 1. "Эхо самооценка" ребенка является прямым воспроизведением оценки матери. Дети в ответ на инструкцию "Представь, как бы тебя описали твои родители" говорили: "А я и так уже описал себя, как меня мама оценивает" или "Я то же самое думаю, что мои родители". Происходит "оборачивание" в сознании принятия точки зрения на себя родителей: "Мои родители меня оценивают так же, как и я сам". Самоописание по свободным шкалам перемежается замечаниями типа: "Как мне говорят дома, я...", "Мне мама каждый день говорит, что я эгоистичная" и т.п. Дети отмечают в себе прежде всего те качества, которые подчеркиваются родителями. Если внушается негативный образ и ребенок полностью принимает эту точку зрения, у него формируется устойчивое негативное отношение к себе с преобладанием чувства неполноценности и самонеприятия. Для сензитивно зависимого ребенка с узким диапазоном социальных контактов вне семьи родительские оценки становятся единственными внутренними самооценками в силу авторитетности и значимости родителей, тесной эмоциональной связи с ними. Неблагоприятность "эхо-самооценки" (пусть даже и в позитивном ее варианте) заключена в опасности фиксации крайней зависимости самоотношения от прямой оценки значимых Других, что препятствует выработке собственных внутренних критериев, обеспечивающих стабильность позитивного отношения к самому себе несмотря на ситуативные колебания уровня самооценки. 2. Смешанная самооценка, в которой сосуществуют противоречивые (а порой взаимоисключающие) компоненты: один — это формирующийся у подростка образ Я в связи с успешным опытом социального взаимодействия, расширением навыков и умений и т.п., а второй — отголосок родительского видения ребенка. Например, подросток оценивает себя как общительного, доброго, привлекательного для окружающих, сильного, спортивного, демонстрируя формирующийся у него образ себя как "хорошего, сильного, успешного". И одновременно повторяя оценки родителей, он называет противоположные качества, с которыми безуспешно ведет борьбу, испытывая чувство вины: "нечуткий", "грубый", "ленивый", "безвольный", "изнеженный" и т.п., показывая тем самым, что одновременно у него существует образ себя как "плохого, слабого, никчемного, ни на что не способного". Образ Я оказывается очень противоречивым, создаются препятствия на пути развития целостного и интегрированного самосознания. Тем не менее, ребенку удается до некоторой степени разрешить конфликт: успешность взаимодействия вне семьи позволяет ему испытывать необходимое чувство самоуважения, а принимая родительские требования и разделяя их ценности, он сохраняет аутосимпатию и чувство близости с родителями. 3. Подросток воспроизводит точку зрения родителей на себя, но дает ей другую оценку. Например, называя в качестве своей отрицательной черты "упрямство" (что является отражением домашних конфликтов, когда мама не может добиться от него послушания), подросток в качестве противоположного полюса шкалы называет "бесхарактерность", получая, таким образом, шкалу самооценки с двумя отрицательными полюсами. Поскольку для подростка этого возраста по-прежнему важны одобрение и поддержка взрослых, то ради сохранения чувства "мы" им воспроизводится негативная оценка своего "упрямого" поведения. Но одновременно послушание означает для него отказ от реализации потребностей в автономии и самоконтроле, утрату собственного Я. Поэтому в сознании подростка любое изменение своего поведения в сторону большей кооперативности и покладистости грозит обернуться "бесхарактерностью". Фрустрация потребности в самостоятельности и независимости приводит к формированию в его самосознании конфликтного противоречия, стороны которого, обладая равной значимостью для личности, оказываются совершенно несовместимыми. Переживание этого конфликта как невозможности отвечать требованиям матери и сохранить свое Я приводит к тому, что подросток начинает оценивать себя как "плохого", но "сильного". 4. Подросток ведет активную борьбу против мнений и оценок родителей, но при этом оценивает себя в рамках той же системы ценностей и с позиций тех же требований, что и родители. Так, если родители оценивают его как недоброго, нечуткого, незаботливого, безвольного, ленивого, бессовестного, а хотят, чтобы он обладал противоположными качествами, то ребенок в самооценке приписывает себе все те качества, в которых родители ему отказывают, т.е. воспроизводит в самооценке не реальную оценку родителей, а их идеализированные и нереалистические ожидания. 5. Подросток воспроизводит в самооценке негативное мнение родителей о себе, но при этом подчеркивает, что таким он и хочет быть, отвергая родительские требования и ценности. Это отвержение приводит к очень напряженным, аффективно заряженным отношениям в семье, взаимным обидам и отсутствию чувства общности. Учителя квалифицируют таких подростков как "трудных", "конфликтных". У этих подростков нарушается идентификация и эмоциональная маркировка "хорошего" и "плохого". Конфликт в структуре ценностей носит характер спутанности ценностных ориентаций, который можно было бы обозначить как "желание быть сильным и плохим". Привлекательными для них являются негативные, социально неодобряемые качества. 6. Подросток как бы не замечает той негативной оценки и образа, который существует у родителей. Ожидаемая оценка значительно выше самооценки, хотя реальная родительская оценка является негативной. Этот вариант можно назвать защитным. Игнорируя реальное эмоциональное отвержение со стороны родителей, ребенок трансформирует в самосознании родительское отношение так, как если бы он был любим и ценим. "Авансированная" поддержка значимых Других позволяет "подпитать" и утвердить позитивное самоотношение вопреки реальности, через ее защитное искажение в самосознании (Соколова Е.Т., Чеснова И.Г., 1986). Выделенные типы самооценок позволяют методом "среза" не только проследить актуалгенез самоидентичности, но и реконструировать его этапы. Рассмотренные индивидуальные вариации самоотношения вскрывают трудности его становления, позволяют увидеть его наиболее неблагоприятные, "рисковые" в отношении аномального развития, особенности. Так, эхо-самооценка является прямой трансляцией, навязыванием родительского образа Я ребенка — ребенок пассивно-зависимо интериоризует любую родительскую оценку (аутоинфантилизация или аутоинвалидация). В нашей консультативной практике встречались случаи, когда в проективных шкалах самооценивания дети воспроизводят качества и оценку себя по ним в соответствии с сюжетом домашних конфликтов: оценивают себя как "капризных", "безвольных", "ленивых" и т.п. Очевидно, что такая самооценка, являясь линейной зависимостью от отношения значимых Других, не выполняет функции защиты и стабилизации позитивного самоотношения. Оценка себя как "плохого" и "сильного" отражает зачатки описанного ранее невротического конфликта, чреватого дезинтеграцией самосознания, его расщеплением и расколом. Самооценки четвертого и пятого типов соответственно указывают на пути формирования "ложного Я" (через отождествление себя с "делегированной" оценкой родителя) и "отверженного Я", сохраняющего самоидентичность ценой отказа от эмоциональных привязанностей. Последовательность выделенных типов самооценки можно рассматривать как отражение в продуктах онтогенеза некоторых этапов развития самосознания. При таком подходе "эхосамооценке" будет соответствовать стадия "первичного симбиоза", слияния Я и не-Я, полного совпадения оценок значимого Другого и самооценок; смешанная самооценка отражает стадию "синкрета", проникновения (в силу слабости "границ Я") чужих оценок в слабо оформленное еще Я; в третьем типе самооценки можно заметить следы первичной конфронтации и дихотомиза-ции двух образовавшихся структур, в последующих этапах самооценки мы видим возможные варианты разрешения конфликтов становления самоидентичности. Известная ограниченность данных не позволяет исчерпывающе судить о всех условиях и механизмах трансформации "нормальных" стадий в аномальные варианты личностного развития. Вместе с тем, косвенное участие нарушений родительской самооценки и неадекватных родительских установок мы можем предположить. Исследование неадекватного родительского самоотношения Во втором цикле исследований ставилась задача эмпирического изучения структуры самоотношения родителей (мам), испытывающих серьезные трудности во взаимоотношениях с детьми подростками (Соколова Е.Т., 1989, 1991). В исследовании участвовало 37 клиенток семейной психологической консультации в возрасте от 23 до 40 лет, обследованных по стандартной программе: MMPI, модифицированный нами вариант методики управляемой проекции В.В.Столина — МУП, сочинение "Мой ребенок", тест Люшера, Совместный тест Роршаха — СТР. По данным МУП, выявилось два наиболее типичных варианта защитного самоотношения. Для первого из них хаактерно переживание себя в модусе Зависимого Я, как неуверенного, беспомощного перед лицом жизненных трудностей родителя, но "безмерно любящего своего ребенка": "излишне опекает ребенка, тревожится за его здоровье, за его будущее, старается все делать за него... возможно, не всегда правильно поступает по отношению к ребенку, но ведь это единственное, что у нее есть в жизни...". Воспитательная неуспешность Я оправдывается ссылками на мягкость характера, неуверенность в педагогических знаниях, субъективно компенсируется искренним стремлением "своим примером научить ребенка быть честным и доброжелательным человеком". Позиция более эффективного не-Я критикуется и отвергается как позиция "холодного", "безразличного к душевным запросам ребенка", "чрезмерно деспотичного, делающего ребенка вялым и безынициативным". Защитная структура самоотношения здесь очевидна — благодаря тактике "самоприукрашивания" и вытеснения качеств Я, ответственных за самонеэффективность; также обесценивая критикующую позицию не-Я, удается сохранить позитивное, субъективно-выгодное самоотношение вопреки реальному опыту неудачного семейного общения. Для второго типа самоотношения характерна противоположная смысловая позиция: Я приписываются качества "идеальной матери", "дающей ребенку абсолютно все — всесторонние знания, развитие привычки к спорту", она может дать ему "безукоризненное воспитание". Важно отметить, что клиентки отмечают у себя ряд качеств, явно не облегчающих общение с ребенком, например, несдержанность, педантичность, но субъективно они воспринимаются как достоинства: "мать знает, что принесет пользу ребенку , "в будущем он будет благодарен ей", она всю душу в него вкладывает". Позиция эмоционального, но педагогически неграмотного не-Я подвергается жестокой критике прежде всего путем противопоставления заботящегося о благе ребенка "Я" и "стремящегося только к внешнему благополучию" не-Я. Очевидно, что здесь мы имеем дело с уже описанным ранее стилем защитного самоотношения через привлечение рациональных аргументов в свою пользу (Соколова Е.Т., 1989, 1991). Анализируя более широкий контекст диагностических данных (третья экспериментальная серия), можно обнаружить, что структура родительского самоотношения сопоставима с практикуемым стилем межличностного общения с ребенком. Самоотношение и общение Постановка этой специальной исследовательской задачи Продиктована тем, что априорно нам не задано "правило" соотношения двух типов диалога — внутреннего, развивающегося в структуре самоотношения, и внешнего, реализуемого посредством тех или иных стилей общения. Основная гипотеза этой серии исследования заключается в предположении о проекции в стиле общения базового мотивационного конфликта привязанности-автономии, иными словами, предполагается, что обнаруженные у мам-пациенток психологической консультации защитные стили самоотношения проективно проявятся в стиле межличностного общения. Более специально нас интересовало соотношение внутреннего и внешнего диалога, когда в силу глубоких и не вполне осознаваемых личностных конфликтов непосредственный перевод внутреннего диалога во внешний невозможен, и аффективно-насыщенные структуры потребностей и конфликтов по известному механизму "незавершенных действий" завершаются (воплощаются) в структурах внешневыраженного диалога. Согласно одной из теоретических моделей проекции (Соколова Е.Т., 1980), структура внутреннего диалога должна повторяться во внешнем (симилятивная проекция), либо находиться с ним в отношениях дополнительности. В целях проверки этой гипотезы в качестве экспериментальных процедур использовались Совместный тест Роршаха — СТР, ориентированный на выявление неосознаваемых эмоциональных установок партнеров друг к другу (Соколова Е.Т., 1985, 1987, 1989) и вариант методики управляемой проекции (МУП) для диагностики самоотношения. В определенном смысле, поиск консенсуса — совместного видения перцептивных образов в неопределенных чернильных пятнах, сопоставим с реальным процессом родительского воздействия на сознание ребенка в онтогенезе, в процессе совместного построения картины мира и образа Я ребенка. Если процесс коммуникации ясен, "чист", ребенком усваивается непротиворечивая картина мира и способы поведения в нем, "Запутанные" в силу наличия конфликтов Я коммуникации становятся (или во всяком случае рискуют стать) искажающей матрицей эмоционального опыта общения и формирующегося самосознания ребенка. Процедура СТР позволяет "обернуть" этот процесс и увидеть сквозь сложившиеся структуры внешнего диалога стоящие за ними и вплетенные в них структуры "внутреннего диалога" самоотношения (Соколова Е.Т., 1991). Диагностические обследования пациентов обращающихся за психологической помощью, а также данные, получаемые в ходе психотерапии, показывают, что наиболее часто встречающаяся причина детско-родительских конфликтов связана с родительским переживанием утраты близости с ребенком и безуспешными попытками воспитать его строго в соответствии с родительским замыслом. Жалоба родителя в этих случаях в общем виде выглядит так: "Беспокоит отчуждение ребенка, потеря взаимопонимания". Особого внимания при этом заслуживают следующие высказывания: "Очень хочется, чтобы делился со мной как со своим хорошим другом". Как было показано ранее, в самопознании наших пациенток воспитание по типу гиперопеки оправдывается "всепоглощающей материнской любовью" к ребенку, в то время как менее эмоциональная, но более эффективная родительская позиция ассоциируется с безразличием и эмоциональной холодностью. Достаточно очевидно также, что в основе гиперопеки лежат тревожность и неотреагированный страх одиночества как следствие фрустрированной потребности в симбиотической привязанности к ребенку. Зависимое Я, отстаивая преимущества воспитания по типу гиперопеки, защищает таким способом позитивное самоотношение, не допуская осознания собственного эмоционального голода и стремления "поглотить" Другого в симбиотической близости с ним. Посмотрим, как звучит голос Зависимого Я во внешневыраженном диалоге в СТР. Таблица II теста Роршаха Интерпретация: Мать: Вот, что-то есть, что-то, какая-то... у меня даже ничего конкретного не возникло, а именно то, что вот это что-то неприятное, ну, какое-то знаешь, вот, остатки человека, чтоли, или чего-то такого, знаешь... Пытается втянуть сына в собственный мир "сюрреализма" и "безумия", пытается разделить с ним свои страхи и таким образом освободиться от них. Сын: Нет! Этого мне не показалось: реактивный двигатель или космический корабль! Это мир, в который сын при всем желании близости войти не хочет из-за боязни потерять свое Я. Мать: Корабль — это что-то определенное! Не знаю, если к чему-то общему прийти, у меня, например, очень неприятное впечатление от этой картинки. У тебя тоже? Отвергает общность, построенную на более реалистической и рациональной основе, диссонирующей с ее собственным эмоциональным состоянием. Сын: Да. Приходится сдаться, чтобы остаться вместе. Мать: Ну, в общем давай сходиться на том, что это не совсем приятное ощущение. Игнорируя эмоциональное состояние сына, насильственно вовлекает его в совместные негативные переживания. В приведенном в качестве иллюстрации случае пациентка, реализуя в жизни свою инфантильную позицию эгоцентрической привязанности к сыну-подростку, лишает его тем самым необходимой эмоциональной поддержки в его попытках обрести самостоятельность и уверенность в себе. "Выбирая" совместность, сын теряет возможность уважать себя, отстаивая свою независимость, чувствует себя дурным сыном, "предающим" слабую и любящую мать. Принципиальная неразрешимость подобной дилеммы самосознания, как уже неоднократно подчеркивалось, обрекает ребенка на мучительные переживания подрывающие веру в стабильность и определенность его Я. Грубая неадекватность и патогенность симилятивного стиля общения (со стороны матери) достаточно очевидна и свидетельствует о явном нарушении механизмов эмоционального контроля. Следует отметить, что среди психически здоровых лиц, бывших пациентами семейной психологической консультации, подобный стиль общения встречался крайне редко. Обычно столь насильственные и прямолинейные попытки родителя воплотить в реальном поведении свою позицию внутреннего диалога наталкиваются на здоровую протестную реакцию подростка, что побуждает обоих прибегать к более изощренным тактикам и маневрам. В частности, именно так обстоит дело, когда звучащая во внутреннем диалоге материнская потребность "быть питаемой", голос зависимого ослабленного Я во внешнем диалоге трансформируется в позицию "быть питающей". Стремящийся к утверждению своей самостоятельности, подросток получает вполне обоснованную возможность отказаться от материнской "манной каши" и своим неподчинением ("соперничеством" или "доминированием" в Совместном тексте Роршаха) взять на себя таким образом роль критикующего Я, показывая матери, что "гиперопека" абсолютно не эффективна. Со своей стороны, родитель, предоставляя ребенку право голоса, например, соглашаясь с его интерпретацией пятен Роршаха и принимая их в качестве совместных, на самом деле может вовсе не стремиться "услышать" ребенка. Уступка ребенку продиктована здесь уступкой Ригористическому и Обвиняющему Я своего внутреннего диалога ("Гиперопека — плохо!"), требующему поступить как положено "идеальной матери". В пользу подобной интерпретации свидетельствуют данные СТР. Например, в случае полного доминирования ребенка (когда по всем таблицам Роршаха в качестве совместного принимался именно его ответ) вынужденное согласие матери лексически могло быть оформлено так: "Придется мне тебе уступить!". В случае полного подчинения сыну (поступив "как надо"), мать затем приписала на бланке все те свои ответы, которые не были приняты как совместные (поступила "как хочется" — "реванш" со стороны Детского Я). Голос Грандиозного Я во внутреннем диалоге проявляется гиперсоциальности, морализаторстве, диагностируемым на основании жалобы, текстов сочинения "Мой ребенок" и управляемой проекции, например: "Стремится иметь "удобного ребенка", "требовательна к ребенку, желая подвести его под определение "стандарты". Хочет, чтобы ребенок был таким, каким нужно быть, имеет желание видеть своего ребенка идеальным", "переделать его", "не могла и не могу смириться с тем, что дочь вырастает бездуховным человеком". В то же время внешний диалог в Совместном Роршахе позволяет зазвучать и быть услышанной другой позиции Я. Демонстративным является следующий пример обсуждения таблицы Роршаха матерью и 16-летней дочерью. Таблица II Мать: Где медведи тогда? Дочь: Ну, вот же стоят! Мать: Где головы? Дочь: Вот (показывает). Лапами, лапами, лапами! (раздраженно). Мать: А где же головы? Дочь: Вот (снова показывает на то же место). Ну, мам, тебе все надо, прям!!! Мать: Я должна, если ты видишь медведей, понять, где, если я действительно вижу! (почти плача). Голос Зависимого Я, подавленный в самосознании, прорывается во внешнем диалоге под маской Грандиозного Я, с позиции "долженствования", стремящегося навязать Другому свое ценностное видение мира, в преодолении глубинной неуверенности хватающегося за "объективную реальность", навязчиво пытаясь найти самоподтверждение в "рациональной аргументации". Проведенный анализ стилей детско-родительского общения в дисгармоничных семьях позволил установить некоторые Механизмы воздействия родительского отношения на самооценку ребенка. Выделены два обобщенных стиля общения, один из которых способствует формированию позитивного самоотношения подростка, другой — препятствует. При симметричном стиле общения арсенал средств общения, используемый родителями, направлен на поддержку инициативы подростка, его Уверенности в себе и чувства принадлежности к семейному мы". Создаются условия смены точки отсчета в отношении Я, формируется система собственных критериев самооценивания, Развитие идет в направлении независимости, отстройки от оценок значимых других. Самоотношение становится менее хрупким, более стабильным, способным выполнять функцию защиты Я. При "асимметричном" стиле (преобладающем у пациентов психологической консультации) посредством "маневров" и "ловушек" ребенку буквально насильственно навязывается представление о себе как о слабом, неумелом неспособном самостоятельно мыслить и действовать. В рамках выделенных коммуникативных стратегий используются защитные приемы и тактики, запутывающие ясное непротиворечивое и самостоятельное видение ребенком своих возможностей и оценку своего Я. Оживляется, обостряется конфликт между потребностью ребенка видеть себя самоэффективным, достойным родительского уважения — и стремлением сохранить их привязанность и принадлежность к семейной общности. В самосознании ребенка он принимает форму конфронтации Я-любимого, но слабого и Я-плохого, но уверенного в себе. Следует отметить, что ребенок не только пассивно интериоризует конфликтное родительское отношение, но и активно борется за "выживание", поддержку и сохранение самоуважения. Выделено несколько ответных тактик, развиваемых ребенком против родительского насилия: так, в ответ на родительское доминирование ребенок отвечает сопротивлением, открытой или скрытой борьбой за лидерство, вплоть до использования таких же приемов, которые использовали родители по отношению к нему. Другая тактика — отказ от борьбы, утаивание своей позиции, принятие на себя роли потерпевшего, жертвы. И наконец, третья тактика состоит в противопоставлениях "жестко-отклоняющему" родительскому поведению собственного "защитного", приглашающего к сотрудничеству. Одним из факторов, детерминирующих родительское отношение к подростку, оказался особый тип внутренней структуры родительского самоотношения. Выявленные типы внутреннего диалога Я и не-Я в целом аналогичны выявленным в группе невротических и депрессивных пациентов, хотя и менее гротескны. Их также отличает непримиримость Я и не-Я, полное отсутствие диалога как открытого уважения к иной смысловой позиции самосознания. Интрапсихические защиты, такие как жесткая дихотомия, расщепление целостной Я-концепции с последующими тактиками "самоприукрашивания", "слепых пятен", аутоинфантилизации с одновременной дискредитацией не-Я, позволяют сохранить и даже "законсервировать" позитивную установку в адрес Я. Мотивационный конфликт между потребностью в симбиотическом контакте и потребностью в реализации себя как эффективного родителя разрешается путем динамичной смены позиций во внутреннем и внешнем диалоге. Так, если во внутреннем диалоге родитель занимает позицию Зависимого Я, во внешнем диалоге он стремится занять и охранить позицию Доминирующего или Критикующего Родителя. Напротив, если во внутреннем диалоге побеждает Грандиозное Я, обычно морализующее (защита по типу поиска рациональных аргументов в свою пользу с жесткими гиперсоциальными установками), во внешнем диалоге ему приходится сдавать, пусть временно, позиции доминирования. Целостный паттерн внутренних и внешних действий, реализуемых в форме диалогов в структуре самосознания и общения, выполняет защитные функции, устраняя из сознания те аспекты опыта, которые угрожают сложившемуся субъективно-комфортному образу Я и самоотношению, подкрепляя последние в ущерб реалистическому видению Другого и образу Я. I.3.3. Особенности мотивационно-потребностной сферы (по результатам проективных методов) Реализация личностного подхода к изучению самосознания требует определения релевантного круга переменных, выступающих в роли личностных факторов. В данном исследовании в качестве таковых выделена структура потребностей и мотивов общения. Теоретически их вклад в формирование самосознания представляется достаточно очевидным, вследствие чего обоснована и постановка частных экспериментальных задач. Заметим, что потребности и мотивы рассматриваются в качестве личностных факторов также и по той причине, что в жизни невротика они нередко становятся преградами, препятствующими адаптации и развитию его личности и приобретающими для него конфликтный личностный смысл. Это в свою очередь способствует формированию искаженного образа Я и самоотношения личности и детерминирует манипулятивный стиль межличностного общения. Выбор в качестве отправной точки исследования структуры потребностей имплицитно подразумевает допущение об интрапсихической глубинной природе личностных конфликтов. Это допущение, довольно условное ввиду "круговой причинности", обуславливающей широкий спектр пограничных расстройств, акцентирует ведущую роль фрустрации так называемых базовых потребностей в генезе конфликта. Потребности любого уровня (организмического, индивидного или личностного) осуществляют постоянную живую связь человека с миром объектов и других людей, потребности "открывают" человеку мир и мир открывается человеку, поскольку человек нуждается в нем. Потребности заставляют человека вступать в активные, деятельностные отношения с социальным окружением, благодаря чему социальное окружение становится Небезразличным для человека. "Знаешь, чем хороши пустыни?" — спрашивал Маленький принц Летчика и отвечал: "Где-то там есть источник". Иными свойствами обладают т.н. невротические потребности. Фундамент пограничной личности построен из столь противоречивых по своему содержанию потребностей, что даже если бы оказалось возможным их удовлетворение (чего не происходит), все равно это не привело бы к чувству самореализо-ванности, ощущению счастья и гармонии с окружающим миром и самим собой. Известно, что хроническая фрустрация базовых потребностей — потребностей в единении с другими людьми, в любви, безопасности, признании самоценности — ведет к психическим болезням, асоциальному поведению, суицидам. "Невротики, — замечает И.Е.Вольперт, — это люди, которые, можно сказать, болеют из-за недостатка любви" (Вольперт И.Е., 1972). Будучи вытесненной из сознания, аффилятивная потребность ярко проявляется в сновидениях, фантазиях пациентов, а также в содержании рассказов при диагностике методом ТАТ. Ниже даются выдержки из протоколов больной С. "У этого человека был когда-то друг, очень-очень близкий. Друг умер. Человек пришел к нему на кладбище. Могильные плиты и кресты обступили его со всех сторон. Он весь в воспоминаниях о друге, он как сама скорбь. Такое впечатление, что в той жизни, там где он живет, все так же для него одинаково, как эти кресты и плиты на кладбище... Я вижу, что здесь жили разные люди — хорошие и добрые, злые. А теперь над каждым из них стоят похожие плиты и кресты. Так и для этого человека все люди стали похожи, как эти плиты и кресты... Мне кажется, что это большой город и небоскребы и человек среди них — и тесно ему, и скучно, и безотрадно. Такое впечатление, что он что-то делает на земле, а это не приносит ему радости. Ну, например, строит дома, а потом ему тесно среди этих домов..." (XV таблица). Смысл этого фрагмента довольно прозрачен: больная остро ощущает потерю эмоциональных контактов с людьми, свое отчуждение от них и от всего мира в целом. Желание единения с людьми, с природой, поиск ощущений, воссоздающих (пусть иллюзорно) близость всего и всех на земле, переданы в рассказе пациентки на XVI (пустую) таблицу: "Дорога, по ней телеги, запряженные лошадьми. Люди в пестром идут... Шум, гам — передвигается цыганский табор... Вот остановились возле какого-то местечка. Цыгане рассаживаются в кружок на площади, начинают гадать. Чуть поодаль старый цыган устраивает представление для малышей. Он водит на цепи медведя, медведь выделывает разные веселые штуки, ребятишки очень радуются. Потом медведь берет шапку и обходит зрителей, они бросают в шапку деньги, кто сколько может. Вечером цыгане соберутся у себя в таборе, будут варить вкусный ужин, цыгане будут кричать, шлепать детей, переругиваться... потом будут петь... потом все замолчит". К.Хорни на основе эмпирического анализа собственной психотерапевтической практики описала десять "невротических" потребностей. Их "аномальность" заключена как в их содержательной противоречивости, так и в формальных характеристиках структуры и способов реализации: навязчивой компульсивности, абсолютизированности, низкой степени осознанности и подконтрольности, а также присущей всей системе невротических потребностей принципиальной ненасыщаемости (разрядка наша — Е.С.). Не перечисляя все десять потребностей, отметим лишь некоторые из них: потребность в любви и одобрении; особенностью реализации этой потребности невротиком является ее "всеядность" — желание быть любимым всеми и каждым, а в сущности полное безразличие к партнеру, рассматриваемому как "вещь" или "товар" (Э.Фромм, 1986); потребность в поддержке, стремление иметь сильного и опекающего партнера, который избавит от страха покинутости и одиночества. Невротик никогда не уверен, что его действительно любят, и всегда стремится "заработать" любовь, как в детстве послушный ребенок примерным поведением стремится заслужить родительскую похвалу. Отсюда повышенная зависимость от объекта любви и превентивное "бегство" в независимость; потребность властвования, доминирования, лидерства может распространяться на все сферы жизни независимо от того, обладает ли человек достаточной компетентностью для достижения первенства. Отсюда сосуществование противоположных тенденций: постоянного стремления "все выше, и выше, и выше..." и чувства неуверенности в себе, желание властвовать, но при этом отказ от принятия на себя ответственности за бремя власти; потребность в публичном восхищении, признании, которые становятся мерилами самоценности. Как легко заметить, удовлетворение любой из выделенных потребностей влечет за собой фрустрацию других — в этом содержательная противоречивость структуры невротических потребностей. Так, например, чтобы удовлетворить потребность во всеобщей любви и одобрении, необходимо отказаться от лидерства и доминирования; чтобы нравиться всем, также следует отказаться от честолюбивых замыслов. Противоречивость стремлений не осознается, как не вполне осознаются и сами потребности. Не будучи осознанными, они тем не менее определяют внутреннюю динамику душевной жизни, но как чуждые и навязанные ему силы, контролировать которые он не может. Но, осознавая себя "хозяином" своих чувств и желаний, невротик не верит в собственные силы, в возможность самостоятельного изменения своей жизни. Здесь через систему потребностей как бы просвечивает центральный радикал личностной структуры — сверхзависимость. Экспериментальные исследования подтверждают преобладание у невротиков "внешнего локуса контроля", "полезависи-мости", а также феноменов "внешней мотивированности" во всех сферах жизни (Фарес Е., 1971). Это свидетельствует о том, что невротическая структура потребностей вставлена в целостный паттерн формально-стилистических особенностей личности. Невротики чрезвычайно зависимы от мнений и оценок значимых других, конформны в отношении общепринятых традиций и авторитетов (Виткин Г., 1965; 1974); повышенно тревожны и уязвимы в ситуации неуспеха, даже в случае успеха избирают стратегию низких или средних целей, так как успех приписывают не собственным способностям, а везению (Бек А., 1976; Бриссет М., 1973; Фарес Е., 1971). Неспособность влиять на ход событий делает таких людей легко подверженными депрессии (Биртчел Дж., 1984); Я-концепция характеризуется полярными качествами — ригидностью или нестабильностью образа Я, что результирует в низкий уровень самоуважения и самоприятия. Таким образом, не только система потребностей невротика оказывается неподконтрольной его Я, но и все стороны его жизненных отношений. Следует отметить еще две важные особенности невротических потребностей. Первая из них связана с общей направленностью личности невротика — его эгоцентризмом и "потребительской" ориентацией. "Если обладание составляет основу моего самосознания, ибо "я — это то, что я имею", то желание иметь должно привести к стремлению иметь все больше и больше", — пишет Э.Фромм. И далее: "...алчному всегда чего-то не хватает, он никогда не будет чувствовать полного "удовлетворения"... алчность... не имеет предела насыщения, поскольку утоление такой алчности не устраняет внутренней пустоты, скуки, одиночества и депрессии" (Фромм Э., 1986). Иными словами, потребности невротика не обладают устойчивой опредмеченностью, а следовательно, существуют скорее в форме навязчивого влечения, чем социально опосредованного зрелого мотива. Другая особенность потребностей (открывающаяся, как правило, только в процессе психотерапии или проективного обследования) состоит в их удивительной способности к трансформации, защитной мимикрии. Угроза фрустрации, нежелательных социальных санкций или угроза сложившемуся образу Я порождает "реактивные образования" — потребности-"перевертыши". Так, фрустрированная потребность в любви может выступить в сознании в виде прямо противоположного чувства — враждебности, отвержения. В нашей практике молодая мама бессознательно испытавшая амбивалентные чувства к недавно ' родившемуся ребенку, при обследовании методикой ТАТ дала следующую интерпретацию таблицы 7 (GW): "Что это — младенец или кукла?.. Нет, это сиамская кошка — вот мордочка черная... Старшая женщина — няня или гувернантка. Она читает что-нибудь английское, сентиментальное, например Диккенса. Младшая ее не слушает, небрежно держит кошку... Девочка поссорилась с кем-нибудь и думает о том, как она несчастна... Это может продлиться очень долго, и разрешения нет". Для вскрытия неосознаваемых мотивов и смысла этого рассказа обратим сначала внимание на лексические особенности текста. Старшая женщина, обычно идентифицируемая с матерью, здесь названа последовательно няней, затем гувернанткой, что позволило пациентке выразить чувство отдаленности, отчужденности от своей матери (ведь няня не родная мать, а гувернантка — и вовсе чужой человек, как правило, иностранка, "чужестранка", и читает она что-то "не наше" а чужое — "английское"). Девочка, с которой идентифицируется пациентка, держит в руках не живое дитя, а "куклу" — этот феномен мы бы назвали девитализацией. Посредством перцептивного искажения пациентка вытесняет образ собственного ребенка, непроизвольно проявляя свое индифферентное отношение к нему, а затем в образе сиамской кошки (тоже "чужестранки", да еще и злобной) проецирует и более негативные чувства отвержения и агрессии. Анализ этих данных во время бесед с психологом помог связать воедино и осознать некоторые странные, на взгляд пациентки, ее поступки и переживания. Так, временами ею овладевало неудержимое желание бродяжничества — пациентка могла отсутствовать по нескольку дней, хотя ее ребенку было всего несколько месяцев. Временами она испытывала чувство острого одиночества, страха, неуверенности в себе. Могла быть беспричинно жестокой с ребенком, а затем плакала, подолгу возилась с ним, не позволяя матери даже появляться в комнате. Причины этих странностей лежали, по-видимому, в неразрешенном давнем конфликте пациентки с матерью, которой она никогда не могла простить холодности. Принятие новой для нее роли матери осложнялось грузом прошлых неизжитых обид и конфликтов с собственной матерью. Ребенок "помог" проявиться этим чувствам, став одновременно объектом бессознательного вымещения агрессии и одновременно средством компенсации у пациентки фрустированной потребности любить и быть любимой. Потребность в любви и дружеских связях в силу общей Незрелости и эгоцентризма личности невротика не может быть Удовлетворена иначе, как в форме симбиотической привязанности и зависимости от объекта любви. Эти чувства обычно сопровождаются сильной агрессией, если партнер сопротивляется Навязываемой ему роли. Применение теста Роршаха позволяет диагностировать у невротиков наличие конфликта между высоким уровнем напряженности потребности в тесной эмоциональной привязанности (аффилиации) и агрессии. На красные пятна таблиц II и III даются необработанные, плохо структурированные ответы: "следы на грязном кровавом месте", "что-то кровавое", "кровавый цвет", "кровавая рана". Агрессия может выражаться и в символической форме в терминах насилия, нападения, страдательности: "следы от помидора, который разбит" (II таблица, нижний красный фрагмент), "нож или кинжал, воткнутый во что-то кровавое" (VI таблица), "расщепленный пень" (IV таблица), "распластанная шкура убитого зверя" (VI таблица). Невротики в своих интерпретациях очень часто используют светотеневые характеристики пятен, что указывает прежде всего на высокую тревожность и дисфорию. Кроме того, светотеневая детерминанта имеет отношение к проекции аффилиативной потребности чаще всего в форме зависимости. Свето-теневые детерминанты указывают на степень зрелости и подконтрольности потребности в эмоциональной привязанности, а также позволяют судить о механизмах защиты при фрустрации этой потребности. У невротиков потребность в привязанности оказывается недостаточно социализированной и зрелой, тяготеет к зависимости, симбиотическому, телесному контакту. Об этом свидетельствуют ответы, опирающиеся преимущественно на детерминанту текстуры: "жидкая или плотная растительная ткань" (VI таблица), "лед и застывшие сосульки в пещере Снежной королевы", "хрустальная или ледяная ваза" (IV таблица), "шкура зверя с гладким блестящим мехом" (VI таблица), "фигура женщины без головы в прозрачном платье" (I таблица, центральный срединный фрагмент), "ковер мохнатый", "шкура животного с длинной шерстью" (VI таблица). Анализ ответов по содержанию позволяет выделить "теплые" и "холодные" интерпретации текстуры, что указывает на полярность эмоционального аккомпанемента аффилиативной потребности, в свою очередь свидетельствующего о том, в какой мере невротику удается удовлетворить потребность в симбиотической близости. Как правило, невротик не способен к адекватной регуляции своих побуждений и тяготеет либо к импульсивности, либо к так называемому сверхконтролю и дистанцированию от объекта любви; и в том, и в другом случае он мало ориентируется на позицию своего партнера по общению, недостаточно эмпатичен. При интерпретации светотени преобладают ответы с чистой или недостаточно оформленной текстурой; то же самое относится к двум другим детерминантам светотени — проекции на плоскость и перспективе (шифруется как с, cF, k, kF, К, KF). На основании данных теста Роршаха достаточно четко выделяются два стиля эмоционального реагирования. Для первого характерны содержательная бедность ответов, их немногочисленность (в пределах 15-20 по всем таблицам), почти полное отсутствие цветовых детерминант, преимущественная ориентация на форму пятна, малочисленность ответов с проекцией человеческих кинестезий, преобладание животных и неодушевленных кинестезий, страх агрессии и вытеснение внутреннего конфликта. Другой стиль эмоционального реагирования отличается рядом противоположных особенностей: высокой продуктивностью (свыше 50 ответов по сумме таблиц), повышенной эмоциональной реактивностью, что выражается в большом количестве цветовых ответов и ответов, опирающихся на все виды кинестезий, Общими для обоих стилей являются недостаточно эффективный внутренний и внешний контроль эмоций и побуждений (импульсивный или эгоцентрический), преобладание примитивных неосознаваемых потребностей и влечений над социально опредмеченными зрелыми мотивами, высокий уровень тревожности и конфликтности. Приведем в качестве иллюстрации полный протокол больной С, с диагнозом "ипохондрический невроз у истерической личности". № таблицы с указанием локализации ответа Ответы Шифровка 1 2 3 I целое пятно летучая мышь WFАР II целое пятно какая-то анатомия W F - Anat шок на красное III целое пятно тазовые кости W F - Anat шок на красное IV целое пятно раздавленный барсук W F - m(А) шок, девитализация V целое пятно что-то летающее, павлин (вид спереди), хвост опущен W FM FK А Р VI отказ шок на "мужскую таблицу" VII целое пятно очень увеличенные рога какого-то жука W F Ad VIII боковые розовые детали звери, какой-нибудь бычок DFАР IX верхняя розовая деталь средняя зеленая деталь центральная деталь атомный взрыв, розовый гриб водоросль скрипка D CF mF abstr взрыв D CF Pl DS F Obj X верхняя серая деталь срединная голубая деталь боковые детали ощущение анатомии череп таз голубые паучки цветовой шок D F Anat D F Anat D F АР Интерпретация тестовых данных прежде всего указывает наличие глубоких внутренних конфликтов, связанных с концентрацией на телесных переживаниях и вытесняемой агрессией. Эмоциональные переживания и реакции с трудом находят выход в открытом поведении (суженный тип переживания), но и в этом случае они отличаются эгоцентричностью. В структуре внутренних побуждений преобладают неосознаваемые и вытесняемые примитивные влечения агрессии и секса сознательный идеаторный контроль которых затруднен, психологическая защита осуществляется механизмами вытеснения и отрицания реальности. Наличие шоков на IV и VI ("мужские") таблицы с отсутствием популярного ответа женские головки" на VII таблицу может свидетельствовать о страхе гетеросексуальных отношений, неприятии или незрелости собственной психосексуальной аутоидентичности. На глубокую внутреннюю конфликтность указывает и разная направленность первичной и вторичной формул типа переживания. Попытки чисто рационального внеэмоционального отношения к Действительности (F > N) являются защитными, и при высокой аффективной насыщенности или неопределенности ситуации такие способы адаптации оказываются неэффективными (отказы, шоки снижение качества формы ответов). Возможно, вытесняемая тревога продуцируется общей неуверенностью в себе, неспособностью к глубокому эмпатическому контакту в межличностных отношениях (отсутствие Р и М), невозможностью находиться на уровне собственных притязаний (соотношение целостных ответов и человеческих кинестезий). Диагностическое заключение по тесту Роршаха с достаточной убедительностью свидетельствует о конверсионной природе ипохондрической симптоматики у данной больной. Иной паттерн личностных особенностей характерен для бессимптомного истерического невроза, во внутренней картине которого на первый план выступают тревожность, раздраженность, повышенная конфликтность в межличностных отношениях Обратимся к иллюстративному анализу протоколов теста Роршаха больной И. Обращает на себя внимание обилие страшных" пугающих образов-интерпретаций: драконы , Бармалей на троне", "сказочные чудовища из мультфильмов, "страшная морда человека собаки". Мир людей представляется больной непредсказуемым, полным опасностей, внушающим страх. Интересен защитный механизм, используемый больной, — это так называемая девитализация (Лузли-Устери М., 1965; Клопфер Б 1954; Соколова Е.Т., 1980). Объекты, внушающие страх, представляются не в виде реальных живых существ а фантастическими персонажами сказок, фильмов, а также изображенными на рисунках, карикатурах, в виде статуи. Естественно что взрослому человеку не пристало бояться страшных историй! Страх, пережитый в вымысле, теряет часть своей разрушительной силы наяву — это своего рода десенсибилизация страха, к которой бессознательно прибегает больная для уменьшения внутренней тревоги. При очень высокой эмоциональной реактивности и экстратензивности опыт эмоциональных контактов с людьми оказывается психотравмирующей жизненной сферой, что заставляет искусственно гасить, приглушать явные и яркие проявления эмоций и ведет к сниженному фону настроения. Поэтому образы видятся как бы в дымке, с далекого расстояния, окутанные облаками и темными тучами: "вид с самолета", "сквозь облака проглядывают островки реки" (VIII таблица); "густой дым", "горит город", "облака, в которых можно увидеть людей" (VII таблица). Эти ответы, детерминированные светотеневыми качествами чернильного пятна, заключают в себе еще один прием психологической защиты: дистанцирование (все это было где-то далеко, когда-то давно...). Базовый, симптомообразующий конфликт порождается фрустрацией потребности в тесной эмоциональной привязанности, которая у нашей пациентки проявляется в стремлении к тактильной, телесной близости, единственно приносящей чувство субъективного комфорта и защищенности. В то же время пациентка не ждет от окружающих ее людей ничего, кроме явного или замаскированного нападения, полна настороженности и ответной враждебности. Об этом свидетельствуют полярные содержания ответов, использующих детерминанту поверхности и текстуры: "это просто камни или глыбы льда" (X таблица) — "что-то круглое и мягкое" (VIII таблица); "похожее на отполированный медный столб" — "шкура какого-то пушистого животного" (VI таблица). Поверхность то видится мягкой, ласковой и теплой, к ней хочется прикоснуться и погладить, то колюче-острой или бесстрастно отполированной — страшно и холодно даже приблизиться. Особенностью невротического конфликта в данном случае является неспособность больной опознать и правильно вербализовать испытываемые ею амбивалентные чувства: стремление к людям и превентивную враждебность, отдаляющую ее от них; желание испытывать глубокие чувства от интимного общения и поверхность, робость собственной экспрессии. К тому же удовлетворяющими для пациентки являются только те отношения, в которых она может чувствовать себя совершенно защищенной, как ребенок любящими родителями. Постоянно повторяющиеся неудачные попытки реализовать инфантильный паттерн общения вновь воспроизводят внутренний конфликт "неотпавшей пуповины". Слабость внутреннего контроля (FM + m/М) означает незрелость всей потребностно-эмоциональной сферы личности, доминирование в ней неосознаваемых потребностей и влечений, что, естественно, порождает и высокий уровень субъективной тревожности. Слабость внешнего социально-нормативного контроля (С + CF>FC) появляется в импульсивности, даже вопреки требованиям объективной ситуации или принятым правилам поведения. Неумение предвидеть желания партнеров, эгоцентризм делают нашу пациентку весьма неудобной в общении и вопреки ее осознанным стремлениям приводят к бесконечно повторяющимся и однотипным конфликтам. I.4. Исследование феномена нестабильности самоотношения как симптомообразующего фактора при пограничных личностных расстройствах (экспериментальные данные) Стабильность самоотношения представляет собой одну из важнейших характеристик развитой зрелой личности (Ананьев Б.Г., Андрущенко Т.Ю., Бодалев А.А., Божович Л.И., Захарова А.В., Кон И.С, Лисина М.И., Мясищев В.Н., Прихожан А.И., Савонько Е.И., Сафин В.Ф., Соколова Е.Т., Столин В.В., Толстых Н.Н., Чеснокова И.И., Баумейстер Р., Каплан X., Купер-смит С, Роджерс К., Розенберг М., Секорд П., Сильверман А., Уайли Р., и другие). В отличие от частных самооценок, формирующихся в конкретных видах деятельности и осуществляющих саморегуляцию в зависимости от ее результатов, социокультурных эталонов самооценивания и с учетом текущего жизненного опыта, самоотношение защищает целостность, интегрированность. Я относительно независимо от партиальных удач или поражений. Итоговое самоуважение или мера самоприятия является более чем простой суммой частных самооценок и несводимо к ним; это целостный гештальт представлений человека о себе и "пристрастных" смысловых шкал, по которым производится самооценивание. Степень психологической дифференциации можно представить как измерение, один из полюсов которого означает высокую степень четкости (артикулированности ) и автономности подструктур Я-концепции (частных самооценок и Я-образов), их иерархизированность и относительную устойчивость, упорядоченность и сбалансированность их взаимодействия, а противоположный полюс — "размытость", нечеткость, "синкретизм", низкую специализацию, отсутствие иерархических связей и сбалансированных взаимодействий. На феноменологическом уровне большей диф-ференцированности соответствует большая осознанность и Подконтрольность аффективных переживаний и телесного опыта, Их опосредованность и представимость на языке значений и индивидуальных личностных смыслов. Психологическая недифференцированность и зависимость, согласно развиваемой нами концепции, составляют основное, системообразующее свойство "пограничного самосознания". Их следствием являются его три взаимосвязанные характеристики: 1) низкая степень расчлененности аффективной и когнитивной "образующих", ответственных за высокий уровень пристрастности образа Я и доступность его субъективным искажениям; 2) сверхзависимость от интерферирующих воздействий эмоционального отношения и оценок значимых других, стрессодоступность и уязвимость Я-концепции по отношению к эмоционально-травмирующему опыту; 3) "узость" и "уплощенность" системы индивидуальных значений, репрезентирующих образ Я (Соколова Е.Т., 1976, 1989, 1991; Соколова Е.Т., Федотова Е.О. 1982, 1987). Серии излагаемых в последующих главах исследований посвящены экспериментальному выявлению феноменов пограничного самосознания, имеющих своим источником недифференцированность Я-системы, а также изучению системных и генетических механизмов их формирования. Целью первой серии экспериментов являлось исследование нестабильности самоотношения. В эксперименте приняло участие 153 человека — 65 здоровых испытуемых и 88 больных неврозами с диагнозом: невротическое развитие по истерическому типу (29 человек), неврастения (30 человек), невроз навязчивых состояний (29 человек). Согласно первой гипотезе эмпирического исследования, в основе нарушения стабильности самоотношения при неврозах и других пограничных расстройствах лежит низкая степень дифференцированности Я-концепции. Косвенной поддержкой выдвинутой гипотезы могут служить данные современных западных исследователей относительно "пограничной личностной структуры", указывающие на диффузность, неуловимость самоидентичности таких пациентов (Соколова Е.Т., 1989, 1991). Согласно второй гипотезе, другим не менее важным источником нестабильности самоотношения является конфликт мотивизированных ориентаций личности, результирующий в конфликтный смысл Я. Последнее предположение вытекает из концепции мотивизации и самосознания, разработанной в отечественной психологии. Со стороны сознания, функция мотивов состоит в том, "что они как бы оценивают жизненное значение для субьекта объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах, придают им личностный смысл"(Леонтьев А.Н. Указ. соч. С.150). Последний в самосознании выступает двояко: в форме значений, репрезентирующих те или иные черты для качества личности, и как чувства в адрес Я — уверенность в себе или недовольство собой, а также обобщенная установка самоприятия или самоотвержения. Из сказанного следует, что интегральное самоотношение производно от системы мотивов и открывающихся за ними личностных смыслов, последние же не существуют иначе, как в форме значений (Столин В.В., 1983). Таким образом, на основании теоретического анализа и данных эмпирического исследования предполагается, что нестабильность самоотношения, проявляющаяся в чередовании самоприятия и самоотвержения, имеет своим источником конфликт мотивационных ориентаций и низкую психологическую дифференцированность Ясистемы. В первом эксперименте (30 больных неврозом, 30 здоровых испытуемых) решалась задача создания и апробации методики косвенного измерения системы самооценок — КИСС. Процедура эксперимента состояла в ранжировании схематически изображенных лиц по специальным параметрам, задаваемым экспериментатором. Полученные данные оказалось возможным интерпретировать как показатели субъективной значимости личностных качеств (иерархия шкал самооценивания), частных самооценок и общего уровня самоприятия. Повторное проведение процедуры обеспечивало оценку устойчивости уровня самоприятия во времени. Во втором эксперименте (58 больных неврозом и 20 психически здоровых лиц) на основе модифицированного теста личностных конструктов выявляется индивидуальная система мотивационных конструктов, а также способ их структурирования, указывающий на степень их иерархизированности и конфликтности. Процедура обработки результатов (кластерный и факторный анализ) позволяет анализировать как содержательные характеристики мотивационной сферы, так и ее формально-структурные особенности, а именно, уровень психологической дифференцированности (когнитивный стиль личности). Путем коррелирования параметров КИСС (эксперимент I) с индексом нетранзитивности и интенсивности репертуарного теста личностных конструктов обнаружена значимая связь (Р,05) между устойчивостью самооценки, мотивационными конфликтами и индивидуальным стилем личности. Механизм влияния каждого из факторов на дестабилизацию самоотношения различен. Конфликт между мотивационными ориентациями (например, "стремление делать добро людям — желание жить для себя") порождает в самосознании конфликт смыслов Я, разрешаемый путем изменения иерархии шкал субъективных критериев самооценивания. Сегментарная организация системы личностных смыслов и наличие двух рядоположенных и разнонаправленных, но одинаково значимых мотивов создают условия повышенной неустойчивости смысла Я (интегрального самоотношения), каждый раз определяемого заново в зависимости от актуальной Иерархии самооценочных критериев. Таким образом, мотивационный конфликт дестабилизирует самоотношение, обуславливая феномен изменчивого, альтерирующего Я. При низкой когнитивной дифференцированности количество смысловых конструктов самоописания, характеризующих когнитивную оснащенность личности, минимально, и это порождает второй тип нестабильности Я. "Монолитность" системы личностных смыслов наряду с низкой автономностью, слитностью, сцепленностью между собой отдельных смысловых образований создает условия повышенной "хрупкости" Я. Незначительные изменения любого частного аспекта образа Я, любой парциальной самооценки немедленно влекут за собой глобальные изменения целостной Я-системы, в том числе — легкую ("враз") смену установок в адрес Я. Метафорой подобного самоотношения могла бы стать формула:"Все так изменчиво, что из того, что сегодня я себя люблю, вовсе не следует, что завтра я не буду себя ненавидеть". Необходимо подчеркнуть, что выявленный феномен нестабильности самоотношения имеет лишь весьма поверхностное и отдаленное сходство с хорошо изученными явлениями колебания уровня частных самооценок в зависимости от уровня притязаний, переживаемого успеха /неудачи и т.д. Суть выявленного феномена гораздо глубже и для своего понимания требует признания, что налицо необычно нежизнестойкая, специфическая структура Я, не переносящая изменений и воздействий, поскольку любое, даже самое незначительное, изменение Я-опыта вызывает не соответствующие (частные и конкретные) изменения, преобразования Я-концепции, а полное ее крушение. Для наших пациентов необходимость выбора одной из двух мотивационных ориентаций ("жить для других — добиваться блага для себя) влекла за собой отказ от одной из двух самоидентичностей согласно следующему правилу: тот, кто живет для других — хорош, а тот, кто живет для себя — плох; середины не существует. Интеграция отрицательных и положительных Я-образов в целостную и согласованную Я-концепцию затруднена, противоположные образы Я актуализируются попеременно, а с ними изменяет свой знак на прямо противоположный эмоционально-ценностная установка в адрес Я. Подобный тип самосознания, сопоставимый по своей феноменологии со структурой "расколотого Я", обязан своим возникновением действию защитного механизма "расщепления", благодаря которому сложная структура интра-и интерпсихологического опыта, содержащего противоречивую информацию или амбивалентные чувства в адрес Я или значимых других, диссоциируется и поляризуется. Образно говоря, в рамках расщепленного самосознания недоступно "объемное" видение себя и других; подобное самосознание не переносит противоречий, оно способно работать только в режиме "реципрокности" (илиили), но не сосуществования . Точно так же и самоотношение изменяется не градуально, обеспечивая тем самым гибкость, эластичность Я-системы под ударами жизни, а "враз" разбивается. Полученные результаты свидетельствуют, что фактором, создающим наибольший риск дестабилизации самоотношения, является низкая степень дифференцированности Я-концепции и вследствие этого недостаточная автономность когнитивных и аффективных процессов, увеличивающих стрессодоступность всей целостной системы. Эти эмпирические факты можно понять и в более широком контексте пристрастности отражения, всегда репрезентирующем действительность сквозь призму триадических конструктов сходства и различия в отношении к Я. Таким образом конструируется "картина мира-в-присутствии Я". Преломленный сквозь эту призму, мир объемен, ньюансирован, насыщен противоречиями, витален и в этой своей полнокровности становится доступным воспринимающему его человеку. Частным случаем восприятия через личностные конструкты является восприятие в системе биполярных оппозиций, где каждый предмет, явление или человек (и Я — в том числе) мыслятся точкой на континууме качеств, противоположных, но существующих вместе. Самоидентичность и есть определение себя в континууме, однако, где Другой — вовсе не обязательно противоположен Я, но всего только отличен от Я, расположен рядом, вблизи, дальшеближе. Мировосприятие в оппозициях (не путать с полярностями!) также широкое (ср. выражения "широкий взгляд на вещи" — "узость мышления"), способное в качестве измерения мира допустить существование неевклидовой геометрии, Космоса или Бога. Восприятие в оппозициях позволяет удерживать в сознании противоположности как естественные противоречия жизни ("что бы делало Добро, если бы не было Зла?). Пограничное самосознание и сознание — суждение, девитализированное, уплощенное. Оно не переносит неопределенности, 'создаваемой амбивалентностью чувств, противоположностью суждений или оценок на один и тот же предмет; более того — превращает различия в крайние противоположности предельной обобщенности (полярности). Пограничное самосознание не может помыслить Я и мир в оттенках, степенях, градациях, а только — в дихотомических оппозициях, крайностях. Более того, так построив картину мира, самосознание начинает избавляться от непереносимой его объемности, исключая один из полюсов. Известные механизмы психологической защиты можно представить себе как интрапсихические психотехнические (и насильственные) действия, производимые ради своего рода "кастрации" образа Я и картины мира. Так, "вытеснение" позволяет опустить один из неугодных Я полюсов в бессознательное, Проекция" — атрибутировать его внешнему Другому, благодаря "расщеплению", оба полюса оказываются приписанными Разным структурам самосознания, находящимся в отношении реципрокности. На самом же деле, "лед и пламень не столь Различны меж собой", и способность ясно видеть и переживать сходное в противоположном и не отождествляться с только похожим — необходимое условие точности социальной перцепции и самовосприятия. Сохранение этой способности позволяет оградить самосознание от защитных искажений "слияния" или "проекции". Если благодаря личностному конструкту обеспечивается объемность оценок и самооценок, то благодаря шкалам — их градуальность, постепенность, пошаговость, а не скачкообразность и "шараханье" из одной крайности в другую Применительно к Я это означает умение держаться "золотой середины" самооценки, а не чередовать триумфы Я с крахом. Проведенное экспериментальное исследование показало что мотивационные конфликты и низкая дифференцированность когнитивной и аффективной "образующих" самосознания являются основными источниками нестабильности самоотношения при неврозах, в то время как механизмом выступают трансформации, переструктурирования шкал самооценивания и образа Я в целом. Эти данные позволяют сформировать положение о каузальных взаимодействиях аффективных и когнитивных процессов в структуре самосознания: уровень дифференцированности Я-концепции является условием, опосредующим баланс аффективно-когнитивных взаимодействий и их "смещения" в структуре самосознания пограничных пациентов. I.5. Теоретические подходы и клинико-экспериментальные исследования нестабильности самоотношения при аффективной патологии (депрессии) "Эмоции, — писал А.Н.Леонтьев (1975), — выполняют функцию внутренних сигналов, внутренних в том смысле, что они не являются отражением непосредственно самой предметной действительности. Особенность эмоций состоит в том, что они отражают отношения между мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации отвечающей им предметной деятельности...". Эмоции как внутренние переживания субъекта оказываются теснейшим образом связанными с внешним предметным миром, ибо "метят" на своем языке объекты и явления в зависимости от того, способны ли эти последние удовлетворить или фрустрировать потребности субъекта. Отсюда постоянная окрашенность, полихромность отражения окружающей действительности человеком. По мере развития, усложнения и дифференциации эмоций возникает расслоение первичной слитности предметного содержания образа и его эмоциональной окраски. Так, если мысль о каком-то событии или образ кого-то связан для нас со страхом или страданием, мы можем справиться с этими чувствами, используя психотехнический прием десенсибилизации. Последовательное и систематическое представление этого (образа) с последующей релаксацией или его перемещение в новый позитивный эмоциональный контекст приводит в конце концов к изоляции эмоций от объекта, ее вызывающего (Вольперт И.Е., 1972). Идея овладения эмоциями ("страстями") посредством использования интеллектуальных средств контроля, идущая, как известно, от философских воззрений Спинозы, развивалась в рамках различных психологических школ. В психодинамических направлениях свое наиболее отчетливое развитие она получила в концепциях механизмов психологической защиты и контроля. Психологическая зрелость личности, в частности, определяется и степенью отвязанности аффектов от объектов удовлетворения потребности, возможностью "перемещения", "замещения", "вымещения". Контроль над широким классом аффективных состояний осуществляется путем переструктурирования, иерархизации самих этих состояний в соответствии с усвоенными социально заданными нормами, а также посредством интеллектуальных стратегий (контролей), разрабатываемых индивидом для решения познавательных задач в условиях интерферирующего (и потенциально всегда разрушительного) воздействия аффективных состояний. Л.С. Выготский (1983), А.Н.Леонтьев (1975) также акцентировали линию развития эмоций, связанную с идеей опосредования. В ходе развития психики становятся более многообразными и аффективно-когнитивные взаимодействия. Например, объект в зависимости от отношения к потребности может изменить знак своей эмоциональной окраски. Это проявляется, в частности, в известном феномене приобретении объектами индивидуального субъективно-окрашенного личностного смысла, что и создает эмоциональную пристрастность нашего восприятия. Все, что ассоциируется с объектами, способными опредметить потребность, становится близким и милым нашему сердцу, как в известной сентенции Лиса из "Маленького принца": "Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не напоминают. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя, и я полюблю шелест колосьев на ветру...". С другой стороны, эмоции, так же, как и все высшие психологические функции, проходят путь опосредствования, в частности через "интеллектуализацию", в Результате чего становятся подконтрольными и доступными осознанию. Такова в самом общем виде картина развития эмоций, с точки зрения формально-структурных характеристик этих психических образований. Депрессии представляют собой аномальные аффективные состояния прежде всего с формальной точки зрения: они (негативные эмоции) овладевают человеком, а не он испытывает их (владеет ими). В депрессивном состоянии рушатся все механизмы контроля эмоций, в депрессивное состояние "впадают", не чувствуя себя хоть в какой-то мере способными повлиять на свое состояние и объективный ход событий. С клинической точки зрения депрессивные состояния рассматриваются как синдром в рамках невротических или эндогенных заболеваний. Однако задачи нашего исследования требуют анализа психологической природы и содержания этого страдания. Феноменологически депрессии как особое аффективное состояние характеризуются доминирующим негативным реестром переживаний: угнетенным, тоскливым настроением, безнадежным восприятием будущего, жизнь безрадостна, неинтересна, лишена каких бы то ни было радостей и удовольствий. Гнетущее состояние может локализоваться в области различных частей тела — головы, конечностей, сердца — и сопровождаться рядом вегетативных нарушений (витальная депрессия). Центральным же переживанием является онемение, окаменение души, в терминологии старых авторов и клиницистов. Печаль, скорбь — центральное эмоциональное переживание при меланхолии. "Скорбь, — отмечает Спиноза, — есть известный род печали, возникшей из соображения добра, которое мы потеряли без надежды снова получить его", и далее "... она показывает нам наше несовершенство...". Переживание утраты, потери "блага" или объекта любви — будь то реальный человек или отвлеченная идея (свобода, идеал, отечество, самоуважение) — составляет основные темы депрессивного страдания. Но, замечает З.Фрейд (1984), в депрессивном страдании есть звено, не осознающееся пациентом — не всегда сам больной может ясно понять, что именно он потерял: "...он знает, кого он лишился, но не знает, что в нем потерял...". Не осознаются не только мотивационный, личностно смысловой аспект утраты, но и связь содержания манифестирующих чувств с отношением к бывшему объекту любви. В самом деле, почему столь сложно запутан и противоречив (не только для внешнего наблюдателя, но и для самого страдающего человека) весь испытываемый им клубок чувств, ведь при ближайшем рассмотрении самообвинения и самоуничтожения — лишь часть этих чувств? Во-первых, обращает на себя внимание композиционная завершенность картины депрессивных переживаний, каждое из которых последовательно обрывает связь с действительностью и другими людьми. Это иллюстрируется простым перечислением: исчезновение интереса к внешнему миру, задержка и отказ от всякой деятельности, потеря способности к продуктивной работе, утрата способности любить. Затем мы обнаруживаем удрученность, снижение самочувствия, самообвинения, самоуничижения, т.е. опустошение, обеднение и утрату важнейших аспектов своего Я. Все эти симптомы показывают, как Я становится центром, узлом переживаний пациента, иными словами, все более очевидной становится их нарциссическая природа. Более глубокий анализ открывает амбивалентность чувств к потерянному объекту любви, кроме любви и удрученности от ее утраты проявляются "все положения огорчения, обиды и разочарования, благодаря которым в отношения втягивается противоположность любви и ненависти (Фрейд 3., 1984). Амбивалентные чувства, испытываемые по отношению к самому себе, на самом деле адресованы Другому. Произошла подмена объекта любви, а его потеря обернулась потерей Я, что стало возможным благодаря отождествлению Я с оставленным объектом. Фрейдовская интерпретация, независимо от того, принимается она за научное объяснение или нет, поражает метафорической точностью анализа. Действительно, человек, потерявший нечто, к чему он был глубоко привязан, почти физически ощущает, как будто из него вырвали, изъяли часть его Я, внутри остается полость, пустота. И еще один феноменологически точный штрих. На каком-то этапе переживания реальной утраты символическая интроекция и идентификация с объектом любви необходима для смягчения горя, для постепенности разрыва нитей привязанности. Известно, что дорогие и потерянные нами люди, какое-то время как бы продолжают жить в сохраняющемся жизненном укладе, в мысленных разговорах, в которых мы пытаемся что-то доказать, додать... А на следующем этапе переживания утраты связь с этим другим начинает ощущаться как бремя, как "связанность". Вспомним мысленный разговор Маргариты с Мастером у Кремлевской стены накануне ее встречи с дьяволом Азазелло: "Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер ... Тогда прошу тебя, отпусти меня, дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом". Диалог с утраченным Другим может осуществляться и в более сложных и скрытых формах, при поверхностном взгляде выступая как самообвинение, будучи на самом деле упреками в адрес Другого. Фрейд, таким образом, обнаружил за фасадом монологического самосознания депрессивного больного реальную его многоголосицу, где ясно прослушиваются по крайней мере два диалога. Один — когда одна часть Я, противопоставляясь другой, делает ее объектом критики; другой — между критикующим Я и той частью Я, которая отождествилась с утраченным объектом любви. Как нам представляется, в более поздних исследованиях связи депрессии с преморбидным нарциссичес-ким радикалом личности продолжают развиваться многие идеи З.Фрейда, изложенные им в "Печали и меланхолии ". 1.5.1. Психодинамические концепции депрессии В современных исследованиях депрессии ядром является самосознание; изучаются специфические особенности Я-кон-цепции и самооценки, их этиология и генез, связь с целостным модусом личности и стилем эмоционального реагирования. Сторонники психоаналитического направления традиционно акцентируют роль эмоциональной составляющей самосознания, специфика которой на феноменологическом уровне представлена сложным комплексом чувств ущербности, униженности, подавленности, а также чувством вины и стыда. Очевидно, что феноменология депрессивных переживаний достаточно многообразна, индивидуальна, не говоря уже о социокультурной детерминации тематического "обрамления" депрессивных эмоций, включая их конверсию и соматизацию. Задача синдромно-го анализа депрессивных переживаний и описание структуры и генеза "депрессивной личности " является одной из центральных теоретических и экспериментальных парадигм исследований последних десятилетий (Малер М., 1952 Кохут Г.,1977 Моллон Р., 1984 Теннен Г., и Херцбергер С, 1985). Основной дефект депрессивной личности заключается в особой хрупкости, уязвимости Я, в результате чего единственно надежным способом защиты от жизненных стрессов, потерь и разочарований оказывается "депрессивная тюрьма." И здесь, и в ходе дальнейших рассуждений очевидна аналогия с психоаналитической трактовкой происхождения и защитных функций невроза. Исследователи вновь возвращаются к идее детерминации аномалий личности в зрелом возрасте нарушением теплых и принимающих отношений с родителями в раннем детстве. В новых интерпретациях традиционной для психоанализа темы используется ряд специфических терминов, например, "объектные отношения", "Я-объекты", дефицит "нарциссического удовлетворения", что принципиально не меняет уже известных представлений, ранее развиваемых И.Боулби (1979), Д.Винникотом (1965), пожалуй, только возвращает к образной метафоричности раннего психоанализа. Еще З.Фрейд видел корни базового невротического конфликта в фатальной "утрате" родителей в качестве либидозных объектов. Согласно современным представлениям, эмпатически понимающие, любящие родители переживаются на определенной стадии детского развития не как самостоятельные внешние по отношению к ребенку фигуры, а как интериоризованные, функционально определенные части его Я. Последовательно и стадийно разворачивающийся процесс "психологического рождения", т.е. сепарация ребенка от родителей и индивидуализация результирует в здоровый нарциссизм Я, психические структуры которого представлены интернализо-ванными аспектами значимых Других, обеспечивающими эмоциональное самоприятие и уверенность в себе. Родительская неприязнь или условное приятие, напротив, способствуют раз-витию "фальшивого Я" (термин Д.Винникота), когда под маской демонстрируемого нереалистически идеализированного и грандиозного Я скрывается истинное — ослабленное и беспомощное, но реальное, аутентичное Я. Хрупкое, уязвимое Я можно сравнить с такой структурой самосознания, когда Я-идеал представляет собой интернали-зованный образ жестко регламентирующего, подавляющего и наказывающего Родителя, в то время как Я-реальное, неразвитое, несамостоятельное, постоянно испытывающее потребность быть любимым, оказывается в позиции Неблагополучного Ребенка. Естественно, что чувства подавленности, вины и стыда оказываются наиболее "готовой", сформированной реакцией на жизненные события. П.Моллон (1984) обращает внимание на возможность существования и иного спектра чувств, обычно игнорирующихся ранее, — чувств скрытой зависти, корни которой также уходят в нарушение детско-родительских отношений в раннем детстве, но она питает депрессивные переживания и взрослого человека. Отличительная черта скрытой зависти — враждебность, направленная на тех, кто лучше или успешнее и каким Я стать никогда не сможет. Зависть и ярость как дизъюнктивные, разъединяющие чувства, а также не одобряемые родительской инстанцией сверх-Я, не могут быть выражены прямо и непосредственно, а только как безнадежность и беспомощность. Представляющие фрустрированную потребность в сепарации — индивидуации, они существуют "отрезанными", отщепленными от истинного Я и не могут быть интегрированы в целостную Я-концепцию. Отметим, что психоаналитические исследования анализируют не процессы реального межличностного взаимодействия, а их интрапсихическую динамику, "диалог" структур "Супер-эго" и "Эго". Нормальное развитие Эго зависит от того, сумеет ли оно сбалансировать требования Супер-эго и процессы сегре-гации-индивидуации Я и какими чувствами будет сопровождаться этот процесс. Инфантильное Эго реагирует суженным спектром поведенческих и аффективных реакций субдоминантного типа независимо от интра- или экстрапунитивной направленности. Это реакции тревоги, вины, страха наказания, мазохистские реакции нанесения себе телесного или морального Ущерба (самонаказания), извинения, искупления вины, угодливой уступчивости. Согласием с родительской инстанцией Эго Удается обеспечить себе позитивную самооценку (Я — хороший), но дорогой ценой, расплачиваясь потерей самоуважения, зависимостью и поворачиванием агрессии против себя. Более активная позиция Эго включает прямые реакции вызова, неповиновения, обесценивания авторитетов или просьбы, мольбы и требования поддержки, одобрения, утешения. В более сложных формах Эго предпринимает специальные маневры в целях смягчения внутреннего напряжения: провокации наказания, избегание соблазнов, сокрытие правды, предвосхищение несправедливых обвинений с попытками самооправдания, рационализации, замещения, перемещение ответственности за содеянное на других (в том числе на Судьбу, Бога, Государство), уменьшение чувства вины через нахождение недостатков в других людях ("не я один такой"), вымещение и проекция на других, похожих на родительские фигуры, чувств, адресованных им. Все эти тонко описанные приемы внутреннего диалога имеют своей целью обеспечение Я чувства благополучия и самоуважения. В иной терминологии ту же мысль можно сформулировать иначе: Я воздействует на родительскую инстанцию Супер-эго, вовлекая своего партнера по внутреннему диалогу в изощренные игры и транзакции. Выигрышем служит чувство всемогущества (самоуважения), достигаемое за счет иденти фикации с желаемым авторитетным Другим, или, напротив, самоуважение сохраняется путем противопоставления себя, разотождествления с обесцененной авторитетной фигурой. Важно отметить несколько моментов: во-первых, феноменологически ясно оформленную, но не эксплицируемую автором мысль об аффективно-мотивационной детерминации когнитивных по своей природе стратегий, обслуживающих эмоциональную составляющую самосознания, проявляющуюся в чувстве субъективного благополучия или дискомфорта. Во-вторых, на описательном уровне представленная полихромная и тонко нюансированная панорама внутреннего мира личности, борющейся за свою индивидуальность и самоидентичность, вначале, в гене-зе своем складывается из реальных взаимоотношений ребенка с семейным окружением. В процессе межличностного взаимодействия формируются, хитроумно перенимаются от взрослого способы психологического воздействия на другого человека. Впоследствии усвоенные и интериоризованные ребенком, они становятся одновременно и средством интрапсихической саморегуляции и самозащиты, и средством регуляции реального внешнего общения, и средством воздействия на внутренний мир и душевную жизнь партнера по общению. Иными словами, "механика" саморегуляции, осуществляемая в форме внутреннего диалога, ни генетически, ни структурно, ни функционально не противопоставлена внешневыраженному общению со значимыми другими. Защиты, маневры и транзакции — психотехнические приемы, использующиеся как на интрапсихическом уровне, так и в межличностных отношениях. Возможность перевода этих отношений из внутреннего плана во внешний — один из широко известных психотерапевтических приемов гештальт-психотерапии, так же, как и более традиционно применяемые психодрама или ролевые игры, не говоря ужe о психотерапевтическом контакте и отношениях переноса контрпереноса. Последние годы прием вынесения вовне внутреннего диалога теоретически обосновывается и в отечественной литературе (Кучинский Г.М., 1988; Столин В.В., 1988; Родионова Е.А., Соколова Е.Т., 1991, 1993, 1995 и др.). 1.5.2. Когнитивные концепции депрессии Когнитивистская ориентация в исследовании депрессии, представленная и клиническими, и экспериментальными работами, сегодня не менее популярна. Два главных вопроса встают перед исследователями: структура и функции специфических познавательных процессов, задействованных в самосознании, — точнее процессов, благодаря которым формируется и стабилизируется Я-концепция (образ Я). Эти процессы принято обозначать как "релевантные Я" (по-видимому, отграничивая их от "релевантных Ид", традиционно изучавшихся в психоанализе). Учитывая терминологическую специфику, принятую разными авторами (Вольфорд А. и Моррисон А., 1980; Маркус Г., 1985), сюда относят процессы самоатрибуции, самовосприятия хранения и воспроизведения информации о себе (Маркус Г., 1977; Несби В., 1985), избирательное внимание и фокусировку на определенных аспектах своего Я (Карвер К., 1981; Шварзер Р., 1984), процессы самооценивания и саморегуляции. Для обозначения итогового продукта когнитивных процессов синонимично используются термины: Я-концепция, когнитивная составляющая, установки на себя, Я-схема, Я-модель. Содержательно более или менее тождественные, они подразумевают в то же время акцент на каком-то частном аспекте функционирования Я-концепции: способности прогнозировать и управлять своим поведением, предвидеть оценки окружающих, точно оценивать себя и корригировать неадекватное представление о себе. Ключевой и наиболее острый вопрос — о каузальных отношениях аффективной и когнитивной составляющей самосознания. В когнитивистски ориентированных исследованиях он решается в пользу последних. Именно систематически организованное, основанное на прошлом опыте и восприятии собственной эффективности представление субъекта о своем Я генерирует эмоциональные реакции, состояния и чувства ( Бек А., 1967, 1976,1983 Бандура А., 1983). Крайнее выражение этой позиции мы находим у Шварзера и Бека, реинтерпретирующих состояния, традиционно относимые к классу аффективных (тревога, стресс, депрессия) в когнитивных терминах. Не отрицая эмоциональных манифестаций депрессии, Бек тем не менее обратил внимание и акцентировал когнитивную составляющую и "обрамляющую" эмоциональных состояний. Выделенная им так называемая "когнитивная триада" охватывает негативные чувства, относящиеся к модальностям актуальной и перспективной оценки Я. Это, во-первых, низкая самооценка качеств, обладающих высокой субъективной личностной значимостью, чувство ущербности в каких-либо сферах психического функционирования, выражающееся в констатациях типа: "Я унижен", "Я неадекватен", что отражает в первую очередь потерю социального и личного престижа. Затем выделяется компонент атрибутивного каузального стиля, результирующий в самообвинения и самокритику: приписывание себе причинности и ответственности за неудачи, несоответствие стандартам, высоким притязаниям и идеалам Я. Наконец, третьим компонентом когнитивного депрессивного синдрома является утрата надежды, веры в себя, негативные ожидания, бесперспективно оценивающие модальность будущего, и как следствие — нерешительность в принятии решений и нарастающая зависимость, тенденция к инфантильному избеганию позиции Взрослого. Перечисленная триада когнитивных особенностей депрессивных состояний обладает также мотивационным статусом, т.е. определяет направленность желаний, мыслей и поведения депрессивного пациента. Бек вводит ряд важных концептов, позволяющих экстраполировать их на область нормального психического функционирования самосознания. Два вводимых им понятия представляют особую ценность для теории самосознания. Во-первых, это понятие внутренних правил и самокоманд или самонаставлений, посланий, понятие "личных значений". Раскроем содержание этих понятий. Любому принятию решений предшествует, согласно Беку, "взвешивание" внутренних альтернатив и способов действия в форме внутреннего диалога. Этот процесс включает несколько звеньев — анализ и исследование ситуации, внутренние сомнения, споры, принятие решений, логически приводящие к вербально формулируемым самокомандам (самонаставлениям), относящимся уже к области организации и управления поведением. Самокоманды относятся как к настоящему, так и к будущему, т.е. соответствуют модальности актуального и долженствующего Я, например, "время начинать работу" или "Я должен быть хорошим родителем, добиться власти или популярности." При неврозах и депрессиях самонаставления могут принимать форму сверхтребований, "тычков" и преследований самого себя. Даже в норме постоянные самоподстегивания могут быть весьма тягостными, в экви-зитных случаях приводят к навязчивости (при обсессивных неврозах). У паранойяльных психопатов самокоманды направляют действия к агрессии на враждебно воспринимаемое окружение: "отчитай его", "сделай то же самое с ним" и т.д. У тревожно-мнительных пациентов самокоманды направлены на приостановление или отказ от активных действий, если прогнозируется их неуспешность или слишком большая обременительность. Самонаказание (упреки и обвинения, самокритика) так же, как и самовознаграждение (удовлетворенность собой, самоуважение, гордость, похвала), представляет собой виды внутренних самокоманд. Самокоманды . (самоинструкции) выполняют широкие функции саморегуляций внутреннего состояния субъекта и его поведения в настоящем и будущем. На их основе складываются субъективные стандарты и оценки адекватности и эффективности своих действий, своей личностной привлекательности и ценности; они позволяют также предвидеть оценки окружения и меру своего влияния на них. Поскольку каждый человек склонен демонстрировать довольно постоянный и регулярный паттерн (стиль) самокоманд в отношении определенных ситуаций, резонно предположить, что стиль самоинструктирования производен от некоторой генерализированной и целостной системы общих правил, внутренних эталонов, с помощью которых производится актуальная и ожидаемая самооценка. Кроме этого, несомненно и то, что эта система стабилизирует и защищает Я, обеспечивая "равновесие" между ожидаемыми оценками, собственными стандартами и текущими состояниями и действиями Я. При депрессии в силу определенных искажений мыслительных процессов правила строятся на основе неверных оппозиций типа "не быть успешным — значит, быть полностью неуспешным". Бек называет этот вид искажения мышления "поляризованным" мышлением. Кроме ошибочных поляризаций, его характеризуют сверхобобщенность, абсолютизация оппозиций "все — ничего", "всегда — никогда", "хорошее — плохое". Эти особенности мышления парциально проявляются в отношении особо значимых конфликтных содержаний сознания. Ошибки мышления являются следствием "сверхвключенности Я", т.е. чрезмерной пристрастности, эгоцентричности, исключающей или сильно ограничивающей возможность объективного суждения о ситуации и своем Я. Интерпретация объективных событий и своего состояния осуществляется на основе "личных значений", детерминирующих ту или иную эмоцию. Согласно А.Беку, не эмоция порождает искажение восприятия и мышления, а, наоборот, специфическая оценка и интерпретация порождают соответствующую эмоцию. Например, в ответ на замечание авторитетного лица А реагирует гневом и яростью, В — стыдом и печалью. За реакцией А стоит общее правило: замечание со стороны авторитетного лица есть проявление его стремления к доминированию; самокоманда — я должна дать ему отпор. За реакцией В стоит другое правило и другая самокоманда: замечание со стороны авторитета означает, что он разоблачил мою слабость, теперь он плохо относится ко мне, если я хочу быть менее противной в его глазах, я должна вести себя иначе ("не высовываться", попросить прощения и т.д.). Второй стиль когнитивных интерпретаций ведет к депрессивному модусу переживаний. Теория объективного самосознания Р.Виклунда и С.Дьювала (1980) и выполненные в ее русле экспериментальные работы также привлекаются для иллюстрации ведущей роли когнитивных процессов в порождении чувства Я, в частности, негативного круга. Предполагается, что фокусировка на собственном Я, когда объектом осознания становится внутренняя субъективная реальность, неизбежно ведет к расширению поля осознания за счет более выпуклой представленности в нем негативных качеств Я. а следовательно, и к негативной самооценке. Специальной организацией экспериментальных условий можно регулировать уровень объективного самосознания и "знак" самоотношения: с этой целью используют обратную связь о психофизиологическом состоянии, присутствие зеркала или зрителей, видео- и аудиозапись. Тревожность, неуверенность и дискомфорт не обязательно порождаются внутриличностными конфликтами — они также могут вызываться внешними социальными ситуациями, перед лицом которых субъект с большой вероятностью прогнозирует неуспех, недостаточно компетентное поведение, "неуклюжесть" в организации делового общения. Предвосхищение публичного неуспеха ответственно и за чувства смущения, замешательства, застенчивости. На уровне личностных черт подобные эмоции возникают преимущественно у лиц, характеризующихся так называемым "публичным самосознанием". Им свойственно воспринимать самих себя в качестве социального объекта, открытого для публичного обозрения (Басе А., 1980), поэтому в фокусе осознания оказываются аспекты Я, более всего доступные внешнему наблюдению: лицо, голос, внешность, телесная экспрессия. Контроль и манипуляция этими аспектами Я спонтанно и бессознательно используются человеком в качестве защитного "ухода" от социальных ситуаций, в которых ощущается собственная неэффективность. Отрицательные последствия сверхфокусировки на переживаниях Я сказываются в нарастании субъективной беспомощности, развитии депрессивного стиля восприятия реальности своего Я. Важным субъективным конструктом, конституирующим итоговое самоуважение личности, является воспринимаемая (ожидаемая) самоэффективность, понимаемая как тенденция воспринимать результат выполнения задачи как следствие своей собственной способности (Бандура А., 1977). Существует несколько источников обратной связи и соответственно стратегий подтверждения самоэффективности. Во-первых, это активность субъекта по овладению ситуацией, разрешению определенного круга проблем; во-вторых, прямые оценки и выражаемые чувства других. Так, снисходительная жалость учителя дает понять ученику, что он, вероятно, глуп, а потому и не способен хорошо учиться. Кроме того, возможность сравнения уровня собственных достижений с социальными стандартами и достижениями других людей ориентирует на высокие стандарты, наконец, убежденность и вера в самоэффективность также побуждают к развертыванию стратегий поведения, ее подтверждающих. Сформировавшись под воздействием обратной связи от собственных поступков и оценок окружающих, самоэффективность теперь вторично начинает оказывать влияние на выбор стратегий поведения и ожидаемые оценки. Самоэффективность побуждает к интенсификации усилий по преодолению трудностей даже при неудачах, что естественно, так как люди, уверенные в своих способностях, более толерантны к фрустрациям; неуспех при низкой самоэффективности подкрепляет ожидаемое низкое самоуважение, снижает интенсивность мотивации достижения, переориентирует фокус самосознания с задачи на аспекты Я, которым и атрибутируется ответственность за неудачу. Активность по преодолению внешних трудностей субъективно лишается смысла и прерывается. Ожидаемая самоэффективность может работать, таким образом, как мотивационная детерминанта поведения и самосознания, побуждая к активному самоутверждению. Повидимому, избранная в качестве некоторой генеральной линии или жизненной стратегии личности самоэффективность должна приводить к систематической переоценке уровня своих возможностей и самооценки. Р.Баумейстер и М.Джонс (1978) описали такой стиль под названием самоублажающей или самовозвышающей тенденции к защите и поддержанию высокого уровня самоуважения и позитивной Я-концепции. С.Куперсмит (1965) также обнаружил, что подростки с высокой самооценкой более адаптивны, актиdны, удовлетворены собой и имеют более кооперативные отношения с родителями и сверстниками, чем подростки с низкой самооценкой. Признается, что высокая позитивная самооценка выполняет защитно-компенсаторную функцию снижения предРасположенности к депрессивным аффективным расстройствам (Элайк М., 1985; Абрамсон Л., 1977). Возможно также, что самоублажение" следует рассматривать не в качестве целостной и пролонгированной личностной стратегии, а лишь в качестве средства, тактики, подходящей только к ограниченному классу ситуаций. Действительно, имеются некоторые аргументы, в том числе и экспериментальные, в пользу подобной точки зрения. Оказалось, что эффект самовозвышения отмечался только в условиях "публичности", в конфиденциальных условиях люди могут реагировать противоположным образом (Баумейстер P., 1987). В первом случае парциально заниженная самооценка компенсировалась таким же парциальным завышением; в приватных условиях, напротив, парциальная негативная самооценка результировала в целостное негативное самоотношение. Дж. Гринберг и Т.Писшински (1985) полагают, что этот эффект порождается в эксперименте так же, как и в обычной жизни, ожиданием условного приятия и желательной оценки от значимых других. Компенсаторное завышение самооценки объяснимо и исходя из предположения о двух независимо функционирующих источниках самоотношения — потребности в самоуважении и потребности в эмоциональном приятии (Столин В.В., 1983) Будучи интериоризованным паттерном двух типов родительской любви (отцовской и материнской, по Э.Фромму), они результируют в самосознании в аутоуважение и аутосимпатию; последняя по принципу "предохранительного клапана" повышается, если фрустрируется самоуважение. Исследование пациентов с депрессивным синдромом позволило уточнить некоторые факторы, определяющие выбор стратегии самоотношения (Соколова Е.Т. 1989, 1991). Мы предположили, что к самоублажающей стратегии будут прибегать лица с выраженным истероидным личностным радикалом, в то время как для шизопсихастенической акцентуации более типичной окажется атрибутивная стратегия тотальной или парциальной самоэффективности. По данным методики управляемой проекции (МУП), выделились два типа самоотношения: с симпатией и уважением и с симпатией и неуважением. Опираясь на анализ текстов приписывания, можно обнаружить достаточно выраженные оппозиции, в которых конструируется Я-образ. Для больных первой группы позитивный полюс шкал представлен качествами, атрибутируемыми похожему персонажу А, отрицательный — противоположному по своим характеристикам персонажу В. Позитивное самоотношение обосновывается, следовательно, путем нескольких защитных стратегий. Одна из наиболее распространенных заключается в акцентировании и прямом приписывании разнообразных привлекательных нравственных качеств — трудолюбия и откровенности, бескорыстного служения делу, принципиальности, порядочности и высокоморальности, способности к самоотдаче и самопожертвованию в дружбе и любви. Вторым механизмом защиты позитивного самоотношения является лишение непохожего персонажа каких бы то ни было вызывающих симпатию качеств и приписывание таких черт, которые позволили бы eще больше оценить и оттенить "хорошесть" похожего персонажа. Например, если для А гарантией успеха в профессиональной сфере являются трудолюбие, интерес к предмету и широта знаний, то к В успех приходит случайно, как к баловню судьбы. благодаря, а как бы вопреки личностным качествам. То же относится и к общению. Персонаж А обладает всеми добродетелями, позволяющими ожидать от других ответного чувства; персонаж В, напротив, эгоистичен, корыстен, любит только себя, на дружбу и любовь не способен. Субъективно кажется эффективным также прием, который условно можно назвать "умением из очевидной слабости или недостатка сделать добродетель". Так, эмоциональная несдержанность, часто приводящая к конфликтам в общении, трансформируется в принципиальность, тонкость и артистичность; замкнутость — в альтруизм, нежелание перекладывать свои беды на плечи друзей и близких. Фальшивость, надуманность, в значительной степени нереалистичность подобного представления о своей личности вскрываются в процедуре "треугольник общения", позволяющей сопоставить прямое самоотношение с ожидаемым; оказывается, что последнее вовсе не подтверждает установку на полное самоприятие. От непохожего персонажа ожидаются чувство превосходства, общение свысока, снисходительность. В свою очередь А испытывает тайную зависть к своему антиподу. Подобная структура ЭЦО заставляет предполагать, что за демонстрируемым фасадом сверхблагополучного самоотношения и самоприятия скрывается глубоко конфликтное Я, резистентное к развитию и изменению. Портрет противоположного персонажа В в определенном смысле может рассматриваться как перспектива личностного изменения в направлении большей социальной адаптированности, коррекции некоторых личностных черт, предрасполагающих к повышенной сензитивности, уязвимости. Полное отвержение персонажа В объективно более социально и личностно успешного, означает отсутствие установки на самоисследование, рефлексию и изменение базовых черт личности, ее стиля. Интактность личности обеспечивается массивным задействованием механизмов психологической защиты, маскирующих и искажающих истинный образ Я, вследствие чего сохраняется и инкапсулируется сверхпозитивное защитное самоотношение. Его внутренняя конфликтность вскрывается в процедуре "треугольник отношений", где похожий персонаж А испытывает амбивалентные чувства к своему антиподу — зависть, желание походить на него и в то же время раздражение. От персонажа В ожидается снисходительное, свысока отношение, общение между ними абсолютно невозможно. Напрашивается аналогия с расколотой" структурой самосознания, где, в сущности, слабое и неблагополучное Я защищается формированием структуры сверхуспешного и морального Я. Благодаря стратегии самоприукрапшвания и полного вытеснения негативной информации о своем Я оказывается достижимым достаточно высокий уровень самоприятия (0,5-1,0 по КИСС). Возникновение депрессии является сигналом, что сложившийся стиль эмоционального реагирования, включающий расщепление Я, вытеснение, проекцию, формирование реакции оказался неэффективным. Депрессия становится экстремальным защитным механизмом, с помощью которого пациент бессознательно надеется сохранить привычноблагоприятное (в сущности, идеализированное и фальшивое) представление о своем Я. Депрессия также является симптомом экзистенциального кризиса, своеобразным предупреждением — "дальше так обманывать себя опасно", последним шансом на обретение своего истинного Я. Для рассматриваемой группы больных "поиск себя" затруднен в силу невыраженности (за счет вытеснения и конверсии) переживаний смысла Я. Болезненная симптоматика целиком центрирована на телесном неблагополучии; ипохондрическая фиксация отодвигает на задний план душевное неблагополучие. Значимость именно этих переживаний для понимания причин депрессивного состояния не осознается, не предъявляется в жалобах, а потому вне специальной психотерапевтической и психокоррекционной работы оказывается недоступной для самоанализа. В ходе психодиагностической работы с психологом некоторые больные вскользь упоминают о тягостных переживаниях, связанных с неблагоприятными жизненными ситуациями, однако склонны рассматривать их не в качестве действительной причины своего болезненного состояния, а лишь в качестве обстоятельств, обостряющих их основные соматические симптомы. Между тем у каждого из наших больных имелись обстоятельства, в той или иной степени угрожающие социальному статусу ( вынужденный уход с работы, инвалидность) или личному благополучию (разлука с единственным любимым сыном, развод). Во всех случаях те или иные личные и характерологические особенности пациентов так или иначе провоцировали или прямо были ответственны за жизненный крах, однако, никогда больные не стремились понять степень своего личного участия в конфликтных ситуациях, обвиняя других или злую судьбу. Складывался порочный круг, блокирующий осознание своего Я, а следовательно, оказывался невозможным выход из депрессивного модуса жизни. Усредненный профиль MMPI у этой группы больных показывает пики по 1-й и 3-й шкалам, что может быть интерпретировано в клиническом плане как соматизация депрессии; в характерологическом — указывает на эгоцентризм, желание выглядеть в выгодном свете, нравиться другим. По данным теста Люшера, на первый план выступают жажда любви, нежности и сочувствия, нереалистическое инфантильно-романтическое мировосприятие, стремление к самоутверждению и неверие себя, глубокое разочарование и упадок сил, чувство безнадежности, пустоты и потери. В качестве "особого феномена" для данной группы боль-ыx выделяется слитность, нерасчлененность осей симпатии и уважения на обоих полюсах: если персонаж оценивается позитивно, то далее следует приписывание ему качеств, достойных уважения, и симпатии; тот же феномен присутствует и при негативном отношении к персонажу, например: "Думаю, что мать она будет хорошая. Она девушка справедливая и будет воспитывать своих детей в должном порядке", против — "Может быть, профессия ее особенно не привлекает, просто надо где-то работать. Возможно, это не спокойствие, а равнодушие' . Создается впечатление, что у этой группы больных не срабатывает описанный В.В.Столиным (1983) защитный механизм разрыва полюсов, т.е. независимого движения осей симпатии и уважения. В согласии с таким механизмом защиты внутренняя логика субъекта при осмыслении им личностного Я такова: "Из того, что есть за что не уважать себя, не следует, что я не должен себя любить". У данной группы больных все обстоит иначе: аффективно-насыщенное отношение симпатии — антипатии активно и направленно трансформирует когнитивный образ Я и устанавливает симметричноподстраивающееся равновесие аффективных и когнитивных составляющих самосознания. Для второй группы больных (отношение больных к персонажу А с симпатией и неуважением, к В — с уважением) в структуре ЭЦО на первый план выступает противопоставление Я и не-Я по категории самоэффективности. Персонаж А откровенно не соответствует требованиям социальной жизни, личным стандартам и ценностям: плохой работник и специалист; муж, не обеспечивающий материально семью и не удовлетворяющий жену в интимных отношениях, друг, не очень надежный и т.д. Персонаж; В, напротив, грамотный, знающий свое дело специалист, способный достичь престижного положения, благополучный муж и семьянин, хороший друг. Источник личного и социального благополучия больные видят прежде всего в хорошем здоровье; свои же неудачи приписывют непосредственно Расстроенным нервам, беспокойному характеру, недостаточной решительности. Таким образом, самоэффективный не-Я становится в позицию недостижимого идеала, по отношению к которому Я занимает позицию слабого неблагополучного Ребенка. Для этой группы больных защитной становится откровенная беззащитность. Констатация своей неуверенности, дефицитарности, психической ущербности указывает, что в качестве преград самореализации больные мыслят либо присущие им от Рождения качества, либо приобретенные ими в результате болезни. Но и в том, и в другом случае они не мыслятся в перспективе изменения. Настоящее безрадостно, но будущее не лучше и не может быть иным. Жизненные неудачи непосредственно вытекают из индивидуальности моего Я, но Я есть Я, а не-Я — не Я, и здесь изменить что-либо невозможно. Таким образом, у этой группы больных феноменология душевных переживаний полностью идентична описанной А.Беком (1976) депрессивной триаде. Внутренняя картина болезни, представленная жалобами на собственную дефицитарность, некомпетентность, беспомощность, говорит о возникновении феномена "объективного самосознания", однако негативные чувства в адрес Я частично гасятся защитным механизмом "деревянная нога", что сохраняет устойчивость аутосимпатии. Есть ли соответствие между структурой эмоционально-ценностного отношения к себе и определенным характерологическим профилем? Актуальное состояние этих больных характеризуется устойчиво сниженным фоном настроения, идеаторной и моторной заторможенностью, жалобами на нарушение сна, аппетита и т.д., и тем самым определяется как классическая депрессия. Эта категория больных производит впечатление замкнутых, молчаливых, пессимистичных людей. Данное депрессивное состояние выражено в профиле личности (по методике MMPI), который также отражает и устойчивые личностные черты этой группы больных. К ним относятся повышенное внимание к отрицательному опыту, внутренняя напряженность, низкая способность к вытеснению. В своей деятельности личность такого типа руководствуется главным образом не потребностью достичь успеха, а стремлением избежать неуспеха. Кроме того, имеются определенные трудности межличностного взаимодействия из-за свойственной таким людям нерешительности, повышенной мнительности. По данным теста Люшера, диагностируется фрустрация аффилятивной потребности и потребности в самоуважении; по данным КИСС, у больных этой группы уровень самоприятия снижен (0,3-0,9). Ранее мы предположили, что идентификация с похожим персонажем и осуществленный в ней выбор аутоидентичности как бы непроизвольно и автоматически порождают симпатию к Я-подобному. В литературе, однако, имеются концепции, заставляющие думать о более сложном комплексе чувств, если сравнивать процедуру МУП с ситуациями возникновения феноменов объективного самосознания, внутренней фокусировки внимания и самоконфронтации (Дьювал Си Виклунд Р.). Согласно этим концепциям, следует заключить, что, чем больше недовольство различными аспектами своего Я, тем интенсивнее неприятные чувства при конфронтации со своим Я. Следовательно, в МУП, "встреча" невротика или депрессивного пациента со своим зеркальным двойником (персонажем А) должна вести к негативной самооценке. Экспериментальные результаты показывают, однако, что понижение самоуважения, а тем более угроза аутосимпатии сопровождаются защитными реакциями, возвращающими Я позитивное эмоционально-ценностное отношение. Можно ожидать далее, что для некоторых лиц, чьи переживания собственной дефицитарности чрезмерны, ситуация самоконфронтации столь непереносима, что они будут прибегать к различным способам самообмана. Полное вытеснение, неознание в себе негативных черт, своих неудач или отрицательных эмоций плюс самоприукрашивание — наиболее характерные тактики самообмана. Чем больше рассогласование между "потребной" позитивной самооценкой и информацией о реальном образе Я, тем сильнее будет выражена стратегия самообмана и избегания. Действием именно этих (но не только их) стратегий защиты самоотношения можно попытаться объяснить феномены полностью позитивного самоотношения у невротиков и депрессивных пациентов (СУ), но почему все-таки другая часть пациентов демонстрирует в адрес Я неуважение (при сохранении аутосимпатии)? Психологический механизм этого типа самоотношения станет более понятным, если вспомнить дискуссию о концепциях самопостоянства и самовозвышения, активно ведущуюся в последние годы в зарубежной литературе (Страугер Дж., 1975; Теннен А., 1985; Сванн В., 1987). В самом общем виде ключевые позиции двух конкурирующих концепций сводятся к следующему. В рамках теории самопостоянства постулируется потребность поддержания стабильного образа Я, поскольку последний обеспечивает прогнозируемость и подконтрольность своего поведения и реакций других людей. Сванн развил далее эту формулировку, предложив развитие индивидом специальных когнитивных и поведенческих стратегий, подтверждающих информацию о себе; даже если она и является негативной, все равно она субъективно кажется более достойной доверия и диагностически точной, поскольку согласуется с уже сложившейся имплицитной теорией Я. Концепция самовозвышения, напротив, утверждает, что Центральная мотивация Я — повышение самооценки. Причем, если согласно первой концепции люди с негативной самооценкой будут предпочитать негативную обратную связь, то в соответствии со второй концепцией они будут более сензитивны к положительной обратной связи, поскольку потеря самоуважения должна быть компенсирована позитивной самооценкой. Сванн полагает, что обе концепции могут быть интегрированы, если различать когнитивные и аффективные процессы самооценивания; на когнитивном уровне субъект стремится к сохранению стабильного образа Я, на аффективном — к повышению самооценки. Таким образом, люди с негативной Я-концепцией будут испытывать амбивалентные чувства в ответ на неблагоприятную обратную связь. Возвращаясь к обсуждению одного из вариантов интетрального ЭЦО (с симпатией и неуважением), можно предположить, что своим происхождением он обязан сочетанному действию двух упомянутых выше закономерностей. Эксплицированное в атрибуциях персонажу А пониженное самоуважение из-за очевидных неудач в профессиональной и лично-интимной жизни компенсируется повышением аутосимпатии. Эта интерпретация согласуется с точкой зрения ряда других авторов, в частности, полагающих, что той же цели (повышения самооценки) служат и некоторые другие когнитивные стратегии, а именно: ассиметричная атрибуция успеха и неудачи (Брэдли Г., 1978), тенденция редуцировать неблагоприятное социальное сравнение и использование самоуравновешивающих стратегий (Туке Дж. с соавт., 1981). Элайк также предполагает существование двух независимых, но взаимодействующих интегральных тенденций: потребности в подтверждении (т.е. поддержании и стабилизации) знания о самокомпетентности и самоэффективности и потребности в защите позитивного образа Я, каждая из которых "обслуживается" выработкой определенных когнитивных стратегий. Например, восприятие и оценка черты как контролируемой или неконтролируемой Я и приписывание себе позитивных и контролируемых черт повышает чувство уверенности в себе и самоэффективности. Таким образом, создание позитивного эмоционально- ценностного самоотношения прямого повышения самоуважения — первая когнитивная стратегия самовозвышения. В текстах приписываний в МУП эта стратегия реализовывалась в приписывании персонажу А (Я) трудолюбия, ответственности, альтруизма, профессионального мастерства. Другая стратегия, обнаруживающаяся у наших пациентов, заключалась в признании в себе негативных качеств, но только таких, за которые, по их мнению, они не могли нести личной ответственности (приписывание Я внешнего локуса контроля). Если пациенты видели причину снижения своей профессиональной компетентности или семейных неурядиц в "головной боли", треморе рук", "нервном срыве" или "трудном характере", то, демонстрируя самоотношение с симпатией, но неуважением, они, тем не менее, могли сохранять достаточно высокий уровень самоприятия (0,3-0,8 по КИСС), прибегая к известному защитному приему "деревянная нога" (Берн Э.). В субъективной логике пациента эти недостатки вовсе не исключали, а даже, напротив, как бы акцентировали его особенную моральность, хорошесть", что позволяло опять-таки путем наращивания аутосимпатии компенсировать снижение самоуважения. Обсуждая полученные результаты в более широком контексте проблемы аффективно-когнитивного взаимодействия, представляется правомерным и здесь увидеть проявление закона когнитивного подтверждения аффективного отношения. Когнитивные стратегий представляют собой разнообразные внутренние действия, служащие стабилизации образа Я и уменьшению диссонанса между когнитивными и аффективными компонентами самосознания. 1.6. Индивидуально-типологические стили стабилизации и защиты позитивного субъективно-выгодного самоотношения Под стилем защиты и поддержания позитивного самоотношения понимается относительно постоянная на длительных отрезках времени и индивидуально очерченная у каждого человека система внутренних и внешних "психотехнических" действий, нацеленных на "снятие" конфликта в сфере самосознания таким образом, чтобы обеспечить стабилизацию самоотношения и сохранение (частичное или полное) позитивной установки в адрес Я. Развитое и дифференцированное позитивное самоотношение предполагает самоприятие одновременно в двух ценностно-смысловых позициях, модусах личности: в модусе активного, самоэффективного, успешного Я и в модусе спонтанного, любящего, "теплого" Я. Напротив, парциальное или фрагментарное самоотношение реализуется посредством усечения одной из осей целостного самоотношения — аутосимпатии или самоуважения. В опубликованной нами монографии "Самосознание и самооценка при аномалиях личности " (М., 1989) изложены результаты изучения индивидуально-типологических предпочтений в формулах и стилях защиты самоотношения, обнаруженные у больных неврозом, депрессивных пациентов и пациентов семейной психологической консультации. Гипотеза исследования заключается в следующем. Уровень психологической дифференцированности, операциональными коррелятами которого выступают полезависимость и степень дифференцированности Яконцепции, существенно определяют ее индивидуально-типологические особенности, стили защиты и поддержания позитивного самоотношения и "профиль" взаимодействия аффективных и когнитивных образующих самосознания. Изучению этой проблемы, в частности, было посвящено Диссертационное исследование, выполненное под нашим руководством И.М.Кадыровым (1990). Обобщение результатов эмпирических исследований позволяет нам сформулировать ряд общих положений о специфических структурных характеристиках самосознания (Соколова Е.Т., 1991). Одной из особенностей "примитивной" малодифференцированной организации сознания является непереносимость амбивалентности и противоречия, невозможность существования в субъективной картине мира и образа Я "хорошего" и "плохо-го". Эта архаичность человеческого сознания нашла отражение в фольклорных и литературных произведениях в существовании парных персонажей, один из которых олицетворяет Добро, другой — Зло. Таковы образы злой Мачехи и доброй Феи, Бармалея и Айболита, Волка и Зайца. С психологической точки зрения подобный литературный прием опирается на механизм проективной идентификации, позволяющий снять неопределенность приписыванием другому полностью отвергаемых или желаемых, но недостижимых качеств. Архетипические образы Тени и Двойника иллюстрируют более глубокое и тонкое понимание душевной жизни, где Добро и Зло как части единого целого проникают друг в друга, не могут существовать одно без другого, а иногда просто меняются местами. Таковы, например, герои Достоевского, данные в одновременности, в сосуществовании и взаимодействии своих внутренних противоречий, выступающих в форме внешнего диалога между персонажами-двойниками. Каждый из персонажей служит зеркалом для героя, помогает проявить и опознать какую-то неизвестную, ранее потаенную грань его души, позволяет ей ожить, воплотиться и быть услышанной Другими. По мнению М.Бахтина, "диалогические отношения — явление гораздо более широкое, чем отношение между репликами композиционно выраженного диалога, это — почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение"1. Вскрыть специфику, индивидуальные особенности диалога — значит, понять внутренний мир человека, его нравственное и мировоззренческое отношение к другим людям и собственной личности. Согласно развиваемой нами концепции, психологические конфликты тогда становятся препятствием личностному росту и самоактуализации, когда прерывается, "расщепляется" взаимодействие, диалог Я-образов, каждый из которых, являясь существенной частью Яконцепции, силится "заявить о себе", заговорить" и "быть услышанным", но не принимается за "свой", отторгается или защитно трансформируется. Наиболее известен невротический конфликт между "Детским" и "Родительским" Я-образами, хотя в принципе ими могут быть любые, образовавшиеся в результате дихотомического противопоставления, аспекты личности, втянутые в реципрокные отношения. Иначе их можно назвать стереотипными ролями, идентификационными клише, представляющими искажение некоторых спонтанно и естественно функционирующих частей Я, и т. п. (Берн Э., Пассонс Р., Перле Ф., Рейнуотер Дж., Сатир В.., и др.). 1 Бахтин М.М., М. 1979. С.49 В процессе психотерапии благодаря вынесению вовне внутреннего диалога и его переадресации сначала терапевту, а затем реальной значимой фигуре удается восстановить разрушенные связи между отвергнутыми или навязанными извне хорошими" и "плохими" Я-образами. Удается также очистить внутренний диалог от вмешательства "чужого голоса" (затверженных родительских наставлений, например), идентифицировать свой и обнаружить его истинного "адресата". Признание и принятие всех аспектов своего аутентичного Я в противоположность "условному самоприятию" обеспечивает интегрированность Я-концепции, утверждает Я в качестве мерила самого себя и своей позиции в жизненном пространстве. Внутренний диалог здесь выполняет функции прояснения и утверждения самоидентичности, а его конкретные формы, причины возникновения и мотивы указывают на степень гармоничности — противоречивости, зрелости самосознания (Соколова Е.Т., 1992, 1995). В качестве особого внутреннего диалога, обнаруживающего внутреннюю природу невротического конфликта, рассматривается взаимоотношение между Всемогущим и Зависимым Я в структуре "расколотого" самосознания как отражение базового невротического конфликта между двумя мотивационными ориентациями: быть вместе, принадлежать, "зависеть" и "быть собой", "стремиться к совершенству и свободе". Расщепление самосознания и выделение двух относительно независимых его образующих, вбирающих в себя диаметрально противоположные качества образа Я, свидетельствует о нарушении его внутренней целостности, интегрированности, прежде всего — самопоследовательности и самоидентичности. Целью подобных трансформаций и искажений самовосприятия является достижение позитивного, "радужного" защитного самоотношения. Анализ таких специфических защитных тактик, маневров, образующих стиль защиты самоотношения, составляет предмет проведенного цикла исследований (Соколова Е.Т., 1989, 1991, Кадыров И.М., 1990). Полученные данные подтверждают наличие тесной связи между уровнем психологической дифференцированности (стилем личности) и особенностями организации и функционирования Я-системы, что находит выражение: а) в существовании устойчивых паттернов взаимодействия в структуре "Я — Другой" (активность — пассивность, доминирование — подчинение, зависимость — автономность); б) в стиле эмоционального реагирования (баланс позитивных-негативных эмоций, тип эмоционального контроля); в) в преобладающих стилях защиты и поддержания субъективно-выгодного самоотношения; г) в балансе эффективно-когнитивного взаимодействия в структуре самосознания. В группе пациентов с низким уровнем психологической дифференцированности преобладают следующие типы самоотношения и стратегии защиты. 1.6.1. Стиль "эмоциональной подпитки или утоления эмоционального голода" Качественный анализ всего массива эмпирических данных показывает, что в большинстве случаев центральное место в структуре болезненных переживаний занимают острые аффективные реакции "потери", вызванные распадом эмоциональных связей с близкими: уходом или смертью супруга или возлюбленного, отсутствием или нехваткой любви и понимания в семье. Для пациентов характерно переживание себя в пассивнострадательном ключе, как "ни к чему не способных", "никому не нужных", "обманутых жизнью и близкими". Их психологическое самочувствие полностью определяется отношением к ним объекта привязанности1. Собственное благополучие и счастье субъективно связываются с возможностью получить — заботу, внимание, материальную обеспеченность: "муж должен заботиться о ней и детях, тогда у нее всегда было бы много положительных эмоций. Отсутствие этого ее угнетает, иногда делает необыкновенно злобной, в общении с мужчинами привлекает материальная поддержка, защита от невзгод". Позитивное самоотношение как бы "подпитывается" реальным и ожидаемым отношением Другого, рассматриваемого исключительно в качестве "эмоционального донора". От того, в какой мере Другой выполняет эту функцию, зависит и переживание собственной самоценности или ее полное крушение ("поиграют с тобой и бросят, как ненужную игрушку"). Заметим, что отношения между беспомощным, малосильным "подпитываемым Я" и "подпитывающим Другим" достаточно амбивалентны: Я полностью зависимо от удовлетворяющего все его потребности Другого ("мечтает о муже, который делал бы все в соответствии с ее изменчивыми желаниями") и в то же время испытывает скрытую враждебность, страх "отвержения", "предательства", "равнодушия". Оценка и восприятие Другого как "хорошего" или "плохого" полностью определяется тем, в какой мере Другой способен выступать в качестве "объекта" привязанности-зависимости. Враждебность в адрес Другого имеет своим источником не только страх потери объекта любви, но и тот аспект зависимости, из-за которого Я не чувствует себя хозяином своей судьбы, а лишь игрушкой в руках Другого, суживающего и ограничивающего возможность самостоятельной и стабильной организации жизни. 1 Описываемый здесь тип самоотношения удивительно походит на феномен "эхосамооценки", типичной для детского и раннеподросткового возраста, что позволяет рассматривать его как симптом незрелости, дефицитарности Я (Соколова Е.Т., 1989; Соколова Е.Т., Чеснова И.Г., 1986). В качестве приемов совладения с враждебностью, как бы и неуместной в отношении Другого, держащего в своих руках благополучие и ценность Я, используется несколько защитных тактик. Все они представляют собой чисто внутренние действия, цель которых состоит в искажении в субъективно-выгодном свете образа Другого, на фоне чего в более позитивную сторону сдвигается образ Я. Подобная тактика реализуется путем субъективного усиления непохожести Я и не-Я вплоть до их поляризации: аморфный Я, "сам не знающий, чего хочет" — целеустремленный и прагматичный не-Я ("желающий многое узнать, увидеть"); "неустроенный", "невезучий", "болезненный" Я — "баловень судьбы", "удачливый" и "необремененный тяготами быта" не-Я; неудовлетворенный, занятый поиском и "приобретением" любви Я — "купающийся в достатке и довольстве" не-Я. Результатом подобных защитных "маневров" становится оправдывающая враждебность Я субъективная дискредитация позиции не-Я. Поляризация и дистанцирование используются также в целях усиления в восприятии собственной слабости и беспомощности. Здесь берет начало тактика, условно названная аутоинфантилизацией и аутоинвалидаци-ей — по аналогии с приемами родительской мистификации самосознания ребенка (Соколова Е.Т., Чеснова И.Г., 1986; Соколова Е.Т., 1989). В сравнении со сверхуспешным, "достойным" любви и уважения не-Я ничего не остается, как занять позицию слабого и беспомощного Ребенка, испытывающего зависть и восхищение по отношению к могущественному Родителю, и смиренно ожидать его покровительства. За достигаемую в такой позиции безопасность приходится платить полным отказом от самостоятельности, послушанием и беспрекословным подчинением всем требованиям, командам и "тычкам" со стороны сурового, но заботливого Родителя. Рядом авторов сходная динамика самопознания описывалась в терминах взаимоотношений между Эго и Супер-эго (Левенстейн Р., Моллон П., Ламп-де-Гроот Дж., Сандлер Дж., Шектер Д. и другие), в терминах самокоманд или автоматических мыслей (Бек А.), ловушек и маневров (Берн Э., Райл А.). Укажем еще на один Маневр, обеспечивающий сохранение позитивного самоотношения и совершаемый с помощью сверхидеализации не-Я: раз цель (потенциальное самоизменение) столь грандиозна, вряд ли стоит настраиваться на успех, по крайней мере в обозримом будущем. Происхождение защитных тактик связано с неизжитыми психотравмами раннего детства: материнской депривацией, а на более поздних этапах — стремлением матери сохранить симбиотическую связь с ребенком вопреки процессам психологического рождения и индивидуализации Я. По своему психологическому смыслу выделенный комплекс защитных тактик является инт-рапсихическим вариантом генерализованного стиля "эмоциональной подпитки", кроме внутренних действий включающего также и соответствующие стереотипы поведения. В случае их совместного действия риск дезадаптации резко усиливается из-за слабости и неэффективности механизмов рационального контроля и опосредования эмоциональных переживаний. Следует отметить, что описываемый здесь конфликт в структуре самосознания, на наш взгляд, не сводится к известным феноменам, в основе которых — несовместимость личностных притязаний и возможностей (Вольперт И.Е., Карвасарский Б.Д., Мясищев В.Н. и др.). Парадоксальность субъективной логики самосознания в данном случае обрекает личность на принципиальную неразрешимость внутреннего конфликта между одинаково нереализуемыми тенденциями в привязанности и автономии. "Выбор" самоидентичности производится между "хорошим", любящим и любимым, но слабым и неэффективным Я и не-Я — "плохим" (лишенным любви), но могущественным. Идентификация с "хорошей" частью своего Я означает в то же время и поражение (неэффективность, слабость и зависимость); идентификация же с могущественной — независимость без привязанности. Принципиальная неразрешимость подобной дилеммы ведет к переживанию состояния тотальной потери Я, "пустоты", "ничто" (Лакан Ж., Грин А.). Ужас подобного состояния, близкого к безумию, сопоставим с абсолютно невозможным нахождением между жизнью и смертью, когда "правда — ложь, да — нет, смерть — жизнь" мыслится как неделимое целое. Это целое не может вступать ни в какие комбинации; оно недиалектично, поскольку антитеза не подразумевает здесь никакого третьего элемента; это не какая-то двуличная сущность, а единый и небывалый элемент1. Защитой от грозящего безумия и становится расщепление самосознания, поскольку ложная дилемма соединила равно субъективно невыносимое: выбор между удушающей привязанностью и одинокой независимостью. Подобную структуру самосознания нам удалось выявить в подростковом возрасте и, как было описано в предыдущих главах — описать те способы интрапсихической защиты, которые развивает подросток в ответ на психологическое насилие родителей (см. главу II 1.3.3). 1 Барт Р. 1989. С.454. 1.6.2. Стиль самоприукрашивания и образования слепых пятен в самовосприятии Данный стиль защиты самоотношения своим аналогом имеет известные приемы вытеснения, отрицания, проекции и расщепления, смысл которых состоит в уклонении от встречи с собственными отвергаемыми или неодобряемыми качествами. Образовавшиеся "пустоты" заполняются субъективно желательными, но реально отсутствующими "достоинствами" и "добродетелями"1. Одна из наиболее распространенных защитных тактик заключается в акцентировании или прямом приписывании Я привлекательных и высоконравственных качеств: "трудолюбия и ответственности", "бескорыстного служения делу и отстаивания идеалов", "способности к самопожертвованию в дружбе и любви". Чрезвычайно популярен прием, который можно было бы назвать "умением из недостатка сделать добродетель". Так, присущая пациентам эмоциональная несдержанность, слабость самоконтроля в самосознании трансформируется в "принципиальность", "тонкость и артистичность"; замкнутость в общении — в "альтруизм", "нежелание перекладывать свои беды на плечи близких". В то же время не-Я лишается каких бы то ни было вызывающих симпатию черт и одновременно ему приписываются качества, оттеняющие "хорошесть" Я. Например, если для Я гарантией успеха в профессиональной сфере является "трудолюбие", то к не-Я успех "приходит не благодаря, а вопреки его способностям и возможностям"; Я обладает всеми добродетелями, позволяющими ожидать от других ответного чувства приязни — не-Я, напротив, "эгоистичен, корыстен, в любви и дружбе ищет только самоутверждения и личной выгоды". Обеспечивая сиюминутную "выгоду" — снижение тревожности и достижение позитивного самоотношения, подобная тактика в целом, как средство систематической саморегуляции, недостаточно эффективна. Вопервых, за счет асимметричной атрибуции "хороших" и "плохих" качеств усиливается Дистанцирование между Я и не-Я вплоть до расщепления, исключающего всякую возможность коммуникации, диалога, а следовательно, и самокоррекции. Во-вторых, систематическое использование "самоублажающей" стратегии приводит к переоценке самоэффективности и использованию "публичного Я" как средства манипулирования оценками Других. Самоприукрашивание можно соотнести и с одним из приемов интрапсихической инграциации (термин Якубика А.), или интрапсихической "метакоммуни кации" (термин Лэнга Р.), рассчитанной на обеспечение позитивного, шире — субъективно-выгодного, самовосприятия и самооценки исключительно посредством манипулирования знанием о себе, минуя реальные изменения собственной жизни и себя в ней. 1 Сходный феномен "ложного Я" описан в литературе как компенсаторный результат "потери" в раннем детстве материнской любви и привязанности (Боулби Дж., Винникот Д., Крон А.) Уязвимость стиля самоприукрашивания и в том, что он неизбежно ведет к конфронтации с Другими, поскольку только обесценивая окружающих, Я способно сохранить самоценность и самоприятие. Оказавшись в изоляции, один на один с собой Я не может поддерживать идеализированно-фальшивый образ Я, ибо он по своей природе "публичен". "Раздутая" в противопоставлении себя Другим, в их отсутствии самооценка "чахнет". 1.6.3. Стиль "привлечения рациональных аргументов в свою пользу" Анализ субъективного анамнеза, данных тематического интервью, а также MMPI и теста Люшера показали, что в преморбиде пациенты этой группы, как правило, отличались выраженными амбициями, потребностью в самоутверждении, завышенным уровнем самооценки. Стиль "привлечение рациональных аргументов в свою пользу" оказался более распространенным среди пациентов с относительно высоким уровнем психологической дифферен-цированности я-концепции. Он характеризуется сравнительно высокой автономностью, устойчивостью самооценки к дезорганизующим воздействиям эмоциональных факторов. Суть стиля привлечения рациональных аргументов в свою пользу состоит в том, что для нейтрализации или смягчения эмоциональной значимости событий, могущих угрожать позитивному самоотношению, пациент прибегает к поиску "объективных", "логических" или "научных" доводов. Как правило, подобная аргументация бывает хорошо разработана, систематизирована и становится не просто временным, ситуативным средством разрешения конфликта, но в определенном смысле являет собой жесткую программу жизни, своего рода кодекс жизненных правил. Другим источником этой стратегии выступает опора на объективные достижения и обыденный опыт, значение которого в высшей степени фетишизируется, принимается за единственно верную точку отсчета в оценке других людей и самого себя. В оценке себя пациенты подчеркивают свою преданность делу. ими руководят, как правило, высокие идеалы: в работе привлекает "желание создать новое... навести порядок... быть хозяином на своем месте"; в дружбе "он уважает компетентных людей", в любви ищет женщину, "которая уважала бы и поддерживала положительные качества и способствовала устранение нежелательных". При анализе текстов диагностической беседы, данных МУП обращает на себя внимание особая стилистика речи таких больных, манера самовыражения — регламентированная, скрупулезная, пунктуальная. К примеру, отвечая на вопрос, каким мог бы быть мужем похожий персонаж, пациент по пунктам перечисляет: "В своей оценке мог бы быть отличным мужем: а) хозяйственным, чистоплотным, экономным; б) не очень привередливым в еде; в) не пьющим, не курящим, не изменяющим, не ругающимся матом; г) сильным в сексуальном плане; д) терпеливым, рассудительным, веселым и активным в компании; е) умеющим выражать претензии в шутливой форме; ж) хорошим отцом; з) активным в посещении театров, музеев, кино, концертов, выставок, турпоездок". Подобная тактика самообоснования не нуждается в диалоге с Другим — Другому просто не встроиться в столь детально разработанный монолог. Между тем, явная "чрезмерность" аргументации, навязчивая пунктуальность и сверхдетализирован-ность позволяют за фасадом раздутой самооценки Всемогущего Я разглядеть тщательно маскируемую неуверенность в себе. Основная линия защиты: приписывание себе качеств в превосходной степени — Другие автоматически проигрывают, оказываются не столь социально активными, менее разборчивыми в личной жизни, большими индивидуалистами и т.п. Чем более "аргументирована" самозащита, тем яснее слышится голос одинокого человека, недоумевающего, почему несмотря на "явные достоинства" и "правильную" жизненную позицию его не любят, не ценят, не понимают. В рамках данного стиля могут использоваться и некоторые другие приемы поддержания позитивного самоотношения, в частности, жесткое противопоставление Я и не-Я. Основными личностными конструктами становятся следующие оппозиции: просоциальная альтруистическая мотивация профессиональной и личной жизни против легкомыслия, прагматичности, индивидуализма; бескорыстная забота о благополучии близких против эгоистического и тщеславного самоутверждения; борьба с многочисленными трудностями жизни против "везения", "бонвиванст-ва". Благодаря такой "призме" окружающая действительность и Я воспринимаются четко и нормативно поделенными на хорошее" и "плохое". "Хорошее" — это все то, что просто, ясно, понятно, согласуется со здравым смыслом и долгом. Хорошая жена — "должна поддерживать", "должна удовлетворять требованиям", друзья — "должны быть верными", миропорядку без сомнения угрожает "процветание воров, наглецов, взяточников, карьеристов, бездарей, завуалированных бездельников и подхалимов". Рассматриваемый с этических позиций, человек с установкой "долженствования" напористо требует от мира, чтобы он, этот мир, соответствовал его представлениям о нем. Сам же он этот мир (и себя в том числе) не "видит", не ощущает во всей его витальности, чувственности и многообразии — он "видит" лишь собственные искусственные и блеклые построения-схемы Он не диалогически вопрошает, а монологически-агрессивно насаждает свои фантазии и догмы — в том числе и о себе самом Его независимость — мнимая, он не зависит от живой реальности, но зависит от пут правил, предписаний и норм. В структуре его самосознания доминирует позиция ригористичного и преследующего Всемогущего Я, защищающего нереалистические представления о своем "совершенстве" и заглушающего голос слабого аутентичного Я. Выделенные по данным обследования невротических и депрессивных пациентов стили поддержания позитивного самоотношения по своему происхождению и функциям предназначены для защиты и компенсации тщательно маскируемой глубинной неуверенности в себе, дефицита самоуважения и самоприятия. Существенной особенностью всех описанных выше защитных стратегий, вскрывающейся при анализе микроструктуры самоотношения, является особый тип восприятия и отношения к Другому, через которого и посредством которого утверждается и обосновывается самоидентичность. Диалог как репрезентация внутреннего мира субъекта другому субъекту (Бахтин М.М.) оказывается для невротических пациентов недоступным. Другой предстает исключительно объектом удовлетворения мотивации эгоцентрического самоутверждения, источником "подпитки", говоря метафорически — чем-то вроде материнской груди, полной душистого и сладкого живительного напитка или "пустой" — обрекающей на голодную смерть. Другой необходим, чтобы из него (всего лишь непохожего, отличного от Я) сделать "врага", приписав ему все мыслимые и немыслимые пороки, и таким образом возвыситься и обелить себя. Другого можно и вовсе не слушать, настолько аргументированной кажется собственная позиция. В любом из выделенных стилей отсутствует контакт Я и Другого, контакт как принятие в расчет Другого — с его уникальным внутренним миром, мировоззрением и нуждами. Это означает также, что в самосознании невротических пациентов отсутствует полноценный контакт со своим "интимным" аутентичным Я во всей противоречивости его "хорошего" и "плохого". Вместо реальной многоголосицы улавливаются лишь отдельные слабые голоса частичного, фрагментарного Я, остальные же — подавляются или искажаются защитными структурами демонстрируемого публичного Я. Диалог как внутренний, так и внешний, как живое событие - встреча, как событие равноправных сознаний невротической личности оказывается абсолютно недоступным. Здесь видится та самая этическая и психологическая незрелость? ..".ущербность" Я, которая ранее обозначалась нами как "потребительская" смысловая позиция (Соколова Е.Т., 1989 1991). Таким образом, клинико-экспериментальные исследования оказывают связь между уровнем психологической дифференцированности Я-системы и используемыми стилями самозащиты. Пациенты с низким уровнем психологической дифференцирован-ности тяготеют к использованию более аффективно-насыщенных стилей защиты субъективновыгодного самоотношения, таких, как эмоциональная подпитка, аутоинвалидация и аутоинфанти-лизация, самоприукрашивание и образование слепых пятен в самовосприятии, в то время как пациенты с более высоким уровнем психологической дифференцированности предпочитают более "когнитивный" стиль поиска рациональных аргументов. По всему массиву эмпирических данных описаны следующие более частные приемы (тактики) самозащиты: 1) усиление воспринимаемого несходства не-Я вплоть до поляризации Я и не-Я; 2) аутоинфантилизация и аутоинвалидация; 3) сверхидеализация или дискредитация не-Я; 4) прямое приписывание Я позитивных качеств; 5) "превращение недостатков в добродетель"; 6) самоутверждение с помощью опоры на рациональную" жестко-регламентированную программу жизни и "здравый смысл". 1.7. Расщепление образа телесного Я в структуре пограничной личности у лиц с пищевыми аддикциями 1.7.1. Некоторые теоретические направления исследования образа телесного Я в зарубежной психологии По мнению Р.Уайли (1979), до настоящего времени существуют значительные различия во взглядах исследователей на проблему связи между Я-концепцией (образом Я, понятием Я, феноменальным Я и т.п.) и различными переменными телесного опыта. Одной из причин этого, по ее мнению, является нежелание авторов делить на два класса тесно связанные между собой психологические образования. Тесное единство телесного опыта и образа Я было показано еще З.Фрейдом (1924), подчеркивавшим важнейшую роль тела как психологического объекта в развитии эгоструктур, а также в генезе психопатологии, в частности, в развитии симптомов конверсионной истерии. Понятие телесного переживания заняло видное место в его генетической теории, согласно которой процесс развития был представлен как процесс изменения "локализации либидо". Фиксация интереса к определенной зоне тела становится начальным пунктом процесса формирования характера определенного типа, так же как и аномального развития личности. Позднее А.Адлер показал существование тесной связи между образом телесного Я и самооценкой (в частности, некоторые типы человеческого поведения представляют собой попытку компенсации истинной или воображаемой ущербности тела). Однако в дальнейшем психоаналитические конструкции становились все более и более "социальными". Теории, которые продолжали использовать категории "локализация либидо" "страх кастрации", "телесный символизм" уходили с психологической сцены. Неофрейдистские теории, а затем и теории гуманистической ориентации, избавившись от "низменного" аспекта фрейдовской системы, практически отказались и от рассмотрения роли телесных переживаний в организации и дезорганизации поведения, избрав в качестве единственного объекта исследований образ духовного Я. В силу этого Я описывается только в терминах, относящихся к этой духовной сфере. Телесный опыт лишь в редчайших случаях рассматривается как компонент образа Я и остается практически за пределами психологических теорий личности. Говоря словами М.М.Бахтина, между словом и телом существует "безмерный разрыв" (1975). По мнению Фишера, отсутствие телесного Я во многих "Я-концепциях" отражает общую тенденцию неприятия биологически ориентированных теорий поведения. Духовное Я позволяет в определенной степени гуманизировать образ человека, который механически упрощали биологизирующие теории. Но в то же время невозможно игнорировать тот факт, что пространство, в котором существует Я, есть человеческое тело, а самоощущение всегда проявляется в форме телесного переживания. “Я ощущает себя имеющим "местонахождение" внутри тела. Это "местонахождение" строго локализовано. Но Я никогда себя с телом не отождествляет. Тело является одним из объектов его восприятия, подобно другим объектам, представленным в трехмерном пространстве... тело — ограниченный объект, имеющий границу вокруг Я — последнее существует внутри границ. Тело — это именно тело, и оно определяется термином "мое". Я же осознает себя в нем воплощенным. Не имея протяженности, Я имеет "местонахождение". Оно никогда не "там", как воспринимаемая вещь, оно всегда "здесь", и это "здесь" осознается где-то внутри телесных границ" (Ландхольм, 1946)1. 1 В последнее десятилетие интерес к телесному модусу переживания своего духовного Я возрождается в теориях гештальт-психотерапии и психосинтеза. Взгляд на тело как на границу Я, с одной стороны, и тезис психоанализа о способности к различению внутреннего мира субъективных желаний и внешнего мира объектов как важнейшем достижении нормального развития ребенка, с другой, стали отправными пунктами в построении первого направления исследования телесного опыта. Речь идет об исследовании "границ образа тела" (body image boundary). Это понятие было введено С. Фишером и С.Кливлендом (1958), которые исходили из того, что люди различаются по тому, насколько "твердыми", "определенными", "предохраняющими от внешних воздействий", отгораживающими от внешнего мира" они воспринимают границы собственного тела. Как правило, это восприятие неосознанно и проявляется в чувстве определенной отграниченности от окружающей среды. В патологии, например, при повреждении мозга или при шизофрении иногда наблюдается размытие или даже исчезновение ощущаемых границ тела и смешение событий, которые происходят внутри и вне физических границ тела. Авторы предложили оригинальный метод установления степени четкости и определенности границ образа тела, основанный на специальном анализе протоколов методики Роршаха. На основании этого анализа высчитываются два показателя — "барьер" (В) и "проницаемость" (Р). Чем выше первый показатель и ниже второй, тем четче и определеннее границы образа своего тела. Чем ниже показатель "барьер" и выше "проницаемость", тем более расплывчаты и неопределенны эти границы. Показано существование устойчивой связи между степенью определенности границ образа тела и особенностями локализации психосоматических симптомов, некоторыми психофизиологическими и личностными характеристиками человека. У лиц с высоким уровнем определенности границ в сознании яснее представлены внешние покровы тела. Психофизиологическими коррелятами эмоциональных состояний у них чаще являются различные изменения состояния кожи и мускулатуры (покраснение или побледнение, "мурашки", ступоры и т.п.). В случае психосоматизации симптомы чаще всего локализуются в области внешних покровов (экземы, дермиты и т.п.). Исследования выявили у подобных субъектов более стабильную адаптацию, сильную автономию, выраженное стремление к эмоциональным контактам. У лиц с низкой степенью определенности границ образа тела в сознании более отчетливо представлены внутренние органы. На эмоциогенные стимулы они реагируют Изменением состояния желудочнокишечной и сердечно-сосудистой систем. С этими органами тела связаны и психосоматические симптомы. Личностные особенности проявляются в слабой автономии, высоком уровне личностной защиты, неуверенности в социальных контактах (Фишер С, 1958, 1970). Но в чем сущность таких границ? Являются ли они специфическими формами телесного ощущения или же это вариант установки по отношению к связям с внешним миром? Фишер и Кливленд, опираясь на концепцию объектных отношений, исходят из тезиса, что личность может быть рассмотрена как некая "интернализация" системы связей социальных объектов. Сама "интернализация" рассматривается как интериоризация взаимоотношений индивида со значимыми персонажами его окружения. Такая интериоиризированная системная связь обладает качеством "ограниченности", т.е. имеет определенные границы. Например, если отношения ребенка с матерью основаны на четких, понятных, хорошо определенных ожиданиях и установках с обеих сторон, то границы этой интериоризирован ной системы будут четкими, хорошо определенными. Далее авторы делают вывод о том, что качества границ первичных интериоризаций распространяются на границы образа тела и определяют способы реагирования на стимулы внешнего мира. Так, люди с хорошо определенными границами внутренних систем будут с большой вероятностью четко ориентированы и вовне", в межличностных взаимодействиях. На уровне личностных особенностей это проявляется в выраженной автономии, легком приспособлении к окружению, заинтересованности в контактах с другими. На уровне телесного опыта это проявляется в более выраженном осознании тех его участков, которые связаны с осуществлением внешних контактов, т.е. внешних покровов тела. С их изменением будут связаны и эмоциональные состояния. Таким образом, "границы образа тела" не являются основой этих личностных и психофизиологических особенностей — и те, и другие — лишь форма проявления более базисной характеристики: особенностей интериоризированной системы отношений с социально заданными объектами. Итак, существует тесная связь между переменными Я-концепции и формами телесного опыта, в данном случае — особенностями границ образа тела. Психоаналитически ориентированные исследователи, работающие в клинике шизофрении, давно уже исходят из этого положения. Как известно, еще Фрейд рассматривал шизофрению как следствие нарушения процесса разделения Я и внешнего мира в результате регресса на более ранний этап развития психики. Этот регресс проявляется в искажении образа тела, нарушении восприятия и мыслительной деятельности. Первая экспериментальная попытка рассмотреть шизофренические нарушения под этим углом зрения была предпринята В.Тауском (1910), который ввел понятие "границы Я". По его мнению, ранний и примитивный телесный опыт (т.е. телесное Я — в концепции психоанализа) играет решающую роль в формировании и интеграции границ Я. Нарушение в структуре телесного Я неминуемо приводит и к нарушению границ Я. Тауск рассматривает шизофренический бред "влия-ния с помощью аппаратов" (т.е. бред воздействия) как регрессивную проекцию своего собственного тела на внешний мир. Эти "влияющие аппараты" имеют свои корни в раннем детстве ребенка, когда из-за нарушений границ телесного Я его тело воспринималось им как посторонний объект. Известная исследовательница детских психозов и видный представитель концепции объектных отношений, М.Малер (1952) делает акцент на роли развития телесного Я младенца в усилении чувства отделенности его от тела матери. Согласно психоаналитическим взглядам, вначале ребенок не различает собственное тело и тело матери. Дискриминативный характер контакта ребенка с телом матери (мать ласкает его, прижимает к себе) является основой различения Я и не-Я, еще слитых на стадии психосоматического симбиоза матери и младенца. Эти контакты создают основу для накопления опыта, приводящего к осознанию границ собственного тела. В основе многочисленных детских психозов, которые наблюдала Малер, лежит неудачная попытка достичь нужного уровня дифференцированности границ своего тела. Возникновение чувства целостности собственного тела, четкости и определенности его границ тесно связано с периодически возникающими циклами сомато-сенсорной стимуляции, идущей от матери на ранних стадиях симбиоза с младенцем. Неспособность к интеграции этой стимуляции приводит к недоразвитию чувства целостности и ограниченности собственного тела, а также к появлению различных перцептивных и когнитивных нарушений. Такого рода нарушения оказывают сильное воздействие на все последующее развитие Я. С точки зрения Малер, основным симптомообразующим фактором, организующим шизофреническую патологию, является неудачная попытка сохранения интеграции телесного Я путем регрессии на стадию психосоматического симбиоза с матерью. В дальнейшем это теоретическое представление о менее определенных границах образа тела при шизофрении получило экспериментальное подтверждение в ряде исследований, где использовался метод Фишера и Кливленда: оказалось, что больные шизофренией имеют более высокий "барьер" (Фишер, Кливленд, 1958; Кливленд, 1960; Фишер, 1964) и более низкую проницаемость" (Фишер, Кливленд, 1958), чем невротики и здоровые испытуемые. Итак, первое направление исследований образа тела и его связи с Я-концепцией исходит из представления о теле как своеобразном хранилище Я, обладающем более или менее определенными субъективными границами. Второе направление исследований связано с другой характеристикой тела — "внешностью". В этих исследованиях тело рассматривается, с одной стороны, как носитель личных и социальных значений, ценностей и т.п., а с другой — как объект, обладающий определенной формой и размерами. Соответственно выделяются два подхода. Представители первого делают акцент на эмоциональное отношение к собственной внешности Второй опирается на исследование когнитивного компонента и отвечает на вопрос: "Насколько точно субъект воспринимает свое тело?". В первом случае используются такие понятия, как "значимость" и "ценность" тела, "удовлетворенность" им; во-втором — речь идет о "точности", "недооценке", "переоценке", "искажении" в восприятии тела. Часть работ сторонников первого подхода сфокусирована на ценности, которую люди приписывают различным частям своего тела. В одном из таких исследований большому количеству испытуемых предлагалось оценить в долларах стоимость каждой части тела. Наиболее "дорогостоящими" оказались нога, глаз и рука. При этом психически больные субъекты "дешевле" оценивали тело, чем нормальные испытуемые, а женщины — "дешевле", чем мужчины (Плучек с соавт., 1973). В другом исследовании около 1000 мужчин и 1000 женщин должны были расклассифицировать в соответствии с их значимостью 12 частей тела (в этом исследовании использовался другой список частей тела). Социоэкономический статус влияния на ответы не оказал. Мужчины оценили половой член, яички и язык как наиболее важные. Эта оценка не зависела от возраста, лишь у старых людей несколько снижалась оценка половых органов. У женщин оценки оказались менее определенными, лишь у тех, кому было за 70, язык стабильно оказывался на первом месте (Уэйнстейн С. с соавт., 1964). Физическая болезнь или увечье значительно меняют субъективную ценность различных частей тела (З.Липовски, 1975). Направленность изменения ценности зависит от степени повреждения части тела и от ее прежней субъективной значимости. Ценность отдельных телесных качеств может изменяться под влиянием общественных процессов. Так, у японцев во время второй мировой войны в образе тела полностью обесценивалась грудь, а идеальной считалась плоская грудная клетка (женщины носили мужскую военную форму). Однако после войны под влиянием западной культуры образ тела радикально изменился, и в 50-х годах японские женщины стремились иметь грудь "голливудских" размеров (Фишер, Кливленд, 1958). Другая часть работ в рамках этого подхода направлена на анализ связи между эмоционально-ценностным отношением к своей внешности и различными переменными Я-концепции-Чаще других для этого используются методики, предложенные С.Журардом и Р.Секордом (1955): "шкала отношения к телу" и "шкала самоотношения". В первой испытуемые должны оценить по семибалльной шкале "нравится — не нравится" 46 частей и качеств собственного тела. Суммарный показатель удовлетворенности телом сравнивается с общим показателем удовлетворенности собой, полученным с помощью второй методики. Если в первой методике испытуемые оценивают такие понятия, как "нос", "ноги" или "цвет глаз", то во второй речь идет о "силе воли", "уровне достижений", "популярности" и т.п. Результаты исследований показали, что существует высокая положительная корреляция между удовлетворенностью телом и удовлетворенностью собой. Последующие работы подтвердили эти данные (Джонсон Л., 1956; Гандерсон Е., Джонсон Л., 1965). В более поздних исследованиях обнаружено, что только определенные зоны тела оказывают влияние на самооценку и степень самоуважения личности (Махони И., 1974; Махони И., Финч М., 1976). Существует высокая зависимость между уровнем личностной депрессии и степенью неудовлетворенности телом (Марселла А., 1981). Высокая корреляция обнаружена между удовлетворенностью телом и ощущением личностной защищенности (Уэйнберг, 1960), а также между успешностью самореализации и оценкой собственного тела (Сион Л., 1968). Второй подход представлен работами по изучению точности восприятия своего тела. Как правило, эти исследования основаны на использовании различных аппаратурных методик — зеркал с меняющейся кривизной, подвижных рамок, искаженной фотографии, телевидеотехники и т.п. Получены интересные данные о зависимости точности самовосприятия от состояния сознания испытуемого (Сэйвэж К., 1965; Джилл М., Бренман М., 1959), от возраста (Кетчер Э.? Левин М., 1955), от культурных стереотипов (Эркофф Н., Уивер Н., 1966), от коэффициента умственного развития (Шонц Ф., 1969; Шафер Дж., 1964), от самооценки (Бодалев А.А., 1965). В ряде работ показано, что при различных видах психической патологии, особенно при нервной анорексии (Гарнер Д., 1976, 1981) и шизофрении (Кливленд, 1962), наблюдаются выраженные нарушения восприятия собственного тела. Подобные нарушения отмечаются и у лиц, страдающих ожирением (Гарнер, 1976). Несмотря на обилие экспериментальных данных, доказывающих существование тесной связи между особенностями образа тела и Яконцепцией, большинство исследователей не дает содержательно-психологического объяснения этой связи, ограничиваясь лишь указанием на их взаимовлияние. Если первое направление исследований образа тела (тело как вместилище Я) еще имеет в своей основе какую-то теоретическую парадигму, то данное направление в большинстве своем представлено работами, в которых обильные корреляционные связи между переменными телесного опыта и Другими, "не телесными", показателями полностью заменяют собой содержательный анализ. Третье направление исследования образа тела и его связи с Я-концепцией в отличие от предыдущего имеет четкую методологическую основу, тесно связанную с психоаналитической теорией. Речь идет об исследовании тела и его функций как носителей определенного символического значения. Еще первые психоаналитически ориентированные исследователи при анализе конверсионной истерии пришли к выводу о том, что необычные сенсорные и моторные нарушения в определенных частях тела необходимо должны рассматриваться как символическое выражение желания. Например, руки или ноги символически приравниваются к пенису, а их паралич говорит о торможении сексуальных импульсов (Фенишел О., 1945). Т.Шаш (1975) рассматривает истерический симптом как некоторый "иконический знак" — способ коммуникации между больным и другим человеком. Больные истерией бессознательно используют свое тело как средство коммуникации, как протоя-зык для передачи сообщения, которое невозможно выразить обычным способом. Таким образом, соматические жалобы, боль и другие ощущения приобретают коммуникативную функцию. Значительный вклад в экспериментальное изучение этой проблемы внесли работы американского психолога С.Фишера. Для выявления особенно значимых и осознаваемых участков тела он использовал созданный им "опросник телесного фокуса". Опросник представлен 108 парами различных частей тела (например, ухо — левая нога). Испытуемый должен выбрать ту из них, которая в данный момент яснее и отчетливее представлена в его сознании. Опросник позволяет оценить индивидуальный способ распределения внимания по восьми зонам тела (передняя — задняя, правая — левая, живот, рот, глаза, руки, голова, сердце). Результаты показали, что субъекты с выраженным "интересом" к определенной зоне тела обладают сходными особенностями личности, выявленными с помощью других опросников и проективных методик. Например, интерес к сердцу соответствует у мужчин озабоченности моральными и религиозными проблемами, а у женщин — общительности и доброжелательности; внимание ко рту характеризует агрессивных мужчин и стремящихся к власти женщин. При интерпретации результатов С.Фишер активно привлекает традиционные психоаналитические символы. Например, высокая корреляция между выраженной осознанностью задней зоны тела и такими личностными чертами, как контроль над импульсами и негативизм, интерпретируется в соответствии с фрейдистской теорией "анального характера". Итак, связь между "осознанностью" зоны тела и определенными личностными чертами объясняется существованием символического значения этого участка тела. Такое значение, как правило, не осознается и отражает внутриличностные конфликты и защиты, интерес к определенным телесным ощущениям или, наоборот, стремление их избежать. Конфликты могут иметь отношение к сексуальным или агрессивным импульсам, стремлению к власти, близости с другими и т.п. Эти символические значения частично определяются детскими переживаниями. Если значимые для ребенка люди придают особый смысл какой-либо части тела или его функции, подчеркивая ее ценность или, наоборот, отрицательно реагируя на симптомы, связанные с ней, то у ребенка образуются ассоциативные связи между этой частью тела или функцией, с одной стороны, и особым к ней отношением или поведением — с другой. Например, если мать часто жалуется на головную боль, ребенок может установить связь между "головой" и выражением недовольства и раздражения, которые он замечает у матери в таком состоянии. В то же время результаты экспериментов Фишера доказывают существование не только индивидуальных, но и общих для определенной популяции людей символических значений отдельных частей тела. Так, связь между высокой степенью представленности в сознании такого органа как глаза и стремлением к объединению с другими людьми Фишер объясняет через метафорическое значение глаз как "принимающих", "впускающих внутрь себя" окружающий мир. Подобные значения образуются уже не в ходе индивидуального развития, а внутри опыта целой культуры. По мнению Липовски (1981), знание символического значения частей тела и их функций важно для клиницистов, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, конфликты и влечения часто сопровождаются соматическими проявлениями, которые затем становятся символически связанными с темами конфликтов. Эти соматические симптомы могут в дальнейшем повторяться, как только субъект попадает в аналогичную ситуацию, и в силу этого могут быть ложно интерпретированы как проявление болезни. Во-вторых, повреждение части тела или его функции часто активизирует символическое значение, связанное с ней, и приводит к эмоциональной гиперреакции, иррациональным установкам и поведению. Любой из этих психопатогенных механизмов может сработать даже в случае небольшой травмы или легкой физической болезни. Это объясняет некоторые из "идиосинкразических" и патологических поведенческих реакций на органические телесные повреждения. Итак, мы описали три основных направления изучения телесного опыта (с точки зрения его представленности в самосознании) в зарубежной клинической психологии. Каждое из них опирается на одну из функций (или характеристик) телесного опыта: хранилище Я и граница личного пространства, внешность, носитель определенных символических значений. Особую и весьма сложную проблему представляют связь и соотношение между используемыми в литературе терминами касающимися различных аспектов телесного опыта. Мы намеренно не касались обсуждения этой проблемы ранее, чтобы представленный в первой части материал помог читателю реальнее представить, какие эмпирические факты и теоретические конструкции стоят за каждым из терминов. Ключевым и самым употребляемым понятием в данной области является понятие "образа тела". Анализ литературы позволяет выделить три главных подхода к его определению. Первый представлен работами, в которых образ тела рассматривается как результат активности определенных нейронных систем, а его исследование сводится к изучению различных физиологических структур мозга. В этом случае понятие "образ тела" часто отождествляется с понятием "схема тела", которое было предложено Боньером в 1893 г. и активно использовалось в работах Хэда (1920). Оно означает пластичную модель собственного тела, которую каждый строит, исходя из соматических ощущений. Схема тела обеспечивает регулировку положения частей тела, контроль и коррекцию двигательного акта в зависимости от внешних условий. Работы Г.Хэда вызвали к жизни много клинических, (особенно в области неврологии) исследований по восприятию тела, опирающихся на понятие "схема тела". Факты нарушения телесного осознания (например, потеря ощущения тела при левосторонней гемиплегии) вели к поискам мозговой локализации схемы тела. Была выдвинута гипотеза о том, что нарушение переживания тела типа анозогнозии обусловлено повреждением теменной доли субдоминантного полушария. Более поздние работы показали, что в осуществлении акта телесного осознания принимают участие обе теменных доли, сенсомоторная кора, теменно-затылочная область и височные отделы головного мозга. Попытки отождествления схемы тела и образа тела предпринимаются лишь в работах физиологов и неврологов. В психологических исследованиях эти понятия четко разводятся, хотя и по различным основаниям. Например, П.Федерн (1952) считает, что схема тела описывает стабильное, постоянное знание о своем теле, а образ тела является ситуативной психической репрезентацией собственного тела. Более признанным и распространенным основанием разведения этих понятий является различная природа феноменов, стоящих за ними: схема тела определяется работой проприоцепции, а образ тела рассматривается как результат осознанного или неосознанного психического отражения. Второй подход рассматривает образ тела как результат психического отражения, как определенную умственную картину своего тела. Внутри данного подхода происходит смещение нескольких понятий. В частности, Дж. Чаплин (1974), определяя образ тела как "представление индивида о том, как его тело воспринимается другими, считает образ тела синонимом "концепции тела". По мнению Д.Беннета (1960), "концепция тела" лишь один аспект телесности, другим является "восприятие тела". Последнее рассматривается им как, в первую очередь, зрительная картина собственного тела, а "концепция тела" определяется операционально, как набор признаков, указываемых человеком, когда он описывает тело, отвечая на вопросы или рисуя фигуру человека. Причем если индивид описывает абстрактное тело, то это "общая концепция тела", если же свое собственное — это "собственная концепция тела". В отличие от "восприятия тела" "концепция тела" в большей степени подвержена влиянию мотивационных факторов. Представители третьего подхода рассматривают образ тела как сложное комплексное единство восприятий, установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью, и с функциями тела. Такой взгляд на образ тела в настоящее время наиболее распространен. В качестве примера теоретических систем этого подхода приведем уровневое описание образа тела, сделанное известным исследователем в данной области Ф.Шонцем (1981). В его теоретической конструкции образ тела представлен на четырех уровнях: "схемы тела", "телесного Я", "телесного представления" и "концепции тела" (Шонц Ф., 1974). Восприятие тела как объекта в пространстве — фундаментальный уровень телесного переживания. Схема тела обеспечивает представление о локализации стимулов на поверхности тела, об ориентации тела в пространстве и положении частей тела относительно друг друга, простое гедонистическое различение между болью и удовольствием. Схема тела стабильна и нарушается только при таких глубоких воздействиях, как повреждение мозга, нарушение иннервации и действие фармакологических препаратов. Даже такие серьезные психические нарушения, как невроз и психоз, минимально влияют на нее. Жизненный опыт разделяется на тот, который относится ко мне, и тот, который ко мне не относится. Ребенок начинает постигать мир тоже исходя из своего собственного тела: он учится различать "внутри" и "снаружи", "перед" и "после", там "и "здесь" и другие телесно определяемые обозначения дистанции и направления. Этот уровень образа тела определяет телесную самоидентичность. Как правило, представление человека о своем теле непрерывно развивается. Фантазии и сны обычно опираются на непривычные знаки и символы и часто не следуют правилам и логике. Одновременно тело и его функции могут иметь несколько обозначений. Например, человек, называющий себя обезьяной, может привести несколько доводов в подтверждение этого Он думает о себе так, потому что он ловок и проворен или же потому что он оценивает себя примитивным, или от того, что он очень волосат. На этом уровне замыкаются элементы других уровней образа тела. Концепция тела — формальное знание о теле, которое выражается с помощью общепринятых символов. Части тела имеют названия, их функции и взаимоотношения наблюдаемы и могут быть объективно исследованы. Этот тип осознания тела полностью соединяется с рациональным пониманием и служит регулятором поведения, направленного на поддержание здоровья и борьбу с болезнями. Крупнейший теоретик в данной области Фишер вынужден признать: существует серьезная путаница в использовании ряда терминов, имеющих отношение к образу тела. Но, по его мнению, нет особого вреда в их использовании, они представляют собой лишь удобные пути описания эмпирических фактов. Не стремясь дать строго исчерпывающее определение образа тела, он предпочитает пользоваться максимально широкой категорией "телесный опыт", которая охватывает все, имеющее хоть какое-либо отношение к психологической связи "индивид — его тело". По мере необходимости эта категория конкретизируется и приобретает более определенное значение. При исследовании воспринимаемых субъектом объективных параметров своего тела подразумевается "восприятие тела", когда дело касается связи с более широкими психологическими системами — "концепции тела". При анализе особенностей распределения внимания к различным участкам тела используется термин "осознание тела". Категория "телесного Я" появляется, когда исследуются особенности телесной самоидентичности. 1.7.2. Эмпирическое изучение телесного опыта у пациентов с пищевыми аддикциями В данном разделе на примере изучения лиц с нарушением пищевого поведения при нервной анорексии и ожирении рассматривается связь образа телесного Я и самоотношения (Соколова Е.Т., 1989, 1991; Соколова Е.Т., Дорожевец А.Н., 1985, 1991; Соколова Е.Т. в соавт., 1986). Выдвигается гипотеза о детерминации направления искажения образа телесного Я "знаком" самоотношения и уровнем дифференцированности аффективно-когнитивного взаимодействия как интегрального показателя зависимости — автономии в структуре личностного стиля. Предполагается далее, что чем большей субъективной ценностью обладают телесные качества Я и чем больше диссоциация между Я-Грандиозным и Я-Зависимым, тем более будет подвергаться искажению образ Я. Сформулированные гипотезы находят косвенное подкрепление в ряде эмпирических исследований, указывающих на связь точности восприятия своего телесного облика и: а) эффективности контроля эмоциональных состояний (Брух X., Бертчнелл С, Ганли Р., Гарнер Дж., и Гарфинкель П., Лесли Р., Лоув М. и Фишер С, Слэйд Р. и Тойц С., Фэйрберн Ч. и др.); б) особенностей познавательного стиля (Гарнер Дж. и Бемис К., Росситер И. и Уилсон Дж. Хьюдсон Дяс. и Поуп X., Эккерт И.); в) удовлетворенности собой и самооценкой (Бодалев А.А., Кон И.С., Блок-Люис Н., Кац Дж., Леон Г., Мак-Фарлан Б., Мессик С, Рэнд Ч., Стункард А., Свифт У. и Кэмбэлл Б. и др.). Согласно развиваемым в исследовании теоретическим представлениям, нарушения пищевого поведения имеют интимнейшее отношение к диссоциации и расщеплению телесного опыта и целостной структуры Я. Они глубоко интенциональны, несут в себе мощнейший мотивационный заряд, нуждающийся в "дешифровке". Цели проведенного исследования не ограничиваются экспериментальной проверкой выдвинутых гипотез. Вслед за анализом экспериментальных данных выявленным феноменам дается семиологическая трактовка (Бахтин М.М., Барт Р., Лакан Ж.), имея в виду, что выражаемый на языке телесности опыт, относясь к сфере "заказанного" (запрещенного) не может быть понят исключительно в терминах осознаваемых и вербализованных значений, но скорее в виде метафоры, символа, целостно передающего их смысл как "телеснодушевных" содержаний сознания. Основная экспериментальная группа включала 102 пациентки в возрасте 15-38 лет с диагнозами нервная анорексия (47 человек) и ожирение, экзогенно-конституциональная форма (55 человек). Все пациенты обследовались дважды — в начале и в конце лечения. В контрольную группу входило 50 психически здоровых лиц без нарушений пищевого поведения. Программа фонового обследования включала патопсихологическое обследование, оценку уровня психологической дифференцированности и зависимости по тесту "Встроенные фигуры" (Виткин) и "Рисунок человека", реконструкцию субъективного жизненного пути и семейной ситуации на основании анализа истории болезни, проективных тематических бесед и рассказов ТАТ, проективного рисуночного теста "Моя семья" (20 больных нервной анорексией и 20 с гипералиментацией). По данным основной экспериментальной процедуры — теста Точечной оценки ширины тела, все пациенты показали значимо большее искажение образа внешности, чем испытуемые контрольной группы (Р - 0,01). Корреляционный анализ данных теста Точечной оценки с показателями самоотношения, измеряемого с помощью варианта методики Дембо-Рубинштейн, опросника значимости и удовлетворенности телесными качествами, выявили следующее: 1) в статистически достоверном большинстве случаев при эмоционально-позитивной оценке параметра внешности его ширина перцептивно недооценивается, при негативной — переоценивается; 2) чем более эмоционально негативно оценивается телесный параметр, тем более он переоценивается; и чем более позитивно — тем более недооценивается (Р<0,1). Таким образом, взаимодействие аффективного и когнитивного компонентов в структуре осознания телесного Я носит характер "когнитивного подтверждения аффективного самоотношения". Доказываемый тезис о прямой зависимости характера когнитивного искажения от особенностей эмоционального самоотношения не означает отрицания возможности обратного влияния: переоценка или недооценка могут оказывать соответствующее влияние на эмоциональную оценку внешности. Однако у пациентов с нарушением пищевого поведения круг аффективно-когнитивных взаимодействий запускается преимущественно факторами аффективной природы. Данное предположение проверялось в дополнительном эксперименте: в процедуре "Уровень притязаний" пациенты показали высокую чувствительность самоотношения к личностному неуспеху. Снижение парциальных самооценок иррадиирует на область самооценки внешности, что приводит к соответствующим искажениям воспринимаемых размеров тела. Анализ результатов показывает, что больные нервной анорексией и ожирением превосходят здоровых испытуемых по величине искажения не только за счет более выраженной субъективной значимости внешности, но также за счет более низкого, чем в норме, уровня психологической дифференцированности (по данным тестов Встроенные фигуры, Рисование человека. Самоописание внешности - Р<0,01). Низкий уровень психологической дифференцированности ответственен и за высокую сензитивность, стрессодоступность самоотношения пациентов к дезорганизующему влиянию любых аффективных факторов, вызывающих легкую смену знака самоотношения, его дестабилизацию — эффект "хрупкого" и "альтерирующего" Я, описанные нами ранее как феномены "пограничного" самосознания. Эффект чередования перцептивной недооценки и переоценки телесных параметров, являясь следствием динамики самоотношения, а именно, диссоциации и последующей смены смысловых позиций Я, имеет в своей основе конфликт мотивационных ориентаций в структуре Всемогущего и Зависимого Я. Всемогущее (поверхностное) Я отражает состояние невротической потребности в сверхдостижении (перфекционизме), ориентировано на социокультурные эталоны и идеалы "изящной" и "спортивной" женщины, в то время как более глубинное Я ассоциируется с переживанием потери эмоциональной близости и зависимостью. Перцептивная недооценка может быть результатом прямого и непосредственного (аутистического) проникновения мотивации сверхдостижения в восприятие и оценку телесного Я, сигнализирующего об удовлетворении стремления Всемогущего Я к "самосовершенству"1. Сказанное справедливо прежде всего относительно экспериментальных данных, полученных в группе больных нервной анорексией. Недооценка телесных параметров пациентами с гипералиментацией более адекватно может быть понята как результат опосредованного влияния мотивации на самовосприятие, как феномен перцептивной защиты, обусловленный механизмами отрицания и самоидеализации, перцептивными эквивалентами ранее описанного стиля "самоприукрашивания и слепых пятен в самовосприятии". Перцептивная переоценка размеров тела, напротив, свидетельствует о фрустрации перфекционистской мотивации Всемогущего Я, вследствие чего телесное Я начинает оцениваться как "слабое", "преградное", недостойное уважения. Эффект перцептивной недооценки, как и эффект перцептивной переоценки телесных параметров, являются следствием определенной динамики аффективных и когнитивных процессов в структуре самосознания, а именно выступают "когнитивным подтверждением аффективного самоотношения" (Соколова Е.Т., 1989; Коркина М.В., Соколова Е.Т. и др., 1986). Выявленная каузальная зависимость между двумя обобщенными классами психических образований имеет статус системной причинности, проявляющийся в особенностях формально-динамических взаимодействий в структуре самосознания. Выявленные феномены самосознания можно представить себе и как результат "вертикально" действующих причинностных связей. Генетическая интерпретация находит поддержку при психокоррекционной работе с пациентами, при анализе их "субъективных биографий" и позволяет вскрыть семейные корни синдрома "пищевых нарушений". Подростково- юношеский возраст актуализирует у пациенток базовый невротический конфликт автономии — зависимости. Автономия и сохранение родительской (прежде всего материнской) любви и привязанности психологически оказываются несовместимыми стремлениями: автономия достижима лишь ценой потери привязанности, сохранить же привязанность возможно лишь путем отказа от независимости. Неразрешимость подобным образом сформулированной дилеммы самосознания очевидна. Если допустить, что главные симптомы — отказ от еды и похудание — обладают мотивирующей силой (условной желательностью), то возможный ответ на вопрос "ради чего?" будет заключаться в следу, ющем. "Отказ от еды" в субъективной логике имеет смысл разрыва эмоциональных связей, а стремление к похуданию и "идеальной фигуре" — идентификации с идеализированной материнской фигурой, что на эмоциональном уровне позволяет компенсировать разрыв телесно-психологического симбиоза. Перцептивная недооценка телесных параметров в этом случае когнитивно "выражает" и "подтверждает" удовлетворение потребности в телесном симбиозе и зависимости. От телесных переживаний идет также дополнительный стимул похудания: сильное похудание сопровождается рядом соматических симптомов, сглаживающих, затормаживающих физиологическое созревание. Таким образом, возникает новый смысл симптома — страх и избегание женственности, неготовности к принятию роли зрелой женщины, стремление остаться "маленькой и питаемой", и в этом различается голос Зависимого и Ослабленного Я. Напротив, мотивация сверхдостижения, стремление к "изящной фигуре" имеет своим источником Всемогущее Я, защитное по своей природе, побуждающее к перфекционизму, а через него — к достижению личной автономии. Недооценка размеров телесных параметров (ярко выраженная на этапе кахексии у аноректиков) объяснима тогда, как результат триумфа Всемогущего Я, готового достичь желанной независимости пусть даже ценой жизни. Одновременно здесь находит удовлетворение другой мотив, исходящий из структуры Ослабленного Я, о котором Всемогущее Я "ничего не знает" — слияния и симбиоза, недостижимого иначе, как в антивитальности, телесной аннигиляции. 1 В интерпретации психологических механизмов искажения образа телесного Я широко используются теоретические модели, апробированные нами при изучении патологии восприятия (Соколова Е.Т., 1976). Перцептивные искажения телесного Я, как мы видим, имеют своим источником конфликтную мотивацию, исходящую от двух разных структур Я. Переоценка в восприятии ширины тела субъективно связывается с неудачей в реализации потребности Я в самоконтроле, самоэффективности и потребности соответствия идеалу, то есть фрустрацией потребности в "пер-фекционизме". Неудача в реализации этой потребности в свою очередь означает поражение защитного Всемогущего Я в его стремлении к силе, автономии и сверхдостижениям. Но неудача Всемогущего Я знаменует "прорыв" Язависимого (телесного) с его сильной аффилятивной потребностью, желанием привязанности, взаимного "напитывания" и одновременно чувством бессилия и стыда изза неспособности контролировать свои желания. Чем больше преувеличивается ширина груди, талии и бедер (наиболее значимых для пациенток телесных параметров), тем более слышим голос вытесненной "женственной" части Я, тем более жестокий контроль со стороны Всемогущего Я должен быть применен, тем жестче надо быть во взаимоотношениях с другими, а следовательно, жестче контролировать свои эмоции, желания — в том числе и потребность в пище. Круг замыкается, аффективно-когнитивные взаимодействия запускаются вновь, сверхконтроль (репрессия) сменяется импульсивностью, последняя вновь сверхконтролем (Соколова Е.Т., 1991). Снять некоторую парадоксальность используемых здесь интерпретативных схем возможно, если принять, что с психологической точки зрения перфекционизм — обратная сторона зависимости — от авторитетов, семейных завышенных стандартов и "сценариев", следствие интериоризации навязчивых и навязанных родительских требований. В самосознании этот феномен дает себя знать преобладанием модальности долженствования Всемогущего Я, в которой субъект осмысляет собственную личность: "Я должна быть (хорошей дочерью, уверенной, счастливой, удачливой, привлекательной женщиной)". Образованная на основе императивов долженствования, структура Всемогущего Я, с одной стороны, позволяет адаптироваться к ситуации "условного принятия" и заслужить таким образом родительскую любовь, с другой стороны — защищает и укрывает структуру "истощенного Я", фрустрированного в своих ожиданиях любви и привязанности. В самосознании Ослабленное Глубинное Я отзывается широким спектром негативных чувств — низкой самооценкой (самоуважением), убежденностью в собственной непривлекательности, неверием в способность вызвать любовь и уважение окружающих, постоянным ощущением своего проигрыша в сравнении с другими, в конечном итоге — тотальным страхом потери и потерянности. Сверхконтроль и перфекционизм являются, таким образом, проявлением защитного замещающего Я, в то время как скрытая под ним другая структура Я характеризуется стремлением к неограничиваемой протекции, защите, привязанности, неосознаваемом подавленном желании всегда оставаться сосунком, которого "кормят" все окружающие. Самосознание аноректика, таким образом, образовано двумя оппозиционными структурами с диаметрально противоположными характеристиками, в отношении которых отсутствует момент осознания и интеграции, последнее позволяет сделать вывод о "расколотости" целостной интегрированной структуры Я. В то время как Всемогущее Я живет за счет мотивации достижения, автономии и самоконтроля (везде с приставкой "сверх"), Ослабленное Я подпитывается" за счет поддержки и опеки окружающих, стремится к симбиотическому слиянию и инфантильной безответственности. В дезинтегрированное самосознание оппозиция Мотивов возвращается в форме защитных стратегий и "ложных дилемм". Либо сильный, способный к самоконтролю и достижению, либо зависимый; если зависимый — значит, подчиняемый и слабый; если женственный — значит, не способный к самоконтролю, подчиняемый; если дающий волю чувствам — значит, женственный; если женственный — значит, подчиняемый и слабый и т.д. Подобная структура самосознания предполагает расщепление и жесткую дихотомичность образов Я, а следовательно необходимость исключения из сознания одного из полюсов оппозиций — либо потому, что сами оппозиции ложны, либо потому, что, сконструированные таким образом, они действительно подразумевают не сосуществование и интеграцию различных, но необходимых аспектов Я, а расщепление их с последующей репрессией то одних (аффилиация и аутосимпа-тия, но отсутствие самоуважения), то других (самоуважение, но лишение аутосимпатии). Заглушением голоса одной из структур Я прерывается дальнейшее развитие, сужается спектр личностных проявлений, "иссушается", лишается витальности, спонтанности и креативности, прячется реальное Я — прячется под маску фальшивого Всемогущего Я, не позволяя ослабленному "детскому" Я избавиться от зависимости через развитие зрелых отношений привязанности и автономии. Складывающиеся в раннем детстве, а потому чрезвычайно устойчивые и даже ригидные, ложные дилеммы, существуют в самосознании в форме взаимоисключающих альтернатив, создают мощное сопротивление саморазвитию и всяким попыткам психологического воздействия, поскольку движение в сторону независимости неизбежно вызывает страх потери привязанности и теперь уже вторично закрепляет зависимость, пищевую в том числе, и т.д., по принципу порочного круга. Для более глубокого понимания и интерпретации генеза аддиктивного пищевого поведения, на наш взгляд, необходимо обратиться к анализу пищевого поведения как своего рода модели ведущей деятельности, в которой в онтогенезе опредмечиваются базовые потребности младенца, завязываются и поддерживаются первичные эмоциональные связи с другими людьми, усваиваются и интериоризируются первичные механизмы самоконтроля и психологической защиты (Соколова Е.Т., 1991). Метафорическое и символическое значение еды и пищи кажется достаточно очевидным: поддерживать жизнь, связывать эмоционально и телесно, вкушать мир, ощущать вкус мира, впускать в себя, встречать мир (Бахтин М.М., Перле Ф.). В онтогенезе, как и всякая высшая психическая функция, акт принятия пищи выступает вначале в своей натуральной форме, как функция организма, осуществление которой предполагает другого человека — кормящей матери. В первые дни и месяцы жизни ребенка кормление становится той "ведущей деятельностью", в которой формируются другие психические процессы и прежде всего — самоотношение как эмоциональная матрица самосознания. Кормление, его режим, его эмоциональный аккомпанемент выступают для ребенка первичной моделью его взаимоотношений с другими людьми и миром в целом. Кормящая младенца мать может быть высоко сензитивна и эмоционально отзывчива к потребностям ребенка, но может руководствоваться и иными соображениями, например, кормить тогда, когда "это положено", согласно какой-то "системе" или когда это удобно ей самой, может "затыкать рот ребенку" грудью, когда он беспокоен или плачет совсем по другим причинам, понять которые мать либо не хочет, либо не способна. Ритм кормления, его согласованность с истинным состоянием ребенка (т.е. тогда, когда он сам этого хочет), интериоризируется в базальное доверие собственным потребностям, способности своей инициативой и активностью вызвать соответствующее удовлетворяющее эти потребности поведение значимого Другого. Напротив, навязывая ребенку вопреки его желаниям ритм кормления, мать навязывает ему тем самым и недоверие к себе самому и к окружающему миру, способствует формированию взаимозависимости и внешнего локуса контроля. Кормлением мать может поощрять и наказывать, награждать, баловать, играть, обманывать, замещая кормление соской, игрушкой, лаской. С молоком матери "впитывается" ребенком система значений, опосредующих натуральный процесс поглощения пищи и превращающих его сначала в орудие внешнего, а затем и внутреннего самоконтроля. Сказанное в полной мере относится к генезу таких механизмов психологической защиты как интроекция, замещение, проекция. Более того, ребенок получает в руки мощное средство воздействия на других, прежде всего близких людей, ибо привязывается не только тот, кого питают, но и тот, кто питает. Теперь уже ребенок своим поведением во время кормления может радовать, огорчать, вызывать тревогу, повышенное внимание или материнское отчаяние, т.е. он научается управлять и манипулировать поведением значимого другого. Известно, что младенцы сосут по-разному — одни пассивно, как бы без аппетита, засыпая на ходу, другие активно, нахально-агрессивно; одни спокойно, не торопясь, другие так, как будто боятся, что грудь отнимут; одни недоедают, другие переедают; одни активно требуют, добиваются, другие пассивно Ждут и получают, когда дадут; одни тут же засыпают, насытившись, другие "гулят" и явно склонны, вкусно поев, пообщаться. С психологической точки зрения, процесс поглощения, переваривания и усвоения пищи является обобщенной метафорой взаимоотношений человека с миром. Более того, разнообразные формы невротических симптомов переводимы на язык наруше ний пищевого поведения и могут быть выражены в пищевых метафорах усвоения пищи — освобождения от шлаков. Нарушения пищевого поведения, исходя из этой точки зрения рассматриваются нами в качестве соматизированной формы нарушения "диалога" и "контакта" с самим собой и другими людьми. Вместо диалогического отношения к миру формируются насильственно-манипулятивные паттерны общения и образа Я. 1.8. Манипулятивная структура общения при пограничных расстройствах Гипотеза о стиле общения как "макроединице" анализа мотивационнодетерминированного общения легла в основу экспериментального изучения нарушения супружеского взаимодействия при неврозах (Соколова Е.Т., 1989). Эти исследования опирались на методологию, последовательно развитую в трудах Б.В.Зейгарник (1971, 1979), отмечавшей, что болезненные изменения любой деятельности неразрывно связаны с изменением личностных установок и мотивов человека. Добавим также, что личностный подход плодотворно развивался на основе идей В.Н.Мясищева (1960, 1970), ленинградской школы семейных исследований и психотерапии (Воловик В.М., Мишина Т.М., Захаров А.И. и др.). В.Н.Мясищев подчеркивал взаимосвязь и взаимообусловленность трех звеньев процесса общения: собственно общения, отношения и обращения как способов поведения общающихся. В зависимости от целей и мотивов общения актуализируется и определенный стиль общения в виде инструментального арсенала навыков, стереотипов, умений — вербальных и экспрессивных. В свою очередь стиль обращения оказывает влияние на отношенческую составляющую общения, порождая определенные эмоциональные переживания у партнеров по общению. Остановимся на нескольких положениях транзактного анализа общения, в целом достаточно представленного в отечественной психологической литературе. Термин "транзакция" иногда связывается исключительно с именами Э.Берна и Ч.Харриса, однако первоначально он был введен рядом авторов (Килпатрик Ф., Первин Л.) для обозначения принципиально и качественно новой методологии, предполагающей анализ всех видов психической и поведенческой активности человека в активной (в противовес реактивной) теоретической парадигме. Доказавший свою продуктивность в известных исследованиях селективности восприятия, этот методологический принцип затем был внесен в область психологии общения. Условно можно выделить несколько направлений в рамках транзактного подхода, в разной мере акцентирующих влияние личностно-мотивационных детерминант на структуру и содержание общения. Сциентистский подход представлен исследователями так называемой школы Пало Альто. Несмотря на то, что термин "транзакция" не обязательно использовался авторами, в процессе общения ими выделялся прежде всего момент активности субъекта, не просто пассивно и механически реагирующего на поступки партнера по общению, но действующего в соответствии с собственными потребностями, а также с намерением вызвать в партнере определенное эмоциональное состояние и ответное действие, необходимое самому субъекту. К этой школе принадлежат Дж. Батесон, Д.Джексон, Д.Галей, И.Бивин, Дж.Слуцки и др. (иногда их называют системными пуристами). С точки зрения авторов, базовой, конституирующей и придающей общению ту или иную структуру является потребность в контроле ("доминировании или подчинении"). С формальной точки зрения, общение состоит из "единиц", представляющих собой отношение между двумя следующими одно за другим "посланиями". Так, в речевом общении субъектов А и В единицами будут: А1В1, В1А2, А2В2. Это отношение может быть отношением симметрии либо комплементарности. Комплементарные отношения между партнерами предполагают функциональное неравенство общающихся: один доминирует — другой подчиняется. Например, при комплементарных отношениях: один из партнеров инструктирует — другой действует в соответствии с инструкцией; один спрашивает — другой отвечает; один настаивает — другой соглашается. Симметричные отношения бывают трех видов: "состязательная" симметрия (ни один из партнеров не хочет подчиниться, у обоих выражена потребность в доминировании), симметрия "подчинения" (ни один из партнеров не хочет доминировать, у обоих выражена потребность в подчинении), и "эквивалентная" симметрия, когда каждая единица общения детерминирована взаимной потребностью в контроле. Таким образом, одно из значений термина "транзакция" заключается в следующем: транзакция, или отношение (симметричности, комплементарности) между двумя следующими одно за другим посланиями, есть наименьшая единица анализа общения, детерминированного возможными сочетаниями потребностей в "доминировании" — "подчинении" у вступивших в Него субъектов. Транзактное поведение понимается здесь в самом широком смысле слова — как общение, за которым стоит жестко фиксированная ролевая структура коммуникации. В узком смысле слова "транзакция" синонимична "маневру" как элементу скрыто манипулятивного общения. Добиваться от партнера действия, которое необходимо тебе самому, Можно в "лоб", например, многократно отказываясь подчиниться, если не хочешь быть "ведомым", — авось, измотанный партнер и уступит. Но такой путь явно тяжел, победа маловероятна. Есть другой способ — поставить партнера в такие условия когда он просто не сможет вести себя иначе, чем так, как это вам "выгодно", причем у него остается впечатление, что он действует по "своей воле", а не вынужденно. Например, в случае с "доминированием — подчинением" тот, кто не хочет быть "ведомым", может: показать, что он "подчиняется", отдает функции "ведущего" партнеру "добровольно"; обратиться к партнеру за "советом", "инструкцией" и т.д., — как поступить в определенной ситуации? При этом "проблемная ситуация" задается так, что партнер (как "ведущий", который должен все знать и уметь) наверняка с ней не справится, не сможет найти решение, "оконфузится", убедится в собственной недееспособности". Партнер, сам понявший, что "ведущим" быть не может, "добровольно" снимет с себя полномочия. Итак, тот, кто очень хотел "доминировать", получает возможность удовлетворить свою потребность. Поведение человека, инициировавшего такое "развитие событий", и было транзактным в "узком" смысле, т.е. "дальновидным", "предвосхищающим". Такого понимания "транзактного поведения" придерживаются представители клиникопсихотерапевтическо-го направления транзактного подхода (Лэйнг Р., Стерлин X., Берн Э.). Э.Берн (1964) термин "транзакция" использует во всем многообразии его значений. Это и общий подход, "широкое" понимание общения как взаимодействия субъектов, руководствующихся собственными потребностями; это и "маневры", совершаемые участниками общения; в некоторых случаях "транзакция" есть "единица анализа" общения, принимающая форму "игры", в которой повторяется одна и та же комбинация ходов. В зависимости от природы и потребностей и эмоций, регулирующих процесс общения, различаются позиции или состояния, подструктуры личности: Ребенок, Родитель, Взрослый. По специфическим лексическим оборотам, а также невербальному контексту диагностируется актуальная, вступающая в общение "здесь и теперь" позиция общающегося. Большинство игр имплицитно содержит внутриличност-ный конфликт партнеров, потенциально они — разрушители истинных, искренних взаимоотношений. В то же время, как и все механизмы психологической защиты, игры выполняют адаптивную функцию, они позволяют на какое-то время погасить конфликт, сохранить и стабилизировать межличностные отношения, не допуская до осознания истинных мотивации игрового общения. Все игры взрослых, как известно, ведут свое происхождение от простой детской игры: "А у меня лучше...". Когда ребенок говорит: "А у меня лучше, чем у тебя", в действительности он пытается справиться с прямо противоположным чувством: "У меня все не так хорошо, как у тебя". "Игровая" мотивация является, таким образом, эгоцентрической по своей направленности и "внешней" по природе, ибо побудители общения лежат вне самого процесса общения. В игровом общении партнеры принимают лишь те личностные качества друг друга, которые "подходят", необходимы им для той или иной роли; такое общение жестко ограничивает и контролирует спектр личностных и поведенческих проявлений партнеров, лишая общение спонтанности, а его участников — самоактуализации. Одно из направлений транзактного анализа разрабатывалось исследователями клиникоэкспериментального направления в связи с задачей модификации теста Роршаха для диагностики нарушений внутрисемейного общения (Лавленд Н., 1963; Вилли Ю., 1973, Соколова Е.Т., 1985, 1987, 1989; Соколова Е.Т., Чеснова И.Г., 1986). Согласно процедуре, участники должны прийти к согласию по поводу интерпретаций тех или иных частей чернильного пятна или таблицы в целом. Н.Лавленд единицей анализа коммуникации считает речевое высказывание — любое слово или словосочетание, предложение или набор предложений, произносимых партнером. Каждое речевое высказывание, кроме того, что оно является интерпретацией пятна, обращено к партнеру по общению и по существу является "ходом", инициирующим ответное высказывание и общее движение партнеров к цели — совместной интерпретации пятна. Важно "услышать" также в каждом высказывании личностный подтекст — эмоциональное отношение к партнеру и задаче, проекцию межличностных установок, чувств, конфликтов. Лавленд предлагает различать четыре формы высказываний в зависимости от того, облегчают они, затрудняют или делают невозможным движение к общей цели. Высказывания (или транзакции) квалифицируются как облегчающие — необычайно сензитивные, творческие; нейтральные — обычные, стандартные; затрудняющие — сужающие, уводящие от цели; разрушающие — искажающие смысл сказанного. Показано, что данная кодировка транзакций значимо различает общение родителей со здоровыми детьми, детьми-невротиками и детьми-шизофрениками. Исследователи и этого направления предполагают, что коммуникации не являются простым обменом информацией, а скорее подобны, по образному выражению Т.Шибутани, "взаимопроникновению картин мира", в результате чего достигается определенная степень согласия партнеров по взаимодействию. Кроме того, обмениваясь мнениями, люди обычно прямо или косвенно дают понять о своем собственном отношении к тому, о чем идет речь, что проявляется в экспрессии и стиле речи, включая и невербальные ее компоненты ("личный аспект коммуникации"). "Личный аспект" коммуникации является значительно менее осознаваемым и контролируемым, чем содержательный, в силу чего применение проективных методов для его диагностики оказывается чрезвычайно эффективным. Совместный тест Роршаха позволяет моделировать процесс коммуникации, когда цель и мотив межличностного взаимодействия прямо не совпадают: так, поиск совместного ответа может побуждаться стремлением действовать в соответствии с принятой инструкцией, но не исключено также, что в ходе реализации этой цели у участников возникают и иные мотивы, например, достижение согласия ради демонстрации своего единения с партнером или, напротив, недостижимость согласия ввиду взаимно-конкурентных установок. Именно в последнем случае, когда деловая направленность участников незаметно для них самих подменяется стремлением выяснить, "кто есть кто", транзактный анализ процесса коммуникации особенно продуктивен. Несомненно, соглашаются сторонники этого метода, что не только СТР вызывает проекцию транзакций, но несомненно и то, что СТР вызывает проекцию транзакций; к тому, же участникам эксперимента обычно нравится процедура интерпретации пятен, что легко снимает действие защитных механизмов при диагностическом исследовании (Соколова Е.Т., 1985, 1987). В проведенном исследовании процедура Совместного теста Роршаха использовалась для выявления манипулятивных стилей супружеского общения у больных истерической формой невроза. Предполагалось, что супружеское общение у больных истерией несет на себе отпечаток целостного стиля личности, "жизненного стереотипа", за которым стоят характерная для данной аномалии личности иерархия мотивов и специфические стратегии их достижения. Не останавливаясь подробно на хорошо известной клинике истерий, отметим лишь, что наиболее тонкое описание личностных особенностей больных истерией можно обнаружить в современных описаниях нарциссической личности. Ядро личностных расстройств образует известная триада: эгоцентрическая направленность мотивации, противоречивая структура самооценки, сочетающая претенциозно завышенный уровень притязаний с неуверенностью в себе, высокая конфликтность в сфере межличностных контактов, обусловленная сосуществованием нереалистических установок и конкурирующих потребностей. А.Кемпински (1975) истоки невротического конфликта при истерии видит в нереализованной потребности в любви: лишенная любви женщина легче попадает в состояние инфантильного деспотизма и, как бы не имея возможности в полной мере стать женщиной, становится опять маленьким ребенком, требующим исполнения всех своих желаний. Стремление к подчинению себе окружающих, их своеобразная эксплуатация ради достижения иллюзорного удовлетворения формируется, таким образом, как защитно-компенсаторный стиль жизни, реализуемый через стратегию манипулирования партнерами по общению. Манипулятивное поведение больных истерией направлено на поиск информации, подтверждающей способность Я к контролю (восстановление чувства безопасности и силы), уверенность в собственной ценности и высокой самооценке и чувство самотождественности — индивидуальности и целостности Я (Якубик А., 1983). Иными словами, все важнейшие функции Я не являются для истерика чем-то внутренне присущим ему как обладающей самоценностью личности, но лежат вовне, в его связях с другими людьми. Манипулятивная жизненная стратегия или жизненный стиль и служат попыткой обрести близость с другими, заслужить, "приобрести" ("купить") их любовь и признание. Выделяют три вида достаточно генерализованных механизмов (или стратегий) манипуляционного стиля: инграциация, агрессия, попытка самоубийства. В основе инграциации (Джонс М., 1964) лежит мотивация повышения собственной привлекательности в глазах людей; ее цель в избирательной самоподаче, а также во "внушающем" воздействии на партнера путем трансляции тенденциозной информации о том, как он воспринимает окружающую действительность и самого себя. Различают также "технику" инграциации: 1. Поднятие ценности партнера — передача информации о его положительной оценке (например, в форме комплиментов, лести, похвал). 2. Конформизм — декларация согласия с мнениями, оценками, нормами, установками и поведением партнера. 3. Положительная самодемонстрация — представление себя в выгодном свете (описывание своих способностей, талантов как необыкновенных) или как человека, способного к большой жертве в пользу партнера; отрицательная самодемонстрация (самоуничижение) — создание представления о собственной слабости и беспомощности. Эффективность "инграциативного" поведения (получение информации, подтверждающей чувство контроля, собственной ценности или тождества, либо устранение касающегося этих переменных информационного несоответствия) способствует фиксации манипуляционных приемов воздействия и создает уверенность, что особенности, позволившие эффективно действовать, являются имманентными качествами личности (Якубик А., 1983). При отсутствии ожидаемого эффекта воздействия у людей такого типа возникает сильная эскалация эмоциональности в виде агрессии, направленной на других, или аутоагрессии, которая служит как средством эмоционального "подавления" окружающих, так и механизмом собственной аффективной разрядки. Преобладание эмоциональной экспрессии над действительным содержанием процесса общения у истерика обычно приводит к желаемому результату. Манипулятивные стратегии общения могут реализовываться на двух уровнях: вербальном (содержание и манера речи) и невербальном. Большую роль играет также степень согласованности между вербальной и невербальной коммуникациями. Словесные заявления, не подкрепленные адекватными невербальными реакциями, могут не только не вызвать ожидаемой реакции у партнера, но и обусловить появление у него обратной реакции, которая будет ответом на невербальное сообщение. "Истерический конверсионный синдром" позволяет выразить неудовлетворенный мотив в невербальном поведении потому, что такая невербальная коммуникация в принципе может привлечь внимание других людей и обеспечить ответную реакцию сочувствия и поддержки. В результате в конверсионном синдроме (истерической слепоте или параличе) могут проявиться протест, враждебность, гнев, которые, будучи выражены непосредственно, вызвали бы осуждение других членов общества и самоосуждение (Ротенберг B.C., Аршавский В.В., 1984). Жизненная стратегия больного истерией так же, как и разнообразный инструментальный репертуар тактических средств, имеет своей целью заставить окружающих вести себя в соответствии с его собственными желаниями и потребностями. Манипулятивные, (в частности, транзактные) формы общения имеют ту же направленность. Хотя стоящие за ними мотивы в каждом конкретном случае индивидуальны, речь скорее может идти об индивидуальной соподчиненности так называемых базовых мотивов, обеспечивающих позитивный образ Я и самоприятие. Потребности в приятии, самоэффективности и близости, будучи фрустрированными, вытесняются из сознания или трансформируются в прямо противоположные; основной способ их удовлетворения — посредством манипуляционного воздействия на других людей — говорит об эгоцентрической направленности мотивации. Таким образом, не потребности, а вынужденный способ их опредмечивания обуславливает эгоцентрическую природу мотивации и стиль общения больных истерией. Цель настоящего исследования состояла, во-первых, в апробации Совместного теста Роршаха (СТР) для диагностики стилей супружеской дисгармонии; вторая задача заключалась в выявлении стоящей за стилем общения мотивации. Согласно проективной гипотезе (Соколова Е.Т., 1980). в условиях нежестко структурированной экспериментальной ситуации СТР партнеры непреднамеренно и неосознанно продемонстрируют сложившиеся стереотипы общения, включая ролевую структуру, взаимные апперцепции, чувства и способы удовлетворения ведущих потребностей. Каждому из испытуемых предъявляются несколько карт теста со стандартной инструкцией (индивидуальные ответы записываются, как и в традиционном варианте), после чего испытуемых просят прийти к согласию, общему решению о том, что напоминает, на что похоже каждое пятно. Тексты диалогов обрабатываются по следующей схеме: "Соотношение сил в диаде"; "Практическая инициатива" (кто берет и держит таблицу); "Тактическая инициатива" или "проникаемость" — количество предложений каждого из участников, доведенных до совместного решения. "Аффективное состояние диады" — способы, которыми испытуемые взаимно оценивают предложения: подкрепление (эмоционально-позитивная реакция на предложение партнера; дальнейшая разработка той же темы, хотя и с критическими замечаниями, уточнениями); игнорирование — эмоционально-нейтральная реакция, уклончивые высказывания, замечания к личности партнера, уход-эхолалия; отклонение — эмоционально-негативная реакция, критика идеи без принятия, смена названия,' расширение идеи; амбивалентные высказывания — оценочного типа: "Да, я вижу..., но...". В исследовании использовались I, II, IV, VI таблицы. По замыслу эксперимента, I таблица, обладающая нейтральной символикой, должна вводить испытуемых в совместную работу. II карта нередко становится источником агрессивных аффективных реакций из-за особого цветового сочетания. IV карта в традиционной интерпретации теста Роршаха является "мужской", а VI — бисексуальной. Наблюдения за невербальным аккомпанементом общения также входят в процедуру обработки данных и включают установление того, кто берет и держит обсуждаемую таблицу, а также фиксацию паравербальных особенностей коммуникативного поведения — громкий вскрик, шепот, прижимание друг к другу, физическая мобилизованность позы и т.д. По анализу ответов и диалога в СТР оказалось возможным выделить три стиля супружеского общения, представляющих собой сложные комбинации транзакций и игр, стабильно воспроизводящихся в ходе выполнения экспериментального задания. Для стиля "соперничество" характерно приблизительно одинаковое соотношение "проницаемости" для мужа и жены, что, с одной стороны, (и главным образом), указывает на конкурентные притязания супругов в сфере "творческой инициативы", а с другой — свидетельствует о том, что партнеры еще в состоянии достигнуть баланса между амбициями и уступчивостью. Более откровенно соперничество проявляется на уровне невербальной коммуникации, превращаясь порой в детскую борьбу за таблицу. Здесь мужу удается утвердить свое доминирование (кто владеет, у того и власть), избегая столкновений в вербальном плане, зато жене путем игнорирования ответов мужа удается добиться большего числа подкреплений своих ответов. Разделив сферы влияния, супругам удается достичь "как будто" совместных решений. Анализ индивидуальных случаев показывает, что гораздо чаще жене бывает недостаточно, ограничив сферу самоутверждения мужа, чувствовать себя комфортно; необходимо также яркое подтверждение им эмоционального принятия ее как женщины. С этой целью жена подталкивает мужа к большей откровенности и самораскрытию при интерпретации пятен, но, когда муж отвечает на потребность жены в большей интимности отношений, она оказывается не в состоянии принять ее и отвергает ответы мужа как "неприличные". Приведем фрагмент их диалога в СТР. Диалог 1 таблица Психологическая интерпретация Жена: Я уже говорила, на что это похоже... Отказ от первичного (инициального) толкования. Муж: На половые органы (нейтрально, спокойно смотрит в пол). Защита от тревоги за будущий контакт. Жена: Хм... Мне кажется, что это на жука похоже. Игнорирование ответа мужа, предложение своей идеи. Муж: Ну есть что-то... (сильное раздражение, очень громко). Реакция на неотреагирование жены. Жена: Значит, ты со мной соглашаешься? (твердо) Требует признания своего ответа без экспликации его мужу. Муж: (качает головой). Псевдосогласие, нежелание явного конфликта. Муж берет II таблицу. Жена: Как ты смотрел? Подталкивает к инициативе. Муж: Вот как... Жена: Я ничего определенного не могла сказать. Вот так мне это красное мешало... Если это убрать, то похоже на цветок... (смеясь и почти плача). Дискредитация робкой попытки мужа; неожиданное обнаружение собственной беспомощности. Муж: Трудно сказать... (напряжен, тяжело дышит, ерзает на стуле). Боязнь самораскрытия. Жена: Но неужели ты ничего не можешь сказать? (заискивающе-раздраженно, прильнула к нему). Провоцирование ответа. Муж: Ну, это... (взглядом показывает на I таблицу). Боязнь реакции жены. Жена: Ну, что-то маленькое оттуда выглядывает. Да? Явная провокация сексуального ответа — "ну, покажи, на что ты способен?!" Муж: Мне кажется, на половые органы смахивает... На женские (безапелляционно, прямолинейно). Муж; в простой и грубой манере решается на сближение. Жена: Хм... (смеется застенчиво). Какой ты все-таки... У тебя все к одному. Я не могу согласиться. Это скорее всего экзотический вид (интонация — разъяснительнообъяснительная). Ставит на место мужа. Позиции "Учитель — Провинившийся ученик". Приведенный анализ диалога СТР показывает, что муж; явно чувствует себя стесненным необходимостью совместного обсуждения толкований пятна, а жена из-за тревожной неуверенности постоянно повторяет те толкования, которые давались ею при индивидуальном исследовании. Конфликт мотивов отчетливо прослеживается на невербальном уровне: больная всем своим видом — наклоном к мужу, расслабленностью, кокетством — провоцирует интимную обстановку. Но, когда муж "попадается" и дает свою интерпретацию пятен, она пугается и обвиняет его в грубости. Это очень напоминает игру "Рейпо", описанную Э.Берном (1964). Э.Хемингуэй проницательно усматривает всю разрушительность женщин подобного типа: "Самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками" ("Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера"). Действительно, случаи психогенной импотенции, суицидов и неврозов у мужей довольно часты при подобном стиле супружеского общения. Стиль псевдосотрудничества характеризуется сочетанием самого высокого среди всех формальных показателей балла по категории "подкрепление" у обоих партнеров с явным перевесом "проницаемости" у жены. Высказывания часто сопровождаются взаимными подбадриваниями, откровенной лестью (со стороны жены): "Это — да! Это ты здорово придумал. Это мне нравится, я бы никогда не додумалась до такого" — вариант инграциации: авансированная симпатия и уважение должны возвратиться в виде ответных восторгов партнера. Мужу чаще принадлежит инициатива в практических решениях, зато жена осуществляет внутреннее руководство так, что доводятся до совместности ответы, инициатором которых является она. Обращает на себя внимание значительное преобладание взаимного подкрепления над критическими высказываниями, что служит сдерживающим барьером для выражения агрессивных чувств. Страх агрессии сковывает взаимодействие и ведет к поспешному объединению, т.е. псевдосовместным решениям, как, например, в следующем фрагменте диалога: Муж: У меня было предположение, что это похоже на старый листок. Жена: На листок? (недоуменно) Муж: Да! (спокойно, твердо) Жена: Ну, на листок — да, на листок похоже — да... да похоже на листок. В другом случае жена полностью отбирает у мужа теоретическую инициативу, при этом она изо всех сил старается "помочь" мужу увидеть предложенную ею интерпретацию, не обращая внимания, что фактически исключенный из совместной деятельности муж обреченно принимает любое предложение жены. Супружеское общение строится по типу Родитель — Ребенок, где жена удовлетворяет свою потребность в контроле и опеке, и оба супруга компенсируют дефицит близости и симпатии. Диалог в СТР Психологическая интерпретация Жена: В каком положении лучше? Вложен первый вклад во взаимодействие — теперь очередь за мужем. Муж: Как хочешь... Безразлично. Жена: Ну, что ты видишь? Отказ от инициального толкования, ради вовлечения мужа Муж: А ты? Невзятие инициативы. Изоляцией мы называли такой стиль общения в процедуре СТР, при котором полностью отсутствует кооперация в определении совместных решений ("Я пишу свое, а ты свое") и преобладающей оценкой инициатив друг друга является игнорирование и отклонение. Супруги не пытаются передать свое видение пятна, не дают ясных и четких пояснений своих предложений, не стремятся найти общий угол зрения, они как будто не слыша 'один другого. Вот как выглядит их диалог в СТР (фрагмент): Диалог в СТР Психологическая интерпретация Жена: Я ничего не могу сказать (отстраненно, нейтрально). Отстранение от совместного взаимодействия. Муж: Но мне кажется, что это похоже на морское животное. Чем-то напоминает... (задумчиво). Выдвижение собственного предположения. Жена: Но очень отдаленно... (язвительно). Не поддержка и не отклонение. Муж: Это даже не обязательно морское, скат, например, может быть, вообще — любое животное. Развертывание своей идеи, укрупнение. Жена молчит, изображая, что все это ей очень скучно. Муж берет следующую таблицу. "Изоляция" жены выражается и позой "двойной защиты": ноги переплетены, руки скрещены "по-наполеоновски". Жена демонстрирует отстраненность и нежелание разделить ответственность за совместное решение. В более сложном варианте "изоляция" выступает прежде всего на эмоциональном уровне общения. Формально взаимное согласие может и достигаться, хотя бы для одной таблицы однако, как правило, ценой унижения мужа, постановки его в позицию Ребенка, предварительного обесценивания его ответа. Проанализируем фрагмент диалога этой пары в СТР. Диалог в СТР Психологическая интерпретация Жена: Здесь бабочка (напористо и уверенно). Ответ-утверждение (не терпящий возражения), открытое доминирование. (Молчание 2 минуты) Муж: Слушай, а похоже... Вообще, я сказал — елка... А потом на человека похоже... Да? (заискивающе) Констатирование согласия. Робкая попытка дать собственное видение, просьба о поддержке, но с позиции Ребенка. Жена: Нет (спокойно). Вообще, общее, как бабочка... Полное, прямое отклонение. Утверждение собственного видения. (Муж целых 3 минуты смотрит на картинку) А? Эмоциональное давление "сверху". Муж:: Наверное, есть похожее что-то (сомневаясь, неуверенно, глаза "в пол"). Примиренческий уход от конфликта. Жена: Да... Смотри, человек с поднятыми руками и еще что-то... (мягко). Попытка приблизить к себе мужа, развивая его идею. Муж: Вот, тут его держит кто-то (оживившись). Дальнейшая разработка общего видения. Жена: А вообще — бабочка. Да?! Отстранение от партнера, формальный, риторический вопрос. Муж: Я про бабочку не говорил, правда... (робко). Попытка обороны, но уже принятие видения более сильного партнера. Текст приведенного фрагмента насыщен транзактными маневрами партнеров. Жена то властно и напролом осуществляет лидерство и доминирование, то, окончательно убедившись в победе, идет на некоторое сближение, приглашая мужа к мирным переговорам. Но, как только муж принимает ее маневр за чистую монету и идет на сокращение психологической дистанции, жена тут же возвращает его и себя к исходной позиции гстранения (вариант "Рейпо"). Муж оказывается вовлеченным разу в несколько игр: позволяет обращаться с собой как с пиночником", а затем недоумевает: "Что я сделал, чтобы заслужить такое?". Между тем, в сближении не заинтересован и тот, ни другой. По данным контент-анализа сочинений "Мой муж" и "Моя жена" отсутствуют глубокая симпатия и близость между супругами, сокращение психологической дистанции чревато открытием: "А брак-то ведь мертвый!". Только игровая структура общения позволяет сохранять брак в отсутствии чувств, причем создавая у супругов иллюзию совместности ("Посмотри, как я стараюсь!"). По данным теста Люшера (1988), за каждым из выделенных в СТР стилей общения обнаруживается своя комбинация фрустрированных потребностей партнеров. При "соперничестве" фрустрированная у обоих партнеров потребность в самоуважении приводит к возникновению защитного стиля общения, реализующегося в играх "Покажи, на что ты способен" и "Рейпо". "Псевдосотрудничество" компенсирует дефицит симпатии и близости в отношениях между супругами в форме игровых отношений "жена-Родитель — муж-Ребенок". Фрустрированная потребность в близости в сочетании с дефицитом уважения жены к мужу инициирует игровые отношения типа "Рейпо", "Дай мне пинка", "Посмотри, как я стараюсь". Клинический материал позволяет по-новому взглянуть на проблему мотивационной обусловленности общения и стиля общения как "сплава" мотивационного и инструментального его компонентов. Во-первых, кажется правомерным различать три типа общения, каждый из которых инициируется особой мотивацией, определяющей ее структуру, цели и способы общения. Первый из них назовем деловым, или формальноролевым. Ролевые позиции партнеров фиксированы — в наклонной плоскости, асимметричные. Примеры подобного стиля общения: учитель — ученик, врач — больной, начальник — подчиненный. Четко определены, формализованы ролевые правила общения. Тип общения — личностно закрытый (объект — объектный); личные чувства, мотивы и цели, не предусмотренные инструкциями и правилами делового производственного общения, недопустимы. Нередко подобная модель переносится в сферу интимных отношений, что необязательно приводит к взаимному неудовлетворению, например, в браке по расчету, браке-контракте, когда мотивация семейной жизни лежит вне семейной общности. Возможно формирование семейного "мы" ради социального положения, карьеры, комфорта и т.д. Если же "внешняя мотивация" исчерпывается, брак распадается или отношения могут приобретать более сложную структуру, переходя во второй, игровой, манипулятивный тип общения. Цель и мотив манипулятивного типа отношений не совпадают. Цель — сохранить отношения, но неосознанный мотив отливается в игровой — "только ради тебя", "посмотри, как я стараюсь". Позиции динамичны в разных видах игр и жестко фиксированы в рамках каждой. Ролевые предписания также фиксированы правилами игры, например, играя "Рейпо", жена обязана всегда быть обольстительной, иначе она не сможет поддерживать тлеющий сексуальный интерес мужа; она же должна вовремя оттолкнуть его, обвинив в "грязных помыслах", чтобы сохранить веру мужа в его мужскую силу и дезавуировать реальную низкую потенцию. Манипулятивная природа этого типа общения во взаимном "использовании" партнеров в качестве средств удовлетворения собственных потребностей. Его мотивация, строго говоря, не может быть отнесена к чисто эгоистическим и эгоцентрическим, так как, вовлекаясь в игру, партнеры удовлетворяют не только свои потребности, но одновременно дают себя использовать партнеру в качестве объекта удовлетворения его потребностей. Более подходит иное определение — "рыночный" тип отношений, где каждый из партнеров извлекает из игры свою выгоду, но и платит за нее: делая другого средством (объектом), сам выступает в этом же качестве. Если истинные мотивы общения скрыты или замаскированы, то по взаимному согласию. Игра по-своему честная, партнер, как правило, сам "обманываться рад", ибо только через взаимозависимость и "использование" друг друга партнеры поддерживают ценность своего Я. Третий тип общения — открытое личностное общение. Позиции — симметричные, партнерские, субъект-субъектные. Апологетом этого типа общения является в современной психологии К.Роджерс и возглавляемое им гуманистическое направление. Мотивация такого типа общения (ради чего) — ради полного раскрытия и развития индивидуальных особенностей, качеств и потенциальных возможностей друг друга. Идеология этого типа общения в настоящее время особенно популярна, созвучна многим общечеловеческим и планетарным потребностям — быть вместе, не стесняя, не пытаясь нивелировать различия друг друга, вместе, но сохраняя различия, развивая различия, содействуя максимальному их раскрытию. Общечеловеческий пафос, своевременность и политическая актуальность этого тезиса не вызывают сомнения. Что касается наполненности его психологическим содержанием, то вопрос не представляется достаточно ясным, как и не отрефле-ксирована историкопсихологическая, историко-политическая обусловленность появления и широкого распространения идей гуманистической психологии на Западе и в нашей стране. Развитие гуманистической отечественной психологии имеет особые причины, тесно связанные и переплетенные с историей общественно-политической жизни нашей страны последних 10—20 лет. Первые робкие попытки знакомства психологической аудитории с идеями Г.Олпорта, А.Маслоу, В.Франкла, К.Роджерса (в частности, в курсе "зарубежные теории личности", читаемом в Московском государственном университете Б.В.Зейгарник с конца 60-х годов) были неотделимы от увлечения психологов экзистенциализмом, причем скорее его литературным, чем философским вариантом. Новые идеи обладали не только чисто научным обаянием и свежестью, они несли с собой надежду на освобождение от вынужденной фальшивой двойственной жизненной человеческой позиции. Они воспринимались и усваивались как основа нравственно-этической позиции, помогающей сохранить целостность и честность, искренние человеческие отношения вопреки давящему тоталитаризму, внешнему и внутреннему контролю, вопреки угрозе доноса или просто подозрения в инакомыслии, наперекор официозному призыву к единству, а по существу — единообразию послушных, лишенных индивидуальности людей-объектов (как навязчивый символ времени звучали слова популярной песни: "И говорят глаза — никто не против, все за"). Надежда на демократизацию общественной жизни, поиск личной жизненной позиции, сохраняющей человеческое достоинство и любовь к ближнему, в значительной мере определяли тогда тягу отечественных психологов к гуманистической психологии и психотерапии. Естественно, что наиболее близкими и манящими казались тогда идеи о раскрепощенности, спонтанности, самоактуализации и неповторимой индивидуальности человеческого Я. Правда мы как-то не особенно задумывались о том, что спонтанность не отменяет ответственности, а свобода чувств не то же самое, что вседозволенность в поступках, и безусловное приятие распространяется только на мир переживаний, в то время как отношение к конкретным формам поведения может быть весьма различным. К.Роджерс неоднократно подчеркивал этот тезис, без которого трудно было бы понять, ради чего сам К.Роджерс и его сторонники столь активно вмешивались в неприглядные стороны реальной жизни — работали с насильниками, наркоманами, растлителями. Именно сочетание четкой этической позиции, согласно которой от человека должно требовать ответственности за свои поступки, с пониманием (т.е. отказом от оценки, приятием, сочувствием и сопереживанием) внутреннего состояния этого другого , на наш взгляд, и составляет смысл роджеровского термина "безусловное эмпатическое приятие". Сегодня "новая волна" сторонников этого направления имеет иное общественнополитическое звучание, иной и личностный смысл. Необходимость гуманизации отношений во всех сферах жизни, ради достижения согласия по жизненно важным для всех народов Земли вопросам, содействие взаимопониманию, раскрытию творческого потенциала личности — тот социальный заказ, игнорировать который психологи сегодня не могут. И здесь обращение к идеологии и особенно практике человеческих отношений, разработанных в гуманистической психологии на Западе, вполне понятно. Заметим, что в духе гуманистических идей мыслили построение теории личности и ведущие отечественные психологи, в частности С.Л.Рубинш тейн, А.Н.Леонтьев, однако в одном случае это была скорее солидарность с уже сформулированными идеями, в другом — наброски будущей так и не созданной концепции. Возникает вопрос: а могла ли быть создана концепция личностного общения на основе господствующей "жесткой" деятельностной парадигмы? С одной стороны, сформулированный А.Н.Леонтьевым механизм сдвига мотива на цель предполагал возможность преодоления секулярности человека, отчужденности процесса и технологии деятельности от ее субъекта. Вместе с тем, стоящая за теорией деятельности методология существенно ограничивала психологический анализ жизнедеятельности субъекта (в том числе и общения) рамками "внешней" целенаправленной, осознанной и контролируемой активности. Приблизительность такой парадигмы обнаруживалась довольно скоро, и введение А.Н.Леонтьевым понятия "личностный смысл" указывало направление дальнейшего преодоления методологического кризиса в психологии, непреодоленного, однако, и по сей день. Одна из причин отсутствия в отечественной психологии оригинальной и полной теории общения кроется в искусственном ограничении академической психологией круга изучаемых явлений. Общение в предметно-ориентированной деятельности (в спортивной команде, производственном коллективе) представляет лишь один тип общения, и его изучение достаточно хорошо "ложится" на упомянутую выше жесткую деятельностную парадигму. Но, как только мы приближаемся к общению неформально-делового типа, интимному общению, эта методология оказывается неадекватной, поскольку попросту не ухватывает существеннейших феноменов в изучаемом предмете. Речь идет прежде всего о мотивации, прямо не совпадающей с осознанными намерениями и целями общения, о мотивации, как правило, не попадающей в сферу непосредственной рефлексии, осознания и контроля. А между тем нельзя отрицать, что даже в общении, цели которого достаточно ясны и объективированы, например, в учебном процессе или психотерапии, эффект достигается нередко вовсе не по причине интереса к усваиваемому материалу или ценности "высокой отметки", а благодаря мотивам, лежащим в плоскости личного общения. Кто не знает, что академическая успеваемость и любовь или нелюбовь к школьным предметам часто синонимичны для ребенка отношению к учителю. Кажется только сами преподаватели не отдают себе отчета в том, какова мера влияния их собственной личности на процесс усвоения знаний; ученики во всяком случае на этот счет не заблуждаются и, оценивая "интересность" того или иного предмета, на самом деле характеризуют преподавателя и свое отношение к нему. Думается, что можно было бы доказать также, что один преподаватель охотнее ставит пятерки миловидным детям, другой — "интеллигентным и умненьким", третий — детям, чьи родители влиятельны или могут быть полезны для него самого, четвертый — чтобы подбодрить чересчур робкого и т.д. Иными словами, даже деловое, предметно-ориентированное общение не свободно от влияния "периферической" мотивации, не совпадающей с осознаваемым предметом совместной деятельности. Что, кстати, нередко ломает привычный и регламентированный стереотип отношений между людьми. Не раз бывшие сюжетом в кинематографе и литературе подростковые влюбленности в учителя или учительницу не только благотворно влияют на выбор будущей профессии; иногда они порождают настоящие человеческие драмы (вспомним хотя бы Елену Сергеевну из известного стихотворения А.Вознесенского: "...Елена Сергеевна водку пьет"). Возникает новый пласт общения, реализующийся иным "неказенным" языком, открывающийся и понятный только двоим. Взгляд, интонация позволяют вести разговор параллельно речевыраженному, как у А.С.Пушкина: "Пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила..." и дальше: <... и говорю ей: "Как вы милы!" И мыслю, как тебя люблю!>. Развитие общения в онтогенезе — это прежде всего развитие и изменение его мотивации; овладение навыками общения, инструментальтикой вторично, производно от мотивации. Уже у младенца отчетливо прослеживаются две независимые, хотя и перекрещивающиеся линии ее развития: одна связана с отношением к другому (взрослому) как к персонифицированному обобщенному объекту удовлетворения жизненных нужд ребенка; вторая, сигнализирующая о себе синдромом эмоциональной депривации, указывает на избирательность, потребность в совершенно определенном индивидуализированном незаменимом другом человеке. По мере расширения связей ребенка с окружающим его миром, освоением предметных форм деятельности обогащается круг побудителей общения, и другой человек — взрослый или сверстник — начинает привлекать как партнер по совместной деятельности — игре, учебе, досугу. Однако подмечаемая многими психологами основная мотивация выбора друзей остается эгоцентрической: "Вова хороший друг, потому что делится игрушками" или в более старшем возрасте — "понимает меня, поддерживает в трудную минуту". Это своеобразное безразличие к выбору объекта привязанности, своего рода функциональное отношение, весь смысл которого в немедленном удовлетворении созревшей потребности, ярко проявляется в феномене первой юношеской любви, когда желание любить и быть любимым превалирует над избирательностью. Вспоминается простодушная "всеядность" Наташи Ростовой, искренне не понимающей, почему, став невестой Болконского, она должна отказать в приеме Борису Друбецкому. Взросление и становление зрелой личности отличаются, кроме всего прочего, децентрацией мотивов общения с Я на процесс самого общения и другого человека, что отражается в растущей избирательности и дифференциации круга общения, индивидуализации выбора друзей, усложнении содержательных критериев их выбора. Индивидуальные различия в мотивации духовного и интимного общения с возрастом не исчезают, напротив, становятся более явными, так что, по-видимому, можно говорить об индивидуальном стиле общения , имея в виду преобладающую его мотивацию. Прагматическая польза , понимание и сопереживание, партнерство в совместной деятельности, потребность в самораскрытии и близости для людей обладают разным статусом побудителей общения независимо от этической оценки этих мотивов. В этом смысле можно согласиться с известным афоризмом Л.Н.Толстого: "Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви". Иное дело, что степень удовлетворенности общением, душевное самочувствие партнеров, да и сама судьба отношений как раз и определяются мотивацией общения. Не вызывает сомнений разделяемый многими психологами тезис о том, что внутренний характер мотивации, когда общающиеся являются друг для друга уникальной самоценностью, а не одним из возможных (и взаимозаменяемых) способов удовлетворения эгоцентрических потребностей, придает общению стабильность, способствует творческому развитию как самого общения, так и его участников (Каган A.M. и Эткинд A.M., 1988). Мотивация, предполагающая извлечение психологических или прагматических "выгод", образует стиль общения, известный в психологии как игровой, или транзактный. Надо сказать, что в принципе умение предвидеть и формировать нужную реакцию партнера по общению — важный компонент социально-компетентного поведения, отчасти даже ритуализированный, как, например, комплименты или традиционный обмен приветствиями. Сколь изящны могут быть эти "невинные хитрости" общения, блестяще продемонстрировал А.Моруа в "Письмах к незнакомке". По-видимому, далеко не для всех и не во всех сферах жизни искусное управление поступками и чувствами партнера вызывает протест и разрушает отношения. К примеру, в производственных, деловых отношениях или политике "манипуляторство" предполагается и высоко ценится как профессиональное качество. Если судить по художественной литературе, то существовала определенная канонизация хитростей и проделок в отношениях, даже традиционно регламентированных (слуга и господин, мужчина и женщина). Субретка, строящая глазки любовнику своей госпожи, всего лишь милая плутовка — так же, как и слуга, кладущий в свой карман несколько монет, принадлежащих хозяину. Не веди они себя подобным образом, о них сказали бы — простофили. Примеры можно было бы умножить и далее, одно, по видимости, бесспорно: там, где ролевая структура отношений четко эксплицирована и принята общающимися сторонами, либо нет нужды прибегать к психологической игре, либо маневры, ловушки и интриги входят в естественный арсенал средств общения как атрибуты роли. Амплуа обманутого старика-мужа непременно требует от молодой жены привлекательности и кокетства — иначе тщеславный муж; чувствовал бы себя обманутым вдвойне. Поведением человека оказывается невозможно или не нужно управлять, если оно побуждается его истинными чувствами или внутренне присущими мотивами и ценностями. Там же, где человек, отказывается быть самим собой, где боится обнаружить искренность и скрывает (быть может, неосознанно или вынужденно) свое истинное отношение к партнеру по общению, последнее неизбежно становится манипулятивным, насильственным. Пропорция "игровых" и открытых, искренних отношений, естественно, различна в разных сферах общения, как и неодинакова потребность в интимности и близости у разных людей. Баланс (или конфликт) стремления к сохранению своего Я, индивидуации, независимости и потребности в привязанности, преодолении границ Я, разделяющих людей, во все времена составляли драму человеческих отношений. Для нужд практической психологии, ориентированной на психологическую помощь и психотерапию, представляется одинаково важным изучение обоих стилей общения, за одним из которых (транзактным) стоит эгоцентрическая, или прагматическая мотивация контроля и управления поведением другого человека, за другим — мотивация, "фасилитирующая" взаимное личностное развитие равноправных партнеров (Роджерс К., 1987). Феноменология насильственного общения как было показано выше, представлена особыми, манипулятивными стилями общения при неврозах и других пограничных состояниях. Хотелось бы обратить внимание читателей на известное сходство изученных нами устойчивых паттернов (или стратегий) внутренних и внешних действий, за счет которых поддерживается искаженная структура образа Я и образа Другого, с кругом феноменов, в терапии объектных отношений, получивших название проективной идентификации (Дж. Мастерсон). Психотерапия видит свою конечную цель в содействии изменению этого потенциально деструктивного стиля общения и скрывающейся за ним зависимой смысловой позиции самосознания. 1.9. Роль насилия в развитии пограничной личностной структуры В предыдущих главах, где рассматривались вопросы генеза пограничной личностной структуры, заострялось внимание на роли неадекватных родительских установок и некоторых экстремальных ситуаций детского развития (в частности, материнской депривации и симбиоза), разрушающих отношения привязанности или насильственно фиксирующих их, что в дальнейшем способствует развитию сверхзависимого и хрупкого Я. В принятой разными авторами терминологии, обозначающей недостаточную дифференцированность и целостность образа Я ("размытая идентичность" — Э.Эриксон, "хрупкое я" — О.Кернберг, "фальшивое Я" — Д.Винникотт и проч.), отражены специфические особенности самосознания, сформировавшегося в семейных условиях, которые мы квалифицируем как психологическое насилие. К этому же кругу феноменов следует отнести описанные Р.Лэйнгом и Х.Стерлиным стратегии "мистификации" детского самосознания посредством внушения — на поведенческом уровне — вербально и невербально — нереалистических родительских ожиданий. Воздействуя такими средствами, как инфантилизация, инвалидация, делегирование, родители вольно или невольно способствуют обесцениванию собственных действий, побуждений и чувств ребенка, насильственно замещая генуинный опыт и образ Я навязываемыми. Тем же целям служит и транзактная структура взаимоотношений в семье, когда "условное приятие" (К.Роджерс) или "двойная связь" (Дж.Бэйтесон), или иные формы "игрового общения" (Э.Берн) вынуждают ребенка скрывать свое истинное Я под маской, с помощью маневров и трюков лавируя между угрозой потери Я или разрушения семейного Мы. Внутриличностный конфликт, который, как мы показали ранее, оформляется в ложную дилемму самосознания, обостряется на каждом новом этапе становления самоидентичности. Применительно к подростковому кризису борьба подростка со сверхзависимостью и навязываемым ему родительским образом Я, стадии и закономерности процесса этого своеобразного "психологического выживания , наряду с трансформациями, своего рода "искажениями" образа Я как следствием непереносимого родительского диктата, были детально изучены в двух выполненных под нашим руководством диссертационных исследованиях (И.Г.Чеснова, 1987; Леониду Деспо, 1990). Их результаты отражены в публикациях и соответствующих главах настоящего текста (Е.Т. Соколова, 1987, 1989, 1991; Е.Т. Соколова, И.Г.Чеснова, 1986 и др.). Существенно подчеркнуть, что до сих пор ранее указанные феномены родительского отношения не получали столь "острой" трактовки. Сегодня, особенно в свете накопленного опыта психотерапевтической работы, их репрессивная, насильственная природа кажется достаточно очевидной. Всякий раз, когда ребенок жертвует своими насущными потребностями, чувствами, мировоззрением, наконец, в угоду ожиданиям, страхам или воспитательным принципам родителя, всякий раз, когда ставится под сомнение его самоценность, а любовь приходится "зарабатывать", будет иметь место психологическое насилие. В сравнении с физическим насилием в виде жестокого обращения, телесных наказаний или сексуальных посягательств психологическое насилие кажется более "безобидным". Но только на первый взгляд. Позволим себе сослаться здесь на два примера — один литературный, второй — из психотерапевтической практики автора. "Однажды ночью я все время скулил, прося воды, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы поразвлечься. После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу сказать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда среди ночи нельзя было добиться покоя — я только хочу охарактеризовать твои средства воспитания и их действие на меня. Тогда я, конечно, сразу стал послушным, но мне был нанесен внутренний ущерб. По своему складу я никогда не мог установить правильной связи между совершенно понятной для меня бессмысленной просьбой о воде и неописуемым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, что огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, может почти без всякой причины ночью подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, — вот, значит, каким ничтожеством я был для него... Так складывались не мысли, но чувства ребенка1. Другой пример взят из протоколов сессии проводимого нами тренинга по Гештальттерапии. В ходе одной из групповых сессий в процедуре направленного фантазирования под названием "Путешествие в мое детство" С. внезапно почувствовала тошноту и головокружение, на глазах выступили слезы, к горлу подступил комок сдерживаемых рыданий. Ведущий попросил С. не рассказывать о том, что с ней происходит, а выразить свои чувства с помощью психодрамы. С. предложила одному из участников группы стать воспитательницей детского сада, другому — яичницей, третьему ложкой, четвертый изображал саму С, неподвижно распластанную на полу. По мере того, как С. могла наблюдать за тем, как "ложка" вновь и вновь заталкивает "яичницу" в беспомощную С.дубль, в ней возникали и нарастали соматические симптомы вплоть до рвотных порывов. Только после телесно пережитого опыта С. сумела напрямую обратиться к протагонистувоспитательнице и выразить всю полноту отвращения, которое маленькая С. чувствовала и к ней самой и ко всем педагогическим принципам, при помощи которых та пыталась заставить ее "проглотить", невзирая на протесты С. 1 Кафка Ф. Из дневников. Письмо отцу. М., 1988. С.200-201, 205. (разрядка наша. Е.С.). Далее приведем систематизацию некоторых родительских "посланий", к форме и содержанию которых незрелое сознание восприимчиво в силу особой чуткости детской души к эмоциональным обертонам общения. Конечно, следует иметь в виду, что "сказанное" родителем и "услышанное" ребенком далеко не всегда полностью тождественны друг другу. Восприятие ребенка избирательно и пристрастно, и в силу этого способно усилить или ослабить и до некоторой степени даже исказить содержательную сторону "послания", но не его аффективный подтекст. Запечатленные податливой детской психикой, они остаются в виде отпечатков и следов многочисленных "ударов", "ранений" или мягких "касаний", память о которых бессознательно хранит и воспроизводит не только душа, но и тело ребенка и взрослого. "Не трогать, свежевыкрашен", — Душа не береглась, И память — в пятнах икр, и щек, И рук, и губ, и глаз" — строки Б.Л.Пастернака передают беззащитность и трепетность детского мироощущения влюбленного. Опираясь на разработанную Ж.Саломе классификацию родительских посланий (на наш взгляд, перекликающуюся с известными типологиями родительских установок), дадим здесь свое понимание их содержания и феноменологии, используя накопленный терапевтический опыт. 1. Послания-отношения — скрытый смысл, остающийся после состоявшегося акта коммуникации, — поведенческого взаимодействия или разговора. Так, смыслом отцовского действия (из приведенного ранее текста Ф.Кафки) стало переживае мое сыном хронически повторяющееся чувство беспомощности, неуверенности, "ничтожности". Многие расхожие фразы, обращения, клички, которые слышит ребенок в свой адрес, впоследствии всплывают в сознании как своего рода "автоматические мысли" (А.Бек) или самооценки. "Недотёпа!", "У тебя вечно все валится из рук!", "Ты ничего не забыла взять в школу?", "Я тебя ненавижу!" — воспринимаются как недоверие , упрек, оскорбление, отвержение. И, напротив, если ухо ребенка слышит ласковые слова, если родительские руки ласково и нежно касаются, уверенно и сильно поддерживают, ребенок чувствует себя любимым, принимаемым, имеющим право на жизнь и свое место на земле — так складываются не мысли, но ответы в адрес Я. 1 Salome J. Papa, Maman, ecoutez — moi vraiment. Pour comprendre les differentes languages de l'enfant. Paris, 1989. 2. Послания-отрицания. Приведем здесь еще один фрагмент письма Ф.Кафки к отцу. "Стоило только увлечься какимнибудь делом, загореться им, придти домой и сказать о нем — и ответом были иронический вздох, покачивание головой, постукивание пальцами по столу: "А получше ты ничего не мог придумать?", "Мне бы твои заботы", "Не до того мне", "Ломаного гроша не стоит ", "Тоже мне событие". ...Я не мог сохранить смелость, решительность, уверенность, радость по тому или иному поводу, если ты был против или если можно было просто предположить твое неодобрение, а предположить его можно было по отношению, пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал" (Там же). Примечательными здесь являются два тонко схваченные Кафкой свойства негативных родительских посланий: во-первых, они интериоризуются и результируют в отрицание в себе качеств, достойных самоуважения, но отвергаемых родителями, испытывающими страх перед растущей самостоятельностью ребенка как страх грядущего одиночества и потери. Во-вторых, в силу значимости и аффективной насыщенности детско-родительских отношений, послания из конкретных и частных актов коммуникации превращаются в сверхобобщенные и жесткие прогностические самокоманды, контролирующие и направляющие как поведение, так и самоотношение сначала ребенка, а потом и взрослого, причем вопреки его актуальному опыту, здравому смыслу и чувствам. 3. Послания-запрещения. Указывают на какой-то недостаток (реальный или мнимый) ребенка и впоследствии будут "толкать" его к постоянному искоренению или сокрытию его. Одна из наших пациенток вспоминала, что мама часто сокрушалась по поводу ее фигуры, постоянно добавляя: "Конечно, ты будешь такая же несчастная, как и я". "Делегированная" своей мамой на несчастливую жизнь, пациентка кроме всего прочего буквально не вылезала из корсетов, граций и прочих одежд, скрывающих и сковывающих ее тело, она осталась девственницей, чтобы никто не смог "вскрыть" ее дефект. 4. Послания-разочарования, послания-угрозы. А.И.Захаров в известной книге "Психотерапия неврозов у детей и подростков", а также автора "Популярной психологии для родителей" (М., 1988) описали многочисленные случаи, попадающие в эту рубрику. Так, родители могут упрекать ребенка в том, что он не так талантлив, как им бы хотелось, или, напротив, так же слаб и несостоятелен, как и они. Угрозой лишения любви могут слышаться ребенку обещание "развестись или заболеть" из-за его плохого поведения. Родители одной из моих пациенток рассказывали, что разочарованные рождением девочки, они долгое время сохраняли заготовленную одежду для будущего сына и более того — продолжали покупать мальчиковую одежду своей дочери вплоть до окончания ею школы. Эта девочка так и не смогла почувствовать себя женщиной, усвоив полоролевое поведение по маскулиному типу и в конце концов обратилась с просьбой о смене пола (случай транссексуализма). 5. Послания долженствования и исправления. Послания такого рода формируют жесткий диктат и регламентацию поведения, заставляя действовать и чувствовать вопреки собственному Я и часто являются причиной соматических заболеваний. Добавим, что речь идея по-видимому, о феномене, называемом Ф.Перлсом "shouldism" долженствование", что, на наш взгляд, действительно сопряжено с жизнью на грани возможного, когда "слишком много взваливается на свои плечи" (ср. shoulders — поанглийски означает плечи), когда болит от перегрузок спина и т.п. Обратимся к случаю из практики. Пациент Б., средних лет, известный ученый и начинающий бизнесмен, жаловался на необъяснимые приступы острого страха, сопровождаемые сильным сердцебиением и страхом смерти. В процессе терапевтической работы во время одного из сеансов Б. часто непроизвольно прикасался к двум плюшевым игрушкам, лежащим неподалеку от кресла на столе. Терапевт предложил Б. взять игрушки; после произвольного манипулирования ими Б. посадил на одно колено маленького, чуть смешного и трогательного единорога, на другое — большую рычащую собаку. Затем, "становясь" поочередно то тем, то другим, в ходе диалога с ними, Б. сумел идентифицировать две полярные части своего Я. Б. — слабовольный, боящийся нарушить правила, перейти границы дозволенного, "примерный семьянин, не позволяющий себе даже посмотреть на других женщин", и "Highest1 — бесконечно задерганный и гавкающий на подчиненных, постоянно побуждающий (точнее — понукающий) себя браться за новые и новые дела и везде стремящийся быть на высоте положения, прибега ющий к встряскам в виде алкоголя и все чаще в последнее время оказывающийся недееспособным в интимных отношениях. 1 Слово, изобретенное пациентом, начавшим в это время усиленно учить английский язык ради налаживания деловых связей. Как в этом терапевтическом случае, так и при экспериментальном изучении психологической природы панических атак, мы приходили к открытию "расколотой" структуры самосознания с доминированием на сознательном уровне так называемого грандиозного Я с полным вытеснением Я-зависимого и слабого. Заметим, что до терапии пациент ясно не осознавал ни наличия в себе этих противоречивых структур Я, ни чуждости, навязанности и непосильности своего Highest. Только на более отдаленных этапах терапии пациент сумел открыть источник своего "хайеста" — такого мальчика Б. обожала и боготворила его мама, всю жизнь втайне презирающая верного, любящего, но безвольного мужа и приложившая немало сил, чтобы выбить из сына лень и пассивность, но одновременно и привязать его к себе, посвятив ему всю свою жизнь. Как здесь не вспомнить блистательный психологический бестселлер П.Вацлавика ("Как стать несчастным без посторонней помощи". — М., 1990), где приводится пример парадоксального действия известной установки "Будь самим собой!" (или активным, честолюбивым, удачливым — как в нашем случае). Легко заметить, что предлагаемая здесь классификация типов родительского насилия перекликается с попытками ряда авторов, в том числе отечественных, представить феноменологию так называемых неадекватных родительских установок или позиций (см. по этому вопросу также: А.Е.Личко, В.В.Столин, А.С.Спиваковская, А.Я.Варга и другие). Здесь нами акцентируется критический момент несовпадения "языков" родительских и детских посланий, в частности, вербального и невербально-телесного; значительная часть детского опыта, таким образом, не разделяется, "не понимается взрослым", точнее будет сказать, бессознательно отторгается им. Рассмотрим подробно пять видов "речи" ребенка, не замечаемой или не понимаемой взрослым адресатом: жестовая речь, выход в действие, ритуалы, соматизация и символизация. Раскрывая предназначения и формы проявления каждого из перечисленных видов речи, будем иметь в виду объединяющий их символический характер и соотнесенность с неосознаваемыми глубоко конфликтными аффективными состояниями и архаическими уровнями сознания. Низкая когнитивная оснащенность и превалирование в сознании пограничных пациентов чувственно-образной модальности репрезентации картины мира и образа Я с очевидностью предполагает продолжающуюся жизнь детских языков самовыражения в их попытках наладить контакт с окружающей действительностью. Не исключено, что в самой этой специфике самосознания и коммуникации пограничных личностей заключен повышенный риск стать жертвой непонимания, поскольку языком самовыражения становится по-преимуществу язык тела, "отщепленный", изолированный от вербальных, более осознанных языков. Примеры, на которые мы будем ссылаться в дальнейшем, включают, таким образом, реконструкцию детского опыта в ходе психотерапии взрослых пациентов. Взяв за основу эту классификацию, посмотрим, что она дает для более глубокого раскрытия сущности психологического насилия. Ранее (часть II, глава 1.1) нами подчеркивалась разница между манипуляторной уподобляюще-потребительской смысловой позицией личности и диалогической, предполагающей одновременно и присутствие человека, его сопричастность ("не-алиби" — М.М.Бахтин) бытию, и "вненаходимость", требующую вслушивания, внимания к Другому, именно как другому, как не подобному Я. Применительно к психологии родительского отношения первая смысловая позиция заставляет видеть в ребенке исключительно часть своего Я — и не более, не замечать, что и как воспринимает и чувствует ребенок на самом деле, если это расходится с родительским видением мира. Напротив, диалогическая смысловая позиция позволяет заметить и оценить инакость Другого, смысл и прелесть ее, это означает — найти общий язык с Другим. В этой связи вспоминается прекрасный фильм американского режиссера А.Паркера "Птаха". Герой фильма, американский солдат, травмированный войной во Вьетнаме, воображает себя птицей. Он, скрючившись, сидит на полу палаты-камеры, отказывается от приносимой ему еды, отказывается разговаривать с врачом и другом детства, и поптичьи повернув голову к кусочку синего неба в окошке, тоскливо и безмолвно смотрит, застывши, в одну точку. Проходит много времени, в течение которого врач и друг безрезультатно пытаются помочь герою. И вдруг однажды он впервые меняет позу и смотрит в глаза своему другу. Это случается в тот момент, когда друг, отчаявшись, принимает ту же позу птицы. Иными словами, желание и умение постигать язык другого равносильно принятию чувств, мыслей и самой личности этого другого. Именно поэтому ребенок, чьим естественным языком являются жесты, действия, магия и пр., не распознанные или не принимаемые взрослым, чувствует себя жертвой непонимания. Вот почему мы уделяем здесь место генетически детским" языкам самовыражения, помня, что ими пользуются и взрослые, всегда, когда "нет слов". Их копирует ("зеркалит") психотерапевт, посылая пациенту — "Я Вас слушаю, Я Вас слышу", тем самым начиная общение с диалогических позиций, строя контакт диалог на языке пациента. Остановимся подробнее на каждом из выделенных "языков", имея в виду, что все они изначально призваны служить языком чувств. В жестовой речи ребенок в качестве "слов" использует телесную позу, жесты, выражение лица, взгляд и ритм дыхания, молчание. В них он прямо и адресно выражает свои состояния и чувства (вспомним пример К.И.Чуковского в его известной книге "От двух до пяти" — "Я не тебе плачу, а маме!"), причем отсутствие немедленного "ответного отклика" от адресата сообщения может иметь смысл потери значимого другого. Обращенная на себя (известный защитный механизм ретрофлексии), жестовая речь становится языком телесной боли, горя, "потерянности", а в том случае, когда контакт не восстанавливается достаточно долго, она способна приобрести функции нарциссической или аутистической невербальной речи, полностью вытеснив речь вербальную. С помощью жестовой речи ребенок ясно выражает свое актуальное присутствие или отсутствие в "здесь" и "теперь". Так, феномен смыслового барьера, описанный Л.И.Божович, обнаруживает себя не столько в словах, сколько на невербальном уровне — "пустым" взглядом, упорным молчанием, отсутствующим выражением лица. Заметим, что взрослые нередко "не понимают" жестовую речь ребенка именно по причине ее недвусмысленной выразительности и тем самым невольно обнаруживают свою истинную незаинтересованность или отвержение актуального и реального внутреннего мира ребенка. Незамечание жестовой речи, а вместе с ней глубоких чувств и шире — чувственности, в дальнейшем может привести к раздвоению каналов общения и построению коммуникации по принципу двойной связи. Выходом в действие достигается моторная разгрузка накопленного вследствие длительных фрустраций аффекта чаще всего во взрывных и разрушительных формах. М.Клейн различает направленные на себя и направленные на других моторные разрядки, по существу отождествляя их с векторами агрессии. С другой стороны, известный детский гештальт-терапевт Мари Пети подчеркивает позитивный смысл "выхода в действие" как альтернативы застою, автоматизму и рутине жизни, создающие возможность встречи и конфронтации с реальностью, даже через страдание и боль. Подчеркнем, что выходом в действие (порой единственно в нем) ребенок удостоверяется в наличии собственного Я, не замечаемого другими. М.Клейн причисляет к импульсивным действиям и более сложные виды отклоняющегося поведения, такие как бродяжничество, драки, воровство, разрушение, посредством которых ребенок пытается выразить целый спектр неудовлетворенных стремлений. Среди них: притязание на собственность, которая находится в руках другого; привлечение внимания и попытка контакта с другим, когда последний не замечает или отказывается от него; защита, в том числе своего телесного Я; отвержение реальности и Другого, длительно или сверхсильно фрустрирующих его. Добавим, что язык непосредственной чувственности и действия используется ребенком вовсе не исключительно для выражения негативных аффектов — например, бурная радость жизни и "телячий восторг" скорее отражают изначальную доброжелательность, неуемное любопытство и удивление маленького исследователя, встречающего жизнь "нараспашку". Взрослого же именно эта бесшабашность и пугает, угрожая его собственной привычке держать в узде чувства, т.е. никогда не обнаруживать истинные эмоции и всегда оставаться их хозяином. Страх потери самоконтроля и страх быть захлестнутым чувствами другого лежит за известным воспитательным афоризмом — "детей не должно быть слышно, но всегда видно". Кстати сказать, подобная родительская установка нередко провоцирует развитие у детей (и взрослых) фобических реакций, в том числе агоро- и клаустрофобий. Ритуалы. Всем известны невероятно разнообразные и порой как будто совершенно нелепые действия и игры детей, выполняющие роль заклинания и приручения реальности так, как если бы маленький человечек и вправду обладал всемогуществом и властью над событиями. Ритуалы, как и породившее их магическое мышление, сыграли немаловажную роль в эволюционной истории человечества. "Именно магии оказалось под силу провести зарождающееся человечество по острию бритвы, убедить его в собственной сверхъестественной исключительности (курсив наш — Е.С.) и внушить ему идею господства над природой в то время, когда вся реальная жизнь неопровержимо доказывала обратное. Найдя первое эффективное применение свободной игре воображения, магия описала и объяснила пугающе неохватный мир, упростила, сделала его более предсказуемым и возвела строительные леса его переустройства1. Напрашивается ясно видимая аналогия с процессом становления индивидуального сознания, в частности, тех его фаз, которые обеспечивают чувство самоприятия и самоуважения (от 1 года до 3-4-х лет и от 3-4 лет до 6-7). Х.Кохут, классик теории объектных отношений, прямо постулирует необходимость "совместно-разделенных" (по терминологии Л.С.Выготского) взаимных чувств привязанности и доверия, а затем и соучастия в переживании ребенком, пусть далее иллюзорном, своего всемо гущества и самоценности, интернализуемых впоследствии в достойные любви и уважения части Я (Кохут X., 1977). 1 Касавин И.Т. Размышления о магии, ее природе и судьбе. Магический кристалл. М., 1992. С.12. С точки зрения генеза, ритуал, конечно, изобретается не ребенком, а создается ухаживающей и кормящей матерью на основе объединяющей их совместной деятельности. Слабо дифференцированное сознание младенца и потребность в привязанности, исходящая от матери, создают нерасчлененное, телесно-переживаемое, объединяющее мать и дитя, пра-мы-сознание. Откликаясь на соматовегетативные сигналы организма младенца, мать отвечает на них соответствующими ритуалами кормления, игры, опрятности и пр., тем самым упорядочивая, структурируя отношения и обеспечивая чувства покоя и уверенности как у младенца, так и у себя самой. Детские ритуалы, таким образом, ведут свое происхождение от первичной совместной деятельности со взрослым и покоятся на естественной фазе психологического, и отчасти телесного, симбиоза. Магическая сила ритуала состоит в непоколебимом убеждении, что точное соблюдение некоторых предписаний или последовательный и неизменный порядок каких-то действий всегда приведет к строго определенным и ожидаемым результатам. В этом смысле ритуалы действительно являются помощником ребенка в освоении им действительности. Карлос Кастанеда так определяет предназначение помощника "гуахо": "это сила, которую человек способен обрести и которая будет помогать ему, давать советы и умножать его собственные силы ... для приобретения гуахо достаточно в точности выполнить некоторые предписания и без колебаний пройти ряд определенных стадий или шагов"1. Иными словами, ритуал привносит в субъективное восприятие жизни измерение постоянства и безопасности, а в самовосприятие возвращается чувством собственной дееспособности, доверием к себе и возможности контролировать события и воздействовать на них. Тенденция к многократным повторениям, воспроизведениям прошлого, как заметил еще З.Фрейд, несет сама в себе побудительную силу, предназначение которой, на наш взгляд, состоит в защите от непереносимой изменчивости и неопределенности реальной жизни. Именно поэтому маленькие дети, нуждающиеся в успокоении, так тщательно следят за абсолютной неизменностью тысячный раз рассказываемых на ночь историй и сказок, настаивают на привычном порядке отхода ко сну, могут до бесконечности смотреть одни и те же "мультики", засыпают только с соской или "обжитыми" мягкими игрушками и пр. "Капризничающий" всякий раз, когда что-либо нарушается или изменяется, ребенок "говорит" тем самым о своем внутреннем беспокойстве и тревоге. Неизменно отзывчивая и эмпатически чуткая мать, откликающаяся на непосредственные нужды и эмоции ребенка, способна принять это послание и своим поведением ответить не на капризы, а на более глубокие чувства ребенка, сигнализирующие о телесном или душевном неблагополучии. В противном случае они (чувства) окажутся под запретом и будут насильственно вытеснены родительской установкой "условного приятия". 1 Кастанеда К. Дверь в иные миры. Л., П., 1991. С.34-35. Ритуал покоится на незыблемой вере, подрыву которой ребенок сопротивляется всеми силами, рискуя порой выглядеть нелепо или смешно. Ж.Саломе приводит следующий любопытный пример: Маленький Жан никак не хочет уходить с кладбища, где только что похоронили его дедушку. Расстроенные родители уговаривают, упрашивают, наконец, раздражаются, пока, наконец, очень удивленный их поведением мальчик не решается сказать: "Но, мамочка, я ведь только хочу посмотреть, как дедушка на небо поднимется!". Детские ритуалы постепенно отмирают, уступая место любопытству, стремлению к новизне и исследованиям, но остаются во множестве у тех взрослых, чьи потребности в стабильности и безопасности были в раннем детстве фрустрированы. Именно по этой причине психотерапевтический контакт с пограничными пациентами с самых первых шагов подразумевает создание, а также поддержание отношений прочных и надежных, покоящихся на ясных и неизменных правилах-ритуалах. К этому вопросу мы еще вернемся в следующей главе. Соматизация. В телесном языке ребенка мы выделим несколько взаимосвязанных, но тем не менее, различающихся функций. Первая состоит, с точки зрения психоанализа, в канализации психической энергии бессознательного внутриличностного конфликта в русло телесности путем конверсии на орган. Смысл конверсионных симптомов, как правило, универсален и легко считывается терапевтом с языка. Так, работая с пациенткой И., страдающей от измены мужа и полной зависимости от него, мы старались усилить, вернуть живость и полнозвучность едва слышимому, слабому голосу пациентки — буквально; на метакоммуникативном же уровне решалась проблема "собственного голоса", т.е. самостоятельности, уверенности, силы, чтобы справиться с кризисной ситуацией. Телесно-ориентированные методы психотерапии позволяли идти в обход сверхрационализации пациентки, возрождать ее способность к чувственно-витальному восприятию Я. Вторая функция телесного языка вытекает из первичности, "натуральности" телесности в понимании Л.С.Выготским этого термина как организмического уровня самосознания (Соколова Е.Т., 1991). По наблюдениям Е.М.Вроно, детский вариант депрессии с суицидальными попытками (6-12 лет), отличается сильно выраженным соматическим компонентом в виде различных жалоб на общее недомогание, усталость, отсутствие аппетита, нарушение сна; дети становились малоподвижными, апатичными. Таким образом, клиника детских атипичных, по преимуществу маскированных и соматизированных, депрессий косвенно подтверждает наше предположение, что в силу недоразвитости рефлексивных структур самосознания в этом возрасте, дефицитарные состояния Я переживаются по преимуществу и исключительно телесно; пример тому — известный феномен повышенной "болезненности" детей в психологически неблагополучных семьях. Третья функция телесного языка, тесно связанная с двумя первыми, состоит в попытке довербальной коммуникации, контакта с Другим, когда сообщение иначе, как на языке телесных симптомов, не может быть передано — слов нет. Опыт психотерапевтической работы говорит, что наиболее часто телесный язык используется в этой своей функции, когда причиной пережитой психотравмы является физическое насилие, инце-стуозные посягательства, в частности. Следует иметь в виду также, что в раннем детском возрасте вербальные способности ребенка и лексический запас в какой-то мере ограничены и не приспособлены еще для осознанного переживания жизненного опыта подобного рода. И, наконец, четвертая функция соматизации состоит в ретрофлексии (обращении на себя) насильственного контакта с реальностью, своим вторжением нарушающего контактную границу Я — Другой. Соматизация становится симптомом-следствием ранения Другим, душевной или телесной травмы. Возникает ряд вопросов: как дешифровать соматизацию, каким образом выявить ее смыслы, в каких случаях соматизацию можно трактовать как детскую реакцию на насилие и т.д. Вообще говоря, телесный симптом содержит и "скрывает" в себе множество индивидуальных смыслов, открываемых и осознаваемых в ходе психотерапевтической работы благодаря диалогически-вопрошающей позиции терапевта — "А как это для Тебя?". Так, рвота пациентки М., случай которой будет представлен далее, имела для нее генерализованный смысл протеста против психологического и физического насилия, ясное "нет", на другом языке и адресно до лечения невыговариваемое. Наряду с индивидуальными смыслами, телесная экспрессия сохраняет и архетипические значения, обнаруживаемые, в частности, с помощью проективных методов. Согласно нашим экспериментальным исследованиям, расколотая структура образа Я у больных нервной анорексией позволяет уверенно говорить о нарушении процесса коммуникации со значимыми другими, вследствие чего "послание", обращенное Другому, меняет своего адресата. Обращенные близким, но фрустрирован ные потребности в защите, эмоциональной подпитке и пр., результируют в структуру ослабленного, истощенного Я, в то время как защитно-сформированное грандиозное Я демонстрирует черты перфекционизма, будучи в свою очередь инте-риоризацией жестко навязываемых родительских посланий, стандартов и "сценариев" (Подробнее об этом см. раздел П. 1.7.2 настоящего текста, также статью совм. с А.Н.Дорожевцом в кн.: Телесность: междисциплинарные исследования. М., 1991. С.67-70). Таким образом, и так называемые пищевые нарушения мы склонны рассматривать как следствие насилия в широком смысле слова. Добавим также, что использование в качестве симптомообразующего "детского" "прото-языка" (С.Шаш) поглощения-отвержения пищи еще раз подтверждает исходный тезис о повышенной виктимности пограничной личностной структуры вследствие сверхзависимости и низкого уровня дифференциации подструктур Я. Границы образа телесного Я не справляются со своими функциями "барьера", поскольку обладают высокой "проницаемостью" (С.Фишер и С.Кливленд), а следовательно, образ Я оказывается незащищенным, открытым любым вторжениям извне. Принимаютсяпоглощаются (интро-ецируются, по Перлсу) даже те воздействия, которые представляют угрозу психологической и телесной целостности Я, вредоносны или наносят ущерб. Соматизация становится своего рода сигналом бедствия, катастрофической реакцией организ-мического уровня сознания на непереносимость травмы. Использование "аварийного" языка соматизаций свидетельствует о расщеплении структуры образа Я. Функцию репрезентации Я берет на себя почти исключительно телесный пласт сознания, изолированный от вербальных и осознаваемых средств означивания. Перефразируя Фрейда, можно сказать, что ребенок знает, что у него болит, но он не знает, что у него болит. Погруженный в хаос тягостных чувственных переживаний, не обладая достаточно развитым категориальным аппаратом их опосредования, ребенок испытывает острую нужду в Другом. Выступая в качестве принимающего Другого, психотерапевт должен: не бояться разделить и пережить вместе травматичный эмоционально-чувственный опыт; помочь "обжить" его на языке образов действий, символов; обладать мужеством и честностью, чтобы поддержать пациента в поиске точных слов для называния вещей своими именами; позволить выразить гнев, горечь, обиду, стыд и адресовать их; разделить боль утраты, оплакать потерю; простить и принять прошлое, каким оно действительно было, и настоящее — какое оно есть. В успешной психотерапевтической работе достигается интеграция живого непосредственно-чувственного переживания здесь-и-теперь-действительности с ее представленностью на языке значений и смыслов. Символизация. Согласно традиционной трактовке психоанализа, символ служит замещением запретного желания, его "невинным" прикрытием и частичным исполнением. Так, в известном примере из "Психологии обыденной жизни" З.Фрейд ссылается на детские воспоминания своего пациента в 5-летнем возрасте, старающегося с помощью своей молодой и привлекательной тети уяснить разницу между буквами m и n. "Не было никакого основания, — пишет Фрейд, — сомневаться в достоверности этого воспоминания; но свое значение оно приобрело лишь впоследствии, когда обнаружилось, что оно способно взять на себя символическое представительство иного рода любознательности мальчика"1. Еще более определенно выражался последователь Фрейда, К.Абрагам — символическая оболочка желания — это форма его искажения2. Сходного понимания психологической природы соотношения символа и желания (психотравмы, конфликта) придерживаются в школе современного структурного психоанализа (в частности, Ролан Барт)3. "Наше понимание символа близко к психоаналитическому пониманию: символ — это, грубо говоря, некий языковый элемент, который перемещает тело и позволяет увидеть, угадать некую площадку действия, нежели та площадка, с которой прямо говорит высказывание". Согласно Барту, символ, как и код (последний понимается как "корпус правил"), принадлежит к уже виденному, уже читанному, уже деланному (разрядка автора), т.е. относится к прошлому, а не настоящему использующего этот код рассказчика. В этом смысле символ действительно обесценивает, "девитализи-рует" объект желания с тем, чтобы сделать его приемлемым сознанию. Справедлив и иной ракурс видения символизации — как способа актуализации прошлого через его здесь-и-теперь презентацию. Символ, рождающийся в процессе психотерапевтического контакта, будет отличаться от "расхожего", в широком смысле — социально навязанного, своей жизненностью, чувственно-телесной наполненностью, а также — ясной принадлежностью Я и адресностью. Появление этих качеств — измерений символа обнаруживает динамику терапевтического процесса и может использоваться в качестве критериев его эффективности. Остановимся на двух формах символизации неосознаваемых переживаний — зрительнообразной и вербальной, каждая из которых предполагает элемент свободы от нормативной вы сокосоциализированной деятельности, чему соответствуют так называемые творческая активность и фантазия. Проективные методы, как известно, опираются на принцип проекции в продуктах фантазии символов бессознательного. Например, в зрительных образах, ответах в тесте Роршаха переживания страха агрессии и беспомощности перед ней звучат в ответах типа "распластанное тело", "проткнутый ножом ствол дерева", "рот, раскрытый в крике". Заключенные в них метафоры передают также "жертвенность" позиции Я, слабость границ и высокую их проницаемость, открытость агрессивным атакам, в том числе сексуальным посягательствам. Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни. М., 1924. С.53. Абрагам К. Сон и миф. М., 1912. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, с.457. Рисуночные тесты (рисунок человека, несуществующее животное, рисунок семьи, дерева и др.) так же, как и свободное рисование, широко используемые нами в психотерапевтической работе, дают ценный диагностический материал еще до его осознания и вербализации пациентом. Проанализируем здесь рисунки одной из наших пациенток — жертв насилия. В самом начале работы, когда терапевту еще ничего не было известно о фактах насилия, пациентка начала рисовать самостоятельно, в качестве "работы над собой" между сессиями. Примечательно, что эти ее рисунки, как и фантазии, ассоциированные с ними, носили крайне абстрактный характер, были связаны с образами воздействия на нее каких-то мистических сил, энергию и информацию от которых она принимает. Использовались почти исключительно ахроматические цвета с обилием штриховки. Указанные особенности рисунков интерпретировались терапевтом как бессознательная проекция высокой тревожности и отчуждения части опыта, связанного с насилием. Затем образы стали приобретать большую конкретность, появилось изображение "рваной раны", "рубца". И это позволило начать работу с травматическими переживаниями, всего лишь следуя за спонтанно предъявляемыми пациенткой темами, по мере того, как они начинали допускаться в сознание. В серии последующих рисунков пациентка пыталась передать ощущение раздвоенности, противоречивости, что отражалось и в названиях рисунков: "удовлетворение и неудовлетворение", "любовь и ненависть — рана моя". На одном рисунке были изображены два сердца: меньшее в красном цвете — "чувство своей необходимости" и большее — в черном цвете, составленное из "осколков" - "чувство своей ненужности". Эмоциональная полярность проецировалась и на выбор цветов. Красным цветом пациентка, объединяя их в единое смысловое поле, изображала такие значимые объекты, как мать, радость, любовь, блаженство, желудок; черный цвет передавал чувства страха, ненависть, оскорбленность, жизнь. Динамика рисунков развивалась по линии обогащения их цветовой палитры: вместе с голубым цветом появились мечты, "жажда", "слезы сентиментальности", "поддерживающиеруки", "прохлада, поддержка и тепло". Многоцветию рисунков соответствует, как мы видим, появление и новых чувств, их более тонкая нюансировка. После года терапии прощальный рисунок, выполненный в мягких тонах зеленого, голубого, розового и коричневого цветов, изображал обнаженную пациентку, как бы свободно парящую в блаженно-расслабленной позе и был назван ею "Колыбель счастья". Рисунки и их совместный с терапевтом анализ помогли обнаружить естественный язык самовыражения пациентки, на котором и благодаря которому происходило эмоциональное отреагирова-ние ее ретрофлексированной агрессии сопротивления, прояснение телесных ощущений и чувств, нахождение их смысла и точная вербализация, обнаружение психотравмы, ее обживание, осознание и в конце концов прощение насильников-Других и самоприятие. Еще одно мощное средство самораскрытия — спонтанная вербальная речь — для себя — дневниковые записи, стихотворчество, речь пациента, обращенная к психотерапевту или значимым объектам окружения. Символика такой речи почти очевидна, настолько, что подчас достаточно простого привлечения внимания пациента к произносимым словам, чтобы могла начаться самостоятельная работа по обнаружению их метафорического смысла и "значения для меня". Так, одна из наших пациенток приходит к открытию, что "все слова имеют чувства" , а далее соотносит их с чувственно-телесными ощущениями и ищет пути смягчения и самостоятельного контроля соматических симптомов. Ниже приводим фрагмент из дневниковых записей пациентки, где она вскрывает смысл значимых для нее слов и выражений. “"Не пущу": мышцы около кадычка сильно жмут широкой лентой, с силой из легких выталкивается воздух, сжимается и подтягивается кверху желудок, выталкивая содержимое, нужен свежий воздух и убрать объект отвращения. "Омерзение": это чувство сложное. Оно вызывается непосредственно манипуляциями с телом. Реакция начинается с угрозы. Екает сердце, вздрагиваешь, перехватывает дух, появляется сильная тошнота. Если в этот момент не растеряться, оказать сопротивление внутренней силой, голосом и всем телом, то кровь равномерно разгоняется по всему телу, становится тепло, тошноты как не бывало, легкие полностью вдыхают и выдыхают воздух...” Конечно, далеко не сразу пациент становится "терапевтом самому себе", в большинстве случаев ухо терапевта слышит, глаза видят, но от пациента смысл сказанного им скрыт. Показателен в этой связи случай с К., страдавшей страхом "взглядов людей в транспорте". В процессе терапии вскрывались все новые и новые ситуации возникновения страха и его телесные проявления. Так, он оживал в терапевтической ситуации, когда К. смотрела в глаза терапевту и испытывала страх утонуть. Страх появлялся при приближении к объектам, о которые можно "обжечься". Страх впервые возник после того, как однажды, когда ей было 14 лет, К., принимая душ, заметила "взгляд отца". Некоторые телесные ощущения, испытываемые ею при страхе "так же, как и при разных сильных чувствах", воспроизводились в приятных фантазиях, например, в скакании на лошади. К. осознанно и целенаправленно культивировала в жизни независимость суждений... и не обнаруживала долгое время скрытых в символике симптомов глобальных проблем зависимости от взглядов других — в самом широком смысле слова, и амбивалентных чувств к сексуальным посягательствам отца (и мужчин вообще). Условная желательность симптома и связанное с ней сопротивление долгое время тормозили процесс терапии. Случай М., анализ которого приводится далее, дает богатую иллюстрацию символики таких классических, экзистенциальных, по Сартру, симптомов, как тошнота и рвота. Тошнота для этой пациентки была реакцией на "брезгливость перед лицом внешней жизни, ее мерзости, обид в магазинах, запахов в автобусе"4, они находились в том же семантическом поле, что и обида, отвращение, ненависть, паника, ничего не поделаешь... Соматические симптомы становились символической платой за чрезмерную податливость к вторжениям в телесное и символическое пространство Я, которым не могла противостоять пациентка. Смысл их не был понятен ни близким, ни врачам, ни ей самой, но он постепенно вскрывался, обозначался и по мере освобождения М. от зависимости и "интроектов" (по Ф.Перлсу) исчезали и телесные симптомы. Подведем итоги. До сих пор проблематика психологического и физического насилия не имеет единой теоретической и исследовательской парадигмы, в то время как психотерапевтическая практика ясно указывает на общность генеза пограничных расстройств и долговременных последствий посттравматического стресса вследствие насилия. В их основе лежит единый синдром зависимости как системообразующий радикал пограничной личностной структуры. В данном разделе автор позволил себе провести аналогию между так называемыми неадекватными родительскими установками и психологическим насилием. Более того, анализируя случаи из психотерапевтической практики, мы попытались доказать повышенную виктимность пограничных пациентов (в силу особой организации их образа Я и картины мира) к физическому насилию также. Безусловно, правомерность подобного подхода дискуссионна и требует дальнейшего изучения и верификации. Рекомендуемая литература Зейгарник Б.В. К вопросу о механизмах развития личности. Вестн.Моск.ун-та. Сер. Психология. 1979, № 1. Кон И.С. Открытие Я. М., 1978. Мясшцев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 4. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976. 5. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 6. Соколова Е.Т. Модификация теста Роршаха для диагностики нарушений семейного общения // Вопр. психологии. 1985, № 7. 7. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989. Соколова Е.Т. Особенности самосознания при невротическом развитии личности. Автореф. докт.дисс. М., 1991. Соколова Е.Т. Влияние на самооценку нарушений эмоциональных контактов между родителем и ребенком и формирование аномалий личности. Семья и формирование личности. М., 1981. Соколова Е.Т., Дорожевец А.Н. Исследование образа физического Я: некоторые результаты и размышления. Междисциплинарные исследования телесности человека. М., 1991. Соколова Е.Т., Федотова Е.О. Апробация методики косвенного измерения системы самооценок (КИСС) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология. 1982. № 3. 12. Соколова Е.Т., Чеснова И.Г. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей // Вопр. психологии. 1986, № 2. 13. Соколова Е.Т. Совместный тест Роршаха для диагностики нарушений семейного общения // Общая психодиагностика. М., 1987. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983. Фрейд 3. Печаль и меланхолия // Психология эмоций. Тексты. М., 1984. 16. Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986. 17. Beck A.T. Cognitive therapy and the emotional disorders. N.Y., 1976. 18. Bowlby Y. The making and breaking of aff ectional bounds. L., 1979. Bruch H. Eating disorders. N.Y., 1973. Kernberg O. Borderline conditions and pathological narcissism. N.Y., 1975. Kernberg O. Severe personality disorders: psycho therapeutic strategies. N. Haven and London, 1984. Kohut H. The restoration of the self. N.Y., 1977. Mollon P., Parry G. The fragile self: narcissistic disturbance and protective function of depression // British J, of Med. Psychol. 1984. V.57. Rutter M. Maternal deprivation: New findings, new concepts, new approaches // Child Devel. 1979. 5, 2. . Schontz F.C. Body image and its disorders // Intern. J. of Psychiat. Med. 1974. V.5(4). Winnicott D.W. The maturational processes and the facilitaing environment. L., 1965. Witkin H.A. et al. Psychological differentiaion. N.Y., 1974. Глава 2 Базовые принципы и методы психотерапии пограничных личностных расстройств 2.1. Теоретическое обоснование Современное состояние той области психологии, которую иногда называют "психологической практикой", отмечено тенденцией к взаимопроникновению и интеграции базовых принципов и методов психоанализа, когнитивно-бихевиориальной и гуманистической ориентации в персонологии и психотерапии. Последние две, исторически возникнув как непримиримые оппозиции классическому психоанализу (и друг другу) сегодня сосуществуют, тем самым позволяя создать более полное и объемное представление о человеке, а также значительно обогащая и расширяя поле конкретных психотерапевтических процедур. Практикующий психотерапевт волен выбирать, быть ему строгим приверженцем какой-либо определенной школы или прагматическим эклектиком, что в немалой степени зависит от его личных предраспо-ложенностей и аксиологических установок. На наш взгляд, и догматический пуризм, и технологическая всеядность как крайности одинаково малопригодны для осознанной и этически оправданной профессиональной деятельности психотерапевта. Обе мало уважают и принимают в расчет самого пациента, более всего озабоченные созданием "харизматического" образа психотерапевта, и уже хотя бы поэтому обе чреваты манипуляторством либо в угоду излюбленной терапевтом теории, либо ради демонстрации эффектов "быстрого" магического исцеления. Существующая сегодня разветвленная сеть психологических услуг поднимает вопрос об "имени", а следовательно, о сущности по крайней мере одного из направлений психологической практики, до недавнего времени именовавшегося "психологической коррекцией". Сегодня уже ясно, что этим термином стоит пользоваться с осторожностью, ибо очевидно, что чуткий к смысловым оттенкам слов, страдающий человек в ситуации выбора (вообразим себе подобную фантастическую картину) пойдет на прием не к "психокорректору", а к "психотерапевту". Сказанное вовсе не означает дискредитации той области практической психологии, которую традиционно и с полным правом называют у нас восстановлением высших психических функций. При этом не играет роли, идет ли речь о восстановительной (реабилитационной) работе психолога, осуществляемой им в клинике или в учебном заведении — в рамках ясно сформулированных и ограниченных запросом к психологу задач, его деятельность абсолютно уместна и этически оправдана. Иначе (и гораздо проблематичнее) обстоит дело в той области психологической практики, где "страдает" не та или иная психическая функция (при всей условности, конечно, подобного различения и общепринятости деятельностной парадигмы), где оценочные критерии неприменимы принципиально, а клинико-психиатрические все более оттесняются психологическими, где жалоба и запрос пациента теснейшим образом связаны с коренными вопросами его существования. Отказываясь от идеологии манипуляторства как своего рода "мичуринства" в области человеческих отношений, я предпочитаю термин "психотерапия", (а не психокоррекция), чем утверждаю право и ответственность самого пациента решать, что в нем "правильно" или "неправильно" (correction (англ.) — буквально исправление, поправка, наказание), а следовательно, и запрашивать, чего именно, кроме уменьшения страдания, он ожидает от психолога-психотерапевта. Термин "психотерапия" в одном из своих факультативных значений подразумевает врачевание души в смысле заботы, попечения, ухода и является, таким образом, разновидностью психологической помощи, оказываемой одним человеком (профессиональным психотерапевтом) другому человеку (пациенту или клиенту) исключительно по запросу последнего и на основе взаимного контракта, помощи, к тому же строго ограниченной пространством психотерапевтического кабинета. При таком понимании психотерапии ее главным методом и лечащим средством становится не та или иная психотехника, а особая форма взаимоотношения терапевта и пациента в процессе психотерапевтического контакта, по своим основополагающим принципам альтернативного спутанным, неопределенным, нестабильным и угрожающим отношениям в реальной жизни пациента. Специфические особенности этого типа общения, оказывающего врачующее воздействие на пациентов с пограничной личностной структурой, заключаются в их пригодности для опредмечивания и удовлетворения базовых потребностей в безопасной стабильной привязанности и автономии, фрустрирован-ных в онтогенезе, и реконструкции на их основе способной к развитию и одновременно устойчивой самоидентичности. Именно в этом смысле мы говорим о психотерапии как о хорошем родительствовании, "взращивании", что перекликается отчасти с идеями психотерапии объектных отношений, но также может быть понято в контексте культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Всякая высшая форма поведения появляется в своем развитии на сцене дважды, указывал Л.С.Выготский, — сначала как интер-психическая, в форме разделенного между двумя людьми общения, а затем как интра-психическая, сначала как средство воздействия на другого человека, затем как способ овладения им собственным поведением1. Применительно к психотерапевтической модели общения принцип интериориза-ции конкретизируется следующим образом. Первоначально строящиеся "извне" между терапевтом и пациентом взаимоотношения устойчивой и безопасной привязанности — с одной стороны, побуждение пациента к активности самоисследования и разделению ответственности за происходящие изменения — с другой, интериоризуясь и присваиваясь пациентом, образуют новую структуру самоотношения, так же как и новый паттерн межличностного общения. С целью конкретизации этой гипотезы вновь вернемся к двум рассмотренным ранее феноменам полярно-неадекватного родительствования — эмоциональной депривации и эмоционального симбиоза, равно переживаемым ребенком как потеря или насилие. Напомним, что эмоциональная депривация, т.е. лишение ребенка попечения, заботы и тепла в самые сензитив-ные для удовлетворения аффилятивной потребности периоды младенчества и отрочества, способствует развитию хронического и неутолимого эмоционального голода, стремления к эмоциональной подпитке через примыкание или присасывание к значимому Другому. Каким же будет складывающийся в этих условиях образ Я? Представим себе, что его формирование происходит согласно тем же закономерностям, что и формирование перцептивного образа любого другого объекта. Известно, что одним из базовых качеств перцептивного образа является его константность, возникающая благодаря активному взаимодействию субъекта с объектом. В онтогенезе восприятие младенцем внешнего мира и себя самого опосредовано его отношениями со взрослыми; подростковый кризис Я вновь делает эти отношения критически значимыми. Мы решаемся предположить, что только постоянное присутствие эмоционально значимого Другого в качестве поддержки и опоры создает необходимые условия для формирования устойчивого позитивного самоотношения, сохраняющего свою стабильность и определенность, несмотря на естественные и эксклюзивные фрустрации, неудачи и страдания, сопутствующие самой жизни. 1 Выготский Л.С. О психологических системах. Собр. соч. М., 1982. Т.1. В то время, как эмоциональная депривация, создавая "разрывы" в отношениях, дестабилизирует их, вызывает непрогнозируемые флуктуации образа Другого, а через него оказывает аналогичное воздействие на образ Я2. Обращенные ко взрослому улыбка, гуление или крик боли ребенка не встречают отклика, а только пустоту. Его активность, отражающая насущную потребность Я быть "обласканым", "облизанным" (в том числе в чисто телесном выражении), его витальная нужда находиться в постоянной "кормящей", "подпитывающей" связи с Другим, удовлетворяющей само его существование и с молоком матери придающей "вкус жизни", не достигает цели и не приносит удовлетворения. В зависимости от характера депри-вации, ее постоянства, длительности, повторяемости, — образ Другого либо навсегда приобретает черты чуждости и потенциальной угрозы, либо флуктуирует от "хорошего" к "плохому". Таков, повидимому, механизм расщепления образа Другого. Что происходит в этих условиях с формирующимся образом Я? Теория "объектных отношений", уделяющая большое внимание описанию этого феномена, не раскрывает, однако, психологического механизма его перехода с интер- на интра-психический уровень (М.Клейн, У.Фейрберн, Дж. Мастерсон). Указание на его интернализацию, на наш взгляд, также мало что проясняет в генезе "расщепленного Я". Логика концепции Л.С.Выготского, подкрепленная, в частности, экспериментальными исследованиями А.В.Запорожца, М.И.Лисиной с сотр., позволяют соотнести закономерности формирования в онтогенезе предметных действий с процессом развития образа Я и образа Другого. Так, показано, что у детей, воспитываемых в Домах ребенка и испытывающих дефицит эмоционально-насыщенного общения, предметные действия формируются с задержкой и имеют иную структуру, чем у детей, воспитываемых в эмоционально благоприятном семейном климате. В частности, это касается качества опосредования — т.е. разнообразия, дифференцированности и означения усвоенных средств обращения с объектами, или в более широком смысле слова — с реальностью. Так же, на наш взгляд, обстоит дело, когда в качестве "объекта" реальности выступает другой человек или собственное Я ребенка. Здесь уместно вспомнить известную метафору Л.С.Выготского: "Только через других мы становимся самими собой". Малыш, жизнь которого почти целиком зависит от постоянного наличия ухаживающего за ним взрослого, вдруг, по неизвестным, непонятным и непредсказуемым причинам обнаруживающий пустоту там, где был тот, прикосновения которого приносили с собой тепло и безопасность, переживает утрату этого Другого "всей кожей", на чувственно-телесном уровне как лишение себя безопасности, теплоты и ласки. Иными словами, ребенок, интериоризуя лишающие способы общения с ним взрослого и обращая их в средства ауто-общения, "теряет" самого себя. Не находя постоянства в принимающем отношении Другого, он теряет его в адрес собственного Я. У взрослого "детский" страх "быть потерянным", страх пустоты и смерти, растерянность перед неизвестностью и страх быть поглощенным ею, так же, как и чувства вины ("за что?"), стыда ("Что во мне такого дурного?"), — суть не что иное, как интериоризация разрушенных интерпсихических связей. Не случайно жалобы пациентов с синдромами агоро-фобии и паническими атаками в ходе психотерапии осознаются как страх потери и пустоты1. 2 А.Н.Леонтьев любил ссылаться на следующую воображаемую ситуацию. Если бы вдруг, в силу каких-то общепланетарных катастроф, сохранились все памятники и достижения цивилизации, но среди человеческого сообщества по каким-то причинам в живых остались бы только дети, им никогда бы не удалось расшифровать послания этой цивилизации, они оказались бы отброшенными на уровень варварства. Нечто подобное было описано У.Голдингом в его романе "Повелитель мух". Семантически близкой, но еще более яркой оказывается феноменология состояний Я пациентов, в детском или подростковом возрасте переживших сексуальное насилие со стороны близких. Более точно его субъективный смысл передается метафорой "внутреннее землетрясение" (по определению одной из наших пациенток). "Осколки" потрясенного мировосприятия остаются в качестве отставленных во времени последствий посттравматического стресса. Более всех других видов эмоциональной депривации сексуальное насилие создает условия для развития расщепленной (расколотой) картины мира и образа Я в качестве защиты от непереносимой амбивалентности чувств и невозможности удержания в сознании полярных качеств репрезентируемой реальности. Сопоставительный анализ литературных источников так же, как и наши исследования, показывает, что феноменология "диффузной самоидентичности", диагностируемая у лиц с пограничными личностными расстройствами, в значительной мере совпадает с симптомами и субъективными жалобами взрослых пациентов, в прошлом переживших насилие. По данным американской исследовательницы Барбары Брукс, изучавшей последствия сексуальных травм у студенток, более половины из них отмечают у себя чувство пустоты, одиночества, стремления к саморазрушающему поведению, враждебность и неспособность доверять другим, отрицание женственности и сексуальные проблемы. Наш опыт психотерапевтической работы с такими пациентками позволяет говорить о повышенной эмоциональной зависимости и слабости границ Я как главных условиях виктимности, т.е. подверженности насилию вообще — психологическому, физическому или сексуальному (Соколова Е.Т., 1994). Об этом свидетельствуют истории их жизни, с детства переполненные наблюдаемым или лично переживаемым насилием. Очень часто жертвами становятся дети из семей хронических алкоголиков, свидетели грубых скандалов между родителями, или дети, в семейной структуре игравшие роль "посредников", "психотерапевтов" или "заложников" формального сохранения семьи. Столь же травматичен может быть опыт ребенка в семье с сильными, но глубоко скрываемыми и изощренными формами насилия, такими, как постоянные насмешки, унижения, издевательства, игнорирование потребности в любви и заботе. В случаях инцеста "эмоционально голодный" ребенок или подросток далеко не сразу способен распознать эротическую природу проявляемого к нему интереса и отвергнуть его — слишком сильна зависимость, диффузны границы Я, слишком сильна потребность в любви. Будучи осознанны, акты соблазнения или сексуального посягательства способны породить мощные амбивалентные чувства: желание во что бы то ни стало сохранить наконец-то обретенную любовь борется с унижением, беспомощностью, страхом, яростью. Как правило, ребенок не может ни с кем разделить испытываемые страдания, либо страшась собственной "порочности", либо обремененный чувством долга и стремлением сохранить семейный союз, в случае разглашения тайны рискующий распасться. Рассматриваемые в перспективе развития Я, подобные переживания, адресованные Другому, но невыраженные, интериоризуясь, трансформируются в структуру самоотношения, непереносимая амбивалентность которого в качестве защиты порождает расщепление образа Я и Другого на множество слабо связанных и противоречивых "клочков". Как всякая плохо структурированная система, такая картина мира постоянно стремится к дезинтеграции и распаду. Субъективно она лишена стабильности, безопасности и, следовательно, углубляет чувства собственной недееспособности, беспомощности, отрицает исследование и конфронтацию с реальностью. В результате актуальные чувственно-живые переживания так же, как и потребные действия настоящего момента, замещаются автоматически повторяющимися "стереотипами", ролями, сценариями, идентификационными клише и прочими видами "нежизни" Я. 1 Одна из моих пациенток поделилась своими фантазиями: она видит себя в годовалом возрасте, ползающей по полу между подушками и зовущей маму. Появившаяся на пороге комнаты мать говорит, зажимая пальцами нос: "Фу! какая ты грязная!". Другой вид психологического насилия, эмоциональный симбиоз, на первый взгляд кажущийся противоположным полюсом эмоциональной депривации, по своим последствиям во многом сходен с ней. Оба феномена рассматриваются нами как виды насилия в диаде ребенок — родитель, формирующие искаженную матрицу межличностных отношений и образа Я ребенка. Более тонкие различия вскрываются, если рассматривать эти установки в отношении критических точек детского развития. Условно схематизируя этот процесс, можно сказать, что если эмоциональная депривация фрустрирует аффилятивную потребность и блокирует обратную связь, на основе которой формируется генетически первичный эмоционально-чувственный компонент самоотношения (Какой я?), то симбиоз препятствует вторичному, "когнитивному" самоопределению в терминах "кто Я?". В обоих случаях родительское отношение не отвечает насущным потребностям кризисных временных этапов личностного развития, блокирует тем самым разрешение базового мотивационного конфликта принадлежности — автономии и интериоризуясь, приводит к расщеплению и дестабилизации образа Я. Эмоциональный симбиоз представляет собой экстремальную форму взаимозависимости, вплоть до слияния, в которой теряются "границы Я" и индивидуальность. Вместо ясно очерченной и дифференцированной структуры Я-Другой-общения возникает размытое, спутанное почти сновидное "пра-Мы". Извечная тоска человека по братству (как говорил Киплинговский Маугли, "Мы с тобой одной крови — Ты и Я") выливается в состояния, передаваемые такими метафорами как "растворение", желание "утонуть друг в друге", "напиться", "насытиться", "поглотить". Общение воспринимается как мистический акт взаимопроникновения, абсолютное родство и единство душ, понимание, не нуждающееся в словах, телепатическое. Не отрицая того, что подобные состояния отвечают одной из важнейших потребностей человека к трансцендированию собственной личности, в данном случае мы подчеркиваем хищнический аспект подобного рода взаимоотношений, выраженных А.И.Захаровым в известной метафоре — жить вместо — версус — жить вместе. Взаимопоглощение как крайняя форма утоления ненасыщаемого эмоционального голода, не может вести ни к чему другому, как к потере Я, взаимной аннигиляции. Симбиотический тип отношений порождает импульсивную предельную открытость границ Я и тем самым создает неизбежность насилия и вторжения Другого — физического, сексуального или психологического. Более того, само насилие воспринимается далеко не однозначно, в том числе и как желанное заполнение внутренней пустоты, так как если бы все естество человека представляло собой одну громадную ненасытную утробу. Метафоричность языка здесь абсолютно уместна, так как только благодаря ей удается передать семантику пограничных расстройств, в основе которых лежит конфликт амбивалентных желаний — стремление к безудержному эмоциональному слиянию (напитыванию) и страх потери границ, потери самоконтроля. Логика нашего рассуждения позволяет обнаружить общность механизмов развития и психотерапии широкого круга пограничных заболеваний, таких нозологически разных, как депрессия, алкоголизм и наркомания, так называемые пищевые нарушения, агороклаустро-фобии и панические атаки, соматопсихический комплекс посттравматических расстройств, а также некоторых форм отклоняющегося поведения, в частности, промискуитета, проституции и гомосексуальных ориентаций. Практическим следствием из сформулированной концепции пограничного самосознания стала разработка стратегии и тактики психотерапевтического воздействия, направленного на восстановление целостного образа Я в единстве непосредственно чувственного переживания и рефлексивного осознания. Основной целью, средством и психотерапевтическим приемом, разрабатываемым нами, в интегративной психотерапии является диалог. Диалог реализуется в особом построении психотерапевтического контакта, моделируется в разнообразных квази-упражнениях и самоэкспериментах на вербальном и невербально-телесном уровне. Метод диалога облегчает "встречу" со множеством амбивалентных образов Другого и образов Я, отторгнутых и идентифицируемых как не Я. Диалог в нашем понимании — это динамический, развертывающийся в ходе терапии процесс расширения сознания и самосознания, в котором мы выделяем следующие этапы: установление и упрочение психотерапевтического контакта по типу до-родительствования и доращивания; встреча с новым опытом, новыми аспектами отношения Я — Другой, вызывающими тревожность, активизирующими сопротивление и привычные защиты — временное прерывание диалога; постепенное вхождение и погружение в новый опыт, сначала в форме чередования монологизированных диалогов Я и не-Я, в ходе которого происходит их тонкая дифференциация и когнитивно-аффективное обогащение, подробное, детализированное и чувственно-полное переживание и, как результат, — эмоционально-чувственное "насыщение"; налаживание контакта и диалога между обнаруженными в сознании полярностями и амбивалентностями, благодаря чему в прежде несовместимых противоположностях открываются новые аспекты, нюансы, обертоны и становится возможным их сосуществование (не "или/или", но "и"). В результате преодолеваются дихотомическая поляризация и расщепление сознания, возникает новый гештальт на основе более высокого уровня дифференциации и интеграции трех образующих образа Я и образа Другого. Применительно к модели психотерапевтического контакта диалог рассматривается как динамически изменяющийся на разных стадиях психотерапии процесс создания клиентом и терапевтом "совместно разделенного" промежуточного психотерапевтического пространства, в котором разворачивается взаимодействие Я-пациента и Я-терапевта. Задача терапевта — следить за тем, чтобы в ходе диалога личные пространства обоих соприкасались, но никогда не "вторгались", не нарушали целостность и суверенитет друг друга, не сливались и не "тонули" друг в друге. В успешно законченной терапии психотерапевт, вначале игравший роль "материнской утробы", затем "груди", заполнявшей пустоту в личном пространстве пациента, начинает постепенно отдаляться ради того, чтобы могла взрасти самостоятельность и самодостаточность пациента. Остается позиция "теплых рук", позволяющих "сжатому кулаку" клиента открыться самому и почувствовать, прочувствовать новорожденность и силу своего собственного Я. 2.2. Методы установления и развития психотерапевтического контакта 1. Заключение психотерапевтического контракта Несмотря на довольно большую вариативность в профессиональных установках психотерапевтов, можно сформулировать несколько универсальных рекомендаций, правил и требований к организации контакта не столько для их всеобщего автоматического выполнения, сколько для обдумывания и профессионального самоопределения. Для меня, как для психотерапевта, работающего с пограничными пациентами, представляется первой психотерапевтической альтернативой и мощной интервенцией неукоснительное соблюдение установленного порядка времени и места психотерапевтических сессий. Стабильность и организация уже сама по себе становится психотерапевтической конфронтацией с неопределенной, непредсказуемой и неустойчивой реальностью представлений пациента о мире и своем Я. Хаосу внутреннего мира пациента психотерапевт противопоставляет ясно и надежно организованный паттерн отношений, ответственность за развитие и сохранение которых поделена между обоими участниками. Благодаря этим совместно разделенным действиям психотерапевта и пациента уменьшается исходная сверхтревожность пациента, возрастает его уверенность в себе, ответственность и чувство контроля, начинают завязываться безопасные эмоциональные отношения привязанности. Начальный психотерапевтический контракт в противовес тревожной прилипчивой зависимости ("рабочий альянс") — обсуждаемые совместно регулярность, продолжительность, оплата и место встреч — призван также облегчить пациенту самостоятельное разрешение конфликта между противоположными мотивационными тенденциями. С одной стороны, само обращение к психотерапевту указывает на начавшую уже формироваться мотивацию "изменения чего-либо", но столь же сильно и в противоположном направлении действует защитная тенденция сохранения статуса кво. В этом смысле принятие на себя ответственности в виде разного рода "плат" — своим временем, изменением привычного распорядка, а иногда и образа жизни, необходимостью душевной работы вместо пассивного следования рекомендациям психотерапевта — все это почти незаметно для пациента вовлекает его в активный процесс изменения привычных паттернов организации собственной жизни. В то же время нельзя быть невнимательным ко всем проявлениям сопротивления, конкретные формы которого уже на стадии первичного контакта, минуя содержание предъявляемых жалоб и проблем, раскрывают природу базового личностного конфликта, амбивалентность установок в отношении терапии и терапевта, тем самым помогая терапевту определить для себя жанр психологической помощи (консультирование, терапия и др.) и меру готовности пациента к систематической и трудной работе. 2. Позиция принятия пациента Термин "принятие пациента", широко используемый в клиентоцентрированной терапии К.Роджерса, не имеет точного и общепринятого определения и потому нуждается в истолковании. Означает ли он то же, что и "безусловное безоценочное отношение", тождественен ли по смыслу "эмпатическому пониманию"? Для нас его смысл проясняется благодаря нескольким контекстам-метафорам. Первый задается аналогией между терапией и родовспоможением. Терапевт (он же акушер) помогает развиваться родовому процессу в определенном, хорошо известном роженице направлении, но как бы искусен он ни был, родить вместо роженицы он не в состоянии; они это делают "раздельновместе". Психотерапевт сопровождает пациента в трудном и мучительном процессе душевной работы; он вместе с пациентом, рядом, "в доступности". В начале их совместной работы, пока тревога и страх столь велики, что способны разрушить процесс и разорвать психотерапевтический контракт, если иссякают мужество и силы, пациент твердо знает, что может соприкоснуться с поддержкой терапевта. Он знает также, что есть та часть работы и та часть страданий и та часть успехов и достижений, через которые он проходит сам; то, что рождается в нем самом, рождается благодаря его собственным усилиям. Далеко не сразу и очень постепенно пациент начинает замечать и ценить любые, даже самые незначительные, изменения, радоваться не столько результатам, сколько процессу изменений. Он все меньше и меньше ищет поддержки и опоры в терапевте и все больше находит их в самом себе. Как мудрый родитель, терапевт разделяет с пациентом радость рождения "независимой привязанности", там, где раньше было "прилипание". Возьмем теперь другую метафору. Звонит телефон, вы снимаете трубку и говорите: — Я Вас слушаю. Кажется, нет ничего необычного в этой обыденной ситуации, привычном, почти автоматическом действии... Но если внимательно вслушаться в слова "Я Вас слушаю", обнаружишь немало такого, чего так часто лишены и в чем отчаянно нуждаются люди. Отклик. Я говорю — Ты откликаешься, и благодаря отклику бесконечный монолог одинокого человека размыкается, включая внимательного и отзывчивого Другого, теперь они вместе. "Я слушаю" — эта фраза звучит целебно еще и по той простой причине, что в обычной жизни (и в терапевтической реальности) люди редко действительно слушают и слышат друг друга. Не предугадывают, не ищут скрытого смысла в сказанном, торопятся ответить, не дав высказаться, прервать молчание и т.п. Терапевт, находясь в позиции "Я слушаю", только на первый взгляд "ничего не делает". На самом деле он предельно активен и сосредоточен на том, что и главное как говорит пациент. Его память точно фиксирует не смысл, но текст; его ухо чутко улавливает интонации и модуляции голоса, речевые штампы или особые слова и неологизмы; его глаза отмечают малейшие детали внешности, позы, выражения лица и телесную экспрессию пациента. Он весь — одно "чувствовало", и его способность быть хорошим принимающим и отвечающим устройством — главное в его профессиональной работе. Чтобы терапевт смог быть вместе с пациентом, но "не вместо", он должен уметь контролировать место, занимаемое каждым в терапевтическом пространстве и времени. Так, дистанция и взаимное расположение не могут быть слишком близкими на начальных этапах контакта, в противном случае терапевт или пациент рискуют "обрушиться" своей эмоциональностью друг на друга, нарушив границы личного пространства, у пациента изначально излишне доступного для физических и психологических вторжений Другого. Позиция "друг против друга" так же, как и "глаза в глаза" на стадии первичного контакта способны спровоцировать либо конфронтацию и импульсивное дистанцирование, либо слишком быстрое сближение-слияние, столь характерное для зависимого пациента в то время, когда "быть накоротке" еще не уместно. Точно такого же внимания и осознания требует способ обращения друг к другу — по имени — имени-отчеству, на ты — на вы. В отличие от английского языка, не различающего Вы и Ты, русский язык и русско-язычное "ухо" к этим различиям чувствительно. Общеизвестен смысл перехода с Вы на Ты и обратно. Здесь терапевт предоставляет пациенту психотерапевтическую альтернативу его автоматическим установкам и действиям: привычному паттерну магического мгновенного сближения, интимизации и эротизации одного пациента — очень постепенную и взаимно осознаваемую работу по знакомству, и только затем, шаг за шагом — созданию доверительных и устойчивых эмоциональных связей; автоматическому паттерну дистантности, закрытости, отчужденности, формальности и холодности другого пациента — столь же неторопливое и мягкое движение навстречу теплоте, доверию, близости, но без резких, вызывающих ответную оборону, фамильярностей. Психотерапевтическая позиция "Я слушаю" реализуется также через определенный способ структурации времени. В самом общем виде можно сказать, что время сессии принадлежит пациенту, он вправе расходовать его по своему усмотрению — например, молчать, вести ничего не значащую болтовню, рассуждая на общие темы, не касаясь волнующих его чувств, или, напротив, честно и открыто идти навстречу новому (но и тревожному) опыту переживаний — "принятие" будет предполагать готовность терапевта равно поддерживать пациента, уважать его сопротивление и терпеливо взращивать отношения доверия и безопасности, в которых только пациент и отважится на что-либо новое для себя. 3. Молчание психотерапевта Молчание как уважение прав пациента Значительная часть психотерапевтической работы совершается благодаря молчанию. Тщательный анализ психотерапевтических сессий свидетельствует о том, что чем больше говорит терапевт, тем меньше — пациент. Говорливый терапевт воспринимается пациентом как более авторитетный, авторитарный, иногда агрессивный, "затыкающий рот". В терапевтическом "временном пространстве" он как бы захватывает и узурпирует то, что принадлежит пациенту. Конечно, терапевт может осознанно использовать подобный стиль отношения как метод конфронтации с пассивной и жертвенной установкой пациента, как способ активизации его открытых контр-фруст-рационных действий в борьбе с "насилием терапевта". Однако подобная тактика абсолютно неуместна на начальных этапах работы, когда контакт еще не стал доверительным и прочным. Здесь, давая "право голоса" пациенту (в том числе, и его молчанию), терапевт ясно проявляет к нему свое внимание, заинтересованность и подлинное уважение. 1 См. также: Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Моск. психотер. ж-л. 1992, № 1. Молчание как метод углубления контакта В обычной жизни общепринятая вежливость требует словесного выражения сочувствия страдающему человеку. Но именно поэтому слова теряют часто свою адресность, превращаясь в безличный ритуал. Своим молчанием терапевт углубляет контакт, разделяя с пациентом чувство невыразимости горя в словах, тем самым легализуя горе, подтверждая его реальность. Он поддерживает его также в мучительных усилиях полно пережить страдание, в противовес легковесному "прого-вариванию" его. Он также дает понять, что пациент имеет достаточно времени, чтобы "побыть со своим горем", не избегая тягостных переживаний, как это он обычно делал, но работая с ними. Итогом совместного молчания становится обретение пациентом нового и волнующего чувства общности, того, что иногда называют чувством "Мы". В полном скрытого волнения молчании пациент наконец-то начинает вылезать из привычной тюрьмы одиночества. Терапевт здесь выполняет функции своего рода "донора", своей поддержкой и сочувствием допитывающего эмоционально голодное Я пациента. Молчание как фрустрация и конфронтация со сверхзависимостью пациента Движущей силой терапевтического процесса является динамика поддержки и фрустрации со стороны терапевта. Если в начале терапии определенный сдвиг в сторону поддержки необходим для заключения психотерапевтического контракта и его поддержания, то по мере упрочения контакта становится возможной работа со сверхзависимостью пациента. От терапевта она требует изрядного мужества и выдержки. Зависимый пациент никогда не удовлетворяется тем, что "получает"; его неосознанным желанием является полное обладание терапевтом, своего рода символический возврат в младенческое состояние безответственности и эмоционального симбиоза, включая телесную близость. На стадии терапевтического трансфера это стремление может манифестировать такими феноменами, как возрастание беспомощности, настоятельные требования советов и рекомендаций от терапевта, приписывание ему харизматических качеств, возвращение симптомов или появление новых, сильная эротизация контакта. Применяемые здесь в качестве психотерапевтической альтернативы фрустрирующие "отказ" и молчание терапевта способны вызвать острые вспышки гнева, ярости, плача, обвинение в жестокости или некомпетентности, вплоть до угроз суицидом. На языке теории "объектных отношений", одной из современных школ психоанализа, динамика описанных феноменов объясняется совместным действием двух примитивных механизмов психологической защиты — расщепления и проективной идентификации (Дж. Мастерсон). Исходя из развиваемой нами концепции, на этом этапе терапии полностью разворачивается и, благодаря установившейся безопасной привязанности, начинает осознаваться весь репертуар защитно-манипулятив-ных стратегий общения и паттернов образа Я. Пациент пытается "овладеть" терапевтом, удержать его в своей власти ради восполнения не-самодостаточности. В ответ на "отказ" терапевта, по существу являющийся конфронтацией с болезненными установками пациента, последний демонстрирует все признаки "анакликтической депрессии", обнаруженной Боулби у младенцев при материнской депривации, а в терапии манифестируемой в ответ на ожидаемую угрозу потери. На этой стадии процесса терапевт должен реализовать несколько терапевтических тактик. Необходимо содействовать как можно более открытому и развернутому (включая телесную экспрессию и голос) выражению всех элементов и этапов переживания горя утраты любви. Техника "зеркаления" позволяет вторить пациенту, уподобляясь его телесным позам, движениям, интонировать, воспроизводя вместе с ним нечленораздельные звуки и возгласы, а иногда и инициируя их. Выстраданная и прожитая вместе с терапевтом травма сепарации начинает терять тогда свои качества катастрофичности и скорее вызывает экстатические чувства "ново-рожденности". Приводим выдержки из стихов, написанных пациенткой А. в этот период терапии: Любовью пахнет вся трава, Деревья, небо и Земля. Люблю дыханием своим Губами прикасаться к ним. Глаза увидели Добро, Меня заполнило оно. Я нежная ласка в объятиях страсти. Купаюсь в избытке пьянящего счастья. Та пена бальзамом меня поливает, От переизбытка все стрессы снимает. Я миром хочу освежить свое сердце, В здоровой душе на мгновенье согреться. Терапевт воспринимается с безусловным и непоколебимым доверием, он в глазах пациента прошел испытание на истинность и прочность любви. Но именно после этого вновь наступает время предельно осторожного и сдержанного терапевтического отношения как конфронтации со старой, но выступившей в новом обличьи интенсифицированной установкой зависимости. Пробыв с пациентом рядом в самых тягостных для него состояниях, своим со-переживанием и сердечным участием "согрев" и "накормив" его, терапевт, наряду с оказываемой поддержкой, должен теперь позволять пациенту "становиться на собственные ноги". Только тогда поддержка и опора из "внешних", интериоризуясь, станут "внутренними" основами ответственности, самоуважения и самоприятия. Думается, что все сказанное выше делает понятным, что имеется в виду под техникой "молчания" как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова. Остается добавить, что профессиональное владение "молчанием" требует осознания терапевтом всей палитры контр-переносных чувств, включая собственные тенденции к слиянию и со-зависимости. В противном случае, мощные разряды эротических и агрессивных чувств пациента рискуют вызвать слишком сильный резонанс и личную вовлеченность терапевта, превращая его самого в "скрытого" пациента. 4. Исследование чувств и телесных ощущений Утверждение, что именно чувства являются фокусом и "ядром" психотерапевтической работы, звучит почти трюизмом, хотя на самом деле оно далеко не бесспорно и является остро дискуссионным для представителей основных психотерапевтических школ. Интерпретация "следов" неосознаваемых влечений, модификация неадаптивного поведения путем научения, коррекция автоматических мыслей и "когнитивных схем" через проверку их на реалистичность и достоверность — все это — иные возможные формулировки целей и сверхзадач психотерапии в соответствующих психотерапевтических школах. На наш: взгляд, одной из главных отличительных особенностей гуманистической ориентации, гештальт-терапии в первую очередь, являются реабилитация ею "обычных" очевидных человеческих чувств, не замечаемых в рутине повседневности. Руководствуясь этой, близкой автору, идеей, терапевт помогает "оживить", "освежить" и вернуть в актуальные переживания полихромность и полифоничность целостного чувственного опыта. Пациенту предлагается новая и неожиданная для него позиция исследователя, которому предстоит самому открывать постоянно изменяющийся, от момента к моменту "живущий" мир телесных ощущений и чувств. Благодаря безопасной привязанности, созданной в терапевтическом контакте, возрождаются любопытство, любознательность и страсть к открытиям, свойственные здоровому ребенку, всякий раз поражающемуся подробностям жизни.1 1 Поэтическая прелесть подобного мировосприятия когда-то была подмечена В.Л.Пастернаком в известных строчках: "А жизнь, как тишина осенняя, подробна" Разнообразные психотерапевтические техники работы с чувствами призваны привлечь внимание, заметить и как можно более полно пережить пациентом чувственный опыт во всем его разнообразии, без всякой предварительной оценки и селективности, не "кастрируя" его. "Что с Вами происходит?" и "Как это чувственно переживается Вами?" — вопросы-путеводители для самоисследования и прямого, непосредственного выражения чувств. По мнению Ф.Перлса и его последователей, они помогают избежать двух главных врагов свободного и естественного человеческого существования — так называемого "should-изма" и "about-изма"1, жестко диктующих, к чему человек должен стремиться, чего должен избегать, каким должен быть и т.д., и т.п. Терапевтической альтернативой этому интерио-ризованному указующему персту значимого Другого служит простое вопрошание "А что и как есть?". Таким путем в гештальт-терапии реализуется важнейший принцип ценности здесь-и-теперь-существования в противовес "иеговистскому долженствованию", застывшим догмам (по выражению А.Эллиса). Напротив, "Aboutism" позволяет избегать эмоциональной вовлеченности и переживания событий в их непосредственной данности. Рационализации, интеллектуализации и интерпретации представляют собой наиболее распространенные способы ухода от контакта с истинными чувствами, своего рода десензи-тизацию и девитализацию существования. В противовес этим привычным способам "не-жизни" терапевт своим вопросом "Как это для Вас?" предлагает пациенту исследовать свое состояние, сконцентрировав внимание на том, что конкретно и как тот видит, слышит, чувствует и т.д., включая и то, как он не видит, не слышит, не чувствует. Иными словами, пациент вовлекается в реальный процесс контакта, имея шанс "встретиться" с разными аспектами своего опыта, в том числе и угрожающими или приносящими ему боль и страдание, либо обнаружить, каким образом он отторгает, отчуждает их от себя, избегает контакта или прерывает его. Наиболее очевидным свидетельством жизненности контакта считается наличие телесного резонанса с осознаваемым. Если телесный и вербальный язык переживаний соответствуют друг другу, пациент полно и целостно испытывает то или иное чувство, а также свободно выражает его телесно — движениями, позами, соматическими ощущениями, голосом, мимикой и пр. 1 См.: Perls F. Four lectures in Gestalt Therapy now. Harper Colophou books. N-Y, 1970. 2 См. подробнее об этом: Kepner J. Body process: A Gestalt approach to working with the body in psychotherapy. N-Y, 1987. В случае их рассогласования терапевт привлекает внимание пациента и просит осознать, что происходит сейчас с ним телесно, — например, что ощущают ступни его ног, соприкасаясь с полом, что с его дыханием, когда голова и плечи опущены и т.д. Терапевт может просто зеркально отразить наблюдаемое поведение, описывая его, например: "Я вижу, что Вы сидите на кончике стула, ваши колени сжаты, ступни ног перекрещены и находятся под стулом... Что Вы можете сказать сейчас о своих чувствах? — Пациент: — Я чувствую себя напряженно... не очень уверенно... как будто не на своем месте,.. хотя я всю неделю ждал этой сессии... Да, сейчас я понял, что на самом деле всю эту сессию старался спрятать от Вас свои истинные чувства... Я боюсь Вашей проницательности". Как следует из этого фрагмента, последовательно перемещая фокус своего внимания на телесные ощущения, пациент не только обнаруживает более тонкие противоречия и нюансы актуального душевного состояния, но и решается на действие — открытое выражение амбивалентных чувств к терапевту в противовес обычным для него скрытым (игровым) коммуникациям. 5. Метод диалога со значимым Другим Диалог, классический метод самоисследования и осознавания в гештальт-терапии, противопоставлен стороннему овеществляющему познанию кого-либо или чего-либо — "Человека, которому я говорю Ты, я не познаю. Но я нахожусь в отношении к нему, в святом основном слове Я-Ты. Если я обращен к человеку как к своему Ты, если я говорю ему основное слово Я-Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей". 1 Так, одна из наших пациенток, жалующаяся на свою неуверенность и зависимость от тех, к кому она испытывает привязанность, в ходе терапии вдруг услышала, что говорит с терапевтом "тем же голосом, что и с мамой, и с мужем...". Став этим голосом, пациентка начала опробовать разные позы и в конце концов свернулась калачиком в кресле. Слова, произносимые ею, становились все тише и неразборчивей, затем превратились в едва слышное попискивание и всхлипы. Когда пациентка вернулась в обычное состояние, она дала имя себе-той — "тихая бессловесная Я". В дальнейшем, в ходе повторений этого самоэксперимента и усиления телесного аккомпанемента переживаемых чувств, она внезапно почувствовала позывы к рвоте. В последующем самоотчете она призналась, что "впервые испытала и выразила тошноту и омерзение к тем, кто лишает меня права голоса". С помощью этой процедуры пациентке удалось расширить диапазон осознаваемых чувств и адресно их направить, что послужило хорошим толчком к работе с ее интроекциями и ретрофлекси-ями. Как психотерапевтическая процедура, диалог является универсальным способом восстановления контакта с отторгнутыми и отчужденными аспектами Я-образа. Вынесенный вовне, он строится вначале как диалог с внешним объектом или отчужденной частью тела, которым пациент бессознательно атрибутирует качества "неЯ". Инициируя практически-действенные отношения с этим объектом, в процессе которых пациент чувственно переживает его во всех модальностях сначала как неподобного себе Другого, терапевт фасилитирует идентификацию с ним как с отвергнутой частью Я пациента и последующие отношение с ней, но теперь уже на интрапсихическом уровне. В качестве иллюстрации приведем фрагмент сессии нашего учебного тренинга для студентов-психологов. В этом фрагменте ведущий показывает работу с двумя защитными механизмами — проекцией и расщеплением. 1 Бубер М. Я и Ты. — М., 1993. С. 9. 2 Читатель обратит, конечно, внимание на знаменательную игру слов: в качестве объекта негативной идентификации А. выбирает щепку. Один из участников группы, назовем его Алексеем, указывает на кусок бумажки, лежащий на полу в дальнем от него углу и вызывающий у него неприятные эмоции. Ведущий: Как положить бумажку, чтобы вызвать наиболее неприятное ощущение? Алексей: Так, чтобы она была повиднее. В.: Хорошо, а теперь, как Вы себя чувствуете? А.: Получше. Это не бумажка, это еще хуже. Это щепка. В.: Внимательно посмотрите на эту щепку. Как Вы ее видите? А.: Здесь чисто, а она диссонирует, кажется обрывком, осколком, она вся в острых какихто фрагментах. Она была вырвана, была нарушена целостность, красота. В.: Говорите именно ей, что именно Вам не нравится. А.: Чувство даже озлобленности, хочется ее просто разломать. Она противна, можно пораниться, посадить занозу. Все это некрасиво и неэстетично. Если бы она была в пыли, то это подчеркнуло бы грязь. Она кажется, здесь не к месту. В.: Что хочется сделать? А.: Вышвырнуть ее. В.: Позвольте себе делать это. А.: Вы знаете, я лучше уберу ее в карман, потому что здесь чисто, а если я ее брошу, то опять она будет лежать здесь и вызывать неприязнь (убирает в карман). В.: Что Вы почувствовали, когда ее убрали? А.: Большее равнодушие. Немного смягчило то, что остальные не будут видеть этого безобразия. В.: А теперь попробуйте положить опять ее так, чтобы она вновь вызвала те же чувства... Что Вы сейчас испытываете? А.: Неприязнь. От нее отлетел кусочек, и это вызывает злорадство. Если бы я посильнее ее кинул, то она вообще бы разлетелась. В.: Еще раз опишите ее, только от имени щепки. Услышьте ее монолог. А.: Я щепка, я лежу на полу. Окружающий мир не такой ущербный, он без сколов. Я чувствую отщепенство, отодран-ность и выбрешенноетъ из этого мира. Злорадства нет. Лишь сожаление. Я вроде бы и не виновата, что диссонирую с окружающим. В.: Перейдите с места щепки на другое. Обращайтесь к ней на "ты", расскажите еще раз ей про то, как она Вам не нравится. Процедура смены мест и диалог с позиций "Я — щепка" и "Я — щепке" повторяется несколько раз. В конце упражнения диалог приобретает следующий вид. А. ("щепка"): Я пассивная и не виновата. Я была частью стола, но меня выдрали, сломали. А. ("щепке"): Я понимаю вынужденность твоего положения. Лучше всего найти тот стол, от которого тебя отщипнули и приклеить туда. Это вариант гармонии наших с тобой отношений, заодно и ты обретешь смысл. В.: В какое место вашего телесного Я Вы могли бы прикрепить эту щепку? А.: На щиколотку. В.: Она здесь в безопасности? А.: Нет, просто это рационально. В.: Попробуйте найти это место не только головой, попробуйте поприкладывать к телу, поищите для нее место, не старайтесь думать. А.: (кладет в нагрудный внутренний карман, тщательно обмотав ее платком) В.: Какое это у Вас вызывает чувство? А.: Ощущение покровительства, некоторое новое ощущение силы в себе. Кратко комментируя этот фрагмент работы, отметим ключевые моменты движения самоосознания. Вначале ведущим механизмом в этом процессе становится проекция, в результате чего удается косвенно выразить чувства собственного "отщепенства", диссонирования с миром. Это она, щепка, (не Я) чувствует себя "осколком", "вырванной" из целостности, это над ней совершилось насилие, это она кажется здесь не к месту. Вначале А. пытается максимально дистанцироваться от неприятных черт щепки, своего отторгнутого Я, потом прорываются враждебные чувства, вплоть до желания, чтобы она "разлетелась". Динамика чувств становится особенно заметной после того, как А. побывал" этой щепкой, затем, перемещаясь в диалоге из одной позиции в другую, А. удается достичь смягчения агрессии, а затем приходят чувства покровительства, соучастия, телесно-переживаемой близости с этой частью Я. Образ Я становится более полным, целостным, принимаемым в тех аспектах, которые ранее отвергались, возникает "новое ощущение силы". Поляризация Я-образов как бы смягчается, благодаря тонкой дифференциации и ньюансировке содержательно-когнитивных и аффективных компонентов в процессе чувственного проживания в каждом из них и последующего диалога. В результате расщепленные ранее образы Я вместе с соответствующими им амбивалентными чувствами отвержения/приятия получают возможность объединиться на новом уровне интеграции самоидентичности. В целях более ясного понимания конкретной психотерапевтической работы, а также в дидактических целях, в следующем параграфе мы представим описание конкретного случая. 2.3. Краткое описание случая из психотерапевтической практики Случай М. — настоящий подарок для меня как психотерапевта, но должна признаться, что мне стоит большого труда преодолевать шквал собственных чувств, обнародуя его. Проницательные коллеги тут же укажут на "непроработанное" до конца контрперенесение и будут, конечно же, правы. Но есть и другие основания для моего бережного и даже трепетного отношения к этому случаю. Во-первых, ему всего семь месяцев, и я вполне готова к тому, что он еще преподнесет мне сюрпризы. Как ни зрима проделанная работа — кстати, в значительной мере благодаря удивительной душевной нелености, трудолюбию и мужеству самой пациентки, а не только мастерству психотерапевта, — до желаемых результатов еще далеко. Возникает также серьезный вопрос, удастся ли удержать пациентку в терапии, постоянно балансируя между создаваемой и поддерживаемой в ней напряженностью и фрустрацией за счет конфронтации с болезненными симптомами и травмами — с одной стороны, и с эмоциональной подпиткой, получаемой ею в психотерапевтическом контакте, — с другой. Итак, М. — скромная миловидная 32-летняя женщина, направленная ко мне по старой доброй памяти1 врачами из Центра охраны материнства с диагнозом "хроническое невынашивание", что означает прерывание беременности по витальным показаниям (аборты), чем на протяжении 14 лет и двух браков заканчивались все ее семь беременностей. Острый токсикоз (неукротимая рвота, нестерпимая головная боль, катастрофическая потеря веса и страх смерти) начинается сразу после того, как М. узнает о беременности, по ее словам, с 5-й недели. Предпринимаемые неоднократно разными врачами попытки справиться с токсикозом, обращаясь к практикуемым в таких случаях методам, были безуспешны. Живя последние шесть лет со своим вторым мужем, человеком тонким, понимающим, М. говорит о своем искреннем желании родить ребенка, которого страстно ожидают ее муж и его родные, и одновременно жалуется, что уже не в состоянии вновь проходить через все мучения, сопровождающие ее беременности. М. не может сформулировать свой запрос к психотерапевту, иначе, как в настойчивой просьбе опомощи. Все, что психотерапевт может понять, исходя из первой встречи, это то, что у пациентки, направленной врачами для "психологической поддержки", по-видимому, имеются сильные амбивалентные чувства, своего рода комплекс беременности, бессознательно выражающий себя языком соматических симптомов. Совершенно очевидно также, что, если у пациентки и имеются какие-то психологические проблемы, она не склонна как-то увязывать друг с другом соматическое и душевное неблагополучие. 1 В 1987 г. после землетрясения в Армении мне довелось довольно удачно поработать с пациентками с таким же диагнозом на фоне ПТСД. Этот опыт помог мне соединить воедино концепцию развития и психотерапии пограничной личностной структуры и особенностей самосознания, ранее изучавшихся в рамках клиники пограничных расстройств, с тематикой посттравматического стресса после сексуального насилия. Последовавшее далее, под воздействием моего увлечения гештальт- и телесноориентированной терапией, окончательное переосмысление сути невротических симптомов и защитных механизмов привело к ясному пониманию единства генеза и механизмов симптомообразования вследствие, если так можно выразиться, внешнего и внутреннего землетрясения. Немало материалов к размышлению давала мне и работа в семейной консультации (1980-1987 гг.), а также недолгое, но плодотворное сотрудничество со специалистами из МВД в области виктимологии. Более развернутая экспликация теоретического контекста данного случая, возможно, будет предпринята в дальнейшем, здесь же важнее только обозначить его для понимания читателем тех моментов, которые повлияли на формирование жанра моей психотерапевтической практики. Выбранный из достаточно наполненной копилки практического опыта данный случай, яркий и иллюстрированный, дает возможность представить стиль и предпочтительные методы индивидуальной работы автора как психотерапевта. Семейная история М. Мучительно воссоздаваемая в ходе терапии драматическая история семьи и прошлого М. такова. М. родилась в семье рабочих-лимитчиков, долгое время, как и их родители, сохранявших привязанность к деревенской жизни. М. не было и трех лет, когда родители стали жить порознь: отец предпочел деревенскую жизнь с сожительницей, мать вскоре вторично вышла замуж в Москве. Это не мешало родителям видеться, главным образом, когда мать привозила девочку в деревню к отцу, и отчаянно ссориться и ругаться. М. очень любила отца, тосковала без него, и, чем старше становилась, тем более ее травмировала тягостная и неясно пугающая атмосфера в доме. Когда ей было примерно лет 10, мать как-то в порыве отчаяния рассказала мучившую втайне ее долгие годы семейную историю. Тогда М. впервые узнала, что отец был настолько недоволен рождением девочки, что не пошел забирать их из роддома и долгое время не хотел даже прикасаться к ней. Однажды, когда мать уже была беременна М., в дом пришла какая-то молодая женщина и положила ей на колени грудного ребенка, девочку, якобы внебрачную дочь мужа, впрочем, никогда не признаваемую им. Непосредственно после этого эпизода у матери развился токсикоз с сильными рвотами. Ссоры и бурные выяснения отношений продолжались у отца с матерью и после рождения М., что в конце концов привело к фактическому разводу, обида же и недоверие остались у матери на всю жизнь. Второй брак также оказался неудачным. Отчим пил и, будучи пьяным, бил мать и психически больную бабушку, издевался над ними на глазах у М. Однажды, после очередных побоев, мать подала в суд, отчима посадили, но и отсидев, он несколько лет не оставлял семью в покое, грозил отомстить. М. вспоминает, что, когда ей исполнилось лет 10, из деревни пришлось перевезти в Москву бабушку по материнской линии. В то время у нее уже развился старческий маразм: она теряла память, делала под себя и размазывала кал по стенам, оставаясь одна в доме, могла открыть газ. Примерно в это же время в психиатрическом интернате скончался переведенный из тюрьмы ее дед, ранее обвиненный в зверском убийстве (в состоянии крайнего опьянения и беспамятства) девочки, которое сам он всегда отрицал. М. вспоминает, как мучительно ей было узнавать от матери, какие ужасные преступления приписываются людям, которых она привыкла любить и к которым была привязана ("мать камень со своей души сняла и на меня переложила... обременила меня... придавила... убила..."). По словам М., она с детства была очень ранимой, но скрытной и сдержанной в выражении чувств даже с близкими людьми, хотя часто испытывала "горькую обиду" и в одиночестве плакала "горькими слезами". Ей казалось, что отец и мать слишком поглощены своими отношениями и не замечают ее, не считаются с ней и ее переживаниями. И впоследствии, какие бы сильные и тягостные чувства она ни испытывала, М. не могла их ни показать, ни выразить, ни адресовать конкретным обидчикам. До 15 лет М. практически ничего не знала о половой жизни, у нее не было близких друзей ни среди девочек, ни среди мальчиков. ("Ну, разве можно было привести кого-то в нашу комнату, где бабушка все стены калом расписывала и запах стоял такой..."). Однажды зимой, когда она гостила в деревне у отца, ее сверстник, знакомый парень, совершил попытку изнасилования. Будучи выпившим, он связал ей руки, стянул рот шарфом и несколько раз пытался овладеть ею. Собственная мужская слабость приводила его в бешенство, и он с еще большим неистовством набрасывался на М., бил, угрожал утопить в проруби (для чего, ухватившись за шарф, тащил по снегу к проруби), если она проговорится кому-нибудь. В ту же ночь М., поспешно скрыв следы насилия, возвратилась в город, ни матери, ни подругам не рассказав ничего. М. училась тогда в 8-м классе. В 16 лет знакомый сосед, пригласив как-то домой "послушать магнитофон", насильно овладел ею. Боль и кровотечение были столь сильны, что пришлось вызвать "скорую". И этот факт насилия М. скрыла. Вскоре она забеременела и, в конце концов, обратилась за помощью к матери, и та через знакомых помогла сделать аборт. В 18 лет сразу после школы М. вышла замуж за этого человека, хотя и не любила его. Брак оказался неудачным и в сексуальном плане: коитус сопровождался болезненными ощущениями, напряжением внизу живота, раздражительностью. Три последующие беременности прерывались из-за нарастающего токсикоза. Приблизительно через 6 лет брак распался, а еще через два года М. сошлась со своим нынешним мужем, жизнь с которым оценивает как счастливую во всех отношениях. Однако, несмотря на обоюдное желание иметь детей, три беременности окончились неудачно. М. консультировалась в отделении вегетативной патологии Клиники нервных болезней МГМИ, прошла несколько курсов лечения в Центре охраны материнства, откуда и получила рекомендацию обратиться ко мне "за психотерапевтической поддержкой". М. живет в однокомнатной квартире с мужем, матерью и собакой, которую очень любит и балует как ребенка. Не имея специального образования, малярничала, шила, выполняла несложную секретарскую работу в разных учреждениях. Комментарий случая Сама по себе история жизни М. кажется настолько фантастической, почти неправдоподобной по насыщенности драматизмом и трагизмом, что, последовательно и связно расказанная, она могла бы быть расценена как плод чистого вымысла М. Однако эта история не столько рассказывалась, сколько реконструировалась, прорываясь сквозь "мертвые зоны" памяти, вынашивалась и рождалась отдельными фрагментами, иногда обрывками, буквально и метафорически выходя из М. вместе с тошнотой и рвотой, сопровождаясь приступами удушья и страха смерти. Их обнаружение, точнее добыча — обживание — телесное проживание — проговаривание — переадресация, составляют отдельное направление нашей совместной терапевтической работы и самостоятельной работы самой М. Теперь в нескольких словах дадим диагностический комментарий этого случая, прекрасно отдавая себе отчет в возможности иных ракурсов его видения. Семейный контакт, в котором происходило формирование структуры Я пациентки, характеризуется высокой степенью спутанности, нечеткости семейных ролей и отношений, отсутствием стабильных и безопасных отношений привязанности, насыщенностью "скелетами в шкафу" — семейными мифами, а также скрытыми и явными актами насилия и свидетельствами мерзости и непредсказуемой жестокости человеческой натуры и поступков. Чувства, связывающие М. с близкими людьми, всегда оказывались двойственными, амбивалентными. Еще маленькой девочкой, будучи чрезвычайно привязанной к отцу, она страдала не только от частых разлук с ним, но и от ревности к его сожительнице, ее несправедливого отношения к ней и неспособности отца защитить ее в этих ситуациях. Мать, обремененная тягостными переживаниями и проблемами, связанными с ее родительской семьей, не сумела построить собственную жизнь и оградить дочь от ее кошмаров, не дала М. ни тепла, ни близости, ни элементарных знаний о жизни. Переложив на девочку-подростка непомерный груз семейных тайн и трагедий, она сделала дочь их невольной заложницей, почувствовавшей себя виноватой и ответственной за чудовищные проступки близких ("Я ведь их любила, а ты все испортила... у меня начались противоречивые чувства к ним, слишком противоречивые..." (из "письмапослания" М. к матери во время одной из сессий: "Ты меня убила... придавила... заставила страдать"). М. помнила, как хорошо ей было маленькой у бабушки и дедушки в деревне, она была привязана к ним, и, видимо, эта привязанность была взаимной. И вдруг обнаруживается, что ее дед — то ли безумец, то ли убийца; любимая и заботливая бабушка превращается в "мерзкое, зловонное животное" ("меня рвало, когда я входила в комнату, а по стенам все какашками разрисовано... и запах такой... и мыть ее невозможно — она дралась и кричала, что ее утопить хотят... (из "письма-послания" бабушке и дедушке). Многое в жизни М. происходило внезапно, неожиданно для нее самой, "вдруг", сексуальные насилия также обрушивались на нее, когда она доверяла этим мужчинам или по крайней мере не ожидала от них ничего дурного. Из всего этого можно заключить, что внутренний мир М. постоянно подвергался внезапным "землетрясениям", сотрясавшим самые основы ее душевного мироустройства, оставляя после себя "панику" и "осколки" (выражения М.). Сформированное в этих условиях Я не могло не оказаться хрупким, стрессодоступным, со спутанной структурой самоидентичности, слабым и неустойчивым. Особенно следует подчеркнуть повышенную виктимность Я, которое за счет низкой структурированности и слабости границ легко становилось жертвой чужого вторжения — сначала мать насильно сделала М. своего рода "делегатом" и заложником семейных мифов и материнских страданий, а затем М. не сумела дать отпор и защитить себя от двух инцидентов сексуального насилия. Неспособная вступить в контакт-конфронтацию, выразить адресно Другим обиды, гнев, сопротивление, т.е. ясно сказать "нет!" всему тому, что она внутренне отвергала, она оказывалась бессильной сказать "да!" и позволить родиться как своему целостному Я, так и вынести бремя беременности и родить. Сила ее Я, купированная не выраженной вовне агрессией на Других, обращалась в бессознательное стремление к смерти, в аутоагрессию, в чувства вины и стыда. Неукротимые тошнота и рвота в ответ на любое воспринимаемое насилие и обиду, как и панические атаки во время беременности указывают на сопротивление ее телесного Я насилию и вторжению: "Не Я беременела, а МЕНЯ беременели", — сказала однажды М. Ее Я было расщеплено, но доступ к Я-сильному блокировался обращенной на телесное Я агрессией. Терапия, таким образом, могла ориентироваться на работу с отчужденными от Я и спроецированными на телесность симптомами ретрофлексии. Психотерапия С самого начала стало ясно, что М. — пациентка на длительную курацию, и вместе с тем отсутствие в жалобе психологического запроса ставило под сомнение возможность ее удержания в терапии. Многое зависело также от нахождения общего языка, на котором мог бы строиться психотерапевтический альянс. Установка на "здесь и теперь", ограничивающая рассказы о жизни "там и тогда", столь привычные для каждого пациента и часто облегчающие создание первоначального доверительного контакта, могла показаться чересчур искусственной и вызвать сопротивление. Оказалось иначе. Уже на второй сессии в процедуре сосредоточения и осознавания своего телесного Я М. обнаружила что-то вроде завесы, блокирующей телесные ощущения. Она попыталась тут же зарисовать возникший зрительный образ, который последовательно трансформировался в "рваную рану", "рубец", с которой начался "надлом", а в памяти образовалась "мертвая зона". Приближение к ним в воображении тут же спровоцировало явление симптомов, что чрезвычайно обескуражило и шокировало М. Анализ своих переживаний на сессии М. продолжила дома, по собственной инициативе начав вести дневник, и подытожила его в стихотворении, которое и приводится ниже с сохранением авторской орфографии, а также в рисунке под тем же названием. Где живет тошнота? 1. Я голова, — тихонько говорила, Чуть позже образ ощутила На кресле мягком, и тот час Весь мир потух, как будто бы угас. Я голова — наполнена туманом, На уши давит и в глазах темно. Мне в этом разобраться надо, Как быстро все произошло. 2. Напротив сесть мне предложили, В желудок как бы превратили. И сразу захотелось мне Подняться вверх навстречу голове. Внутри так много возмущенья: Бурлит и множится вода, Не любит верхнего давленья — Конфликт отсюда и тогда Выходит залпом та вода. 3. Теперь в двух шкурах побывала Я. Меня трясет и кружится земля. Вернулась в кресло и опять Роль головы продолжила играть. 4. Глубокий вдох, глаза открыли. Уже светлеет в этом мире. Приятней стало, вдох опять, Тааак, лучше, надо подышать. 5. Вниманье стулу уделили. Желудку кушать предложили. Платок холодный приложили, В руках помяв, его и проглотили. Отлично, гнев его угас, Все опустилось и кричит сейчас. И чтобы не было беды, Дадим еще ему еды. 6. Вернемся снова к голове. Сейчас желудок весь в еде. Туман исчез, осталась боль. От глаз — по центру — вниз сейчас. Гримасы также на лице Передают страданья все. 7. Чуть выше глаз потрем сейчас, Затылок сзади, вот те раз. Повсюду появилась кровь. Вернулась резкость, затихает боль. 8. Намного лучше стало голове. Похоже есть потребности в еде. Платок к макушке приложили, Тем самым мы и накормили. Когда я ехала домой, Пришлось бороться снова с тошнотой. Противно, что сейчас со мной, Урок хороший был такой! Этот неожиданный и стремительный скачок в динамике процесса открыл терапевту "язык" пациентки — она с легкостью вживалась в телесные ощущения, собственно (и только) этим языком говорило ее Я, а кроме того она умела "обживать" найденные ощущения, передавая их в рисунках, лепке, рукоделии, стихах. Итак, прояснились доступные пациентке пути фокусировки на проблеме — начальном этапе собственно терапевтического процесса. Психотерапевту оставалось только при помощи наводящих вопросов, использования перенесения и конкретных психотерапевтических процедур обнаруживать все новые и новые жизненные и биографические ситуации, провоцирующие соматические симптомы, которые благодаря их обживанию в свою очередь тоньше дифференцировались, детализировались и нюансировались, и таким путем определялась их семантика. Но на этом этапе М. не могла еще войти в непосредственный контакт со своими чувствами; они были чувствами ее органов или ее тела, но не ее Я. Их присвоение началось благодаря методике "Письма к ...", в которых, впервые обращаясь напрямую к матери, отцу, отчиму, дедушке и бабушке, М. смогла, по ее словам, "освободиться от тяжелого бремени, которое меня душит, от которого я вся сжимаюсь и задыхаюсь". Зачитанные в форме адресного обращения к значимому персонажу на "пустом стуле", они вызвали мощный катарсический эффект и подготовили переход к диалогической работе с амбивалентными чувствами и частями Я. Ниже приводится выдержка из протокола сессии (беседы записывались на магнитофон). Т. (терапевт) после "Письма к отцу": Что сейчас с Вами, М.? М. Страшно... Кружится голова... Темно... Т. Страшно при-открывать и показывать свои чувства? М. Да! Очень страшно... но носить их в себе еще тяжелее... Они у меня вот уже где! (подносит руку к горлу). Они душат меня... Это как тошнота... Меня рвет и никак не вырвет ими... Я сама себя душу, сама себя мучаю (вдруг улыбка озаряет лицо). Т. Стало легче? М. Да! Так много горечи скопилось внутри, перло из меня, а теперь как будто легче и не так страшно... Да, надо выбирать — или носить все в себе, или открываться (раскрывает ладони как створки ракушек). Г. Да, это так. М. Я бы хотела немного отдохнуть теперь. Я устала... Но желудок молчит (смеется). Да, теперь-то он уж "наелся", удовлетворен, кушать не просит!"... Т. Что происходит с Вашим дыханием, с Вашей позой — плечами, грудью? М. (смеется). Я открываюсь изнутри... движения такие свободные появляются, раскованность какая-то... (голос падает). Но кисло, все равно кисло во рту, ох как кисло еще! М. (конец диалога)... Я как будто учусь говорить, высказываться, не держать в себе... Ну, в конце концов я драться, бороться за себя учусь... Я же не боролась... только переживала про себя.. И к Вам, Е.Т., я сейчас швыряю эти камни— ну, так, образно. Всем, кто повесил камень на меня, я теперь швырну — на — те! (сопровождает руками, рубящими движениями всего тела в сторону "стула"). После этой сессии М. записывает в дневнике: "... было противно бабушкино безумие... Я ненавижу мужчин, себя, беременность, ребенка внутри себя, — и меня фонтаном вырвало. Поняла, что беременна ненавистью". Этот кризисный период терапии, сопряженный с открытием в себе и признанием многих тягостных чувств в адрес близких, знаменует переломный этап в становлении ее собственного Я. Впервые в ее рисунках, до того изобиловавших изображениями частей тела — головы, горла, желудка, сердца и ИХ чувств появляются изображения целостной фигуры. На одном из них, названном М. "Прощание с прошлым на пороге нового дома", уходящая в верхний левый угол повозка — "воз прошлых событий"; правый угол занимает прочный фундамент, на котором сидит М., похожая на девочку, машущая платочком вслед повозке, под ним надпись: "У меня пока ничего нет, только фундамент". Во время сессии терапевт инициирует диалог двух М.: Ml — в повозке прошлого; М2 — на фундаменте. Диалог протекает с постоянной отсылкой к телесному аккомпанементу выражаемых эмоциональных состояний. Ниже приводится концовка диалога: M1 — М2: Моя ненависть насытилась... она мне даже надоела... вот-вот (с вызовом), она меня теперь не пугает! М2 — M1: Но теперь страшно мне. Я хочу любить, но я такая неуверенная... Я не знаю, смогу ли (голос слабый, детский). M1 — М2: Если я справилась со своей ненавистью, то неужели ты не преодолеешь свою слабость? Т. М., сядьте теперь на третий стул; на нем Вы, какой ощущаете себя сейчас, здесь, посмотрите на обеих М. и скажите им что-нибудь на прощанье из этого своего состояния. М. (смеется, чуть свысока): Какие Вы обе глупые, смешные... Издали вы обе кажетесь мне маленькими. Но вы обе во мне. Это ведь все Я (вздыхает расслабленно, изменяет позу). Т. Как Вы, М., себя ощущаете — телесно и вообще? М. Мне хорошо... Кажется, я избавилась от какого-то груза и... пополнела! (терапевт смеется). Да-да, Е.Т., во мне их ведь две сейчас, конечно, посмотрите, какая я стала толстая! Следующие несколько сессий были посвящены поиску внутренних барьеров, тормозящих движение М. к прощению себя и других, к росту любви к себе, к рождению собственного желания беременности. Параллельно терапевт старался интенсифицировать процесс дифференциации Я-образа за счет обнаружения и усиления новых частей Я. Помимо рисования, лепки и техники диалога начинают более широко использоваться телесноориентированные методы адресного обращения чувств (анти-ретрофлексивные техники) с усилением и катарсическим отреагированием соматических симптомов. Прогресс в состоянии М. достаточно серьезный, хотя и нестойкий. Из дневниковых записей М.: "Верю в свои силы, ощущаю поддержку со стороны мамы и... и... но... может, просто я еще чего-то не умею, чтобы самой себя изнутри поддерживать? У меня нет пока душевного равновесия: то все хорошо, то все плохо кажется, то хочу ребенка, то не хочу. Ерунда какая-то. Признаться, и кашля, и рвоты я уже так не боюсь!". В этот период, стараясь поддерживать любые позитивные изменения пациентки, терапевт продолжает углублять и усиливать чувства, мешающие позитивным изменениям, выступающие своего рода внутренним препятствием для их полного проявления. Так, на одной из сессий рождаются три новые М.: Ml — "надо", М2 - "хочу", МЗ — "которую все теребят и насилуют". Терапевт как бы раздваивается, своей левой рукой выполняя роль того, кто поддерживает и охраняет М. во время сессии, а своей правой руке передавая роль "теребящего и насилующего М.". В процессе работы М2 — "хочу" практически не подавала голоса, зато Ml - "надо" и МЗ — "которую все теребят и насилуют", благодаря активности правой руки терапевта, надвигающейся на М., "нависающей", "давящей", "наносящей удары" (разумеется, без реального прикосновения к М.) вызвали развернутый приступ тошноты, рвоты, головокружения. М. (сразу после него): Мне кажется, я пытаюсь защитить себя, по крайней мере после рвоты я чувствую себя в безопасности... Сейчас у меня появляется сила... Сейчас мне кажется, я словами могу защитить себя, а ведь раньше я все молчала... и когда мама вешала на меня свои беды... и когда мужчины насиловали меня, не спрашивали, чего Я хочу... Да, мне кажется, у меня появляется сила сказать о том, что Я хочу". На самом деле М. еще сама не знает, чего же она хочет. На этом этапе работы все еще приходится больше сталкиваться с потребностью новой" М. еще и еще — словами, действием, голосом, — учиться говорить "нет!". Терапевту приходится на ходу изобретать множество конкретных приемов, облегчающих рождение и обретение силы этой новой М. Здесь идут в дело и крикотерапия, и имитация родов и пр. Резюме Итак, пройден путь в 35 сеансов, по словам М., "мы еще на старте", и к этой оценке я как психотерапевт присоединяюсь. Тем не менее, будет не лишне, подводя промежуточный итог, попросить высказаться саму пациентку. Из дневника М. на данном этапе терапии: "Начала таять та гнетущая душевная боль, появились новые ощущения, осознанным чувствам дали голос, слова и названия. И я заговорила на каком-то своем языке. Из этого стало понятно, какая душевная травма произошла и пустила корни... Одним из больных вопросов у меня сейчас является беременность. Я ее воспринимаю с позиции давления, нажима, какого-то долга, а моя свободолюбивая натура оказывала огромной силы сопротивление. Возникал конфликт, и воспроизводилась реакция на насилие... Постепенно избавляюсь от закоренелых чувств насилия, подают голос новые чувства, для начала появляется желание... Изменения произошли в характере. Растаяла моя непреклонность, мнительность, не держу ни на кого зла в душе. Настроение стало более стабильным, появилась раскованность в движениях, мыслях, чувствах. Удивительно, но стала спокойно реагировать на запахи, которые раньше меня раздражали и вызывали тошноту... Нет больше ни рвоты, ни тошноты... Произошли и физиологические изменения... Стала менее раздражительной, внимание более сосредоточено... Одним словом, увидела и почувствовала себя. На этом мне приходится заканчивать свои записи — завтра надо сдавать текст в сборник. Завтра — очередная сессия с М., и я не заблуждаюсь — этот случай еще преподнесет мне сюрпризы! 2.4. Заключение. К психологии терапевтических отношений Понимание природы и специфики психотерапевтического контакта, его роли и места в процессе терапии в определенном смысле служит критерием различения теоретических ориентаций и аксиологических установок внутри пространства практической психологии. Так, в очевидной оппозиции находятся психоанализ и когнитивно-бихевиориальная терапия с их пере и недооценкой психотерапевтических взаимоотношений. Смещение акцента с "там и тогда" на "здесь и теперь", изменение плоскости межличностного взаимодействия с "наклонной" на "горизонтальную", представление о ценности экзистенциальной "встречи" в противовес символическим имаго-насыщенным трансферентным отношениям открывает противоречия между психодинамической и гуманистической парадигмой. Заметим, однако, что современная практическая психология, на наш: взгляд, избавляется постепенно от излишней "когнитивной простоты" подобных прямолинейных противопоставлений и тяготеет в большей степени к интегративным подходам. 1 Если бы М. знала, что она практически говорит языком профессионального психотерапевта, — к счастью, она говорит своим языком! В представляемом здесь варианте "интегративной психотерапии со значимым Другим" мы также отходим от позиции конфронтации и пытаемся вступить в конструктивный диалог с концепциями, сложившимися в теории объектных отношений и гештальт-терапии, реинтерпретируя их, исходя из теории и методологии культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Анализируя роль общения в онтогенезе высших психических функций, Л.С.Выготский отмечал, что сначала мать обращает внимание ребенка на что-нибудь; следуя ее указаниям, он обращает внимание на это; затем ребенок сам начинает обращать свое внимание, сам по отношению к себе начинает выступать в роли матери; образ и жест матери, интериоризу-ясь, становятся частью его Я. Такова же, на наш взгляд, логика развития психотерапевтического контакта. Психотерапевт по отношению к незрелой личности пограничного пациента выполняет функции значимого Другого (сначала материнские, а потом отцовские), извне содействуя восстановлению разрушенного социального контакта, который, интериоризуясь, преобразуется в новый паттерн самоотношений, характеризующийся большей связностью, большей стабильностью, более дифференцированной и ясной самоидентичностью. В финале психотерапевт и пациент готовы к зрелым, равноправным и диалогическим отношениям, где каждый из них для другого становится тем, кто он есть. Анализируя проблему психотерапевтического контакта в исторической перспективе, остановимся вкратце на ее трактовке в традиционном психоанализе и его современном варианте теории Я или теории объектных отношений с тем, чтобы затем представить собственные размышления. На известную трудность установления психотерапевтического контакта и вследствие этого ограниченность терапевтического влияния на пациентов с так называемыми нарциссическими неврозами впервые обратил серьезное внимание З.Фрейд. По его наблюдениям, черты нарцизма (или нарциссизма) обнаруживаются у лиц с расстройствами довольно широкого круга: у некоторых невротиков, больных шизофренией (паранойей, парафренией), пациентов с ипохондрией, депрессией и даже с органическими (соматическими) заболеваниями1. Конкретно, Фрейд связывал клиническую картину указанных расстройств не столько с нарушениями в ходе психосексуального развития и соответственно с теорией либидо, сколько с определенными нарушениями в развитии Я и тех влечений, которые обслуживают инстинкт самосохранения. Он предполагал также возможность более сложной и комплексной структуры нарцизма, когда одновременно поражается и такая функция Я, как исследование реальности, и процесс сосредоточения либидо на объектах окружения. Отсутствие ярко выраженного и эмоционально-насыщенного интереса к другим людям (столь характерного для актуальных неврозов истерии и навязчивости) составляет главное препятствие к развитию "невроза перенесения", а следовательно, и отношений перенесения, для аналитика представляющих собой единственно возможную форму психотерапевтического контакта. В перенесении отношения ли-бидозной привязанности (нежной" и "агрессивной") обеспечивают повторное воспроизведение бессознательных иррациональных влечений, объектами которых в прошлом являлись мать и отец пациента, в настоящем переадресованных личности терапевта. Работая с перенесением, терапевт получает доступ к неразрешенным конфликтам прошлого, "оживляет" их и, переводя в плоскость сознания, дезактуализирует. Для современного психоанализа характерно более расширительное толкование переноса как восстановление детских желаний, ощущений, моделей, ассоциаций, фантазий и соответствующего поведения, которые проявляются в отношении пациента к аналитику2. Сходное, но более дифференцированное понимание дается Р.Гринсоном, который указывает, что перенесение представляет собой переживание чувств, побуждений, отношений, фантазий и защит по отношению к личности в настоящем, которая не является подходящей для этого; перенесение в этом смысле следует рассматривать как повторение реакций по отношению к значимым фигурам раннего детства, бессознательно перемещенным на личность терапевта в настоящем3 . Гринсон вносит также важные измерения в богатую и порой противоречивую феноменологию переноса, измерения, позволяющие рассматривать последний как сложно организованную структуру, соотносимую, во-первых, с фазами психосексуального развития и уровнями Я, во-вторых, с глубиной регресса в переносе, в-третьих, (и соответственно) — с "имаго" терапевта. Опираясь на выделенные разными авторами измерения, можно заключить, что классический перенос, изученный Фрейдом в рамках так называемых неврозов, включает паттерн чувств, относящихся преимущественно к стадии Эдипова комплекса. Глубина регресса не достигает архаических уровней диффузности, слитности Я и объектного мира. Образ терапевта хоть и искажен под воздействием "имаго" значимых фигур прошлого, но не отождествляется с ними (функция исследования реальности не повреждена); сохраняется способность к поддержанию достаточно прочного и стабильного "рабочего альянса" (контракта). Регрессия в функциях Эго, говоря языком психоанализа, если и происходит, то неглубокая, частичная и кратковременная. Это означает наличие у пациента образа Я, дифференцированного и отличного от объектов окружения, терапевта, в частности. 1 3. Фрейд. О нарцизме. Я и Оно. Книга 2. Тбилиси, 1991. 2 Сандлер Дж.,Дэр К., Холдср А. Пациент и психоаналитик. Воронеж, 1993. 3 Grccnson R. The Technique and Practice of Psychoanalysis. 1967. V.1. №. 9. Реакции переноса обладают рядом общих черт — повторяемостью, сопротивлением изменениям, стойкостью. Существует много факторов, поддерживающих и детерминирующих эти качества, так же, как и их теоретических объяснений. Одно соображение, кажется, необходимо упомянуть здесь — это присущая невротикам хроническая фрустрация инстинктивных влечений, постоянно побуждающая их к поиску удовлетворения — за пределами терапии и в отношениях с аналитиком; можно сказать, невротики находятся в постоянной готовности к переносу. До тех пор, пока пациент будет избегать конфронтации с истинными объектами своих запретных и вытесненных желаний, перенос будет воспроизводиться вновь и вновь. В этом своем качестве он выступает уже как сопротивление и преграда расширению области осознавания, а следовательно, тормозит весь терапевтический процесс. Терапевт оказывается в двойственной позиции: с одной стороны, известные психоаналитические правила нейтральности и непроницаемости исключают удовлетворение иррациональных требований пациента, фрустрация же их способствует поддержанию и углублению перенесения. С другой стороны, именно развернутая манифестация трансферентных чувств создает благоприятные условия для их развенчивания и ослабления. Прежде вытесненные психические содержания, связанные с фигурами реально значимого прошлого получают доступ к сознанию. "Мы преодолеваем перенесения, — пишет Фрейд, — указывая больному, что его чувства исходят не из настоящей ситуации и относятся не к личности врача, а повторяют то, что с ним уже происходило раньше. Таким образом, мы вынуждаем его превратить повторение в воспоминание. Тогда перенесение, безразлично нежное или враждебное, которое казалось в любом случае самой сильной угрозой лечению, становится лучшим его орудием, с помощью которого открываются самые сокровенные тайники душевной жизни... Человек, ставший нормальным по отношению к врачу и освободившийся от действия вытесненных влечений, остается таким и в частной жизни, когда врач опять отстранил себя"1. Приведенный отрывок позволяет глубже уяснить логику традиционно психоаналитической работы с неврозом перенесения: она использует чувства и отношения настоящего в качестве отраженных моделей или устойчивых паттернов прошлого; именно последние являются фокусом ее воздействия, а невроз перенесения — доступным материалом и средством их реконструкции, а затем осознания и изменения. Модели (паттерны) психотерапевтических отношений при пограничных личностных расстройствах Как уже упоминалось, З.Фрейд отрицал у нарциссических личностей способность к реакциям переноса на том основании, что у них отсутствует или весьма ограничен интерес к окружающему миру; к врачу они также проявляют бедный спектр эмоций, скорее, равнодушны. Согласно предположению Фрейда, этот дефект связан с глубокими нарушениями в структуре Я. Эта мысль Фрейда получила свое дальнейшее развитие в концепции объектных отношений. Несмотря на существующие расхождения в трактовке сходства и различия нарциссической и пограничной личностной организации, признается, что обеим присущ ряд общих клинико-психологических особенностей, а именно: а) диффузная, спутанная самоидентичность; б) дезинтегрированная, расщепленная структура Я, состоящая из слабого, пустого или истощенного Я-реального и защитного идеализированного или грандиозного Я; в) специфическая избирательность общения, эксплуататорские установки в адрес других, полярность и резкие колебания в оценках (Н.Кохут, 1977; О.Кернберг, 1984). Вследствие указанных особенностей пациенты с пограничными личностными расстройствами не выдерживают мощных и длительных фрустраций, связанных с традиционным психоаналитическим лечением. Действительно, нейтральность и молчание аналитика они будут склонны воспринимать как отвержение или потерю; вербальные методы традиционного психоанализа не являются "их" языком, поскольку травматический эмоциональный опыт лежит в области до-вербального бессознательного; положение "на кушетке" вызовет глубокий и неуправляемый регресс с потерей чувства реальности и границ Я-Другой. Иными словами, приходится согласиться, что отношения переноса (в традиционно аналитическом понимании этого термина), а следовательно, и сам метод психоанализа, не приемлемы для работы с пограничными пациентами. Необходимо выработать такую модель терапевтических отношений, которая сочетала бы в себе эмоциональную отзывчивость и открытость терапевта (принцип "неалиби") с уважением и поддержанием личных пространств и границ контакта (принцип "вненаходимости"). 1 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. — М.: Наука, 1989. — С. 284. Возникает естественный вопрос, какие паттерны отношений склонны развивать пограничные пациенты в терапевтической ситуации. Ответ на этот вопрос может быть дан, исходя из анализа психологических условий и механизмов развития аномальной личностной структуры. Ранее (Соколова Е.Т., 1981) на основании анализа литературы мы выделили два, на первый взгляд, полярных синдрома — аффективной тупости и аффективной зависимости и соответственно два направления аномального развития Я. Сегодня мы склонны рассматривать их оба в качестве вариантов пограничной личностной структуры, развившейся под воздействием ранних и мощных фрустраций базовой потребности в эмоциональной привязанности. Не исключено также, что синдром эмоциональной тупости (перекликающийся с нарциссической безучастностью) формируется в качестве вторичного образования в структуре Я, защищающего уязвимое и зависимое Я-реальное. Сказанное означает, что у пограничной, как и у невротической личности, сохраняются внутренние предпосылки для возникновения отношений переноса в виде хронически фрустрированных потребностей, а следовательно, и готовность "искажать" терапевтическую ситуацию в направлении их символического удовлетворения. Вместе с тем, учитывая более грубый и глубокий характер патологии Я при пограничных расстройствах следует ожидать, что паттерны трансферентных отношений будут более сложными. Два системообразующих качества ПЛС участвуют в образовании паттерна отношений пациент — терапевт — низкая дифференцированность и зависимость. Пациент тяготеет к импульсивному разрушению границ Я — Другой, его самым сильным желанием является "слияние" с терапевтом, посредством которого может быть компенсирована "пустота" и несамодостаточность Я. Некоторая "сновидность" состояния сознания, в котором весьма диффузно и спутанно репрезентируются реальность и субъективные переживания, ответственна, по всей видимости, за близость этого паттерна отношений гипнотическому раппорту. Вот как об этом пишет один французский аналитик: "Это непосредственное отношение архаического, инфантильного, эротического типа, направленное на отрицание всякой обособленности... принцип которого состоит в том, чтобы никогда не отделяться друг от друга, оставаясь всегда соединенными друг с другом, образуя единое существо, или, вернее, находясь друг в друге" . Иными словами, в психотерапевтических отношениях пограничный пациент воспроизводит матрицу своего аффективного опыта, относящуюся к очень раннему, возможно, грудному возрасту; терапевт же выступает для него в роли "кормящей матери" или точнее, по терминологии М.Клейн, "материнской груди". Глубина регресса и преобладание слабодифференцированных механизмов проекции, интроекции и расщепления ответственны за насыщенность контакта мощными разрядами аффекта и потерей функции реальности, вследствие чего, в частности, возможна утрата контроля над чувствами и "выход в действие", непосредственное отреагирование желаний, адресованных терапевту, как это свойственно маленькому ребенку, агрессивно требующему немедленного и действенного удовлетворения — материнского молока или на худой конец соски-пустышки. Отличая этот тип контакта от невротического трансфера, ряд авторов используют термин "проективная идентификация", обозначая им феномен первоначального расщепления психических содержаний на "хорошие" и "плохие" и последующего приписывания собственных отвергаемых желаний и чувств терапевту с последующим отношением к нему, так как если бы он действительно обладал ими и был человеком, способным удовлетворить эти желания реально (Кашдан, 1987). Упомянутый автор, выделяя такие виды проективной идентификации, как зависимость, власть, сексуальность и инграциация, подчеркивает присущий всем им характер принудительного воздействия на терапевта. Последний чувствует себя своего рода мишенью направленных на него метакоммуникаций, их частью, как будто пациент лишает его каких-то присущих его индивидуальному Я черт или, напротив, как если бы на него "навешивали" нечто, чем он в действительности не обладает. Например, пациент, ведущий себя сексуально развязно, предпринимающий своего рода попытки соблазнения, затем может насмехаться, укорять, обвинять или обороняться, как если бы все это исходило от терапевта; или в другом случае, проявляя признаки чрезвычайной беспомощности, он как бы "извергает" из себя собственную силу, наделяя терапевта качествами всемогущества, полностью отдает ему в руки руководство своей жизнью, требует советов, рекомендаций, указаний и абсолютной поддержки. 1 Шсрток Л. Непознанное в психике человека. — М: Прогресс, 1982. — С. 182. Попробуем теперь понять природу проективной идентификации с несколько иных позиций, по аналогии с ранее выделенными экспериментально стратегиями охраны самоотношения. Представим ее как паттерн интра- и интерпсихических действий, направленных на собственное Я и фигуру значимого другого, призванных дополнить дефицитарную самоценность (не-самодостаточность) и обеспечить наличие симбиотической эмоциональной связи в межличностных отношениях с терапевтом. Именно под таким углом зрения в предыдущих главах были рассмотрены особенности самосознания и общения пограничных пациентов; теперь мы привлекаем эти исследования и размышления вновь, полагая, что изученный паттерн отношений "переносится" в терапевтичскую ситуацию. Дополнительным основанием для этого служит явная перекличка между феноменами, описываемыми в терминах проективной идентификации, и исследованными в рамках наших работ явлениями нестабильности, хрупкости образа Я, стилями защиты самоотношения и подкрепляющими их манипулятивными стратегиями общения. Именно в этом контакте нам видятся новые возможности для проникновения в структуру и психологические механизмы психотерапевтического контакта с пограничными пациентами. Мы имеем в виду тот кардинальный факт, что в силу мощных и ранних фрустраций образ Я и картина мира (включая образы значимых других) остаются на низком уровне интеграции, исключающем удержание в сознании амбивалентных психических содержаний, не существующих иначе, как в своих сверхобобщенных, абсолютизированных и поляризованных качествах. Сохранение минимальной интеграции Я становится возможным лишь на самом примитивном уровне и только благодаря механизмам расщепления, проекции и интроекции. Таким путем пациент расщепляет психические содержания образа Я на "хорошие" (ассоциированные с родительским одобрением и приятием) и "плохие" (ассоциированные с наказанием и отвержением), затем "извергает", проецирует "плохие" на терапевта, одновременно "впитывая" в себя его "хорошие" качества. Спроецировав в Другого часть своего Я или "позаимствовав" ее от Другого, пациент становится с ним неразрывно связанным, поскольку только во взаимозависимости он способен компенсировать ущербность и самонедостаточность. Только относясь к терапевту не как к Другому, а как к части самого себя, как своей собственности, овладевая им, управляя им как собой (а собой, как им), пограничная личность достигает, пусть иллюзорно, подтверждения чувства самоидентичности, утратив при этом чувство индивидуальности — своего неповторимого своеобразия и автономности. Совершенно очевидно, что описанный здесь паттерн терапевтических отношений, генез которых восходит к ранним младенческим фрустрациям, идентичен тому типу интра- и интерпсихических действий, который ранее мы назвали манипулятивными стратегиями защиты самоотношения, Он "переносится" в ситуацию психотерапии в ответ на содержащиеся в ней элементы новизны, неопределенности, уже в силу этого представляющие угрозу хронически хрупкому и нестабильному образу Я. Цель их, как всегда, состоит в том, чтобы, завоевывая вновь и вновь "любовь" терапевта, в неразрывной эмоциональной связи черпать подтверждение постоянно находящимся под угрозой отвержения и утраты "частям Я". Инициируя манипулятивный стиль отношений с терапевтом, пациент неизбежно "кастрирует" не только образ Я, но и образ Другого. Отвергая силу и потенцию в себе, он приписывает терапевту всемогущество; отвергая собственное несовершенство и слабость, — дискредитирует терапевта; его "пустая" психосексуальная самоидентичность требует удостоверения через провокации сексуального возбуждения терапевта; недостаток уверенности в самоценности должен поддерживаться путем лести и "подкупа" терапевта. Подведем некоторые итоги. Специфика контакта с пограничными пациентами в силу недоразвития или несформиро-ванности отношений привязанности со значимым другим и образовавшейся в Я "дыры", "пустоты" состоит в целенаправленном систематическом использовании контр-переносных чувств как главной терапевтической альтернативы сверхзависимости. Благодаря эмоциональному отклику терапевта, воплощающемуся в вопрошании: Я Вас слушаю. Что это для Вас. Что с Вами происходит, сейчас, восстанавливается одновременно и оборванная связь со значимым Другим (в роли которого выступает терапевт) и прямая непосредственная связь с актуальными нуждами, потребностями и чувствами. Напитав эмоционально голодного пациента вниманием, поддержкой и со-переживанием, терапевт на более поздних этапах терапии начинает активно конфронтироваться с базовым паттерном отношений зависимости. В терапевтическом контакте это означает отказ отвечать на манипулятивные стратегии общения путем разделения с пациентом чувств, которые возникают у терапевта в ответ на оказываемые на него давление и насилие. Поскольку на начальных этапах работы терапевт разделил с ним боль жертвы насилия, он приобретает право заявить протест против того насилия, которое "здесь и теперь" совершает над ним сам пациент. Это — один из наиболее деликатных и ответственных моментов в терапии, так как есть риск, что пациент "услышит" обвинение и почувствует вину. От терапевта требуется искренность, точность и свежесть в передаче собственных чувств, когда он оказывается жертвой насилия со стороны пациента. Например, он может сказать о своем страхе потери самоуважения и доверия пациента, когда тот приписывает ему сверхмогущество, безмерно идеализирует его. Или терапевт отважится на признание, что попытки пациента сексуально соблазнить его находят отклик и ему тяжело переносить натиск собственных эротических чувств. Или в ответ на постоянную критику и дискредитацию профессиональных качеств он действительно начинает ощущать себя "кастрированным" и в таком состоянии его способность помочь пациенту реально поставлена под угрозу. Иными словами, пациент вступает в новую стадию развития своего Я и отношений с терапевтом — ему приходится "встречаться" с терапевтом как с реальным человеком, а не как с "искаженными" "имаго" из своего прошлого. В процессе терапии, заключительные этапы которого включают "раздачу долгов"; прощение и прощание с прошлым, пациент начинает видеть терапевта таким, какой он есть — без харизмы и тем не менее с уважением; без экзальтированной влюбленности и неизбежно сопутствующей ей идеализации, дискредитации — и с теплотой и сочувствием; он не требует чуда, он примиряется с несовершенством терапевта и какимито его недостатками или даже просчетами. "Прощение" терапевта пролагает дорогу к прощению близких и примирению с ними. И, наконец, приходит пора (в идеально текущем процессе) прощения и примирения с самим собой. Отпадает необходимость собственными руками (манипуляциями) завоевывать, насилуя другого, самоценность, она остается и тогда, когда пациент и терапевт прощаются друг с другом. Этап прощания в терапии имеет свои задачи и трудности. В опыте пациента был прочно запечатлен прошлый паттерн сепарации, характерная черта которого — разрыв, внезапность и внутреннее непонимание логики и причин его. Альтернативные травматическому опыту, терапевтические отношения сепарации отвечают взрощенным потребностям самого пациента. Со своей стороны терапевт, оставаясь "в доступности", разделяет с пациентом свои собственные амбивалентные "родительские" чувства радости и печали. Позволю привести здесь стихотворение одной из наших пациенток, в котором нашли отражение эти противоречивые чувства: "Кто не мечтал жизнь заново прожить? И вот она, вторая жизнь! Бесценный дар держу я в трепетных руках, Не Божий дар — творенье женщины, Рожденное в муках. Второю матерью должна я Вас назвать, Благословенье Ваше воспринять, И верной дочерью для мира стать. И вот она, вторая жизнь! Как ею мне распорядиться? Как правильно ее прожить, В ошибках первой чтоб не повториться?" В заключение еще раз подчеркнем ряд моментов, важных для понимания стратегии терапевтического процесса с пограничными пациентами. Вкратце очерченную здесь модель можно назвать терапией со значимым Другим. Ее зерно заключается в создании условий, позволяющих пациенту пройти путь, уподобленный этапам развития отношений привязанности сепарации. Опыт прожитых им в терапии отношений и его динамика полностью или частично отсутствовали в прошлом, а потому не развиваются в настоящем. Терапия, таким образом, позволяет пациенту пережить в настоящем эмоциональный опыт, которого он был лишен в прошлом. Именно это мы имеем в виду, называя терапевтические отношения моделью "до-родительствования". РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА Адлер А. Индивидуальная психология. М., 1994. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М., 1988. 3. Бубер М. Я и Ты. М., 1993. Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. М., 1990. Гурджиев Г. Беседы с учениками. Киев, 1992. Захаров AM. Психотерапия неврозов у детей и подростков. М., 1982. Карвасарский БД. Неврозы. М., 1980. Он же. Психотерапия. М., 1980. Кемпински А. Психопатология неврозов / Пер. с польск. Варшава, 1975. Киппер Д. Клинические ролевые игры. Психодрама. Клосс, 1993. Мелибруда Е. Я — Ты — Мы. М., 1986. Мясищев ВЛ. Личность и неврозы. Л., 1960. Папуш МЛ. Я и Ты в гештальт-терапии // Моск. психотерапевтический ж-л. 1992, № 2. Перле Ф. Внутри и снаружи помойного ведра. Прагма, 1993. Перле Ф., Хефферлайн Р., Гудман П. Практикум по гештальт-терапии. М., 1994. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах: Как стать собственным психотерапевтом. М., 1992. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 1990. Руководство по психотерапии // Ред. В.Е. Рожнов. — Ташкент, 1978. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992. 20. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989. Соколова Е.Т. Особенности самосознания при невротическом развитии личности. Автореф. докт. дисс. М., 1991. Соколова Е.Т. Интегративный подход к исследованию и психотерапии пограничной личности. Гештальт-92. ТОО Гештальт-институт 1992. Соколова Е.Т. "Где живет тошнота?" — анализ случая из психотерапевтической практики. Московский психотерапевтический журнал 1994. № 1. Соколова Е.Т. К проблеме психотерапии пограничных личностных расстройств. Вопросы психологии 1995, № 2. Семья в психологической консультации / Ред. В.В Столин. М., 1987. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. Рос. психоан. ассоциация. 1992. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. Фрейд 3. Я и Оно. Труды разных лет. Тбилиси, 1991. В 2 т. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. Фромм Э. Адольф Гитлер — клинический случая некрофилии. М., 1992. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике. М., 1993. Шерпюк Л. Рождение психоаналитика. М., 1991. Энрайт Дж. Позиция слушателя-психотерапевта. Прагма, 1993. Юнг К. Психологические типы. М., 1993. Дополнительная литература 1. Барт Р. Семиотика. Поэтика. М., 1990. 2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1979. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Моск. психотерапевтический ж-л. 1992, № 1. Кон И.С. Открытие Я. М., 1978. Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Моск. психотерапевтический ж-л. 1992, № 2. 7. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. Ландгмейер И., Матейчек 3. Психологическая депривация в детском возрасте (Пер.). Прага, 1984. Семке Я. Истерические состояния. М., 1988. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. М., 1988. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост (Пер.). ВУП. М., 1985. Хрестоматия по зарубежной психологии. Тексты. М., 1986. Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта // Моск. психотерапевтический ж-л. 1992, № 2. Часть II Глава 1 Личность в условиях хронического соматического заболевания 1. 1. Хронически больной в обыденной жизни, наблюдениях и художественной литературе Болезнь является одним из наиболее частых и драматических событий человеческой жизни. Телесные недуги (соматические заболевания) сопровождают человека от рождения до смерти. Без преувеличения можно сказать, что вся история человечества может быть представлена как история изучения заболеваний и поиска средств борьбы с ними с целью продления полноценной человеческой жизни, повышения ее качества и удовлетворенности человека собственной жизнью. Наблюдения над людьми, страдающими хроническими заболеваниями тела, возникли еще до появления научного медицинского знания. Они составляют неотъемлемую часть культуры каждого народа, находят отражение в сложившихся у различных народов представлениях о влиянии болезней тела на душевное состояние человека и, наоборот, о возможности возникновения телесных страданий (болезней) вследствие "душевных возмущений" (Мудров М.Я., 1949). Так, задолго до возникновения психосоматической проблемы как особого направления научного поиска обыденная жизнь открыла человеку существование тесной связи между явлениями душевными (психическими) и телесными (соматическими). Различные области человеческой практики указывали на эту связь. Но, пожалуй, более всего те из них, которые ориентированы на взаимоотношения людей, воздействие на них с целью их изменения или гармонизации. К таковым областям практики относятся прежде всего религия, педагогика и медицина. Каждая из них, решая свои задачи, выработала особые приемы, "техники" воздействия на человека с целью изменения его душевного или физического состояния (даже управления, например, душевным состоянием через воздействие на телесное и наоборот). Наиболее ранний опыт подобного рода открывает нам религия, использовавшая возможности влияния психики на телесные процессы (и наоборот) в практике воздействия на человека. Многие интересные, с нашей точки зрения, факты приводит Тайлор Э.Б. (1989), анализируя явления первобытной культуры. Он отмечает, что ряд возникших еще в древности религиозных обрядов и церемоний, дошедших в том или ином виде и до нашего времени, имеют символическое значение и используют в этой связи эмпирически зафиксированный факт связи сомы и психики. Одни из этих обрядов позволяли оказывать влияние на физическое состояние человека через воздействие на его психику, другие — первоначально изменяя физическое состояние человека, способствовали возникновению нужного душевного настроя. Они могут быть рассмотрены также как "способы искусственного возбуждения экстаза" (Там же. С.459). В частности, рассматривая символическую функцию молитвы, он отмечает: "... моралисты и философы должны допустить, что она, будучи в религии дикарей средством для усиления душевного движения, поддержания храбрости и возбуждения надежды, в более развитых верованиях стала значительной двигательной силой в деле нравственности. И силой не только укрепляющей, но и контролирующей чувства и порывы нравственной жизни посредством сознания сверхъестественного вмешательства и помощи" (Тайлор Э.Б., 1989. С.465). Он отмечает далее, что "от древнейших эпох культуры мы находим религию тесно связанной с экстатическими состояниями тела" (Там же. С.484). Таковые достигаются, в частности, при помощи поста, ритуального танца, приема наркотических средств с целью изменения телесного самочувствия. Благодаря этому наступает состояние особого "духовного" просветления. Подобные же средства используются в истории человечества и для исцеления телесных недугов и врачевания психических расстройств. Не останавливаясь подробно на анализе религиозных обрядов и церемоний, отметим лишь, что в них с успехом использовался эмпирически установленный факт взаимосвязи, взаимовлияния души и тела, сомы и психики. Эта же связь стала основой для создания разнообразных психотерапевтических техник, широко применяющихся в настоящее время при коррекции психосоматических расстройств. В педагогике также с древних времен принцип физического закаливания или воздержания применялся для укрепления духовной сущности человека, создания стойких стереотипов самоограничения, самоуправления (например, воспитание в системе стоиков в Древней Греции). Наиболее разработанные принципы, опирающиеся на идею двоякой сущности человека, мы находим в истории медицины. Еще у истоков научной медицины стояли две школы, отражающие два подхода к трактовке сущности человека и его болезни: первая — гиппократическая школа Кооса; вторая — школа первых анатомов Книда. Первая трактовала болезнь как расстройство отношений между субъектом и действительностью; вторая рассматривала ее как поражение определенной материальной структуры. Это противопоставление, проходя через всю историю медицины, определяет собою и характер объяснения причинно-следственных связей. Первое направление предполагает в объяснении причин болезней учитывать неповторимую психологическую индивидуальность человека, обнаруживающую себя и в порождении болезненных симптомов. Второе ограничивается только логикой анализа собственно биологического, организменного уровня и не допускает психологических интерпретаций. Таким образом, психосоматический феномен в истинном смысле слова получает право на существование только в логике первого направления. Поставленная много веков назад психосоматическая проблема в медицине обрела свой научный статус относительно недавно. Само понятие "психосоматика" возникло в 1818 г. (Heinroth), а в 1828 г. впервые было использовано другое, родственное понятие "соматопсихика" (Jakobi). Подлинно научное рождение проблема получила в психоанализе, в особенности, в его более поздних модификациях. Медицина, однако, ориентирована на поиск психосоматических связей в патологии. В то же время психосоматическая феноменология не ограничивается только исследовательским полем медицины, но, как мы отмечали ранее, глубоко уходит своими корнями в обыденную жизнь, которая фиксирует две стороны процесса психосоматических отношений: а) психическое состояние может вызывать изменения телесных функций; б) телесные функции человека могут оказывать влияние на душевное состояние человека. Рассмотрим на конкретных примерах, в чем состоит это "двустороннее влияние". Пример первый. А.М.Свядощ в книге "Неврозы" (1982. С.48-49) описывает случаи наблюдавшихся врачами неожиданных смертей у пациентов в условиях внезапной психической травмы. Так, Arieti наблюдал пожилого человека, который неоднократно заявлял, что он умрет, если упадет старая башня. Когда во время грозы в башню попала молния, и она рухнула, человек умер. Klumbies (1977) наблюдал молодую женщину, неоднократно обращавшуюся к врачу по поводу болезни сердца и шутя сказал мнительной пациентке: "Вам нечего бояться по поводу вашего сердца, раньше меня вы все равно не умрете, или же умрем, так вместе". Когда на следующий день врач внезапно умер, больная, несмотря на все принятые лечебные меры, вскоре после этого также умерла. Страх и самовнушение в этих случаях привели к смерти мнительных пациентов, не имевших органических предпосылок для этого. Пример второй. В.Д.Тополянский и М.В.Струковская (1986) приводят многочисленные описания "трудных" больных, вся жизнь которых подчинена поиску врачей, которые бы вылечили их загадочное заболевание. Авторы отмечают, что эти пациенты попадают в поле зрения врачей самого разного профиля, иногда подвергаются даже хирургическому вмешательству, но и оно не обнаруживает у них признаков явной соматической патологии. Жалобы этих больных обильны, противоречивы, в то же время их не удается объективизировать. "Целые легионы больных, — отмечают авторы, — с психогенными или преимущественно психогенными соматическими нарушениями в структуре аффективных расстройств различного генеза оказываются в итоге на "нейтральной полосе", не получая должной врачебной помощи ни от психиатра, ни от интерниста" (Там же. С. 6). Причиной подобных непонятных для врачей и тягостных для пациентов состояний авторы считают субдепрессивные и депрессивные состояния, находящие свое телесное выражение ("соматическую маску") в многочисленных висцеро-вегетативных проявлениях. Пример третий. Больная (врач-рентгенолог по профессии) обследуется в онкологическом стационаре. Вследствие халатности персонала в ее руки случайно попадает ее собственная история болезни. Пациентка рассматривает рентгеновские снимки и (имея большой профессиональный опыт) не обнаруживает у себя явной, отчетливо видимой на них опухоли. Страх обнаружения патологии в данном случае психологически "защитил" больную от чрезмерно травмирующей информации. Пример четвертый. Много лет назад автору этих строк довелось (вместе с более опытными психологами и врачами) наблюдать больного, потерявшего слух в раннем детстве, но с помощью матери успешно компенсировавшего дефект. Он обучился громкой речи, успешно окончил среднюю школу, получил высшее образование в одном из элитарных технических вузов, научился танцевать, играть на музыкальном инструменте и даже получил водительские права. В течение всего этого времени ему удавалось успешно ркрывать свою глухоту, и только чрезмерно высокие профессиональные притязания поставили пациента в ситуацию, позволившую врачам заподозрить наличие дефекта. Следовательно, сформированная ориентация на полноценную самоактуализацию явилась мощным стимулом успешной компенсации физического дефекта. Физические и душевные страдания тяжело больных людей, их умение преодолевать жизненные трудности, вызванные заболеванием либо, наоборот, неспособность справиться с ними, многократно становились предметом художественного анализа. Классическим произведением подобного типа является повесть Л.Н.Толстого "Смерть Ивана Ильича" (Толстой Л.Н., 1982. Т. 12). Вот как описывает Л.Н.Толстой начало болезни своего героя: "... Неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было ... приятность легкой и приличной жизни..." (С.76). Боль "в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение" (С.79). "... Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем". И далее: "И он один знал про это... Иван Ильич остается один с сознанием того, что жизнь отравлена для него... И жить так на краю погибели надо было одному, без единого человека, который бы понял и пожалел его" (С.81-82). Замечая изменения собственной жизни, ее перелом, вызванный болезнью, человек обнаруживает активное желание понять, что значит это событие для всей последующей жизни и какие усилия необходимо употребить, чтобы, по возможности, сохранить относительно удовлетворяющее его качество жизни. Так, герой произведения В.Солоухина "Приговор" отмечает: "Работа всегда спасала меня... Главное, чтобы отыскалась в тебе зацепка за жизнь, чтобы чего-нибудь тебе хотелось. Главное, чтобы было в тебе живое местечко, через которое ты бы ощутил себя живым человеком". Дальнейшая жизнь и дальнейшая деятельность героя в том отрезке времени, который представлен читателю, служит прямым подтверждением этой веры. И вот уже выхлопотаны у врачей три лишних дня, и написано стихотворение, которого так не хватало. День госпитализации своего героя В.Солоухин описывает в следующих словах: “...а также пронес с собой (что гораздо важнее) черный чемоданчик под названием "дипломатический", наполненный чистой бумагой, подстрочниками Абуталиба и книгами”. Вспоминая себя в дни перед госпитализацией, З.Быстшицкая пишет: 'Что же мне тогда останется от жизни? Наверное, ухвачусь за работу, она будет меня поддерживать, как спасательный круг, ведь она определяет весь мой образ жизни. А уже тогда, наверное, разрастется во мне без остатка, станет единственной радостью и заботой...". Этот ряд примеров можно было бы продолжить, можно было бы представить и более разнообразную картину открывающихся наблюдателю феноменов. Однако мы прервем описания подобного рода "случаев" из жизни и врачебной практики и попытаемся подвести некоторые итоги. Прежде всего отметим, что тесная связь телесных и психических явлений, как явствует из приведенных здесь примеров, может выражаться как в негативном, так и в позитивном влиянии одной "сферы" на другую. Эта связь обнаруживает себя наиболее отчетливо в ситуациях повышенной субъективной значимости, в состояниях чрезмерной эмоциональной "заря-женности" субъекта. Независимо от знака эмоции, такая связь либо фиксирует, упрочиваот субъективный опыт, создавая возможности оптимальной ориентации в будущем; либо смягчает, нивелирует, снижает субъективную травматичность переживаемых ситуаций, позволяя человеку адаптироваться к ним и даже успешно преодолевать их. Возникающие при этом отклонения становятся почвой для образования патологических симптомов. Кратко остановимся в этой связи на вопросе о классифи-кации психосоматических феноменов. С этой целью прежде всего выделим среди них нормальные и патологические. Первые есть выраженные в поведении и деятельности человека признаки взаимосвязи телесного и психического, возникающие в эмо-циогенных ситуациях и характерные для состояний аффекта и эмоционального стресса. Обширная психологическая и медицинская литература содержит богатые описания этих феноменов. Вторые — патологические — составляют сферу исследований психосоматического направления в медицине. Они могут быть классифицированы, в свою очередь, на основании преимущественной выраженности в них психического или соматического компонентов. В этом отношении мы целиком и полностью разделяем принцип классификации, предложенный Энджелом (Engel, 1978). Следуя этой классификации, мы выделяем: а) психогенные конверсионные расстройства; б) психовегетативные нарушения в структуре неврозов и маскированных депрессий; в) заболевания психосоматической специфичности (Allexander, 1950), а также г) вторичные психогенные симптомы у больных с хроническими соматическими заболеваниями. Объектом нашего внимания и станет обширная группа больных, страдающих хроническими соматическими заболеваниями различных органов. 1.2. Феноменология личности больных хроническими соматическими заболеваниями в клинических исследованиях Прежде чем приступить к рассмотрению клинического подхода к изучению личности больных-хроников, сделаем сразу же несколько необходимых, как станет ясно из дальнейшего контекста, замечаний. Первое сводится к тому, что нереально в рамках одной работы ставить перед собою задачу составления сколько-нибудь полного обзора литературы, освещающей клиническую феноменологию личности при хронических соматических заболеваниях. Невозможность подобного обзора связана прежде всего с огромным массивом данных, накопившихся в литературе за многие десятилетия исследований проблемы. Задача осложняется еще и тем, что медицинская наука и практика имеют дело с большим количеством болезненных форм (нозологии), каждая из которых представлена в литературе огромным массивом информации. Второе замечание заключается в том, что при всем многообразии литературного материала главенствующее место в описаниях личности больных-хроников представлено работами клиницистов-психиатров, которые при решении задач клинико-психиатрического характера чаще других специалистов-медиков сталкивались с необходимостью квалификации личностных феноменов у соматически больных. Главная цель этой части работы заключается в том, чтобы понять, какой круг феноменов наиболее часто оказывается в поле зрения клиницистов, что валено для определения предмета собственного исследования. Важно также уяснить, как (и на основании каких показателей) дается квалификация этих феноменов и какова их наиболее принятая в литературе систематизация. Соматопсихическое направление было заложено в нашей стране трудами С.С.Корсакова, П.Б.Ганнушкина, В.А.Гиляровского, Е.К.Краснушкина. В отечественной литературе в последние десятилетия появилось множество работ, посвященных исследованию психики больных, страдающих самыми различными соматическими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, легочными, почечными и другими ( Акжигитов, Виноградов, 1974; Бангевиц, 1973; Березин, Богословский, Михайлов, 1978; Березин, Ротенберг, 1978; Виноградов, 1978; Ганелина, Деряги-на, Краевский, 1978; Герасименко с соавт., 1974, 1975; Зайцев, 1973; Зайцев с соавт., 1978; Карвасарский, 1980; Ковалев, 1974; Рожнов, 1969; Судаков, 1976; Цивилько, 1977; и многие другие). Что же на сегодняшний день известно в самых общих чертах о влиянии соматических болезней на психическую сферу человека? Является достаточно установленным, что имеются два пути патогенного влияния соматической болезни на психику: соматогенный (посредством интоксикационных воздействий на ЦНС) и психогенный (острая реакция личности на заболевание и его последствия). Соматогенное влияние определяется воздействием органических вредностей (интоксикация, гипоксия и др) на психику больного. Психогенное влияние болезни на личность выражается в психологической реакции на заболевание и его последствия, изменении личности в ходе болезни. Эта сторона проблемы будет предметом дальнейшего обзора. Однако, прежде чем переходить к рассмотрению этого вопроса, следует дать хотя бы краткую характеристику того, что вкладывается в понятие "личность" в клиникопсихиатричес-ких исследованиях. Как правило в современной психиатрической литературе (как, впрочем, и в психологической) отсутствует определение понятия "личность". Подавляющее большинство авторов используют этот термин, вкладывая в него самое разное содержание, рассматривая при этом личность как некую совокупность индивидуально-типологических особенностей человека: стиля его поведения, эмоциональности, волевых характеристик. Например, в "Терминологическом словаре психиатра" (В.С.Гуськов, 1965) мы находим такое определение: "Личность — широкое синтетическое понятие, включающее все многообразие индивидуальных особенностей данного человека, зависящее от сочетания психических и соматических качеств. Личность формируется и развивается под влиянием социальной среды и является ее продуктом" (С.93). Одна из последних фундаментальных монографий, изданных относительно недавно (1983) под редакцией А.В. Снежневского, не содержит сколько-нибудь развернутого описания того, что следует понимать под термином "личность", которым оперируют авторы. В ней отмечается лишь, что "индивидуальные проявления и развитие патологического процесса в значительной степени зависят от свойств личности, в частности, ее стенического или астенического склада (строя жизнедеятельности)" (С.86). Далее авторы ссылаются на типологию Е.Кречмера, отмечая, что она "облегчает первичную ориентировку в индивидуальных, генетически обусловленных особенностях личности обследуемых" (С.88). Сложившаяся традиция клинических описаний личностных особенностей пациентов приводит к тому, что вся совокупность психологических особенностей больных начинает рассматриваться как неопределенно "личностная"1. Решение вопроса о роли личности в патологии, по мнению Л.Л.Рохлина (1970), подразумевает выяснение ряда важных обстоятельств: Что привносят те или иные особенности личности в психическую патологию, как влияет характер преморбидной личности больного на клинические проявления заболевания, его течение и исход, каковы возможности компенсации образовавшегося дефекта, в какой мере те или иные особенности личности могут определять прогноз течения заболевания. Что привносит та или иная патология в личность, как она реагирует на болезни. Задача изучения субъективной стороны заболевания была поставлена еще в прошлом веке в работах М.Я.Мудрова (1949): "Чтобы правильно лечить больного, надобно узнать, вопервых, самого больного во всех его отношениях, потом надобно старать ся узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, откроет внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой" (С.64). Начиная с работ М.Я.Мудрова, Г А.Захарьина, П.Б. Ганнушкина наметился целостный подход в исследовании больного, предполагающий тщательное изучение и правильное понимание роли личности при возникновении того или иного заболевания, что позволяет добиться большей эффективности как в изучении этиологии и патогенеза заболеваний, так и в организации лечения и профилактики болезней. 1 Наиболее четкую и последовательную картину мы находим в работах Ленинградского психоневрологического института им.Бехтерева, опирающихся на теоретическую концепцию личности В.Н.Мясище-ва(1935, 1960). Указывая на необходимость целостного подхода к больному, Ф.В.Бассин отмечает, что болезнь как процесс зависит не только от внешних, но и от внутренних, субъективных моментов, от личности больного, от его эмоциональных переживаний (1971). По мнению автора, до настоящего времени недостаточно выяснен "вес" психологического фактора, его функциональная мощь, объем сдвигов, которые он может обусловливать как в отношении прямого, так и обратного развития болезней. Для нас представляет интерес предположение Ф.В.Бассина о том, что удельный "вес" психологического фактора, возможно, особенно велик в фазе начала болезни и убывает по мере углубления заболевания. На уменьшение значения реакции личности больного по мере развития заболевания указывают также Я.П.Фрум-кин и И.А.Мизрухин (1970). О важности изучения субъективной стороны заболевания писал в 1944 г. Р.А.Лурия, продолжая развитие идей Гольд-шейдера (1926) об "аутопластической картине заболевания". Р.А.Лурия указывал, что хорошее знание жалоб, переживаний и изменений характера больного так же важно для постановки диагноза, как и результаты объективного исследования его болезни. Он отмечал также, что успехи медицинской техники не исключают и не заменяют исследования личности больного. Подробное и методическое изучение жалоб больного, по мнению Р.А.Лурия, отнюдь не является эмпирическим методом, а все больше и больше получает строго научное обоснование, ничуть не меньшее, чем методы ее объективного изучения (Р.А.Лурия, 1977). Изучение субъективной картины болезни все более явно становится центральным звеном в анализе личностной проблематики больного. Субъективная (внутренняя) картина болезни (ВКБ) начинает выступать для исследователей в качестве увеличительного стекла, позволяющего заглянуть во внутренний мир больного. Обратимся к литературе и рассмотрим круг основных вопросов, который обсуждается в ней в связи с проблемой ВКБ. Поскольку в последние годы появился целый ряд работ, освещающих медикопсихологические аспекты ВКБ (Конечный, Боухал, 1982; Квасенко, Зубарев, 1980; Карвасарский, 1980; Смирнов, Резникова, 1983; Lipowski, 1983; Ташлыков, 1984; Арина, Тхостов, 1991; Тхостов, 1991; и другие), мы остановимся лишь на тех вопросах, которые важны в контексте данной работы. Сразу же отметим, что традиционное разделение аспектов исследования на сомато- и психогенное влияние болезни представляется достаточно условным, так как очевидно, что воздействие соматических вредностей, болезни на психическую сферу в значительной степени зависит от преморбидных черт личности, стиля поведения, сложившегося до болезни. Психологические факторы риска, приведшие к развитию заболевания, "не исчезают" после начала болезненного процесса, а продолжают "работать" в новых условиях. Личностная реакция на заболевание, приспособление к болезни за счет сложившихся в течение жизни способов преодоления вплотную подводят исследователя к проблемам психологической реабилитации в соматической клинике. Для изучения субъективной стороны заболевания был введен целый ряд терминов, среди которых "переживание болезни" (Шевалев, 1936; Ковалев, 1974), "сознание болезни", "отношение к болезни" (Рохлин, 1972), "соматонозогнозия" (Квасенко, Зубарев, 1980) и другие. Анализ понятийного аппарата был проведен нами ранее (Николаева, 1987). Было показано, что каждое из этих понятий выделяет одну какую-то сторону такого сложного явления, как субъективная реакция на болезнь. Наиболее полно отражающим реальность, как мы полагаем, является понятие "внутренняя картина болезни" (ВКБ). Под ВКБ Р.А. Лурия понимал "все то, что испытывает, переживает больной", всю массу "его ощущений... общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, ее причинах... — весь тот огромный мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм" (Р.А.Лурия, 1977. С.38). В рамках клинического подхода анализ ВКБ проводится в терминах психопатологии. При этом наличие или отсутствие и степень выраженности отдельных психических нарушений является основным критерием квалификации ВКБ. Наиболее часто обсуждаются такие вопросы как: типология реакций на болезнь, факторы, влияющие на формирование этих реакций, их динамика в процессе лечения. Возьмем в качестве примера классификацию личностных реакций на инфаркт миокарда, предложенную Зайцевым В.П. Автор выделяет: адекватный (пониженный, с элементами ано-зогнозии; средний; повышенный, с элементами ипохондрии); тревожнодепрессивный; кардиофобический; ипохондрический; анозогнозический; истерический типы реакций. Клинико-дискриминативными критериями отнесения реакции к адекватной явились следующие признаки: а) поведение больного и ВКБ соответствуют имеющейся у больного информации о тяжести инфаркта миокарда, его возможных последствий; б) больной соблюдает режим, требования врача; в) больной в состоянии контролировать свои эмоции. Зайцев В.П. отмечает частоту названных реакций на болезнь в подостром периоде инфаркта миокарда. Спустя 6 месяцев — 1 год автор определяет психическое состояние больных как нормальную психическую реадаптацию, которая может быть успешной или удовлетворительной (продолжающейся), и психическую дезадаптацию (неврозы, патологическое развитие личности) (Зайцев В.П., 1975). Предлагается оценивать выраженность психопатологических синдромов на разных этапах инфаркта миокарда в баллах, количественно измерять эмоциональные состояния больных (Афанасьев П.В., Батаев Б.П., Борисов Н.В., 1986; Philip A., 1987). Что касается адекватных реакций на болезнь в клинике инфаркта миокарда, то есть мнение, что их типология шире. Предполагается, что методически правильнее говорить вообще не о патологических и адекватных реакциях на болезнь, а о патологических (с психопатологической симптоматикой) и непатологических (в рамках психического здоровья). Выделяются три варианта реакций на болезнь в рамках психического здоровья, которые различаются по степени адаптации больных, дезактуализации психотравмирующей ситуации. При этом больные, демонстрирующие "адекватную" реакцию, также нуждаются в психотерапевтической помощи (Морозов В.И., 1983). Очень важной представляется мысль, высказанная в работе Цивилько М.А. и соавт. (1981): само отнесение ВКБ к адекватной является дискуссионным, поскольку правильное понимание сущности и перспектив заболевания (особенно в активном периоде жизни, в случае неожиданности факта заболевания — речь идет о больных хронической почечной недостаточностью) часто приводит к стрессу. Само содержание ВКБ может стать источником психогенных расстройств (Цивилько М.А., Коркина М.В., Цивилько B.C. и другие, 1981). Неоднозначно определение реакции на болезнь как анозогнозии, поскольку причины такой реакции могут быть различными. Анозогнозия в клинике соматических заболеваний может быть связана с тяжестью состояния, гипоксией мозга; представляет собой форму вытеснения непереносимой информации; скрывает определенную жизненную философию, согласно которой больной боится не столько смерти, сколько инвалидизации, лишения всего того, ради чего стоит жить; за фасадом анозогнозии с неадекватным поведением могут стоять ипохондрические расстройства (Барлас Т. В., Шатенштейн А.А., 1987; Ковалев В.В., 1974; Тополянский В. Д., Струковская М.В., 1986). Большое число работ посвящено исследованию динамики психических реакций на болезнь по мере течения заболевания, В онкологической клинике фаза потрясения, депрессии после сообщения пациенту диагноза сменяется анозогнозической реакцией, которую авторы условно объясняют искажением ВКБ. Возникают чувства вины, собственной неполноценности, обреченности. Затем постепенно происходит адаптация к новой жизни (Герасименко В.Н., Марилов В.В., Артюшенко Ю.В., Марилова Т.Ю., 1978). Цивилько М.А. с соавт., характеризуя ВКБ больных хронической почечной недостаточностью в поздних стадиях болезни с использованием гемодиализа, выделяет "бедную" ВКБ с недооценкой тяжести состояния, где большой вес имеют личностные черты, возраст, ситуация лечения; адекватную ВКБ; ВКБ с переоценкой тяжести. В этой работе показана динамика ВКБ: "бедная" ВКБ отмечалась в период осознания состояния болезни и при неблагоприятной динамике заболевания, при улучшении состояния этот тип ВКБ сменялся адекватной ВКБ или ВКБ с переоценкой тяжести состояния (Цивилько М.А., Коркина М.В., Цивилько B.C. и другие, 1981). Изучена динамика психопатологических синдромов у больных циррозом печени до и после проведения гемосорбции (Коркина М.В., Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н. и другие, 1981). В зарубежной литературе мы также находим многообразие терминов, в которых описывается субъективная сторона болезни. Так, используя в качестве основного понятие "аутопластическая картина болезни", Р.Конечный и М.Боухал (1982) предлагают следующую классификацию ее типов: а) нормальная (соответствует объективному состоянию больного); б) пренебрежительная (недооценка тяжести болезни); в) отрицающая (игнорирование факта болезни); г) нозофобная (имеет место понимание того, что опасения преувеличены, но преодолеть своих опасений больной не может); д) ипохондрическая (погружение, уход в болезнь); е) нозофильная (больной получает удовлетворение от того, что болезнь освобождает его от обязанностей); ж) утилитарная (получение известной выгоды от болезни — материальной или моральной). Эти же авторы (1982) отмечают, что внутренняя картина болезни зависит от влияния ряда факторов: а) характера болезни (острая или хроническая болезнь, наличие или отсутствие болей, косметических дефектов и т. д.); б) обстоятельств, в которых протекает болезнь (появление новых проблем в семье, в профессиональной деятельности, в ближайшем социальном окружении и т.д.); в) преморбидной личности (здесь, в частности, ставится вопрос о влиянии возраста больного); г) социального положения больного. Barker R. с соавт. (1946) исследовали группу женщин с физическими недостатками и предложили одну из классификаций отношения больных к заболеванию. Они выделили пять типов подобного отношения. а) Избегание дискомфорта, сопровождаемое часто уходом себя, аутизацией, которые обычно характерны для пациентов нешироким кругом интересов, невысоким интеллектом, а также возникают при длительном течении заболевания и у лиц пожилого возраста. б) Замещение, при котором больной самостоятельно находит новые средства достижения жизненных целей, заменяющие утраченные в условиях болезни возможности. Этот тип отношения авторы связывают с наличием высокого уровня интеллекта. в) Игнорирующее поведение, для которого характерно стремление больного подавить, вытеснить признание дефекта, ограниченность возможностей в связи с болезнью. Этот тип поведения, по мнению авторов, чаще возникает у лиц со средним интеллектом, но высоким образовательным уровнем. г) Компенсаторное поведение; при этом авторами выделяются четыре его разновидности: 1) циклическое приспособление, для которого характерны периоды "подъема и спада"; 2) фаталистическое отношение, главным образом, к будущему; 3) параноидное приспособление, с тенденцией агрессивного переноса неадекватных переживаний на окружающих; 4) выраженные агрессивные реакции. д) Невротические реакции. Оптимальной формой приспособления авторы считают игнорирование дефекта. Подобная оценка, особенно в сочетании с попыткой экстраполировать выводы на широкий контингент больных, на наш взгляд, дискуссионна; Vondracek V. (1969) выделяет следующие типы отношений к болезни: нормальное (или адекватное), пренебрежительное, отрицающее, нозофобное, ипохондрическое, нозофильное, утилитарное. Некоторые авторы отмечают, что нет однозначной зависимости между характером телесных страданий (физических недостатков) и типом личностной реакции на заболевание, что в гораздо большей степени последний зависит от длительности заболевания, его тяжести и интеллектуальных возможностей человека. Так, Hulek A. (1969) предлагает учитывать следующие факторы в качестве важнейших при возникновении реакции на заболевание: а) продолжительность заболевания; б) тяжесть нарушений и диапазон вызванных болезнью ограничений; в) вид инвалидности; г) возраст перехода на инвалидность; д) уровень интеллектуального развития; е) особенности преморбидной личности. Birne D. (1982) полагает, что реакция на болезнь зависит от характера и прогноза заболевания. Выделяет восемь типов: а) фиксация на болезни; б) психосоциальные переживания; в) аффективный срыв; г) аффективное торможение; д) осмысление болезни; е) субъективное напряжение; ж) уход в болезнь; з) вера во врача. Один из интересных подходов к изучению субъективной стороны заболевания содержится в работах Lipowski Z. (1983). Он предлагает свою типологию "психосоциальных реакций на болезнь", выделяя в них три компонента: 1. Реакции на информацию о заболевании ("значение болезни"). Разное "значение болезни" может быть источником следующих реакций: а) болезнь-угроза или вызов, а тип реакций — противодействие; тревога; уход; борьба; б) болезнь-утрата, соответствующие типы реакций: депрессия или ипохондрия; растерянность; горе; попытка при влечь к себе внимание; нарушение режима; в) болезнь-выигрыш или избавление, а типы реакций при этом: безразличие; жизнерадостность; нарушение режима; враждебность по отношению к врачу; г) болезнь наказание, при этом возникают реакции типа угнетенности, стыда, гнева. Эмоциональные реакции на болезнь. Среди них наиболее распространенными являются тревога, горе, депрессия, стыд, чувство вины. Реакции преодоления болезни дифференцируются по преобладанию в них когнитивного или поведенческого компонента. Когнитивный стиль преодоления характеризуется: а) преуменьшением личностной значимости болезни, либо б) пристальным вниманием ко всем ее проявлениям. Поведенческий стиль также имеет несколько разновидностей: а) борьба или активное сопротивление; б) капитуляция перед болезнью; в) попытка "ухода". В ряде работ специально прослеживается связь между реакциями на болезнь и эффективностью восстановления, "вы-хода из болезни. Речь идет о поведении больного (Illness Behavior), которое определяется представлением о заболевании, оценкой его прогноза, демографическими характеристиками, общей медицинской культурой (Leigh H., Reiser M., 1985). Выделено 8 факторов Illness Behavior, среди которых: сомати-ческое состояние, аффективная реакция на болезнь, принятие роли больного, вера в доктора и др. Подчеркивается, что важно строить профили для каждого больного, выявляя "вес" каждого фактора. Неверно считать все аспекты Jllness Behavior негативными некоторые из них будут носить адаптивный характер (Byrne D., 1987). Особое направление работ посвящено описанию феноменологии эмоциональных реакций на болезнь, смены различных реакций по мере течения заболевания. Например, в клинике инфаркта миокарда выраженные эмоциональные расстройства отмечаются в 2/3 случаев, причем большая часть больных внешне могут казаться беспроблемными. Без соответствующего вмешательства нарушения закрепляются и сохраняются в течение года у 25% выживших (Cay E., 1982). По другим данным, психические нарушения констатировались в 28% случаев (Florkiewiez M., 1984). У 50% больных наблюдалась интенсификация невротических черт (Nasilowska-Barud A., Markiewiez, 1984). Возникновение эмоциональных реакций связывается со страхом смерти, потерей самоидентичности, чувства "Я". Самыми распространенными и выраженными симптомами у больных инфарктом миокарда являются тревога и депрессия (Шхвацабая И.К., Аронов Д.М., Зайцев В.П., 1978; Balestvoni Y., Lopriore V., Lotti A. et al., 1987; Levenson J., Hamer R., Silverman J. et ol 1986/87), причем тревожные реакции преобладают в период госпитализации, а депрессивные — после возвращения домой, что обусловлено страхом повторного приступа, психологической неподготовленностью к быстрой утомляемости, необходимостью соблюдения режима, отсутствием постоянного медицинского наблюдения (Hackett Т., Cassem N., 1978; Grewisse M., 1982). Депрессивные реакции, отмечавшиеся на этапе лечения в клинике, сохранялись через год у 70% больных (Stern M., Pascale L., Loone J., 1976). К наиболее тяжелым психическим осложнениям, например, при инфаркте миокарда, относятся психозы (Шхвацабая И.К., Аронов Д.М., Зайцев В.П., 1978); у 10% больных наблюдался делирий, причиной которого считают сенсорную депривацию в отделении реанимации, метаболические изменения в организме, действия лекарств (Steinhart M., 1984). После перевода в общую палату из отделения интенсивной терапии может наблюдаться эйфория (Зайцев В.П., 1975 Cay E., 1982), у тяжелых больных описаны агрессивные реакции, которые интерпретируются в рамках психоаналитической теории: пациент относится к доктору как к отцу, который не может избавить его от страданий (Cramond W., 1970). Изучение динамики психических нарушений показало, что у 1/3 происходит спонтанная редукция психического напряжения после перевода в общую палату, статистически достоверное снижение уровня тревоги, стабилизируется настроение перед выпиской по сравнению с периодом начала лечения (Moszynska В., 1987; Schubert О., Schaller К., 1985). Однако важно не просто констатировать динамику выраженности той или иной эмоциональной реакции на болезнь, но пытаться выяснить причины этой динамики. Достоинством исследования Tompson D. (и другие, 1987) является выделение сфер жизни, где тревога максимальна (через 24 часа после острого приступа инфаркта миокарда и через шесть недель после начала заболевания) — "возвращение к работе", "проведение досуга" и "продолжение прежних социальных контактов". Это дает возможность прицельно проводить психологическую peaбилитацию, давать больным информацию соответствующего характера, предупреждать возникающие проблемы (Tompson L., Webster R., Cordle C. et al., 1987). В другой работе оценивались факторы "качества жизни", вызывающие неприятные переживания у больных инфарктом миокарда. Ими оказались: необходимость избегать эмоционального напряжения, ограничить физические усилия, выполнять врачебные рекомендации (Гладков А.Г., Зайцев В.П., Аронов Д.М., Шарфнадель М.Г., 1982). К факторам, влияющим на формирование личностной реакции на болезнь, относят: преморбидные особенности личности, пол, возраст, характер заболевания, ситуацию лечения (Конечный Р., Боухал М., 1983; Пиленский Ю.Ф.. Ишутина Н.П., Костылев А.А. и другие, 1980). В зависимости от личностных черт больного наблюдаются различные реакции на заболевание. Так, дисгармоничные личности, особенно в молодом возрасте (до 41 года), чаще обнаруживают психопатологические реакции на болезнь (Урсова Л.Г., 1973). Депрессивные, ипохондрические, фобические типы переживаний болезни отмечаются у тревожно-мнительных личностей, дистимические — у лиц с признаками психического инфантилизма, эйфорически-анозогнозические — часто определяются интеллектуальной недостаточностью (Ковалев В.В., 1972). Больные инфарктом миокарда, которым свойственны работоспособность, развитые волевые качества, характеризуются адекватным отношением к болезни, в отличие от больных с повышенной впечатлительностью, невротической переработкой информации, которые "уходят в болезнь" (Ганелина И.Е., Краевский Я.М., 1971). Зайцев В.П. также считает, что сильные в эмоционально-волевом отношении люди дают адекватную или невротическую реакцию на болезнь, которая преодолевается без специального лечения. С возрастанием психопатологических преморбидных черт снижается вероятность того, что психическое состояние спонтанно нормализуется (Зайцев В.П., 1971). Ряд исследований посвящены изучению такой личностной характеристики, связанной с характером причинного объяснения заболевания (Бажин Е.Ф. и другие, 1985), как локус контроля Показано, что внутренний локус контроля коррелирует с низким уровнем депрессии, положительно влияет на психологическое и клиническое восстановление (Feifel H., Straek S., TongNagy V., 1987; Maeland J., Havic О., 1987). В другой работе подчеркивается, что установленные закономерности неоднозначны В целях реабилитации более важно изменять локус контроля в ходе психотерапевтических мероприятий (Creary M., Turner J., 1984). Особенности личности влияют на отношение к лечебным процедурам. В группе больных гипертонической болезнью, согласившихся на длительную терапию, в меньшей степени была выражена демонстративность, реже встречались акцентуации характера, неудовлетворенность в сфере значимых отношений, чаще отмечался гармонический тип отношения к болезни. В группе отказавшихся от лечения имело место психопатоподобное поведение, сочетание противоположных качеств — честолюбия, решительности и эмоциональной неустойчивости, неверия в эффективность лечения (Волков B.C., Цикулин А.Е., 1989). Большая потребность в психотерапевтической помощи отмечается у больных женского пола (в клинике сердечно-сосудистых заболеваний), что определяется большей выраженностью у них психических изменений (Гоштаутас А.А., Шлежайте Ю.М., 1976; Зайцев В.П., Трусова Г.С., 1987; Thorson J., Powell F., 1988). В исследовании Бурно М.А. и Зикеевой Л.Д. предпринята попытка показать, что душевно здоровые люди различного склада по-разному переживают свою болезнь. В зависимости от склада личности и отношения к болезни авторы предлагают тактики психотерапевтического вмешательства (Бурно М.А., Зикеева Л.Д., 1974). Что касается вопроса о связи тяжести клинического состояния и выраженности болевых приступов и эмоциональных реакций на болезнь, то он остается дискуссионным. Остановимся на результатах исследования этого вопроса в клинике сердечно-сосудистых заболеваний. Сидоренко Г.И. с соавт. приходят к выводу о сглаживании патологических отклонений личности у больных с осложненными формами ИБС (ИБС + артериальная гипертония) (Сидоренко Г.И., Борисова Г.С, Агеенкова Е.К., 1982). По мнению польских авторов, достоверно чаще невроти-ческие расстройства наблюдались в клинике неосложненного инфаркта миокарда (Nasilowska Barud A., Sokoluk J., Markiewisz M., 1985). Противоположные результаты получены в других исследованиях, где выявлена связь между выраженностью психических нарушений и тяжестью соматогенных расстройств при инфаркте миокарда (Белякова Н.А., Слезкина Л.А., 1984; Вассерман Л.И., Карпова Э.Б., Кулешова Э.Ф., 1988; Виноградов В.Ф., 1984; Кантрова Р.А., Матвеева Н.И., 1984; Урсова Л.Г. 1973; Hackeh Т., Cassem N., 1978; Schubert О., Schaller К., 1985). Обилие и противоречивость полученных результатов говорят о неперспективности "факторного" характера исследований. С нашей точки зрения, наиболее плодотворной является идея о том, что в большей степени на возникновение психических нарушений или формирование адаптивного поведения влияют личностные особенности, субъективные знания и ощущения, имеющийся у больного эталон здоровья, а не объективная тяжесть состояния (Ланцберг М.Б., Гайдаш О.Г., 1981; Фельдман Н.Б., Фельдман Э.И., Минабутдинов A.M., 1987; Byrne D., White H., Butler К., 1981; Maeland D., White H., 1987; Trelawny Ross C, Russel O., 1987). В литературе есть работы, авторы которых пытаются установить связь между типом заболевания и типом отношения к болезни. Отмечается наибольшая частота тревожных и обсессив-ных типов отношения к болезни у больных злокачественными опухолями, неврастенических, эгоцентрических, паранойяльных — в клинике бронхиальной астмы, эйфорических и эргопа-тических — у больных, перенесших инфаркт миокарда (Личко А.Е., Иванов Н.Я., 1980). Выраженность косметического дефекта при некоторых кожных заболеваниях, например, псориазе, обуславливает возникновение вторичных симптомов ВКБ — аутизации, эмоциональной неустойчивости (Николаева В.В., Рыбина Г.Ф., Елецкий В.Ю., 1984). Губачев Ю.М. с соавт. считают, что существует зависимость уровня личностной и ситуационной тревожности от нозологии. Так, больные ИБС характеризуются большей тревожностью, чем больные язвенной болезнью, что объясняется различной целевой ориентацией больных ИБС (стремление к успеху), в отличие от стремления больных язвенной болезнью оградить себя от неуспеха, и большей неопределенностью прогноза при ИБС (Губачев Ю.М., Симаненков В. И., Ананьев В.А., 1985). Есть мнение, что особенности поведенческих реакций при инфаркте миокарда могут даже служить средством дифференциальной диагностики со стенокардией на догоспитальном этапе. Гулый В.К., 1981 и соавт. провели сравнительное исследование реакций на болезнь в случае витальной угрозы и у больных хроническими заболеваниями, не угрожающими жизни (артрит, дерматит). Показано, что у больных раком и инфарктом миокарда чаще встречались активные реакции на болезнь: поиск информации, попытки сопротивляться болезни, критичное оценивание состояния. Реакции избегания вопросов, связанных здоровьем, отсутствие надежды, смирение чаще отмечалось у больных неопасными для жизни соматическими заболеваниями. Хотя точка зрения авторов о том, что адаптация к болезни в большей степени зависит от характера болезни, чем от личностных особенностей пациента, представляется спорной, важно, что внимание заостряется на характере заболевания — угроза для жизни, внезапность, так как в большинстве исследований психологическая сторона тяжелых заболеваний не учитывается (Feifel H., Sfrack S., TongNagy V., 1987). Анализ клинического направления исследований психических реакций на болезнь, проведенный на материале соматической клиники, позволяет сделать следующие выводы: Проблема исследования субъективной стороны заболевания остается актуальной. Клинические исследования изменений психики больного человека многообразны по задачам и получаемым результатам: в одних работах описываются целостные психопатологические синдромы, в других — речь идет о преобладающих психических расстройствах или степени их выраженности, в-третьих — анализируется более глубокий пласт — собственно ВКБ, личностная реакция на заболевание. Работы, посвященные анализу динамики психических изменений, показывают, что мы имеем дело не с застывшим образованием — реакцией на болезнь, а с процессом адаптации к болезни. Сама типология психических реакций на болезнь (типов ВКБ) недостаточно разработана, вывод об адекватности личностной реакции на болезнь не всегда однозначен; различные психологические основания могут быть у клинически (психиатрически) одинаково квалифицируемых реакций на болезнь. Большое место занимают исследования клиники и патогенеза психических нарушений, патологических реакций на болезнь, в то время как недостаточное внимание уделено анализу непатологических реакций на заболевание, укладывающихся в рамки "нормы". Доказан сложный характер психосоматических отношений, взаимовлияний болезненного процесса и психической деятельности, что проявляется в отсутствии четких корреляций между тяжестью соматического состояния и выраженностью психических расстройств, неисчерпаемости проблемы изучения связи между личностными чертами и реакциями на заболевание, что, на наш взгляд, может быть объяснено трудностью учета в исследовании одновременно всех составляющих психосоматических отношений (тяжесть заболевания, особенности преморбидной личности, выраженность психических нарушений), а также широкой типологией личностных качеств, их комбинаций, возможными изменениями этих качеств в ходе болезни. 7. В качестве основных методов анализа используются: клиническое наблюдение, анализ жалоб, опросники, карты психологического состояния, во многих работах применяется ста-тистико-корреляционный метод обработки полученных данных. Такой подход делает установленные и статистически проведенные закономерности неприменимыми к конкретному больному. Эмпиризм клинических исследований, феноменологический уровень анализа данных, характер применяемых методов позволяют решить главную задачу, стоящую перед клиническим психотерапевтом, психиатром — квалифицировать психическое состояние и "снять" его, привести к уровню "психической нормы". Однако само представление о "психической норме" претерпело изменения. С точки зрения задач психологической реабилитации, достижения ее наибольшего эффекта целесообразно стремиться к достижению не абстрактной, а конкретной, индивидуальной нормы. Такая работа предполагает анализ психологического содержания, стоящего за клинически квалифицируемым типом отношения к болезни, исследование индивидуальных особенностей ВКБ каждого больного, тех механизмов, которые детерминируют наблюдаемые клинические феномены и предопределяют "выход" из болезни. 1.3. Психология развития личности в условиях хронического соматического заболевания 1.3.1. Социальная ситуация развития личности при хронических соматических заболеваниях Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова ее биологическая природа, какой орган или функциональные системы оказываются пораженными ею, ставит человека в психологически особые жизненные условия. Болезнь является событием в жизни, способным изменить ее течение, заставить человека по-новому взглянуть на собственную жизнь, ее смысл, себя самого; она может вызвать чувство утраты, вины, а следовательно, особую остроту переживания ценности и субъективной прелести жизни. Если для врача болезнь выступает прежде всего в качестве страдания тела (отметим сразу же, что даже психиатры, имеющие дело с душевными болезнями, в большей степени заняты поисками мозгового субстрата этих болезней, несмотря на традиционную для европейской медицины установку на то, что следует лечить больного, а не болезни только), то для психолога она, главным образом, выступает в своем человеческом качестве: как событие жизни и как страдание души. В этом отношении самые разные хронические заболевания могут выступать для человека как психологически однотипные, создавая одинаковые жизненные обстоятельства, типичные ситуации Это сходство нашло, как мы уже отмечали, свое отражения в клинической феноменологии личности соматических больных, а также в многочисленных попытках анализа личностно-средовых (Соложенкин В.В., 1989) взаимодействий, биосоцио-психологических соотношений и т.д. Следует при этом обратить внимание на уже отмечавшийся нами факт, что при изучении роли "личности и среды" в возникновении разнообразных психических изменений у больных хроническими заболеваниями, подавляющее большинство исследователей исходит из признания изначальной оторванности, а иногда и противопоставления человека, его психики и среды. (Хотя вместе с тем имеется в виду и то, что человек действует в среде, социальном мире; этот факт трудно не учитывать или отрицать). Утвердившееся в отечественной психологии представление о недостаточности и неэффективности подобного подхода еще не стало общепринятым в клиникопсихологической литературе. В то же время дальнейшее движение исследовательской мысли, направленное на понимание сущности психологических трансформаций личности больного человека, требует более пристального рассмотрения этого вопроса, его обсуждения в традициях отечественного психологического подхода. Остановимся на этом вопросе более подробно. Одним из фундаментальных методологических принципов, которому следует отечественная психология все последние десятилетия своего существования, является принцип анализа психики в ее развитии, становлении. Не случайно поэтому такое большое внимание исследователи традиционно уделяют проблемам онтогенеза психики и ее патологии. Именно изучение процесса формирования психики и ее распада при различных заболеваниях позволяет обратиться не только к констатации наличного уровня психического развития субъекта, но и проследить закономерности становления психологических новообразований, постепенного усложнения и обогащения психики человека на различных этапах онтогенеза или, наоборот, в случае патологии рассмотреть механизмы и закономерности распада психики. Последний, как следует из многочисленных работ в области патопсихологии, не есть негатив развития, а представляет собой качественно особый процесс (Выготский Л.С., 1983; Зейгарник Б.В., 1962, 1969, 1986; Лебединский В.В., 1985, 1990; и многие другие). Требование к изучению того или иного психологического феномена в его развитии в полной мере относится и к исследованию личности, в том числе, в условиях хронической болезни. На важность подобного подхода Указывали многие исследователи-психологи (Выготский Л.С, 1983; Рубинштейн С.Л., 1976; Леонтьев А.Н., 1975; Зейгарник Б.В., 1969; Анцыферова Л.И., 1981; Абульханова-Славская К.А., 1981; Асмолов А.Г., 1990; Братусь Б.С, 1988; и многие другие). В частности, Д.Б. Эльконин, обсуждая проблемы диагностики, отмечает, что ее необходимо разрабатывать с точки зрения не структуры личности, а ее развития...1 Ведь какова бы ни была "идеальная схема структуры личности, главное — имеются ли возможности развития личности и как оно идет" (Эльконин Д.Б., 1989. С.503). Не ставя перед собою неразрешимой в рамках данной работы задачи развернутого теоретического анализа проблем психологии личности, мы не можем вместе с тем не остановиться на вопросе, к которому мы обращаемся, о том, что стоит за понятием "личность". Используя это понятие, мы вкладываем в него то содержание, которое утвердилось в работах школы Выготского — Леонтьева. Согласно представлениям А.Н.Леонтьева, личность — относительно поздний продукт онтогенетического развития, так как для того, чтобы стать личностью, необходимо установление достаточно широких связей с миром, выработка собственного отношения к миру в целом, отдельным его элементам. Основу личности составляет иерархизированная система делтельностей и стоящих за ними мотивов. Поскольку соотнесение мотивов друг с другом возникает лишь на определенной ступени развития человеческого индивида, то и личностью человек становится относительно поздно. А.Н.Леонтьев выделяет три основных параметра анализа личности: 1) широта связей человека с миром; 2) степень иерархизированности мотивов; 3) общая конфигурация (структура) мотивационной сферы (или общая структура личности). Согласно А.Н.Леонтьеву, факторы физического порядка в характеристику личности не входят, а являются лишь условиями, предпосылками формирования и изменения личности. А.Н.Леонтьев отмечает, что "в исследовании личности нельзя ограничиться выяснением предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и форм и тех связей, в которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет значение самих этих предпосылок" (Леонтьев А.Н., 1975. С.186). Данное представление о личности было взято нами в качестве рабочего при рассмотрении особенностей личности в условиях хронического соматического заболевания. Представления А.Н.Леонтьева о личности содержат указание на центральное звено анализа при обращении к проб леме в прикладном исследовании — это мотивационная сфера личности. Это же звено выделяется в качестве основного, фактически, в любой концепции личности, что прекрасно показано в ряде аналитических работ последнего времени (Асмолов А.Г., 1990; Братусь Б.С, 1987; Вилюнас В.К., 1989; и другие). Кроме того, деятельностный подход к анализу личностных феноменов уже показал свою эвристичность в многочисленных работах школы Б.В.Зейгарник, направленных на анализ различных форм личностных аномалий (Зейгарник Б. В., 1969, 1980, 1986). Одним из центральных, сложных по генезу и структуре личностных феноменов является внутренняя картина болезни (ВКБ). Являясь продуктом собственной творческой активности субъекта (пациента), ВКБ проходит длительный путь становления, формирования, представляющий собою процесс более или менее развернутой познавательной активности субъекта, направленной на понимание новой жизненной ситуации — ситуации болезни и овладения ею, а также собственным поведением в новых жизненных обстоятельствах. 1 Эта проблема широко освещалась в литературе, только в последние годы опубликовано в отечественной психологии несколько фундаментальных работ на эту тему (Асмолов А.Г.,1990; Братусь Б.С-. 1987). Этот "всплеск" творческой активности субъекта, ориентированной на самопознание, связан прежде всего с тем, что любая болезнь не является нейтральным событием в жизни человека. Сам факт болезни (появления болезненных ощущений, в частности), преломляясь через призму уже сформированных потребностей и мотивов, приобретает различный по своему индивидуальному наполнению личностный смысл. Болезнь как событие жизни благодаря собственной активности пациента оказывается включенной, встроенной в сложную иерархическую систему смысловой сферы личности. До сих пор мы оставляли в стороне вопрос о психологической сущности процесса, в результате которого болезнь как событие человеческой жизни получает те или иные смысловые характеристики, т.е. свой личностный статус. Для того, чтобы подойти к анализу этого процесса, необходимо более подробно остановиться на описании новой жизненной ситуации, возникающей в условиях болезни, и ее роли в судьбе человека как личности. В литературе уже неоднократно отмечалось, что болезнь сужает пространство возможной активности человека, создает дефицитарные условия для развития его личности (Зейгарник Б.В.,1980; Братусь Б.С.,1988; и другие), может даже спровоцировать кризис психического развития человека и вследствие этого возникновение психических новообразований как нормального, так и патологического типа. Последние, в свою очередь, могут видоизменить весь имеющийся жизненный (в том числе и телесный) опыт. Для того, чтобы подойти к обсуждению психологической природы этих процессов, нам необходимо сделать некоторое отступление, обратившись к существующим в психологии представлениям. В отечественной психологии уже давно принято в качестве бесспорного положение о том, что развитие психики не есть стабильное и непрерывное движение, оно представляет собой прерывистый процесс, чреватый кризисами (Выготский Л. С., 1983; Божович Л.И., 1968; Запорожец А.В., 1986; Леонтьев А.Н., 1975; Эльконин Б.Д., 1989; и многие, многие другие). Понятие "кризис развития" использовано Л.С.Выготским еще в 30-х годах нашего столетия (Выготский Л.С, 1983) для понимания переходных периодов в развитии психики ребенка. Согласно Л.С.Выготскому, кризисы развития возникают на "стыке двух возрастов и знаменуют собой завершение предыдущего этапа развития и начало следующего" (Божович Л.И., 1978. С.26). Накапливающиеся на каждом возрастном этапе онтогенеза психологические изменения подготавливают переход на новый этап психического развития, а новообразования каждого предыдущего этапа развития становятся основой для формирования психики на следующем этапе. Л.С.Выготский ввел в этой связи в "психологический обиход" понятие "социальная ситуация развития" в качестве исходного момента анализа при рассмотрении динамики психического развития ребенка. "Социальная ситуация развития", в понимании Л.С.Выготского, не есть просто среда, т.е. то, что находится вне человека в виде совокупности объективных внешних факторов развития, не есть просто обстановка развития, а представляет собой "то особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое является типичным для каждого возрастного этапа" (Божович Л.И, 1988. С. 152) и обусловливает как психическое развитие на этом этапе, так и психологические новобразования, возникающие в этот период. Рассматривая вопрос о роли среды и наследственности в развитии ребенка, Л.С.Выготский отмечает: "Всякое развитие в настоящем базируется на прошлом развитии. Развитие не простая функция, полностью определяемая икс-единицами наследственности плюс игрек-единицами среды. Это исторический комплекс, отображающий на каждой данной ступени заключенное в нем прошлое. Другими словами, искусственный дуализм среды и наследственности уводит нас на ложный путь, он заслоняет от нас тот факт, что развитие есть непрерывный самообусловливаемый процесс, а не марионетка, управляемая дерганьем двух ниток... Раскрыть самодвижение процесса развития — значит понять внутреннюю логику, взаимную обусловленность, связи, взаимосцепление отдельных моментов из единства и борьбы заложенных в процессе развития противоположностей" (1983. Т.5. С.309-310). Л.С. Выготский обращает особое внимание на важность решения вопроса о роли среды в развитии человека: "Одна из величайших помех для теоретического и практического изучения детского развития — неправильное решение проблемы среды и ее роли в динамике возраста, когда среда рассматривается как нечто внешнее по отношению к ребенку, как обстановка развития, как совокупность объективных, безотносительно к ребенку существующих и влияющих на него самим фактом своего существования условий. Нельзя переносить в учение о детском развитии то понимание среды, которое сложилось в биологии применительно к эволюции животных видов" (Выготский Л.С., 1984. Т.4. С.258). И далее: "... К началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной. Это отношение мы и назовем социальной ситуацией развития в данном возрасте. Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из основного источника развития" (там же). Следовательно, изучая динамику и содержание психических изменений, необходимо, прежде всего, раскрыть социальную ситуацию развития. Другой важный вопрос, возникающий в этой связи, — "как из жизни... в этой социальной ситуации необходимо возникают и развиваются новообразования..." (там же), т.е. новые черты личности, структура сознания и т.д. Следующий шаг — психологические последствия, связанные с возникновением психологических новобразований: это новое восприятие окружающего мира, изменение внутренней жизни и активности и т.д. В свою очередь это означает распад прежней социальной ситуации развития и возникновение новой. Такова общая схема динамического развития возраста. Обращение к понятию "социальная ситуация развития" при обсуждении вопросов изменения и развития личности в условиях соматического заболевания ставит перед нами задачу уточнения самого содержания этого понятия, его дифференциации с другими, сходными по значению понятиями. Прежде всего необходимо обратиться к представлению о социально-психологической ситуации или, точнее, социальноисторическом образе жизни. В литературе мы часто находим использование этих понятий как идентичных. В частности, рассматривая проблемы развития личности, А.Г.Асмолов (1990) обращается к понятию социально-исторического образа жизни, который "характеризуется как совокупность типичных для данного общества, социальной группы или индивида видов жизнедеятельности, которые берутся в единстве с условиями жизни данной общности или индивида (Асмолов А.Г., 1990. С. 166). Автор подчеркивает, что социальная ситуация развития "представляет собой именно условие осуществления деятельности и источник развития его личности" (там же), без которого "невозможен сложный процесс строительства личности":, но вместе с тем эти условия рассматриваются "как безличные" предпосылки развития личности (там же). Можно согласиться с автором в том, что социально-психологические условия в подобном их понимании имеют "безличный" характер, но в этом случае они не есть то же самое, что "социальная ситуация развития". Л.С.Выготский, как мы уже отмечали, подчеркивает в качестве главного признака социальной ситуации развития "особое сочетание внутренних и внешних процессов развития", т.е. рассматривает ее как единство, "сплав" особого рода, образующийся в деятельности человека. Последняя и служит источником того, что нейтральные, "безличные" условия (социально исторический образ жизни, социальнопсихологическая ситуация) приобретают эмоциональную окраску, пристрастность, "личностность". Процесс подобного наделения нейтральных элементов ситуации субъективной значимостью уже давно стал привлекать пристальное внимание психологов. К.Левин вводит для описания этого круга феноменов понятие "жизненное пространство", обозначающее реальность особого рода, объединяющую субъекта с его потребностями и намерениями и его психологическое окружение (Lewin К.,1935, 1936; Зейгарник Б.В.,1981). При этом "конкретное поведение человека является реализацией его возможностей в данном жизненном пространстве" (Зейгарник Б.В., 1981, С.47); введением понятия "временная перспектива" К.Левин включает прошлое и будущее человека в структуру текущего плана жизни. Идея К.Левина была использована В.К.Вилюнасом при анализе процессов онтогенетического развития мотивации (Вилюнас В.К., 1990). В частности, вводя понятие "мотивационное поле", автор отмечает, что "жизненное пространство" может быть рассмотрено (в современной интерпретации) как "субъективно переживаемый образ действительности" (с.248), а совокупность взаимодействующих субъективно пристрастных отношений, собственно, и является реальным носителем упомянутого мотивационного поля" (там же). Приведем еще несколько фрагментов из работы В.К.Вилюнаса, имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой теме. Автор отмечает: "Тезис о всеобщей мотивационной значимости отражаемых явлений определяет специфическое представление о реальном (и ситуативном) обнаружении человеческой мотивации. Из него следует, что человек в каждый момент находится под влиянием целой системы актуализированных мотивационных отношений и побуждений, составляющих вследствие взаимодействия своего рода мотивационное поле (курсив мой — В.Н.), которое динамично и гибко определяет как достигаемые им цели, так и численные нюансы способа их достижения..." (Вилюнас В.К., 1990. С. 248). И далее: "В ситуационном развитии мотивации происходит постоянное разворачивание в динамическое субъективное мотивационное поле порождаемых этими система-ми оценок и побуждений; в развитии мотивации субъект находится в постоянном поиске оптимальных решений (если не стратегических, то тактических, в мотивационном поле будущего; его решения формируют мотивационные системы, которые в мотивационном поле настоящего непосредственным побуждепиям противопоставляют особый слой мотивации долженствования Направленность поведения человека в каждый момент определяется балансом устанавливающихся в этой движущейся системе сил" (Вилюнас В.К., 1990. С.257). Можно легко заметить, что в данном подходе утверждается мысль о неразрывном единстве человека и мира (среды, социальной ситуации); единстве, творцом которого выступает сам субъект, наделенный потребностями, мотивами, т.е. "внутренними необходимостями жизни" (Вилюнас В.К., 1984). Он выступает как в качестве активного творца собственного внутреннего мира, так и мира вокруг себя (хотя последний и существует вне и независимо от субъекта). Понятие, близкое по психологической сущности понятию "мотивационное поле" было введено в свое время также Н.А.Бернштейном (1966) при анализе живого движения. Это "моторное поле". Конечно, сложная архитектоника живого движения все же не идет ни в какое сравнение с теми проблемами, запутанными жизненными отношениями, конфликтами и т.д., в условиях которых разворачивается и воплощается в жизнь человеческий — личностный поступок. Тем более впечатляющее значение могут иметь идеи Н.А.Бернштейна, получившие плодотворное развитие в работах отечественных психологов (Гордеева, Зинченко, Девишвили, 1975; Гордеева, Зинченко, 1982; Запорожец А.В., 1986; и многие другие). Движение, как утверждает Н.А.Бернштейн — активный поиск, направленный на решение двигательной задачи; оно осуществляется во внешнем пространстве, но имеет и собственное внутреннее пространство, включающее когнитивные и эмоционально-оценочные компоненты. Вся "совокупность свойств моторики в ее взаимоотношениях с внешним пространством" (цит. по: Запорожец А.В., 1986. С. 147) и составляет моторное поле. Последнее строится посредством поисковых пробующих движений, зондирующих пространство во всех направлениях" (там же). Таким образом, даже относительно более простые формы психической активности предполагают, с одной стороны овладение внешними условиями предметного пространства, собственными возможностями, их соотнесением не только в пространстве, но и во времени. Это последнее обстоятельство — модель будущего или "потребного будущего" по Н.А.Вернштейну — основа решения двигательной задачи. А.В.Запорожец замечает в этой связи: "... В живом движении присутствуют как бытийные характеристики, так и характеристики, которые принято называть собственно психологическими, субъективными. Иными словами, в нем в неразвитой и поэтому трудно расчленимой форме присутствуют значение и смысл" (там же. С. 150). Можно предположить в этой связи, что в такой сложной форме активности, каковой является деятельность личности в социальном пространстве, сочетание подобных бытийных и субъективных характеристик выступает в еще более настоятельной, сложной и многозвенной форме. Обратимся к еще одному понятию, введенному в психологическую литературу Ф.Е.Василюком (1984). Это понятие "жизненный мир". Окружающий человека мир, как справедливо заключает Ф.Е.Василюк, "оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физический мир, т.е. мир, как он предстает перед наукой физикой, изучающей взаимодействие вещей, это — жизненный мир" (Василюк Ф.Е., 1984. С.86). Человек, да и любое живое существо, "изначально вживлено в этот мир, связано с ним материальной пуповиной своей жизнедеятельности" (там же). Выделяя внешний и внутренний аспекты жизненного мира, представляя теоретически сконструированную типологию жизненных миров, исследователь последовательно проводит мысль о единстве и нерасторжимости связи человека с его сложной внутренней организацией (сопряженностью, связанностью отдельных "единиц жизни") и мира, "видимого сквозь призму его жизни и деятельности" (там же. С.92). Утверждается динамизм этого особого образования, его возможная гибкость и подверженность развитию. Последнее осуществляется по инициативе самого субъекта жизни, человека. Наконец, в контексте обсуждаемой темы невозможно не остановиться на активно ведущихся в последние годы исследованиях по психологии образа (Смирнов С.Д., 1985). Ряд положений, убедительно аргументированных в этих исследованиях, привлекают наше внимание. Прежде всего, обращает на себя внимание мысль о том, что "любой образ есть не что иное, как элемент образа мира" (Смирнов С.Д., 1985. С.145); образ мира есть целостность, которая не составляет простую сумму образов отдельных явлений, "а с самого начала развивается и функционирует как некоторое целое" (там же. С. 144). В генетическом плане образ мира имеет социальную деятельностную природу; он рождается в "ходе освоения и развития деятельности и общения" (там же. С. 149). Функциональное значение образа мира, как утверждается в данном исследовании, состоит в том, что он "предшествует актуальной стимуляции". "Образ мира генерирует познавательные гипотезы не только в ответ на познавательную задачу, а постоянно" (там же. С. 145), благодаря чему непрерывно происходит движение от "субъекта на мир". Принципиальное значение имеет утверждение о том, что "любой самый простой познавательный акт, завершающийся построением образа, начинается по инициативе субъекта, т.е. имеет в качестве первого звена процесс, детерминированный внутренней самообусловленностью субъекта" (там же. С.164). Благодаря овладению системой значений, субъект получает возможность отражения скрытых "глубоких, существенных характеристик мира", образующих его "ядерные структуры" (там же. С.149). В частности, к числу последних относится и отражение "узлов деятельностей в форме значений, узлов биодинамической ткани движения, отражаемых в темном мышечном чувстве" (там же). Следовательно, являясь продуктом деятельности, образ мира, в свою очередь, обнаруживает "инициирующие и регулирующие" влияния на нее. Последнее возможно только в том случае, если "психика выполняет активную роль на всех этапах развития системы "деятельность — образ" (там же. С. 168). Изучение активного "вклада" эмоций, мотивов, установок в познавательную деятельность человека предполагает раскрытие сущности их опосредствованного активирующего влияния — "через модификацию целостного образа мира" (там же. С.210). Итак, подведем итоги. Начиная с высказанных еще в 30-е годы идей Л.С.Выготского о социальной ситуации развития и до настоящего времени в отечественной психологии (в работах школы Л.С.Выготского) ведутся мучительные поиски той единицы анализа, которая содержала бы в себе как в капле воды представление о человеке, его психике в единстве с миром. Для Выготского и его последователей — это социальный мир, человеческая культура, история (что и отличает позицию Л.С.Выготского и его учеников от концепции К.Левина). Мы находим в упоминавшихся выше работах различную расстановку акцентов, преобладающее выделение одного из аспектов анализа того сложного образования, которое Л.С.Выготский называл социальной ситуацией развития. Наше пристрастие к этому понятию легко объяснимо. Оно традиционно, вся совокупность работ в области генетической психологии базируется на этом понятии. Оно "приросло" к проблеме развития психики. Разделяя точку зрения тех исследователей, которые не ограничивают онтогенез первоначальным формированием психики, а предполагают возможность продолжающегося в течение жизни человека развития (в том числе, и личностного), мы рассматриваем социальную ситуацию развития как основное звено психологического анализа этого процесса. Исследования последних лет, рассмотренные выше, открывают возможность более полного раскрытия сущности этого понятия, включения его в контекст современных общепсихологических теоретических положений. Обратимся в этой связи снова к определению понятия "социальная ситуация развития", данного первоначально Л.С.Выготским: среда не есть обстановка развития, а представляет собою особое сочетание внутренних и внешних процессов развития. Необходимо отметить, что для Л.С.Выготского (и его школы) социальная ситуация развития не есть простая совокупность отдельных элементов, характеризующих порознь внешние условия ситуации и внутренние качества субъекта. Обращаясь к категориальному аппарату теории деятельности, можно было бы сказать, что это совокупность социальных отношений, устанавливаемых в деятельности субъекта и реализуемых в ней. Не случайно Л.С.Выготский отмечает, что внешние элементы среды могут сами по себе не изменяться, но социальная ситуация развития в то же время может коренным образом перестроиться за счет совершившихся внутренних изменений субъекта, перестроек его деятельности (добавим мы), приведших к изменению всего внутреннего психического мира человека. Следовательно, структура социальной ситуации развития задается актуальной деятельностью субъекта в данном социальном пространстве. Человек как творец жизни, собственного развития идет "навстречу миру" в своем познании этого мира. Он строит свой образ мира, элементы которого модифицируют для него наличную актуальную ситуацию. Благодаря присутствию в образе мира эмоционально-мотивационных компонентов возникает возможность наделения внешних элементов ситуации личностными метами, пристрастностью, субъективностью (мотивационное поле, по В.К.Вилюнасу). Можно было бы отметить даже, что в процессе деятельности, ориентированной на познание мира, субъектом в данной наличной ситуации строится собственная социальная ситуация развития; это творческий акт самоопределения себя в мире. В литературе мы находим понятие "процесс опредмечивания образа", отражающее зависимость деятельности субъекта в наличной ситуации от его образа мира (Давыдов, 1979; Смирнов, 1985). Т.е. образ мира опосредует производимую в деятельности субъекта структурацию и категоризацию элементов социальной среды, с одной стороны, и собственного внутреннего мира, с другой. Другой важной, как нам представляется, особенностью социальной ситуации развития является то, что она включает в себя как имеющиеся в данный момент, презентированные в образе мира человека элементы, так и отсутствующие. Они открываются в ней за счет познавательной активности субъекта, в процессе которой актуализируются события, удаленные и во времени, и в пространстве от наличной ситуации. Субъективно окрашенный опыт прошлого, равно как и внутренняя субъективная перспектива будущего влияют на структурацию ситуации, по-новому высвечивают для человека ее отдельные фрагменты, открывают ее возможную или желательную динамику. 1 Полезно вспомнить в этой связи, что тем узлом, который связывает эти элементы, для Л.С.Выготского выступает переживание. Критический анализ подобного подхода содержится в ряде работ отечественных психологов; наиболее развернуто эта критика представлена в школе Л.И.Божович (1968). При всем очевидном сходстве подобного понимания сущности социальной ситуации развития с тем образованием, которое В.К.Вилюнас называет мотивационным полем, нельзя не отметить и имеющиеся различия. Главное из них состоит в том, что она как чрезвычайно динамичное образование может функционировать только при наличии непрекращающегося диалога человека с миром: с другими людьми и воплощенным в предметном мире их социальным опытом; с самим собой — в процессе формирования образа ситуации, а также реализации себя как личности. Мы уже отмечали, что сам факт болезни, угрожающей жизни и благополучию человека, стимулирует его познавательную активность. Она направлена при этом не только на поиск причин и сущность самого телесного страдания (этот аспект познавательной активности больного нашел отражение в работах А.Ш.Тхостова, 1991; Г.А.Ариной, 1991; О.И.Ефремовой, 1991), но и всего того, что выходит непосредственно за его пределы. Как жить дальше? На что опереться, чтобы сохранить жизнь и свой человеческий облик? Все эти задачи на "смысл" не могут не отразиться на структуре социальной ситуации развития в целом. Они наполняют ее элементы чрезвычайно напряженным эмоциональным зарядом, способным ограничить всю жизненную активность человека рамками одного этого поиска. Обратимся теперь к другому важному в контексте данной работы понятию — кризис развития. 1.3.2. Проблема кризиса развития в условиях хронического соматического заболевания Распад уже сложившейся социальной ситуации развития и возникновение новой есть основное содержание кризисных периодов развития. Л.С.Выготским, а в дальнейшем его учениками и последователями (Леонтьев А.Н., 1959; Божович Л.И., 1966; и др.), разработаны принципы анализа психического развития в отдельные возрастные периоды. Этот анализ предполагает выявление ряда важных моментов: а) характеристику уже сложившейся социальной ситуации развития, ее основных внутренних противоречий; б) процесс становления в ее недрах новой социальной ситуации развития; в) анализ основных психических новобразований, возникающих в этот период.Рассматривая кризисы развития как некоторые закономерные переходные периоды формирования психики, Л.С.Выготский, а затем и его ученики специальное внимание уделяют характеристике тех перемен, которые возникают в жизни ребенка. Эти периоды характеризуются рядом обязательных признаков. Главные из них таковы: наличие резких психических изменений ("... в очень короткий срок меняется весь в целом, в основных чертах личности" — Л.С.Выготский, 1984. Т.4. С.249); наличие мучительных переживаний, внутренних конфликтов, а также — падение работоспособности, агрессивность, капризность, трудновоспитуемость; "негативный характер развития" (там же. С.251): "на первый план выдвигаются процессы отмирания и свертывания, распада и разложения того, что образовалось на предшествующей ступени... Ребенок, вступающий в периоды кризисов... теряет интересы, вчера еще направляющие всю его деятельность, которая поглощала большую часть его времени и внимания, а теперь как бы замирает..." (там же). Но "за всяким негативным симптомом скрывается позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме" (там же); новообразования переходного периода носят также переходный характер, они отмирают, "как бы поглощаясь новообразованиями следующего, стабильного возраста" (там же). Расширяется круг знаний ребенка о мире, обогащаются операциональный и смысловой аспекты его деятельности. Новые, возросшие возможности ребенка вступают в противоречие с уже сложившимся уровнем требований к нему, с тем объективным местом, которое он занимает в жизни. Это основное противоречие и находит выражение в общем контуре поведения ребенка. В частности, Л.И.Божович (1978) также отмечает, что в кризисные периоды развития изменяется все поведение детей: они становятся раздражительными, непослушными, конфликтными, иногда — агрессивными по отношению к окружающим людям. Эти эмоциональные реакции являются свидетельством внутренней неудовлетворенности детей, фрустрации у них важных потребностей, сформировавшихся к концу предшествующего этапа психического развития. С каждым новым периодом развития существенно меняется то место, которое ребенок занимает в жизни, в системе общественных отношений и в этой связи изменяется "внутренняя позиция" ребенка по отношению к окружающему миру, людям и самому себе. Совершается тот перелом, который А.Н.Леонтьев (1959) называет переходом к новой ведущей деятельности, имеющей свою содержательную специфику на каждом возрастном этапе онтогенеза. Последнее и является тем основным моментом в развитии, с которым связано дальнейшее усложнение и обогащение психики ребенка и становление новых особенностей его личности. Идеи Л.С.Выготского, уже доказавшие свою эвристичность при анализе психического развития в онтогенезе, могут быть применены и для понимания механизмов психического развития человека, страдающего телесным недугом. Отметим в этой связи только, что специальных психологических исследований, рассматривающих развитие психики (в частности, личности) взрослого человека, крайне мало (Анцыферова Л.И., 1981; Зейгарник Б.В., Братусь B.C., 1980; Братусь Б.С., 1988). В них, в частности, отмечается, что развитие взрослого человека подчиняется тем же закономерностям, что и развитие ребенка. Кризисы развития у взрослого человека также возможны, они предшествуют переходу на новую ступень развития или возможному возрастному обеднению и оскудению психики. Их содержание составляет также социальная ситуация развития. Главное в ней — накопление противоречий в уже сложившейся актуальной социальной ситуации развития (например, между возможностями и системой смысловых связей с миром, между внешними обстоятельствами и внутренними условиями развития и т.д.). В литературе отмечается (Зейгарник Б.В., Братусь Б.С, 1980), что кризисы взрослых имеют целый ряд особенностей по сравнению с кризисами развития у детей: не имеют жесткой "привязанности" к возрасту; они могут подготавливаться постепенно, но могут возникать и внезапно в случае появления резких изменений в социальной ситуации развития. Общим итогом кризисов развития и у взрослого человека является возникновение ряда психологических новообразований, не свойственных предшествующим этапам развития. Соматическое заболевание (в особенности, с тяжелым хроническим течением) качественно изменяет всю социальную ситуацию развития человека: изменяет уровень его психических возможностей, ведет к ограничению контактов с людьми, т.е. оно меняет объективное место, занимаемое человеком в жизни, а также — его "внутреннюю позицию" (Божович Л.И., 1968) по отношению к себе самому и жизни в целом. Рассмотрим более подробно, в чем состоят эти изменения. Прежде всего следует подчеркнуть, что тяжелая соматическая болезнь может изменить сами биологические условия протекания деятельности. Вследствие соматогенной интоксикации или явлений гипоксии могут измениться операциональные и энергетические возможности осуществления деятельности. Само по себе биологическое изменение организма не входит в содержание социальной ситуации развития, а является лишь предпосылкой протекания психической деятельности, однако, оно отражается на общей динамике деятельности, выносливости человека к нагрузкам (физическим и психическим), устойчивости энергетического потенциала деятельности, сохранности ее операционального состава (Зейгарник Б.В., Братусь B.C., 1980; Николаева В.В., 1987) и т. д. Все эти собственно психологические последствия не могут не вызвать у человека желания понять, что изменилось в нем и стремления скорректировать сложившиеся жизненные стереотипы. Взрослый человек вступает в новую жизненную ситуацию с уже сложившимися особенностями психической организации: определенным уровнем познавательных возможностей, мотивационной структуры личности, самооценкой и т.д. Все эти качества могут быть изменены (ослаблены) вследствие болезни. Болезнь может изменить и перспективу человеческой жизни в целом. Всякое истинное развитие предполагает именно направленность в будущее, открытость перспективы движения. Изменения эскиза будущего — одна из наиболее существенных характеристик новой, складывающейся в условиях болезни социальной ситуации развития. Как показывает опыт работы с больными, будущее для них часто становится неопределенным, теряет свои четкие очертания, в ряде же случаев перспектива будущего развертывается перед больным в оскудевшем виде, не соответствующим преморбидно сложившимся планам и ожиданиям. В этом и состоит одно из наиболее драматичных для заболевшего противоречий новой жизненной ситуации. Новую, возникшую в условиях болезни социальную ситуацию развития "утяжеляет" наличие социальных последствий болезни, среди которых важнейшими являются изменения профессионального и семейного статуса человека. Вынужденный отказ от привычной профессиональной деятельности (необходимость в смене профессии в связи с заболеванием или переход на инвалидность), превращение в объект семейной опеки, изоляция от привычного социального окружения (например, длительное стационарное лечение) становятся важнейшим условием изменения психического облика. И, наконец, новая социальная ситуация развития становится предметом активной внутренней "работы" самого больного, вследствие которой формируется новая "внутренняя позиция" человека, содержание и динамика которой отражают основные смысловые изменения в структуре личности. Новая социальная ситуация развития может стать источником формирования у человека как психологически позитивных для развития его личности новообразований (в виде, например, компенсаторных и приспособительных проявлений), так и негативных черт с тенденцией к оскудению и обеднению всего психического облика, сужению связей с миром и т.п. Последнее в медицинской литературе квалифицируется в понятиях невротического, психопатоподобного и патохарактерологического развития больного. Таким образом, для понимания психологии соматически больного необходимо рассматривать социальную ситуацию развития в условиях болезни. Как нетрудно заметить, социальная ситуация развития в условиях болезни весьма противоречива по своему содержанию и может быть квалифицирована как кризисная. Однако, как показывают клинико-психологические наблюдения, несмотря на подобный ее объективный контур, кризиса психического развития может и не быть. В литературе описаны (Жизненный путь личности, 1987; Ниемеля П., 1982; Роинишвили М.О., 1988; Bugen L., 1977; Vaillant J., 1977) различные исходы кризиса: он может как затормозить общий ход развития, так и привести к значительному росту, самоактуализации личности (Мягер В.К., 1985). Наиболее легко разрешаются те кризисы, которые вызваны изменением операциональных возможностей осуществления деятельности (например, несоответствие навыков и умений характеру выполняемой деятельности). В том же случае, когда они вызваны наличием смысловых противоречий или потерей общей осмысленности жизни, кризисы взрослости протекают особенно тяжело и с трудом поддаются разрешению (Василюк Ф.Е., 1984; Франкл В., 1990; Greenblatt M., 1984). Кризисы этого типа могут получить разрешение только через изменение смыслового наполнения жизнедеятельности (Братусь B.C., 1980). Каковы психологические механизмы, способствующие эффективному выходу из кризиса или возникновению и стабилизации личностных изменений (ущерба, дефекта личности)? И что особенно важно — каковы психологические (личностные) резервы, позволяющие человеку осуществлять полноценный личностный рост, вопреки сложившимся обстоятельствам? 1.3.3. Возможности преодоления кризиса Поиск личностных механизмов регуляции жизнедеятельности, позволяющих человеку успешно разрешить возникающие противоречия, подводит нас к необходимости рассмотрения проблемы саморегуляции. Понятие "саморегуляция" носит междисциплинарный характер. Саморегуляция есть системный процесс, обеспечивающий адекватную условиям изменчивость, пластичность жизнедеятельности субъекта на любом ее уровне. В работах многих авторов содержится попытка вычленения собственно психологического аспекта саморегуляции. При этом выделяется уровень психической саморегуляции (Абульханова-Славская К.А., 1977), который способствует поддержанию оптимальной психической активности, необходимой для деятельности человека. Другой — операционально-технический — уровень саморегуляции обеспечивает сознательную организацию и коррекцию действий субъекта (Конопкин О.А. ,1980). Личностно-мотивационный уровень саморегуляции (Братусь Б.С.,1981, 1988; Василюк Ф.Е.,1984; Зейгарник Б.В.,1981; Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С.,1989; и многие другие) обеспечивает осознание мотивов собственной деятельности, управление мотивационно-потребностной сферой; создает возможность быть хозяином, творцом собственной жизни. Благодаря функционированию этого уровня саморегуляции "раскрываются внутренние резервы человека, дающие ему свободу от обстоятельств, обеспечивающие даже в самых трудных условиях возможность самоактуализации" (Зейгарник Б.В. и соавт., 1989. C.i22). Способность произвольного управления собственной моти-вационной сферой рассматривается многими исследователями в качестве одной из важнейших характеристик человека, как показатель гармонии и зрелости личности (Абульханова К.А., 1977, 1985; Анцыферова Л.И., 1981; Братусь Б.С, 1988; Васи-люк Ф. Е., 1984; Давыдов В.В., 1988; Рубинштейн С.Л., 1973; и другие). Мотивационно-личностный уровень саморегуляции есть процесс, опосредованный социальными нормами и ценностями, а также системой внутренних требований, особой "жизненной философией", превращающими человека в активного субъекта жизнедеятельности. Л.С.Выготский связывал специфически человеческий способ регуляции с созданием и употреблением знаковых психологических орудий и видел его в овладении собственным поведением. Знаки понимались им как искусственные стимулысредства, сознательно вводимые в психологическую ситуацию и выполняющие функцию автостимуляции (Выготский Л.С, 1983). С.Л.Рубинштейн связывал высший уровень саморегуляции с появлением мировоззренческих чувств, т. е. "осознанным ценностным отношением человека к миру, другим людям, себе самому" (1973. С.370). Концепция А.Н.Леонтьева положила начало исследованию "связной системы личностных смыслов" (Леонтьев А.Н., 1983. С.218), межмотивационных отношений, которые характеризуют собою строение личности. Подчеркивая регулирующую функцию систем личностных смыслов, А.Н.Леонтьев отмечал, что "можно понимать и владеть значением, знать значение, но оно будет недостаточно регулировать, управлять жизненными процессами: самый сильный регулятор есть то, что я обозначаю термином "личностный смысл" (там же. С.239). Следовательно, процессы саморегуляции заключаются не в осознании, сознание не производит, а опосредует их. Саморегуляция в этом понимании есть особая деятельность, "внутренняя работа" или "внутреннее движение душевных сил" (Зинченко В.П., 1990), направленное на связывание систем личностных смыслов. Дальнейшую конкретизацию идеи Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева получили в концепции смысловых образований личности (Асмолов А.Г. и соавт., 1979; Братусь Б.С, 1988; Насиновская Е.Е., 1988 и другие). Смысловые образования рассматриваются как "целостная динамическая система, отражающая взаимоотношения внутри пучка мотивов, реализующих то или иное отношение к миру" (Братусь Б.С, 1981. С.48). Регулирующая роль смысловых образований особенно ярко выявляется при осознании и принятии их в качестве ценностей (Василюк Ф.Е., 1984). Ф.Е.Василюк, подчеркивая регулирующую роль смысловых образований, выделяет особую деятельность по производству смысла "в критических ситуациях невозможности реализации внутренних необходимостей своей жизни" (там же. С.25). Эта особая деятельность (переживание), возникнув в критических жизненных ситуациях, может стать, по мнению автора, самостоятельным функциональным органом, т.е. "одним из привычных средств решения жизненных проблем и пускаться субъектом в ход даже при отсутствии ситуации невозможности" (там же. С.7). Т.е. переживание как особая деятельность смыс-лопорождения может выполнять регулирующую функцию и в ситуациях обыденной жизни. В литературе мы находим удачную попытку дифференциации этого рода саморегуляции и волевого поведения (Зейгарник Б.В., и соавт., 1979). Последнее возникает, в частности, в условиях мотивационного конфликта, не ориентировано на гармонизацию мотивационной сферы, а лишь на устранение этого конфликта (Иванников В.А., 1989). Эффективная же саморегуляция обеспечивает "достижение гармонии в сфере побуждений" (Зейгарник Б.В. и соавт., 1979. С.123). В качестве механизмов личностно-мотивационного уровня саморегуляции рассматриваются рефлексия и смысловое связывание (там же). Рефлексия обеспечивает человеку возможность взгляда на себя "со стороны", она направлена на осознание смысла собственной жизни и деятельности. Она позволяет человеку охватить собственную жизнь в широкой временной перспективе, соотнести настоящее с прошлым и будущим, создавая тем самым "целостность, непрерывность жизни" (Зинченко В.П., 1990), позволяя субъекту сохранить или восстановить внутреннюю гармонию, необходимым образом перестроить свой внутренний мир и не оказаться всецело во власти ситуации. Являясь частным механизмом личностно-мотивационного (или смыслового) уровня саморегуляции, рефлексия представляет собой мощный источник устойчивости, свободы и саморазвития личности (Зейгарник и соавт., 1979; Зинченко В.П., 1990, 1991). В этом заключено ее принципиальное отличие от неосознаваемых форм смысловой регуляции (психологических защит), функционирующих на уровне усвоенных психических автоматизмов. Таким образом, резюмируя имеющиеся в литературе взгляды на сущность личностномотивационного уровня саморегуляции, отметим, что она представляет собою особую форму внутренней активности. Она может быть рассмотрена как особая деятельность, мотивы и цели которой заключены в сохранении внутренней гармонии, самоидентичности, обеспечивающих успешность самоактуализации. Частные цели подобной деятельности могут быть ситуационно обусловлены, но их содержание в контексте этой деятельности всегда составляют прижизненно сформированные осознанные человеческие ценности, правила, сложившаяся система внутренних требований. Характер этих требований отражается в содержании и структуре самооценки и уровня притязаний (в частности, в соотношении реальной и идеальной самооценки). Для возникновения деятельности саморегуляции необходимо наличие сформированного "органа саморегуляции" — особой деятельности, имеющей свою направленность, цели, средства и т.д. В основе ее, как мы полагаем, лежит потребность в саморазвитии, самостроительстве, самоактуализации, духовном росте. Можно предположить также, что такая потребность "находит свой предмет" (А.Н.Леонтьев) в специфически человеческой системе культурных ценностей (этических и эстетических, прежде всего). Именно они создают почву для эффективного смыслопорождения и обретения благодаря этому внутренней гармонии и осмысленности жизни в самых сложных (субъективно и объективно) положениях. Усвоение этих ценностей в онтогенезе — источник длящегося в течение всей жизни развития. Проведенное нашей аспиранткой И.А.Сапаровой исследование ценностно-смыслового уровня саморегуляции показало, что отсутствие или дефективность ценностного опосредования являются одной из психологических причин возникновения ипохондрического развития личности (Сапарова И.А., 1989). Эта особая внутренняя деятельность, деятельность саморегуляции, как можно предположить, должна быть "встроена" в общую иерархическую систему деятельностей человека, мотивы которых в их динамическом иерархическом соотношении и составляют смысловую сферу личности. Неустойчивость или узость мотивационной иерархии, несформированность потребности в саморегуляции, недостаточность в звене ценностного опосредования, неусвоенные в процессе онтогенетического развития средства рефлексии составляют предпосылки для возникновения личностных аномалий. Отсутствие или недостаточная сформированность деятельности саморегуляции, дающей возможность произвольного управления собственными побуждениями, усиливают директивность актуальных потребностей субъекта и связанных с неуспехом в их реализации эмоций, способствуют фиксации отрицательного эмоционального состояния, т.е. возникновению описанного в литературе "смыслового барьера (Славина И.И., 1973). Последний стабилизирует и хронизирует эмоцию, упрочивает сопровождающие ее телесные сдвиги, т.е. таким образом, является источником возникновения стойких соматических изменений в организме. Невозможность осуществления эффективной саморегуляции может способствовать актуализации упрочившихся в прошлом опыте субъекта защитных автоматизмов, "включение" которых усиливает блокировку произвольных механизмов саморегуляции. Таким образом, создается замкнутый круг: неуспех в реализации актуальной деятельности — отрицательная эмоция — защитные автоматизмы — хронизация эмоции — соматические сдвиги в организме — усиление эмоции — упрочение соматических проявлений. Вероятность формирования подобного порочного круга повышается в критических жизненных ситуациях, требующих от субъекта повышенной активности в области саморегуляции. 1 Б.С.Братусь, выдвигая гипотезу об уровнях психического здоровья, называл один из них собственно личностным, "ответственным за производство смысловых ориентаций, определение общего смысла и назначения своей жизни, отношений к другим людям и себе" (Братусь Б.С, 1988). Глава 2 Динамика ВКБ как показатель кризиса развития личности в условиях болезни Анализ современного состояния проблемы изучения личности больных хроническими соматическими заболеваниями приводит к убеждению в том, что основным личностным феноменом, содержащим в себе в свернутом виде всю драму личностных трансформаций в условиях болезни, является внутренняя картина болезни (ВКБ). Именно этим обстоятельством обусловлена частота обращения исследователей клиникопсихологической ориентации к феномену ВКБ. Остановимся более подробно на ряде важных характеристик, создающих особый статус феномена ВКБ. Во-первых, обращаясь к изучению ВКБ, следует оценить уникальность данного феномена. В чем она выражается? Прежде всего, в универсальности явления. ВКБ как "продукт" собственной внутренней творческой активности субъекта формируется в своих более или менее развернутых формах при любом соматическом страдании — начиная от однократных эпизодов боли, дискомфорта до грубых проявлений соматической патологии (при тяжелых хронических заболеваниях тела). Каждый человек, имея хотя бы и ограниченный опыт соматической болезни, может наблюдать ее формирование у самого себя: "прислушивание" к неприятным локальным ощущениям (боли, давления, "жжения" и др.), попытка разобраться в источнике этих ощущений, соотнести их с имеющимся собственным опытом и сведениями, полученными от других людей, медицинского персонала, специальной литературы, средств массовой информации. Человеку свойственно в этих условиях стремление понять, насколько угрожает его жизни и здоровью то или иное неприятное ощущение или состояние организма, а также стремление предпринять некоторые активные попытки избавления от страдания. Таким образом, обширная зона психической активности сразу же фокусируется на страдании. Изучение сущности этого процесса — важнейшее условие успешной разработки проблемы личности и ее изменений у соматически больных. 1 Этот аспект формирования и функционирования ВКБ подвергнут серьезному научному анализу в работах последних лет (Арина Г.А., Тхостов А.Ш., 1991). Оригинальная теоретическая модель становления ВКБ предложена в работах Г.А.Ариной и А.Ш.Тхостова (Арина Г.А., Тхостов А.Ш., 1990; Тхостов А.Ш., 1991). Принципиальная новизна их подхода состоит в том, что авторы предлагают рассматривать процесс формирования ВКБ как особую форму познавательной деятельности (соматоперцепции), "обладающей собственным содержанием и специфичностью, но, тем не менее, подчиняющейся общепсихологическим закономерностям формирования, развития и функционирования" (Арина Г.А., Тхостов А.Ш., 1990. С.33). Такой подход позволяет преодолеть существующий недостаток представлений о ВКБ как о психологическом образовании, состоящем из относительно независимых составляющих — сенситивной и интеллектуальной части ВКБ. Авторы предлагают рассматривать ВКБ как "сложное многоуровневое образование, включающее в себя чувственную ткань, первичное и вторичное означение, личностный смысл" (там же. С.37). Тесная взаимосвязь и взаимопереходы этих уровней порождения и функционирования ВКБ обеспечивают ее динамичность, гибкость, "переходы как от чувственной ткани к личностному смыслу, так и от личностного смысла через означение к чувственной ткани" (там же. С.37). Полностью разделяя взгляды авторов на структуру и динамику ВКБ, считаем необходимым отметить, что, анализируя психогенез ВКБ, авторы сосредоточили преимущественное внимание на психосемантическом аспекте интрацепции в структуре ВКБ. В то же время в сферу познавательной активности больного попадают не только сами ощущения, но и оценка ожидаемых результатов лечения (Смирнов В.М, Резникова Т.Н., 1983) и всей будущей жизни в целом. Правда, в исследовании А.Ш.Тхостова затрагивается вопрос о личностном смысле болезни, представляющем "жизненное значение для субъекта объективных обстоятельств болезни по отношению к мотивам его деятельности (Тхостов А.Ш., 1991. С.30). Выделяя негативный, позитивный и конфликтный личностный смысл болезни, автор не подвергает специальному анализу вопрос о том, как в процессе становления ВКБ происходит смена личностного смысла болезни, какие психологические механизмы обеспечивают этот процесс . ВКБ относится к числу немногих психических новообразований периода взрослости, в отношении которого исследователь получает возможность проследить все фазы формирования, проанализировать условия, влияющие на его становление. Сама 1 Подобные задачи были поставлены в исследовании Т.Ю.Мариловой, рассматривавшей динамику мотивационных изменений на разных этапах лечебно-диагностического процесса у онкологических больных (Марилова Т.Ю., 1985). ВКБ позволяет в значительной степени эксплицировать весь сложный процесс самопознания заболевшего человека, вычленить те средства, которые использует человек для осуществления этого познавательного процесса. В то же время, в особенности на начальных стадиях формирования, ВКБ открывает возможность понимания особых способов, приемов преодоления, овладения собственным поведением, используемых человеком в сложной жизненной ситуации. Тем самым анализ ВКБ открывает возможность проникновения в компенсаторный потенциал личности. Все сказанное приводит нас к убеждению в том, что открывающийся через динамику формирования ВКБ процесс изменения мотивационной (смысловой) сферы личности может быть прослежен в ходе специально организованного исследования. Подобный путь был уже применен нами в прежних работах (Николаева В.В., 1976; 1984; 1987). В частности, было выявлено, что основными показателеми, позволяющими зафиксировать мотивационную динамику, являются качество и динамика эмоционального состояния, его вклад в содержание ВКБ. Как отмечал А.Н.Леонтьев, "эмоции выполняют функцию внутренних сигналов"... они отражают отношения между мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта" (1975. С.198). Можно, следовательно, сказать, что появление (или смена) эмоциональной составляющей ВКБ есть всегда сигнал о возможной личностной перестройке. Признавая правомерность и теоретическую и эмпирическую обоснованность разработанного А.Ш.Тхостовым подхода к ВКБ, мы тем не менее считаем, что предложенный нами ранее путь поуровневого анализа ВКБ более приемлем и адекватен для решения поставленной задачи: проследить через анализ формирования ВКБ динамику становления личностных (точнее, мотивационных) новообразований в процессе течения и лечения тяжелых хронических соматических заболеваний. Напомним в этой связи, что было предложено (1987) рассматривать ВКБ как сложное, структурированное образование, включающее, по крайней мере, четыре уровня психического отражения болезни: первый уровень — чувственный, уровень ощущений; второй уровень — эмоциональный, связан с различными видами реагирования на отдельные симптомы, заболевание в целом и его последствия; третий уровень — интеллектуальный, связан с представлением, знанием больного о своем заболевании, размышлениями о его причинах и возможных последствиях; четвертый уровень — мотивационный, связанный с определенным отношением больного к своему заболеванию, с изменением поведения и образа жизни в условиях болезни и актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. Основное внимание мы предполагаем обратить на характеристику эмоционального и мотивационного уровня (т.е. личностного смысла болезни и ее последствий), их содержание, динамику и последствия для судьбы больного и развития личности. Подобное расчленение продиктовано самой логикой стоящих перед нами задач. Влияние ситуации сложного лечения на динамику внутренней картины болезни В особенностях внутренней картины болезни (ВКБ) отражается целый ряд важных для врача и психологической судьбы больного моментов. Можно указать на несколько из них, значение которых первостепенно: преморбидная личность больного; актуальная жизненная ситуация, в которой находится больной; прогностические признаки, важные для оценки возможности формирования у больного психических отклонений от нормы, патохарактерологических сдвигов и аномального развития личности. Таким образом, ВКБ — основной комплекс вторичных, психологических по своей природе, симптомов заболевания, который в ряде случаев может осложнять течение болезни, препятствовать успешности лечебных мероприятий и тормозить ход реабилитационного процесса. Этот вторичный симптомо-комплекс сам по себе может стать источником стойкой инвали-дизации больного. Для оптимального проведения психокоррекционной работы важно установить, каким образом протекает формирование ВКБ. Каждый из уровней ВКБ, о которых речь шла в предыдущем разделе, проходит свой особый путь формирования. Кроме того, каждый из них в разной степени может быть выражен на отдельных этапах течения болезни. В формировании ВКБ принимают участие различные обстоятельства. Удельный вес каждого из них различен на разных этапах диагностического и лечебного процесса. При этом имеют важное значение как объективные условия жизни больного (социальные условия его жизни, объективная тяжесть заболевания, объективный прогноз, степень витальной угрозы и т.д.), так и субъективный контекст Деятельности (направленность больного, уровень общей активности, особенности самооценки, то есть весь комплекс преморбидных особенностей личности). Не меньшую роль при этом играет и совокупность ситуационных особенностей жизни больного, его взаимодействия с миром. Важным ситуационным фактором, формирующим ВКБ, становится вся ситуация лечения: тяжесть и длительность лечебных процедур, степень зависимости больного от медицинской аппаратуры и персонала, содержание и стиль взаимоотношений больного с медицинскими работниками. Достаточно хорошей моделью для изучения роли всех этих воздействий, влияния их на динамику ВКБ, является ситуация лечения больных ХПН гемодиализом. Специфика лечения больных гемодиализом такова, что все ситуационные и содержательные компоненты лечебной ситуации оказываются при этом чрезвычайно заостренными, выступают для исследователя в особенно выпуклой форме. Психические и неврологические нарушения у больных ХПН характеризуются большим разнообразием. При этом в литературе отмечается типичное для соматогений уменьшение полиморфизма психических нарушений по мере утяжеления соматического состояния (Цивилько, Гудкова, 1972; Цивилько, 1977). Возникновение психических нарушений связывают с уремической интоксикацией (Глориозова, Хондкарион, Шуль-цев, 1980; Лебедев, 1976; Мартынов, Малкова, Чекнева, 1980) отеком мозга, сосудистыми и метаболическими нарушениями, органическими изменениями в головном мозге (Цивилько, 1977). В процессе лечения гемодиализом психические нарушения также претерпевают ряд изменений. Гемодиализ, с одной стороны, уменьшает интоксикацию, неблагоприятно воздействующую на мозг, с другой стороны, как отмечает М.А.Цивилько (1977), улучшение соматического состояния выдвигает на первый план иные аспекты ситуации — психотравмирующее влияние болезни и лечения. Астения же при этом создает благоприятную почву для формирования психогенных реакций (чаще всего астенодепрессивного характера). В литературе мы находим указания на то, что в ситуации лечения гемодиализом больной ХПН оказывается под воздействием многих стресс-факторов. Так, Б.А.Лебедев (1976) выделяет три группы подобных воздействий, связанных с гемодиализом: связанные с самой процедурой гемодиализа (принятие решения о гемодиализе, забота об артерио-венозном шунте, боязнь его тромбирования, постоянная и полная зависимость от аппарата и медицинского персонала, длительность сеанса и т.д.); связанные с изменением всей жизненной ситуации больного: уход из коллектива, внезапность перемены обстановки, окружение тяжело больных людей, их смерть, разлука с семьей; дополнительные ограничения желаний и влечений, налагаемые режимом лечения, что приводит к состояниям фрустрации (сюда, прежде всего, относятся диета и снижение половой потенции). Некоторые исследователи обратили внимание на особенности формирования в этих условиях внутренней картины болезни. Зикеева Л.Д. (1974, 1978) выявила у больных ХПН пониженный психологический тип переживания болезни, который расценивается часто как проявление защитных психологических механизмов "отрицания болезни". Однако эти больные только внешне, как отмечает исследователь, производят впечатление недооценивающих болезнь, но на самом деле они понимают серьезность своего положения, крайне болезненно переживают его, но при том стараются "отбрасывать" страшные мысли о болезни и не показывать их окружающим. Wright (1966) с помощью ММР1 обнаружил изменения в шкалах, характерные для механизмов отрицания. Reichsmann, Norman и др. (1972) также утверждают, что ни у одной группы больных не наблюдали такого широкого использования механизма отрицания. Еще более противоречивы данные, касающиеся изменения личностных реакций на болезнь в связи с использованием гемодиализа. Goldstein и Resnikoff (1971) отмечают, что во время гемодиализа на первый план нередко выступают недооценка болезни или ее полное отрицание, легкомысленное отношение к диете, режиму. М.А.Цивилько (1970, 1977) особенностью личностных сдвигов у больных, находящихся на гемодиализе, считает полную фиксацию на болезни, сниженный фон настроения, аффективную неустойчивость. Автор отмечает, что исключительно важное влияние на внутреннюю картину болезни оказывает микрогруппа: больные отделения, персонал, семья. Проблема адаптации к лечению гемодиализом, прогноза "психологической пригодности" к условиям лечения остается практически очень важной. Решение ее связывается, прежде всего, с разработкой психологического и этического аспектов. По нашему мнению, ключевым здесь должно стать понятие внутренней картины болезни. Мы предприняли (совместно с нашей дипломницей Г.А.Ариной и соискателем Т.Н.Муладжановой) попытку изучения динамики внутренней картины болезни у больных ХПН, находящихся на лечении гемодиализом. Сама идея сложной, многофакторной (личность, болезнь, ситуация лечения) детерминации субъективного переживания болезни содержит в себе указание на чрезвычайную "чуткость", динамичность этого психологического феномена. Взаимодействуя, указанные факторы создают картину закономерного становления и развития ВКБ. Можно предположить, что независимо от нозологической специфики, отношение к болезни имеет одни и те же этапы становления, одни и те же закономерности формирования, источник которого следует искать в закономерностях складывающейся вследствие заболевания ситуации, в частности, ситуации лечения. Мы предположили, что динамика ВКБ может быть обусловлена не только сменой видов лечения, но может существовать при использовании одного вида лечения. Под лечением здесь, конечно, понимается не только использование каких-то лечебных процедур, а вся ситуация в целом: особенности госпитального режима, разлука с родными, изменение отношений с ними, особенности взаимоотношений с персоналом, отношения с другими больными и т.д. Мы считаем, что динамика ВКБ связана с переструктурированием ее, изменением иерархии уровней, сменой ведущего уровня ВКБ. Ситуация лечения гемодиализом позволяет выявить и охарактеризовать роль каждой группы факторов в формировании ВКБ (личности, болезни, ситуации лечения). Как уже отмечалось, ситуация лечения гемодиализом имеет ряд особенностей. Во-первых, больные, как правило, поступают на лечение в очень тяжелом состоянии. Гемодиализ — единственное средство продлить их жизнь. Во-вторых, гемодиализ по своему назначению (органозамещающая терапия) только средство "оттянуть" летальный исход и подготовить больного к операции трансплантации почки. Это может длиться достаточно долго (несколько лет), и больные долгие месяцы могут находиться в стационаре. В-третьих, гемодиализ очень сложная процедура, в которой используется новейшая техника (аппарат "искусственная почка"). Фактически получается, что жизнь человека начинает зависеть от машины; в первую очередь, от ее исправности. В этой ситуации роль персонала, а значит, и отношение больных к медперсоналу несколько иные, чем в других клинических условиях. Важно было проследить отражение этих особенностей гемодиализа в субъективных переживаниях и преломление всей ВКБ в системе отношений больного. Наша работа имеет и практический аспект: поиск и выявление путей и возможностей психологической и психотерапевтической помощи больным, находящимся в ситуации длительного лечения. Исследование проводилось на группе больных ХПН, уже описанных нами ранее, поэтому, не останавливаясь на ее общей клинической характеристике, обратимся к краткому рассмотрению методического инструментария данной части исследования. Отметим сразу же, что выбор методик исследования был продиктован как основной задачей этой части работы — исследовать динамику мотивационных изменений через призму ВКБ, так и спецификой клинического объекта исследования, а именно: особенностями их физического статуса, высокой вероятностью проведения исследования во время сеанса гемодиализа (в этом случае часто больные были лишены возможности писать, рисовать и т.д.). Кроме того, необходимо было использовать методики, допускающие повторное применение с целью выявления динамики ВКБ в ходе лечения. В качестве методик исследования личностных параметров ВКБ были взяты: клиническая беседа, модифицированный вариант методики исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, а также несколько видоизмененный нами (в соавторстве с Т.Н.Муладжановой) вариант методики "незаконченные предложения" Сакса и Сиднея. Сущность модификации методики "Самооценка" состояла в том, что к традиционным четырем шкалам (предложенным С.Я.Рубинштейн, 1970) добавлялись шкалы "психическое здоровье" и "состояние по сравнению с другими пациентами отделения". При обработке полученных результатов была использована схема, предложенная нашим соискателем Т.В.Виноградовой (1979), согласно которой каждая шкала делится на пять равновеликих отрезков (по 3 см каждый) и производится количественный подсчет попадания оценок в каждый интервал. Методика "Незаконченные предложения" была изменена таким образом, чтобы исключить необходимость вписывать окончания предложений. Больным сообщалось, что исследуется скорость реакции и предлагалось как можно скорее заканчивать предложения, которые вслух проговаривал экспериментатор. Это позволяло не только в чисто техническом отношении облегчить больному выполнение задания, но повышало его проективность и создавало дополнительную стимуляцию к выполнению задания (инструкция на скорость). Кроме перечисленных методик для изучения мотивации больных был применен тематический апперцептивный тест в варианте Х.Хеккаузена, широко используемый в последние годы (Калинин Е.А., Морозов А.С., 1974; Гиссен Л.Д., 1976; Маркова Е.В., 1980; Коростелева И.С, 1991; и другие). Количественная обработка результатов с помощью специально разработанной автором методики засчитывающего ключа была дополнена качественной интерпретацией результатов, предложенной рядом авторов (Соколова Е.Т., и соавт., 1976; Вавилов Н.В., 1978; Соколова Е.Т., 1980) для анализа материалов "обычного" ТАТ. При этом использовались следующие параметры оценки: соблюдение инструкции, общая характеристика целей, средства достижения целей, уровень достижения цели (реально или в фантазии), особые темы (указывающие на высокую значимость данного содержания). В качестве контрольной группы обследовано 50 здоровых испытуемых — того же возраста и образования, что и группа больных ХПН. Остановимся на рассмотрении динамики формирования ВКБ у больных ХПН в ситуации лечения гемодиализом. 1 Модификация проведена нашим соискателем Т.Н.Муладжановой. 1. ВКБ на этапе подготовки к лечению гемодиализом Больные ХПН, находящиеся на консервативном лечении, обычно заранее знают о назначении им гемодиализа. В структуре ВКБ на этом этапе наиболее выражен эмоциональный уровень, сенситивный, как правило, адекватен объективной картине заболевания. Интеллектуальный уровень начинает также интенсивно формироваться в этот период отчасти за счет поступления избыточной информации от других больных, частично же вследствие вынужденного наблюдения за состоянием других больных, посещающих сеансы гемодиализа. Сенситивный уровень ВКБ выражается в совокупности жалоб на самочувствие в целом. Больные отмечают слабость, тошноту, головную боль, кожный зуд. Наблюдается явная ретроспективная переоценка состояния здоровья в прошлом. Эмоциональный уровень ВКБ в этот период характеризуется напряженным ожиданием начала лечения, страхом перед ним. Для больных характерно чувство вины в связи с заболеванием. Они сожалеют, что поздно обратились к врачу, "не уберегли себя". При заполнении бланка методики "Незаконченные предложения" больные 50 % предложений по теме "сознание вины" завершают фразой, отражающей в своем содержании факт болезни. Например: "Моей самой большой ошибкой было себя не уберечь". С сожалением рассказывают, что не смогли продолжить работу, учебу; болезнь характеризуют как препятствие на пути достижения жизненных целей. По данным методики "Незаконченные предложения" прежние жизненные цели отразились в 19% фраз, в 43% формулировалась цель — стать здоровым. По теме "прошлое" 21% ответов касался прежнего здоровья. 25% продолжений фраз по теме "страхи и ожидания" связаны с предстоящим лечением гемодиализом. Интеллектуальный уровень ВКБ только начинает формироваться. Оценка гемодиализа при этом отрицательная. Часть больных в беседе сообщает, что они скорее согласились бы на операцию, чем на лечение гемодиализом. В "Незаконченных предложениях" при этом 61% фраз о будущем связано с надеждой на выздоровление, удачную пересадку почки в будущем. Мотивационный уровень ВКБ представлен на этом этапе негативной окраской всей ситуации в больнице: больные тяготятся пребыванием в стационаре, недовольны обстановкой. Сами к общению с персоналом не стремятся, контакт с ним ограничивается только обсуждением результатов анализов, за которыми больные следят и в которых они начинают разбираться. Пристально следят за внешним видом, поведением и состоянием пациентов, находящихся на лечении гемодиализом, нередко стремятся избегать общения с ними. Прикладывают все усилия, чтобы оттянуть начало лечения гемодиализом. Соглашаются на экспериментально-психологическое обследование с целью отвлечься, занять время, "порешать задачки". По мере выполнения заданий они врабатываются, адекватно реагируют на похвалу и замечания экспериментатора, становятся более активными. Однако, подлинной заинтересованности, или иначе говоря, мотива экспертизы (Соколова, 1976; Зейгарник Б.В., 1976, 1979) на этом этапе лечения у больных создать не удается. Цель исследования в сознании больных не соотносится с волнующей их проблемой начала лечения гемодиализом. 2. ВКБ на этапе начала лечения гемодиализом На этом этапе лечения наблюдается два варианта ВКБ. Их формирование связано с влиянием таких факторов, как продолжительность предварительного подготовительного периода к гемодиализу, тяжесть соматического состояния до начала лечения. Первый вариант выделен у больных, поступивших на лечение в тяжелом соматическом состоянии, вследствие которого лечение гемодиализом было предпринято вскоре после поступления в стационар. Соотношение структурных компонентов ВКБ у этих больных было следующим. Сенситивный уровень характеризуется значительным улучшением общего самочувствия, уменьшением количества жалоб, изменением содержания жалоб. Больные, как правило, отмечают лишь общую слабость. Ретроспективная самооценка низка, оценка своего состояния в момент обследования выше, чем у больных на первом этапе. Эмоциональный уровень ВКБ представлен общим подъемом настроения, иногда доходящим до степени эйфории. Больные, как и до лечения, полностью сосредоточены на гемодиализе, но знак отношения к нему меняется на противоположный. Больные отмечают облегчение после сеанса, даже неприятные ощущения склонны интерпретировать как признаки возвращения к жизни. Меньше выражено чувство вины за свое заболевание (33% ответов в "Незаконченных предложениях" вместо 50% на подготовительном этапе). Менее значимым становится отношение к состоянию здоровья в прошлом: только 12 % продолжений фраз по теме "прошлое" касаются здоровья. Интеллектуальный уровень содержит благоприятную оценку перспектив лечения, высказывания содержат надежду на выздоровление. В "Незаконченных предложениях" 75 % окончаний фраз по теме "будущее" связано с надеждой на выздоровление. Значительно уменьшается количество окончаний фраз с пессимистической оценкой будущего (2 % против 15 % на подготовительном этапе). Мотивационный уровень характеризуется актуализацией прежних жизненных целей. Больные начинают обсуждать перспективы возвращения к профессиональной деятельности, рассказывать о своих планах и намерениях. Показательно в этом отношении сравнение результатов по методике "Незаконченные предложения" с этапом, предшествующим лечению. Так, если на этапе подготовки к лечению гемодиализом прежние цели отражались в 19% ответов, то теперь — в 45% . Отношение к врачам и медицинскому персоналу окрашено положительными эмоциями. Больные тепло отзываются о врачах, стремятся к общению с персоналом отделения. Изменяется даже внешний облик больных: они начинают следить за своим внешним видом, женщины начинают применять косметику. В беседу с психологом больные включаются легче, подробно отвечают на вопросы, охотно выполняют предложенные задания, проявляют к ним интерес. Адекватно реагируют на похвалу и порицания. Вместе с тем, часто объясняют наличие ошибок в работе случайностью, невниманием, отсутствием должной тренировки; то есть обнаруживают несколько "облегченное" и не вполне критичное отношение к работе. Характерной особенностью ВКБ этих больных на начальном этапе лечения гемодиализом является формирование завышенной модели ожидаемых результатов лечения: больные считают, что уже в скором времени наступит полное выздоровление, возвращение к прежнему образу жизни, к труду. Другой тип ВКБ наблюдается у больных, прошедших через длительный этап подготовительного консервативного лечения. В структуре ВКБ этих больных эмоциональный уровень менее выражен, чем на подготовительном этапе, в то же время хорошо представлен интеллектуальный уровень ВКБ. Остановимся на более детальной характеристике ВКБ у этих больных. Сенситивный уровень ВКБ характеризуется уменьшением числа жалоб: соответствием их содержания объективной картине заболевания, общим улучшением самочувствия. Оценивая ретроспективное свое состояние на подготовительном этапе лечения, они считают его менее удовлетворительным, чем представляли себе раньше. При сравнении своего состояния до заболевания и в момент обследования больные вводят параметр собственнного отношения к болезни. Так, больная Г. ставит по шкале "физическое здоровье" (методика Дембо-Рубинштейн) две отметки — 1974 год и в момент обследования и говорит при этом: "До 1974 года я знала, что болею, но чувствовала себя здоровой, знала, что больна, но больной себя не считала, жила полноценной жизнью". Введение параметра "отношение к болезни" позволяет снизить субъективную значимость разрыва ретроспективной и актуальной оценки своего состояния. Придавая этому разрыву специфический личностный смысл, они фактически приравнивают реальное состояние к прежнему, компенсаторно повышают самооценку в момент обследования. Эмоциональный уровень ВКБ у этих больных характеризуется снижением страха перед гемодиализом, общим повынием настроения, но без явлений эйфории. В "Незаконченных предложениях" по сравнению с подготовительным этапом лечения отмечается снижение страха и опасений в связи с гемодиализом (25% фраз на подготовительном этапе, 18% — на начальном этапе лечения гемодиализом), снижением чувства вины за собственное заболевание (50% фраз — на подготовительном этапе, 42% — на данном этапе лечения). Интеллектуальный уровень ВКБ характеризуется изменением критериев оценки состояния. Главными в оценке становятся результаты анализов, показатели которых улучшаются в ходе лечения, и общее самочувствие после сеансов гемодиализа. Оценка гемодиализа становится более нейтральной, ровной. Мотивационный уровень ВКБ строится с учетом отношения к персоналу. Оно становится более избирательным: выделяется врач, которому больной доверяет и к мнению которого прислушивается. Оживляются некоторые преморбидные интересы больных: во время сеансов гемодиализа они начинают читать, решать кроссворды, следить за работой аппарата "искусственная почка". 3. ВКБ на этапе хронического лечения гемодиализом В адаптации больных к хроническому гемодиализу можно выделить два периода, которые условно можно назвать периодом "общего недовольства" и "собственно адаптацией". В структуре ВКБ у больных с неадекватной моделью ожидаемых результатов лечения на начальном этапе наиболее выражен период общего недовольства. В ВКБ у этих больных ведущим становится интеллектуальный уровень, который начинает определять содержание и других компонентов ВКБ — эмоционального и сенситивного, главным образом. Сенситивный уровень максимально объективизирован, он строится не столько на основе собственных ощущений, сколько по данным анализов и оценкам врачей. Жалоб становится много, особенно часты жалобы на плохое самочувствие во время и после гемодиализа. Сами больные зачастую объясняют их некачественным проведением гемодиализа, обсуждают вопрос об индивидуализации лечения. Например, одна больная (К.) говорит: "Нет необходимости проводить мне длительный диализ по 5-6 часов. Я набираю 800 грамм и поэтому нуждаюсь в трехчасовом гемодиализе. Необходимо же учитывать показания? Из меня выкачивают нужную мне жидкость. Зачем? Из-за длительных сеансов падает гемоглобин, нужно его наедать, а тем самым увеличивается вес, и все больше нужен диализ. Замкнутый круг. Врачи не знают ситуации больных". Эмоциональный уровень ВКБ у этих больных существенно изменяется. Они становятся раздражительными и конфликтными. Начинают избегать обсуждения перспектив выздо ровления и вопросов, связанных с прошлым и будущим. В "Незаконченных предложениях" резко уменьшается количество продолжений фраз, положительно характеризующих будущее, перспективы жизни (48% против 75% на начальном этапе гемодиализа). Возрастает количество фраз с отрицательной оценкой будущего (23% вместо 2% ранее). Интеллектуальный уровень ВКБ строится на основе знания больных об особенностях гемодиализа, его возможных осложнениях и т.п. Критерием оценки состояния являются показания специальных исследований и оценки врачей. Изменяется отношение к обстановке в отделении, режиму, поведению медицинского персонала. Больные остро реагируют на малейшие замечания, высказывают различные претензии к действиям персонала. Вот примеры подобных высказываний: "нужно долго просить, чтобы к тебе подошли", "если утром спишь, то все равно разбудят в 7 часов, чтобы измерить температуру, как будто нельзя позже" и т.п. Следят за действиями персонала, ищут подтверждения его "недобросовестности". Отношение к экспериментально-психологическому исследованию в этот период негативное. Больные задают вопросы о целях, смысле исследования, отмечают, что им непонятно, зачем все это нужно, отказываются обсуждать свое состояние и проблемы, замыкаются в себе, дают формальные ответы. В период "собственно адаптации" снова изменяется как содержание ВКБ, так и соотношение, удельный вес отдельных ее уровней. Содержание сенситивного уровня определяют жалобы на снижение умственной работоспособности, памяти, внимания. Часть больных при этом отмечает изменения характера — раздражительность, капризность. Центром эмоциональной жизни становится операция по пересадке почки, в связи с чем все проблемы прошлой жизни теряют свою актуальность. Отношение к операции при этом двойственное: с одной стороны, с нею связываются все надежды, с другой — операция страшит и тревожит. В "Незаконченных предложениях" при этом возрастает количество фраз по теме "страхи и опасения" (24%). К гемодиализу больные при этом относятся как к уже привычной процедуре; просят психолога провести обследование, чтобы "скоротать время". Особенно ярко выраженной становится в этот период интеллектуальная часть ВКБ. Больные активно собирают информацию о болезни, удачных и неудачных операциях. Анализ состояния подчинен вероятности удачной пересадки почки. Возникают новые критерии оценки. Больные начинают придавать большее значение умению "держать себя в руках", "не раскисать", хорошему внешнему виду, сохранности интереса к жизни. Использование больными наиболее "выгодных" для себя критериев оценки состояния особенно наглядно выступает на следующем примере. Больная С. при первом обследовании считает (в методике Дембо-Рубинштейн) самыми больными тех людей, у "которых была неудачная пересадка, у кого сердечная недостаточность". Повторно больная была исследована после неудачной пересадки почки и возвращения к лечению гемодиализом. Распределение оценок по шкалам при этом аналогично первому обследованию, однако больная использует другие критерии для этого: "Самые больные, которые лежат, не двигаются, не общаются, им все безразлично". Рассуждения больных при оценивании себя по шкалам часто противоречивы, непоследовательны. Одна из больных, например, по шкале "счастье" относит себя почти к самым несчастливым и отмечает при этом: "Счастье — это здоровье... Но и до болезни не была счастлива, неудачная семейная жизнь, муж — алкоголик". В этот период общение больных с персоналом носит поверхностный характер, больные пытаются использовать его (как и психолога) для выяснения оценки врачом их состояния. Отношение к экспериментально-психологическому исследованию мотивируется прежде всего стремлением больных отвлечься от волнующих их мыслей по поводу предстоящей операции. Они с интересом выполняют предложенные задания, вместе с тем избегают обсуждения вопросов о прошлом и будущем, отказываются от выполнения тех заданий, которые наталкивают их на размышления на эти темы. Наряду с адекватным вариантом ВКБ у части больных выявлен "фрагментарный". Он отличается тем, что больные переоценивают значимость физического статуса и явно недооценивают важность психического состояния. Они предъявляют жалобы только на плохое соматическое состояние. При шкалировании самооценки по методике ДембоРубинштейн наблюдается значительный разрыв в оценках по шкале "здоровье" между ретроспективной оценкой прошлого и настоящего положения дел. Если говоря о прошлом (до заболевания) они отзываются о себе как о самых здоровых людях, то на момент исследования оценивают себя по этому параметру крайне низко, относят к категории почти самых больных. Настроение больных снижено. По данным "Незаконченных предложений" основной жизненной целью их становится здоровье. Тема "здоровье" начинает резко преобладать в тех фразах, которые касаются перспектив жизни, будущего (71% — в предложениях, касающихся будущего, 48% — в теме "жизненные цели"). Перспективы лечения оцениваются противоречиво. Так, 39% окончаний фраз в теме "будущее" (по "Незаконченным предложениям") имеют оптимистическую формулировку, а 32% — пессимистическую. Существенных изменений по шкалам самооценки "психическое здоровье", "ум", "характер" не обнаруживается. В прямой связи с оценками физического состояния находятся только оценки по шкале "счастье". Если оценка по параметру "счастье в прошлом" у этих больных в 73% располагается в самой верхней зоне шкалы, то оценка того же признака "в настоящем" в 64% случаев располагается в самой нижней части шкалы. Основным критерием оценок по этой шкале является возможность работать и приносить пользу. В отделении эти больные пассивны, большую часть времени проводят в постели. Пристально следят за своим весом, анализами, соблюдают диету. Анализ собственного состояния целиком поглощает их внимание. В силу этого отношение к психологическому обследованию пассивное: легко отказываются от дальнейшей работы в случаях затруднений. Мотив экспертизы не формируется. Именно у больных с подобной ВКБ обнаруживается нарушение мотивационного компонента мышления. Решающую роль в оформлении фрагментарного варианта ВКБ на этапе хронического гемодиализа, как мы предполагаем, играют преморбидные особенности личности. Описанная здесь картина наблюдалась у больных, отличавшихся до заболевания нешироким кругом интересов, ограниченностью контактов с окружающими людьми, видевших основной смысл жизни в работе. Невозможность реализации прежнего мотива приводит к тому, что новый мотив "сохранение здоровья", ситуационно возникающий сначала в периоды обострения состояния, становится ведущим, определяющим все поведение и стиль жизни в целом. Мы остановились на рассмотрении динамики ВКБ в ходе применения одного метода лечения. Можно предположить несколько иную картину при их смене. Однако, для нас важно было установить, что вся ситуация лечения в целом, особенности собственной активности больного на каждом из этапов формировали особый по содержанию тип ВКБ; динамика ВКБ в целом может быть рассмотрена как основной показатель той трансформации, перестройки, ломки личности больного, которая происходит в этот период. *** Исследование этой группы больных с помощью ТАТ Хекхаузена убеждает в справедливости подобного вывода. Приведем основные результаты этого исследования, проведенного нами в соавторстве с Т.Н.Муладжановой (1985). Опираясь на описанные выше параметры качественной интерпретации данных, мы выделили основные особенности выполнения ТАТ группой больных ХПН в сравнении с нормой. Необходимо отметить, что применение стандартного варианта обработки ТАТ Хекхаузена не позволило сделать содержательные выводы вследствие того, что не все рассказы больных относились к производственной тематике, на исследование которой ориентирован стандартный ключ обработки данных. Кроме того, подобная обработка не позволяла нам получить качественную характеристику результатов. Поэтому мы применили также (и это стало основным типом работы с результатами) описанные нами выше критерии оценки результатов. Последующее изложение данных мы будем приводить в соответствии с примененными содержательными параметрами их оценки. а. Соблюдение инструкции В рассказах ТАТ 63 % больных обнаружили несоблюдение инструкции по типу нарушения временной перспективы. Таблица 1 Количество больных, не соблюдавших инструкцию в сравнении с группой нормы (в %) Группы испытуемых Отсутствие категории времени Настоящее Прошлое Будущее Прошлое + будущее Больные ХПН 0 44 50 31 Здоровые испытуемые 0 17 17 17 У большинства больных наблюдается чрезмерное расширение рассказа за счет характеристики настоящего момента, при этом характерно простое перечисление деталей картины. Подобного выполнения задания (перечисление деталей) не наблюдалось в группе нормы. Особое внимание может привлечь наблюдавшийся в рассказах больных феномен смещения времени; при этом прошлое и будущее фактически сводятся к настоящему моменту. Например, будущее трактуется как воспоминание о настоящем моменте. В качестве примера приведем рассказ больной Т.Е.В., в котором прошлое и будущее тождественны настоящему. Пример N 1 (картинка ТАТ N 6) Андрей Иванович сидит за столом. Он так же сидел много лет назад и писал приказы. Так же он будет сидеть еще не один год. Так же будет стоять его старый телефон. Рядом с телефоном лежит его портфель, шляпа и пальто. Раньше с ним рядом сидел его друг, но теперь его уже нет... он ушел на пенсию. На полке лежат книги. Эти книги давно прочитаны. Сведение будущего и прошлого к настоящему было обнаружено у 28% больных. Подробная разработка в рассказах настоящего момента, феномены смещения времени подтверждает их высокую тревожность в отношении будущего и жизненной перспективы в целом. В качестве иллюстрации приведем рассказ больного М.Б.И. Пример N 2 (картинка ТАТ N 3) Удачливый молодой человек, оптимист, все у него клеится. Сидит за столом и ведет дневник, а прочитав несколько страниц, тоже доволен ранее происходившим. А поскольку все блестяще в прошлом и настоящем, он надеется, что в будущем будет так же. Хотя в будущем бывают неожиданности. Хотя пышет здоровьем, но может заболеть; и все изменится. Но будем надеяться, что это не случится и пожелаем ему всех благ. б. Характеристика целей В рассказах больных, содержащих упоминание о прошлом, прослеживается тема неуспеха, неудач. Часто герой рассказа описывается как неудачник, чудак, робкий или ленивый человек. В 70 % рассказов больных делаются попытки объяснить или оправдать этот неуспех: герой рассказа был болен и поэтому не мог сделать чего-то; в плохой работе виноват другой специалист, а собственная роль героя рассказа сводится к позиции чрезмерной доверчивости; работа не выполнена из-за отсутствия необходимых деталей и т.д. В рассказах, содержащих описание будущего, как правило, стремление достичь успеха связано с неудачей в прошлом и желанием героя снизить этот неуспех. Вот рассказ больного Х.Д.М. Пример N 3 (картинка ТАТ N 4) Рабочий стоит у станка, подходит мастер и меряет штангенциркулем деталь, которую рабочий только что сделал. В прошлом этот рабочий часто допускал брак, поэтому мастер часто проверяет детали этого рабочего. В будущем, наверное, будет так, что рабочий научится качественно выполнять свою работу. Рабочий в настоящий момент очень хочет, чтобы его деталь понравилась мастеру, и мастер тоже хочет, чтобы деталь была хорошей. Рассказ больной К.Т.А. Пример N 4 (картинка ТАТ N 4) Это было в четверг. С утра на заводе была суматоха: все бегали, кричали, каждый -пытался что-то доказать, но инженера нигде никто не видел. Через час после начала смены в цех пришел Сергей Сергеевич. Рабочие очень любили его, верили ему и все свои невзгоды, просьбы, все говорили ему. В этот день у старого рабочего Федора было особенно много работы. Он только что придумал новую втулку для станка, которая увеличит в 2 раза количество выпускаемых деталей. Но т.к. в ней еще не все было утверждено, она не была еще хорошо отработана. Поэтому дядя Федор всю ночь провел на заводе. Тысячу и тысячу раз он пробовал ее. Сначала она вообще не работала, и станок не крутился. "Что делать? В чем ошибка?" — думал он. Перепробовал все способы, но ничего не получалось. Дождавшись утра, он решил: "Единственный вариант — идти к инженеру и просить помощи". Он много лет знал Сергея Сергеевича, любил и уважал, но как старый работник не хотел идти на поклон. Считал ниже своего достоинства. Переборов свою гордость, старый рабочий дядя Федор подошел к молодому инженеру и здесь в цехе начался их... по-настоящему серьезный спор. Инженер утверждал, что нельзя таким кустарным способом подходить к такому тонкому делу. Но дядя Федор настаивал на своем, он был уверен, что в детали какая-то мелкая ошибка. Сергей Сергеевич настаивал на серьезном проекте и точных расчетах. Этот спор, казалось, никогда не кончится. Если бы не одно обстоятельство, которое сбило их с толку. Оказалось, что эту деталь, втулку рабочие уже опробовали без него, и оплошность была в том, что дядя Федор не учел скорости станка. Увеличив обороты станка в 2 раза, скорость приобретала максимальную... стала максимальной. Втулка стала работать абсолютно нормально. Поздравив старого рабочего с победой, инженер улыбнулся и пожелал ему... долгих лет жизни. в. Средства достижения целей В рассказах больных подчеркивалась как собственная активность героя, так и помощь со стороны других людей: герою кто-то объясняет, учит его, одобряет или порицает, его поддерживают родственники и т.д. Приведем в качестве примеров наиболее типичные рассказы. Больная Р.Т.И. Пример N 5 (картинка ТАТ N 3) Писатель мечтает написать рассказ про строительство БАМа. Он сидит за столом. В прошлом он мечтал об этом, но у него не все получалось, не было подходящего материала. Потом он съездил на стройку, все посмотрел и решил написать книгу. У него все сразу не получалось, он много думал, и наконец написал хорошую книгу про БАМ. В этой книге рассказывается, как работали наши комсомольцы, как жили. Пример N 6 (картинка ТАТ N 4) Закончился рабочий день. Подошел мастер, взял деталь и замерил параметры, но что-то не сошлось. Деталь была с браком. Он работал весь день, план выполнил, но так как он спешил, по-видимому, не все прошло благополучно. Раньше этого с ним не случалось. Он был не доволен собой, не доволен мастером, что тот подошел в это время. С этого дня он стал сам следить за своей работой и больше брака не допускал. Ожидание помощи отчетливо прослеживается в рассказах больных С.Н.В. и Т.З.И. Пример N 7 (картинка ТАТ N 1) Жил такой парень, допустим, Андрей Васильев. После школы поступил в МИФИ и учился, ну, так, по принципу: "ученье не волк, в лес не убежит". А когда пришла сессия, ряд предметов он сдал, а физику никак не мог. И вот он приплел к преподавателю пересдавать физику. Он сдает третий раз, последний, считается, клянет себя, что плохо занимался в течение семестра, боится, что его отчислят. Взволнован. А профессор настроен критически и иронически, и мысли у него: "Какая расхлябанная молодежь пошла". До этого они несколько раз сталкивались, причем в невыгодной для Андрея ситуации: ему замечания делал или на семинаре ответить не мог. Что будет? Он будет стоять как на углях, плавать. Профессор будет достаточно снисходителен, не будет засыпать специально. В конце концов профессор поставит 3, ведь такой институт, туда трудно поступить. Пример N 8 (картинка ТАТ N 5) Студент строительного техникума вечернего отделения получил задание изготовить деталь. Но в последнее время он пропустил много занятий и поэтому с заданием справиться затруднялся. Он обратился за помощью к мастеру производственного обучения с просьбой помочь ему. Мастер знал о том, что этот студент добросовестный человек и занятия пропускает по уважительной причине, т.к. работает бригадиром на производстве, на нем лежит большая ответственность. Поэтому он с желанием помог ему, и студент через некоторое время порадовал мастера хорошо изготовленной деталью. Пример N 9 (картинка ТАТ N 1) Учитель и ученик, не ученик, а студент. Он сдает экзамен профессору. Что они думают? Профессор думает, что студент плохо выучил его тему. А ученик молодой, легкомысленный, думает: "Как бы быстрее все это кончилось". Раньше профессор сидел дома, занимался, а парень был на танцах с девушкой. Занимался не тем, чем нужно. Будущее? Наверное, у парня родители какие-то высокие звания имеют, и он быстро продвинется, у него все легко будет. Тут не нужно ума. Профессор стариком станет, я не знаю, что говорить, постареет. г. Уровень достижения целей В рассказах содержится надежда на то, что "все закончится благополучно", "все волнения будут позади" и т.д. (70 % рассказов, содержащих указания на будущее). Больной Л.М.Н. Пример N 10 (картинка ТАТ N 2) Робость и неуверенность овладели им. Опять нужно войти в эту дверь. Последний раз, когда заходил к директору, отношения не сложились. Директор сделал замечание за то, что работа была не выполнена. И сейчас, когда еще не все сделано, его снова вызывают. Неуверенность и робость овладели им. Раз уж так получилось, ему все-таки придется войти в эту дверь, что бы его ни ожидало. Надежда на то, что все обойдется, не покидала его. Он нажал ручку двери. Однако, характеристика будущего дается в рассказах больных очень обобщенно, не конкретно (в отличие от рассказов здоровых испытуемых). д. Сюжеты рассказов Материал ТАТ Хакхаузена ориентирован на производственную тематику, поэтому основная часть рассказов и больных, и здоровых испытуемых локализуется в этой сфере. Вместе с тем, в обеих группах наблюдаются и иные разработки сюжета. Сводные результаты приводятся в Таблице 2 (в % к общему количеству рассказов по группе). Таблица 2 Группы испытуемых Сюжетные линии рассказов Личная, семейная темы Карьера, достижение, благополучие Пенсия, старость Болезнь или смерть Больные ХПН 12 4 10 4 Здоровые испытуемые 20 20 3 4 Из таблицы видно, что для больных менее значимой является тема достижений, карьеры, реже звучит личная тематика. В то же время для них более актуальны темы болезни, старости, ухода на пенсию и т.д. Вот типичные примеры сюжетов подобного типа. Больной П.А.М. Пример N 11 (картинка ТАТ N 2) Это небольшой чиновник, служащий, который пришел к директору подписать документы, но очень побаивается. Работает очень давно, и боится, что его уволят с предприятия за разные ошибки. Надеется получить пенсию, потому что лет у него порядочно. Больная Т.Д.И. Пример N 12 (картинка ТАТ N 5) Я думаю, что это два друга, которые придумали рационализаторское предложение и после работы остались и вытачивают на токарном станке деталь. У них это получилось, они очень довольны и счастливы. В будущем я думаю, они будут также придумывать новые детали и работать над этой мыслью. Стараться для производства сделать все возможное для улучшения обработки этих деталей. В прошлом они были дружны с детства, вместе учились, дружат семьями. Мысли: "Оставить после себя хорошие знания, научить молодежь хорошо работать, как они, и уйти вместе на пенсию". Рассказ больного Л.М.Н. Пример N 13 (картинка ТАТ N 6) Как всегда, он раньше всех пришел в свой рабочий кабинет. У него была бессонница, и он выходил рано из дома и приходил на работу тогда, когда там еще никого не было. Не было и гардеробщика, и он раздевался на своем рабочем месте. Он думал: "Когда же все это кончится?" И каждый раз загадывал обратиться к врачу по поводу бессонницы. Но как всегда откладывал это на следующий день. К 8 часам приходили сотрудники. Они привыкли видеть его в кабинете раньше всех. Это началось давно и вошло в традицию, никто не придавал этому значения. Таким образом, качественный анализ рассказов ТАТ позволяет выделить следующие характерные для больных особенности: повышение значимости настоящего момента, сведение событий прошлого и возможного будущего к настоящему, т.е. феномен смещения времени; неопределенность и неразработанность представлений о будущем; доминирование темы болезни, смерти, ухода на пенсию в сюжетах рассказов; стремление к разрешению проблем за счет помощи "со стороны", а не собственной активности. Сопоставляя эти данные с результатами исследования динамики формирования ВКБ, можно отметить наличие общих черт. Главная из них — изменение жизненной перспективы, задающей основное направление личностного развития индивида. Для сравнения приведем данные методики "Незаконченные предложения", дающие представление о том, как на разных этапах лечения гемодиализом меняется оценка перспективы будущего у больных ХПН (в % к общему числу фраз, содержащих тему будущего). Таблица 3 Характеристика окончаний фраз по теме будущее Этапы лечения до лечения начало лечения хронический гемодиализ хронический гемодиализ фрагментированная ВКБ 1. Неопределенная формулировка с положительной оценкой 36 30 25 25 2. Выздоровление, выписка из больницы 25 45 23 14 3. Общее количество положительных оценок 61 75 48 39 4. Неопределенная формулировка с отрицательной оценкой 4 2 11 14 5. Отрицание старости 11 0 12 19 6. Общее количество отрицательных оценок 15 2 23 33 7. Не связаны с заболеванием 24 23 29 29 Из таблицы видно, что общее количество положительных оценок жизненной перспективы уменьшается на этапе хронического гемодиализа почти вдвое, в то же время растет в таком же соотношении количество отрицательных оценок (т.е. надежда гаснет). Мы уже отмечали выше, что меняется при этом эмоциональное состояние больных: от эйфории на начальном этапе лечения до появления депрессивных переживаний в дальнейшем. Смена знака эмоции — надежный показатель происходящей внутриличностной перестройки. Суть последней состоит в том, что возникший на первых этапах лечения мотив "сохранения жизни" (отраженный в динамике мотивационного звена ВКБ) постепенно упрочивается, становясь ведущим в иерархии. По данным наших наблюдений, на начальных этапах заболевания мотив "сохранения жизни" является ситуационным. Он актуализируется в периоды резкого ухудшения состояния: больные начинают активно обследоваться, ограничивать прием жидкости, соблюдать диету, контролировать свой вес, следить за результатами анализов, искать новые методы лечения. В структуре внутренней картины болезни ведущим является эмоциональный уровень: страх, тревога по поводу возможного лечения. Больные стремятся оттянуть его начало, выписаться из стационара, вернуться к прежнему образу жизни. Болезнь характеризуется как препятствие на пути достижения жизненных целей, и забота о своем здоровье в этот период прежде всего является необходимым средством для продолжения привычной деятельности (работа, учеба, воспитание детей). Ситуационный мотив "сохранения жизни" подчинен более дальним мотивам, обладает определенной побудительной силой, но не несет смыслообразующей функции. При переходе к хроническому лечению у больных наступает период "общего недовольства", который особенно выражен у больных с неадекватной (завышенной) моделью ожидаемых результатов лечения. Резко меняется общее настроение, поведение больных. Сужается сфера их интересов, они поглощены анализом своего состояния, раздражительны, конфликтны, труднодоступны, отрицательно относятся к экспериментально-психологическому обследованию. Все окружающее — поведение медперсонала, родственников, обстановка в отделении — начинает оцениваться с точки зрения того, помогает это процессу лечения или нет. Наступление этого периода можно считать началом перестройки мотивационной сферы личности по типу выдвижения в качестве ведущего — мотива "сохранения жизни". В последующем меняется вся система отношений больных: значимыми становятся только те события в окружающей действительности, которые не противоречат ведущему смыслобразую-щему мотиву "сохранения жизни". Иными становятся критерии оценки деятельности врачей и медицинских сестер. Если на начальных этапах заболевания и лечения, когда мотив "сохранения жизни" не был ведущим, для больных были более важными личностные особенности медперсонала (мягкость, доброжелательность и т.п.), то сейчас предпочтение отдается их чисто профессиональным качествам. Оправдывается резкость в поведении врача, который по профессиональным качествам оценивается очень высоко. Привычные формы деятельности при сохранении своего внешнего вида меняют внутреннее содержание, наполняясь новым, связанным с болезнью, смыслом. Так, даже работа, кроме возможности самореализации, достижения материального благосостояния, может стать способом отвлечения от болезни, физкультура — методом лечения. При антагонизме мотива "сохранения жизни" ранее действовавшим мотивам, невозможности включения их в деятельность лечения в качестве целей, они теряют актуальность, лишаются смысла. Человеческая деятельность из полимотивированной в норме становится весьма бедно мотивированной, что проявляется как в реальной жизни больного, так и в клинической картине личностных изменений. Аутизация, замкнутость, отчужденность, обеднение эмоциональной сферы, пассивность больных с тяжелыми соматическими заболеваниями, описанные в клинических и психологических исследованиях, в значительной степени обусловлены сужением круга актуальной мотивации. Доминирование ведущего мотива "сохранения жизни" придает особую специфику всей психической жизни больного, налагает отпечаток на особенности восприятия, мышления, переструктурирует систему ценностей, все его мироощущение. Больные сами отмечают, что "все стало другим", "теперь я ко всему по-другому отношусь". То, что раньше радовало, привлекало, казалось важным, теряет свою привлекательность, лишается смысла, зато появляются ранее не свойственные интересы, повышенная эгоистичность. Больные становятся более равнодушными, сужается диапазон событий, представляющих для них эмоциональную значимость. Ограничиваются контакты с окружающими. Творческая активность сменяется стремлением к стереотипному выполнению работы. Доминирование мотива "сохранения жизни" ведет к формированию ограничительного поведения: инертности, снижению жизненной активности больного, если такая жизнь противоречит этому мотиву. Либо формируется новый смысл привычной деятельности, если она включается в структуру мотива "сохранения жизни" в качестве цели. Это приводит к возникновению самых разнообразных "уходов": в болезнь, в работу, в семью, в общественную деятельность. В дальнейшем подобные цели способны снова получать собственную побудительную силу, но уже по механизму "сдвига мотива на цель". Происшедшая в ходе лечения перестройка в мотивационной сфере личности, выдвижение на первый план нового смыс-лообразующего мотива "сохранения жизни" у части больных приводит к формированию и новой ведущей деятельности — по сохранению здоровья, по контролю за своим состоянием. Если на начальных этапах заболевания осуществление контроля за своим состоянием проводилось не всегда регулярно и было подчинено цели — вернуться к труду, то впоследствии забота о своем состоянии становится основным смыслом жизни. Одним из условий формирования новой ведущей деятельности являются преморбидные особенности личности. Как правило, люди, приобретающие такую установку — это люди, смысл жизни которых до заболевания заключался преимущественно в производственной деятельности и ситуация, в которую они попали в связи с лечением и заболеванием постепенно приводит к потере ими смысла жизни. Резко сужается круг интересов (и до заболевания не отличавшийся широтой), больные становятся пассивными, много лежат в постели, мало читают, целиком погружены в свое состояние. Наряду с перестройкой иерархии мотивов происходит "сокращение временной сферы мотивации". Больные обеспокоены и заняты только ближайшими во времени событиями, переоценивают их и недооценивают значимость отдаленных во времени событий, "живут одним днем". Экспериментальным подтверждением этого является несоблюдение инструкции по типу нарушения временной перспективы и феномен "смещения времени", выявленные при составлении больными рассказов по картинкам тематического апперцепционного теста. Подобная "смысловая смещенность" больных на события настоящего времени, наполнение их личностным смыслом способствует снижению тревоги относительно неопределенного будущего и имеет, по всей видимости, защитный характер. Интересным представляется сопоставление нарушений мотивации у больных с тяжелыми соматическими заболеваниями и больных шизофренией (Коченов М.М., 1977; Коченов М.М, Николаева В.В., 1978). Как и у тяжелых соматических больных у больных шизофренией одним из центральных симптомообразующих механизмов выступают нарушения смыслообразования и искажение иерархии мотивов. Снижение побудительной и смыслообразующей функции мотива у больных шизофренией происходит за счет актуализации неадекватных, часто просто патологичных по своей природе мотивов, тогда как у больных с тяжелыми соматическими заболеваниями ведущий мотив всегда понятен и лишь с известной долей условности может быть назван "патологичным". Снижение побудительной и смыслооб-разущей функции происходит за счет несоответствия ведущему мотиву, по механизму сдвига цели на мотив. Иными словами, нарушение мотивации при шизофрении само есть компонент патологического процесса, тогда как у тяжелых соматических больных — следствие, реакция на него. Основной особенностью больных шизофренией является то, что среди мотивов, актуализирующихся в ситуации исследования, не находится таких, которые придали бы задаче достаточно целостный и глубокий личностный смысл. Особенностью больных с тяжелыми соматическими заболеваниями является то, что актуализирующиеся в экспериментальной ситуации мотивы не имеют достаточно собственной побудительной силы и приобретают смысл, лишь если осознаются как цели в структуре ведущего мотива. Тем не менее, несмотря на различие в источнике, мотива-ционные нарушения приводят к некоторому сходству клинической симптоматики, налету своеобразной "шизоидизации" больных с тяжелыми соматическими заболеваниями, проявляющиеся в аутизме, самоизоляции, отчужденности, эмоциональной уплощенности, "инкапсулированности", "отрешенности" (Ромасенко, 1961). С явлениями сужения временной перспективы и перестройки иерархии мотивов сходны проявления нусогенных неврозов, описанные у пациентов, находящихся в критических ситуациях (Франкл, 1989). По-видимому, обеднение мотивации по механизму сдвига цели на мотив (Тхостов А.Ш., 1980) характерно для любых тяжелых заболеваний. Глава 3 Социокультурные стереотипы отношения к тяжелобольным как условие изменения личности Человек, заболевший тяжелой болезнью, перенесший операцию и возвращающийся к жизни, работе, общению, вынужден учитывать множество новых условий, изменений, внесенных болезнью в его жизнь. Человек вынужден учитывать эти изменения, понимать их и приспосабливаться к ним, если он стремится строить свою активную деятельность таким образом, чтобы она оставалась успешной, протекала без срывов, приносила желаемый полезный результат. Таким образом, личность пересматривает и трансформирует всю преморбидно сложившуюся мотивационную структуру, соотнося ее с новым состоянием организма. В этой связи возникает вопрос о том, какова динамика мотивационных изменений в отдаленном катамнезе, т.е. в тот период, когда больные уходят из стационара в "открытое общество", получая тем самым возможность в полной мере испытать на себе новое качество жизни. Кроме того, важно оценить и то, насколько общество готово принять больных, оказать им поддержку, действенную помощь (кроме выражения сочувствия, сострадания и выплаты пенсии по инвалидности). Для ответа на эти вопросы нами совместно с дипломницей Дмитриевой Е.В. было предпринято специальное исследование. Мы предположили, что утвердившиеся в нашем обществе социокультурные стереотипы отношения к тяжелобольным могут способствовать нарастанию социальной и психологической беспомощности и бесперспективности жизни. Последнее становится важным условием формирования все более нарастающей психологической инвалидизации, повышающей вероятность возникновения личностных аномалий. В любом обществе "технологически" заложена роль больного, задающая системы нормативных свойств и связанных с ними оценок, которые несут на себе отпечаток данной культуры. В каждой культуре существует стереотип, статус больного. В каждой культуре существует также стереотип восприятия пос-леоперационого больного. Таким образом, к больным, попадающим, например, из хирургических клиник в жизнь, социальная среда поворачивается достаточно определенными гранями. Существующая в обществе информация о человеке как о больном, перенесшем хирургическую операцию, создает систему определенных ожиданий по отношению к нему со стороны людей, вступающих с больным во взаимодействие. Система ролевых отношений не является пассивной структурой. Это как бы "сеть" линий, по которым направляется энергия и активность человека, которому предписывается роль больного. В первую очередь, активность и энергия человека направляется ближайшим ему окружением, а также, — общественной системой в целом. По этим "линиям" активность человека может осуществляться наиболее легко, не встречая сопротивления; наоборот, человек как бы "подталкивается" в определенную сторону. Если человек внутреннее не согласен с предлагаемой ему социальным окружением ролью больного, задающей характер и направление его психической активности, ему приходится преодолевать определенное "сопротивление" социальной среды. Это может затруднять реадаптацию человека, особенно в тех условиях, когда он ослаблен тяжелой болезнью и операцией, не восстановил в достаточной степени свой физический потенциал. Таким образом, важным фактором, оказывающим влияние на изменения в мотивационной структуре личности в связи с болезнью и на отражение этих изменений во внутренней картине болезни, являются социокультурные стереотипы болезни, формирующие систему ожиданий общества по отношению к заболевшему человеку. Для изучения системы ролевых ожиданий была разработана анкета, для исследования характера внутренней картины болезни был создан опросник, состоящий из 94 пунктов. В процессе сбора клинического материала для создания опросника использовались метод клинической беседы, методика самооценки Дембо-Рубинштейн, методика определения уровня субъективного контроля, методика "ценности". Для воссоздания общей картины психического состояния больных, наиболее информативной оказалась структурированная клинико-психоло-гическая беседа. В методике изучения самооценки Дембо-Рубинштейн, помимо четырех традиционных шкал — "здоровье", "ум", "характер", "счастье" — использовались пять дополнительных шкал: "выносливость", "будущее", "семья", "друзья", "работа". На каждой из шкал испытуемый должен был поставить три отметки: до болезни, в данный момент, и предположительно в будущем. Методика "ценности" содержит два набора обобщенных понятий, по 18 в каждой группе, характеризующих личностные черты (интернальные, операциональные ценности) и жизненные цели (экстернальные, терминальные ценности). Испытуемый самостоятельно расставляет ценности в порядке их значимости для него. Методика характеризует индивидуальную структуру системы морально-нравственных категорий испытуемого, систему его ценностных ориентаций, являющихся регуляторами социального поведения. Проводилась качественная и количественная обработка полученных данных. Расчетные работы проводились на IBM PC АТ при помощи пакета программ, специально созданного для анализа данных. Обработка проводилась по следующим этапам: Категоризация ответов испытуемых на анкету и опросник. Распределение испытуемых по группам в зависимости от анкетных данных. Проведение частотного анализа ответов испытуемых по выделенным категориям. Сравнительный частотный анализ категорий ответов по группам испытуемых. На этом этапе заканчивался количественный анализ данных полученных в результате ответов на вопросы анкеты. Дальнейшие процедуры математического анализа применялись только к данным ответов на опросник. В связи с большим количеством вопросов (94 вопроса) и небольшим количеством испытуемых (50 человек) проводить факторный анализ данных, полученных с помощью опросника, представлялось математически неграмотным. Вопросы были разделены на тематические группы. Был проведен корреляционный анализ результатов по выделенным тематическим группам. Качественный анализ результатов проводится на отдельных этапах количественной обработки данных, а также в заключение количественной обработки с целью наиболее адекватной интерпретации данных и на этапе сопоставления результатов, полученных по двум методикам. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМЫХ 1. Анкетированное население Были опрошены 51 человек, не страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС) и не имевшие операций на сердце: 17 мужчин (средний возраст 39,7 лет) и 34 женщины (средний возраст 42,5 лет) в возрасте от 28 до 55 лет (средний возраст 38,5 лет). Таблица 4 Мужчины и женщины л. менее 30 Женщины 30-40 л. Женщины 40-55 л. Мужчины 30-40 л. Мужчины 40-55 л. Количество (чел.) 5 20 10 8 9 Средний возраст 28 36,9 49,2 32.3 47,1 Профессиональный состав испытуемых: рабочие, работники торговли и сферы услуг, инженеры, научные работники, преподаватели ВУЗов, школьные учителя, художники, журналисты. Было опрошено также 13 руководителей разных рангов. 2. Больные, обследованные в стационаре В процессе разработки опросника было обследовано 17 больных ИВС (мужчин), средний возраст — 44,7 лет. 14 больных перенесли операцию аорто-коронарного шунтирования (АКШ) (средний возраст 44,0 лет). Продолжительность периода после операции составляла от 0,5 до 2-х и более лет. 1 больной находился на обследовании с целью выяснения показаний к операции и необходимости операции. больной, перенесший двумя годами раньше операцию АКШ, находился на обследовании с целью выяснения возможности повторной операции АКШ. больных были обследованы в отделении реабилитации после только что проведенной (0 — 1 мес.) операции митрального клапана. 3. Больные, обследованные с помощью опросника Возраст больных, которым был разослан опросник, варьировал от 32 лет до 58 лет (считался возраст больных на момент операции). Продолжительность катамнестического периода варьировала от 1 года до 4 лет. Опросник был разослан 134 больным. Получены ответы на опросник от 48 больных. Таблица 5 Распределение больных, ответивших на опросник в зависимости от их возраста и даты операции АКШ Дата АКШ Возраст больных 33-34 36-40 41 45 46-50 51-55 57 1984 1 3 1986 2 2 4 1 1987 1 1 1 4 2 1988 1 4 3 12 2 1989 2 1 1 - Из клинических показателей контролировалась только продолжительность пребывания в отделении реабилитации. У больных, приславших ответы, она варьировала от 10 до 170 дней (у 60 % больных — от 15 до 55 дней). 4. Медицинский персонал Записаны на магнитофонную пленку ответы на вопросы о больных ИБС медсестер отделения реанимации 20 городской клинической больницы и медсестер отделения реабилитации 15 городской клинической больницы г.Москвы. Разработка методик Изучение влияния социокультурных стереотипов на процесс реабилитации больных, перенесших операцию АКШ — выдвигает задачу сбора двух массивов данных: социально-психологических данных (представлений о "роли больного ИБС, перенесшего операцию АКШ", существующих в обществе) и данных об изменениях в личностной структуре человека, вызванных ишемической болезнью сердца и операцией АКШ. Для сбора этих данных и разрабатывались анкета и опросник. В основу разработки анкеты была положена гипотеза о том, что в обществе существует представление о больных ИБС, перенесших операцию АКШ, которое способствует принятию этими больными социальной позиции инвалидности. Цель создания анкеты состояла в том, чтобы обеспечить сбор социально-психологической информации, подтверждающей или опровергающей эту гипотезу. Для создания анкеты необходимо было предварительно составить общее представление об изучаемом явлении, а также сформулировать вопросы так, чтобы они обеспечивали достоверную информацию. С этой целью в качестве средства сбора первичной информации использовалось нестандартизированное интервью, в котором формулировки вопросов и их последовательность не определены заранее. Интервьюер руководствуется лишь общим планом, который представляет собой перечень основных вопросов по теме. С помощью зондирующих вопросов уточняются форма и содержание основных вопросов, которые должны войти в анкету. Этот вид интервью по форме приближается к обычной беседе и вызывает более естественные ответы, дает возможность гибко приспосабливаться к индивидуальной ситуации и получать более глубокую информацию. Он позволяет варьировать предварительные формулировки вопросов и впоследствии стандартизировать их по смыслу, а не по случайным и поверхностным связям. Проведение нестандартизованного интервью с 17 интервьюируемыми позволило установить, что большинство опрошенных ничего не знают о данном контингенте больных или имеют самые общие представления о них. В связи с этим вопросы о конкретных особенностях состояния больных пришлось исключить. Была изменена формулировка некоторых вопросов, т.к. она "подталкивала" интервьюируемого к определенному типу ответа, или содержала психологические термины, требующие дополнительного пояснения. Большая часть вопросов, касающихся семьи и личной жизни больных была исключена, т.к. практически не представляя себе операции АКШ и ее последствий, интервьюируемые или отказывались отвечать или приводили общие рассуждения об операции вообще и о больных ишемической болезнью сердца вообще. Была изменена вступительная часть интервью, которая впоследствии вошла в анкету: в нее была включена общая информация о характере операции и о данном контингенте больных. Такое включение было вызвано почти полным отсутствием представления об интересующей проблеме среди опрошенного населения и введением вопросов, содержащих воображаемую, "игровую" ситуацию ("представьте себе, что ..."). Некоторые детали информации, содержащейся во вступительной части были намерено искажены: указывалось, что по данным медицинских обследований у большей части больных значительно улучшилось физическое состояние, однако, несмотря на это, больные годами не работают. Такое утрирование послеоперационной картины сосредотачивало внимание интерь-вюируемых на социальных и психологических проблемах больных, а также могло создать более психотерапевтическую для больных атмосферу в случае контакта интервьюируемых с этими больными в жизни. Был изменен порядок задаваемых вопросов. При этом учитывалась динамика возникновения межличностного контакта между интервьюируемыми и интервьюером. В начале интервью доверие ниже, затем оно обычно возрастает. Поэтому вопросы, задаваемые в середине или в конце являются более надежным показателем реального мнения. Н.Рокич и В.А.Ядов различают "аттитюд на объект опроса" и "аттитюд на ситуацию опроса". Между ними нередко существует расхождение. В конце интервью, когда напряжение ситуации опроса спадает, опрашиваемые нередко говорят о важных вещах, которые в ходе официального интервью казались им неприемлемыми. Именно поэтому вопрос о семейных проблемах больных задавался последним. В результате обработки в ходе нестандартизированного интервью были сформулированы 12 вопросов, которые и вошли в анкету. Вопросы касаются общей информированности о данном виде операций; трудовой и профессиональной перспективы больных: мнения о необходимости инвалидности; представления о тяжести заболевания и операции; мнения о наилучшем образе жизни; о характере помощи от общества, в которой могут нуждаться эти больные, представления о роли семейных отношений в принятии или непринятии ими позиции инвалида. Большая часть вопросов направлена на выявление мнения об отношениях, мотивах и нормах поведения. Как известно, в ответах на эти вопросы испытуемые наиболее часто проявляют неискренность, уклоняются от ответов. Поэтому возможно различие между ответом на вопрос и действительным мнением о поведении опрашиваемого. Контроль достоверности ответов осуществлялся с помощью следующего приема: один и тот же вопрос формулировался так, чтобы в одном случае человек мог посмотреть на ситуацию со стороны, а в другом — поставить себя в эту же ситуацию и взглянуть на нее "изнутри". Основным средством сбора предварительной информации для разработки опросника служила структурированная клини-ко-психологическая беседа. Она проводилась по плану, который создавался постепенно в ходе психологической работы с больными. Беседа была направлена на получение от больного информации о ходе болезни, удовлетворенности лечением, отношении больного к заболеванию и его причинам; выяснялось отношение больного к работе и динамика этого отношения в ходе болезни, динамика производственных и семейных отношений. Подробно выяснялись особенности образа жизни больного после операции. Больному задавались вопросы, касающиеся его планов на будущее, жизненной перспективы. Попутно обращалось внимание на эмоциональный подтекст информации, на те моменты, которые вызывали наиболее сильные эмоциональные реакции больных, на наличие страхов, тревоги; отмечались особенности механизмов самоконтроля, саморегуляции. Текст клинических бесед с больными записывался на магнитофонную пленку, затем были составлены их протоколы. Необходимо отметить, что целью сбора психологического материала методом клинической беседы было определение основных областей психологического анализа, разработка структуры анализа, уточнение вопросов, которые впоследствии должны были войти в состав опросника. Задача статистической обработки данных, содержащихся в протоколах клинических бесед с больными, не ставилась. При анализе протоколов клинико-психологической беседы подтвердилась взаимосвязь между общеобразовательным уровнем испытуемых и их ценностной направленностью. Больные ИБС с более низким образовательным уровнем, а также занимавшиеся до болезни физическим трудом, ориентируются на сохранение здоровья как высшую ценность (за исключением тех случаев, когда более важными оказываются материальные вопросы). Характерно то, что в начальный период после oпeрации (0-0,5 года) выбор между ориентацией на здоровье и ориентацией на ценности жизни часто выглядит у больного утрированно. Больные или усиленно обосновывают бессмысленность дальнейшей производственной деятельности и строят непростые планы дальнейшей спокойной жизни (приобретение дома, переезд в более благоприятные для здоровья районы), или не хотят после выхода из больницы ни дня оставаться без работы. Третья категория больных, пытающаяся совместить последствия болезни с прежним образом жизни, находится в мучительном состоянии решения тяжелой задачи, кажущейся им непосильной. У всех больных отмечается высокая тревожность, характер которой меняется с увеличением продолжительности послеоперационного периода. На этапе сразу после операции она имеет более физиологический, сенсорный характер и связана с последствиями операции, наркоза и искусственного кровообращения. Позже явления тревожности достаточно быстро видоизменяются, тревога связывается с препятствиями и угрозой, которую создает болезнь для личности. Помимо вербальных форм выражения, высокая тревожность проявляется в поведении больных, манере держаться, внезапных эмоциональных порывах, особенно когда тема клинической беседы касается будущего больных. В целом тревожность у большинства больных носит скрытый характер, который усиливается с увеличением продолжительности катамнеза. Можно предположить, что наиболее напряженный в моти-вационном отношении период — около 0,5 года после операции. С увеличением продолжительности катамнеза до 1 года напряженность и тревожность больных внешне уменьшается. Наступает относительная адаптация больных к изменившейся жизненной ситуации, которая, вероятно, не всегда успешна с психологической точки зрения. Можно предположить, что эмоциональная напряженность и тревожность больных свидетельствуют о наличии "реабилитационной мотивации". Она существует тогда, когда есть разница между существующим самоощущением и желательным ощущением своего "Я", к которому человек стремится. Больные с продолжительностью послеоперационного периода 2-4 года, имеют уже сложившийся заново образ жизни. Он представаляет собой сложную картину из тесно переплетенных проблем, отраженных в мотивационной сфере больного (нужно отметить, что на повторное обследование вызываются лишь те больные, у которых болезнь "вернулась" в значительном объеме). Особенно запутанными выглядят проблемы, если человек не работает все годы после операции. В этом случае болезнь иногда перестает осознаваться центром, вокруг которого наслаиваются жизненные трудности, а лишь одним из столь же непреодолимых препятствий, которыми заполнены все области жизни больного. У человека формируется устоявшееся мнение о трудностях своей жизни, как неизбежных, как его судьбе. Собранный методом структурированной клинико-психоло-гической беседы материал позволяет предположить, что прогноз психологической реабилитации тем благоприятнее, чем более острое начало имеет ишемическая болезнь сердца, чем короче период от начала болезни до операции, чем меньше инфарктов перенес больной. Наиболее благоприятный с точки зрения прогноза психологической реабилитации возраст, вероятно, 35 — 45 лет. У больных, перенесших операцию АКШ в этом возрасте наиболее часто происходит успешная социальная реадаптация. Более благоприятными в реабилитационном отношении выглядят те случаи, когда "пик" психологического кризиса, связанного с резкой переменой привычного течения жизни в результате заболевания, приходится на дооперационный период. Очевидно, в этом случае больные оказываются заранее психологически подготовленными к трудностям послеоперационного периода. Подтвердилось также, что процесс реабилитации происходит успешнее, если в момент начала или обострения заболевания больные работают, чем в тех случаях, когда они находятся в это время на инвалидности по каким-либо причинам. Конечно, отмеченные выше тенденции проявляются в зависимости от общего уровня здоровья организма, наличия послеоперационных осложнений. По окончании клинической беседы больные выполняли по просьбе психолога методики "самооценка", УСК, "ценности". Правда, провести эти методики удавалось не всегда, так как некоторые больные к концу беседы сильно уставали. При выполнении методики "самооценка" испытуемым предлагалось оценить себя до болезни, на текущий момент и на будущее. По шкалам "самооценки" большинство больных выставляло оценки выше среднего уровня; 3 больных выставили крайне высокие оценки по всем шкалам (выше 90 % -ной отметки). Обратило на себя внимание несколько раз отмеченное противоречие направлений изменения оценок по шкале здоровья направлению изменения оценок по всем другим шкалам методики (если здоровье представлялось восстановившимся до высокого уровня, то показатели счастья, удовлетворенности работой, уверенности в будущем, уверенности в себе значительно снижались и наоборот). Результаты по методике измерения УСК показали средний и несколько ниже среднего уровень субъективного контроля у больных, однако уровень интернальности в области здоровья всегда отличался от среднего. Обратила на себя внимание следующая тенденция: совпадение уровня общей интернальности с интернальностью в области межличностных отношений и противопоставленность интернальности в области здоровья двум вышеуказанным показателям (в среднем разница составляла 2,7 стена). Эти результаты аналогичны результатам по методике "самооценка". Методика "ценности" вызывала глубокий интерес у большинства больных, далее в тех случаях, когда отмечалась значительная усталость. Некоторые из них просили оставить им карточки с записанными на них ценностями на несколько дней, чтобы не спеша подумать над ними. Это позволяет выдвинуть предположение об актуальности вопросов, связанных с ценностной переориентацией для опрошенных больных. Тенденции, намеченные в ходе структурированной клини-ко-психологической беседы с больными, стали основными линиями построения опросника: "работа", "взаимоотношения с близким окружением", "жизненная перспектива, планы на будущее", "внутренняя картина болезни", "механизмы саморегуляции и самоконтроля", "мировоззрение, личностная позиция", "диета, медобслуживание, лечение". С помощью опросника планировалось решать следующие задачи: собрать информацию о содержании катамнестического периода в зависимости от его продолжительности; охарактеризовать внутреннюю картину болезни у больных ИБС, перенесших операцию АКШ, в отдаленном послеоперационном периоде; включить в опросник "встречные" вопросы к анкете, с целью сопоставления взаимного влияния больных и их ближайего окружения в процессе реабилитации; включить в опросник, наряду с вопросами, требующими ответов "да" и "нет", вопросы, требующие свободной формы ответов, для того, чтобы собрать дополнительную информацию по недостаточно очерченным темам, и впоследствии использовать эту информацию для доработки опросника. В процессе разработки опросника использовались также методики ММР1, 16-факторный личностный опросник Кэттэла, опросник экстраверсии-интроверсии Айзенка: опросник тревожности Тейлор, опросник личностной и ситуационной тревожности Ч.Спилбергера. Результаты исследования социокультурных стереотипов "роли больного ИБС, перенесшего операцию АКШ" Опрос с помощью анкеты производился в основном на предприятиях, в производственной обстановке. Впоследствии отвечавшие были разделены по полу и возрасту на 5 групп: "мужчины и женщины моложе 30 лет", "женщины от 30 до 40 " "женщины старше 40 лет", "мужчины от 30 до 40 лет", "мужчины старше 40 лет". Исследование показало, что социокультурные стереотипы восприятия окружающими данного контингента больных не сформированы. 49 % опрошенных ничего не слышали об операции АКШ или слышали очень мало. 28 % опрошенных говорят, что "слышали немного", однако, возможно, они путают этот вид операции с другими операциями на сердце. 9,3 % опрошенных знают, что делаются операции по замене клапанов, но не слышали об операции АКШ. 11,6% опрошенных имеют родственников или знакомых, перенесших эту операцию, и, следовательно, имеют о ней некоторое представление. Всего одна женщина (из 51) подробно и правильно описала характер операции и состояние больных после нее. Как показывают ответы на другие вопросы, люди, имеющие слабое представление об операции, склонны утяжелять ее характер и последствия. 71% опрошенных не знают и не могут представить, как живут люди, перенесшие операцию АКШ. По представлениям остальных больные живут очень плохо. 1 человек признался, что "ему вообще не верится во все это". 7% опрошенных ответили, что, по их мнению, это жизнь на грани между инвалидностью и нормальным существованием. Надо заметить, что информированность о данном контингенте больных не зависит ни от возраста, ни от профессии, ни от занимаемой должности. В целом, она носит случайный характер. На вопрос, как строились бы отношения с таким сотрудником, перенесшим операцию, 25 % опрошенных ответили, что относились бы к нему более бережно, с пониманием, 16% — максимально щадили бы его. С другой стороны, 16% опрошенных признались, что за сознательно добрым и щадящим отношением подсознательно скрывалось бы недовольство из-за того, что приходится "все брать на себя". 9% опрошенных относились бы к больным с опаской, настороженно, 7% заявили, что на их работе такая ситуация невозможна, 11,5% считают, что рабочие отношения должны строиться без всяких поблажек. В целом выявились 2 позиции, в отношении к сотруднику, перенесшему операцию АКШ: "мужская" и "женская", причем реально каждая из них может принадлежать лицам обоего пола; скорее, прослеживается их зависимость от кругозора, активности, деятельного или пассивного характера опрашиваемого. Люди с "мужской" позицией реагируют более полярно: готовы относиться к больному или "как к хрустальной вазе", или с позиции "дело есть дело". Лица, имеющие "женскую" позицию: больше настроены на опеку, сочувствие, поддержку в любой момент, понимание. "Женская" позиция несколько преобладает в целом (57%) и среди женщин (70%), хотя нужно сказать, что подчеркнуто "мужская" позиция часто встречается именно у женщин — руководителей (43%). На вопрос: "Взяли бы Вы на работу такого сотрудника, если бы были руководителем", большинство (54,3%) ответили "нет", причем женщины были более категоричны в ответах. В ответах "да", преобладавших среди людей после 40 лет, явно или не явно присутствовало признание, что больного взяли бы на работу "из жалости". Остальные 41,3% опрошенных отвечали, что принятие на работу зависит от знаний и интеллекта человека, от его деловых качеств, его характера, возраста. Среди руководителей наблюдался значительно меньший разброс ответов: 58,3% категорических ответов "нет", и 33,3% ответов "в зависимости от знаний, интеллекта и деловых качеств". Причиной инвалидности большинство опрошенных считают, "жуткий страх", приписываемый больным сердечными заболеваниями, шок после операции, связанный со смертельной угрозой, а также инерцию, трудность возвращения к работе после долгого перерыва, уход в болезнь. Вопрос "нужно ли выходить на инвалидность" опрашиваемые чаще всего оставляли открытым, добавляя условия: "к старости", "если она нормально оплачивается", "на первых порах". Около половины опрошенных (41,5%) ответили, что этот вопрос человек должен решать сам, что решение вопроса индивидуально, что "нужно что-то делать", а есть ли при этом инвалидность — неважно. Таким образом, большинство опрошенных на первое место ставят осмысленный личный выбор. Очень небольшая часть (20%) опрошенных дали ответ на вопрос о том, согласились ли бы они сами уйти на инвалидность. Вероятно, информация об операции АКШ слишком редко доходит до большинства людей, чтобы они имели возможность освоить, продумать ее лично. На вопрос, какие чувства в такой ситуации испытывали бы к близкому человеку, затруднялись дать ответ люди молодого возраста и мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Наиболее активно отвечали на этот вопрос женщины в возрасте от 30 до 40 лет. В целом, больше половины опрошенных ответили, что они испытывали бы к близкому человеку чувство сострадания, смешанное со страхом за него. Такое отношение может способствовать инвалидизации больных, подрывать их уверенность в своих силах. Нужно отметить, что лица моложе 30 лет в целом воспринимают данную проблему умозрительно, рассудочно, она их не затрагивает лично. Наиболее эмоционально проблема, обсуждаемая в анкете, воспринимается женщинами в возрасте 30-40 лет и мужчинами 40-50 лет и старше. Прослеживается зависимость ответов от широты мировоззрения опрашиваемого, которая в значительной степени, хотя и не всегда, связана с образовательным уровнем человека. На вопрос о возможности смены профессии для перенесоперацию АКШ большинство опрошенных (76,5%) ответили положительно. Многие отмечали, что новая профессия должна быть спокойной, не очень сложной и интересной для человека. Некоторые из опрашиваемых замечали, что больному может быть трудно свыкнуться с мыслью, что он не годится для старой работы. Таким образом, под новой профессией во многих случаях подразумевалась профессия типа "хобби". В ответах на вопрос о наилучшем для перенесшего операцию образе жизни общим у всех опрошенных было негативное отношение к работе в структуре какого-либо производства, учреждения, требующей выполнения в срок определенного объема работы, связанной с заданиями других сотрудников. При этом, благодаря тому, что вопрос повторялся дважды в разной формулировке, обнаружилась определенная скрытая динамика: мужчины и лица более молодого возраста сначала выбирали "прежний образ жизни, ни в чем себя не ущемляя", "сколько отведено, столько отведено", а при вторичном вопросе чаще вырисовывалась картина здорового образа жизни без работы, "без стрессов", с хорошим питанием, режимом, отдыхом без физических нагрузок, с постепенными физическими тренировками; женщины первоначально чаще предпочитали ответ "спокойный, без стрессов, ближе к природе", а при повторном вопросе довольно плавно переходили от стремления сделать свой образ жизни более осознанным, найти духовную пищу, увлечение вне рамок прежних занятий, к картине обособленной творческой работы, где нужна компетентность и увлеченность (т.е. к картине индивидуальной творческой трудовой деятельности), подчеркивая при этом обязательность общения. Ответы на вопрос о том, какая помощь от общества требуется этой категории больных, ответы разделились на 4 группы: 1) общество не в состоянии обеспечивать больных, оно само больно, и проблемы больных не больше и не меньше проблем, существующих у здоровых людей ("очереди, тяжести, нервы и комплекс неполноценности есть у всех"); 2) общество должно обеспечивать социальную защиту личности, сводя к минимуму бытовые заботы больных, трудоустраивая их, предоставляя им возможность жить в хорошем климате и т.д.; 3) в членах общества необходимо развивать чуткость, а больным нужна не гиперопека, а создание благоприятной психологической обстановки, помогающей им "не замкнуться"; 4) необходима целостная система медицинской помощи на всех этапах болезни и реабилитации. В области семейных отношений большинство опрошенных видели возможность серьезных проблем, связанных с необходимостью перестраивания всей структуры семьи, возможным эгоизмом больных, сексуальными проблемами. Несколько опрошенных ответило, что семья может оказывать двойное влияние на психику больных: служить и поддержкой, и зоной глубоких конфликтов. Незначительная часть опрошенных смогла сформулировать, что роль семьи состоит в создании доброжелательной обстановки, в моральной поддержке больного. Необходимость материальной поддержки упоминалась лишь двумя опрошенными. Таким образом, анализ данных анкеты показал, что у населения отсутствуют информация и целостное представление о больных ИБС, перенесших операцию АКШ. Результатом такого положения часто становится утяжеление картины состояния этих больных у окружающих. За щадящим и поддерживающим отношением к больным часто стоит в современных непростых экономических условиях скрытое негативное, отвергающее отношение, смешанное со страхом за состояние их здоровья и жалостью к ним. Более категоричные ответы руководителей подтверждают такое положение вещей. Мужское население, не всегда признаваясь в этом, считает невозможным продолжать прежнюю трудовую деятельность после подобной болезни и операции. В лучшем случае допускается "хобби" или обособленное, индивидуальное профессиональное занятие. Представление населения о том, какая именно помощь требуется этой категории больных, адекватны их состоянию с медицинской и психологической точки зрения, однако они нереалистичны в том смысле, что малоосуществимы при современном состоянии общества. Действительной помощи от общества больные, скорее всего, не получат. Реальная поддержка больным в описанной выше ситуации может исходить в основном со стороны их семей, однако большая часть опрошенных не может четко сформулировать, в чем эта поддержка должна состоять, осознавая лишь, что семейная ситуация больных чревата кризисами и конфликтами. Таким образом, в целом вырисовывается достаточно неблагоприятная в реабилитационном отношении картина. Особенности личности больных ИБС, перенесших АКШ. Анализ данных опросника Ответы 48 больных на каждый из вопросов опросника, категоризованные по смысловому содержанию, в основном представляют собой порядковые шкалы, распределяющие отвечающих на вопросы больных по их ответам от да" к "нет", или нормальные шкалы значений, не поддающиеся выстраиванию в порядковую шкалу. Следует отметить, что "ложь" в опроснике не контролировалась специальными вопросами, однако показателем несоответствия ответов испытуемых их истинным психологическим особенностям может служить несовпадение ответов на аналогичные по смыслу вопросы. Частотный анализ ответов больных по категориям показал, что на некоторые вопросы подавляющее большинство опрошенных (80-100%) дали одинаковые ответы. Такие вопросы являются неинформативными, т.е. не выполняют основной функции опросника как психологической методики: не дифференцируют испытуемых по психологическим характеристикам. Однако, с содержательной точки зрения эти вопросы представляют определенный интерес, т.к. позволяют выделить сходные черты, свойственные всему контингенту больных. Неинформативные вопросы показали, что все больные — люди деятельные, инициативные, однако их инициативность постоянно наталкивается в сфере работы на всевозможные преграды. У 92,4% работа в той или иной мере связана с нервными перегрузками. 85,8% предпочитают тип руководства, при котором можно самостоятельно определить, что и как делать. Для большинства ответивших (84,8%) болезнь была неожиданностью, однако существующая уверенность в психических причинах заболевания (91,3%) может указывать на психическое неблагополучие в период ее начала или обострения. По отзывам больных, до болезни их планы не встречали в семье противодействия (87%), поддержка семьи для них является значимой (80%), и они ее ощущают (86%). В момент опроса большинство больных имеют высокий уровень тревожности. Среди них преобладают люди, которые мало с кем делятся своими чувствами (83%), но при этом достаточно легко устанавливают взаимоотношения с окружающими (70%). 95,7% опрошенных беспокоят разнообразные боли. По отзывам больных (91%) общество не готово помочь им в решении их проблем, так как оно является антигуманным (25%), ничего не знает об операции АКШ (25%) и не готово помогать материально (16%). Материальный недостаток для больных на момент опроса связан с интеллектуальной и нравственной сторонами жизни (81,6%). Анализ собранного материала по темам привел к следующим результатам. За время, прошедшее после операции, больные не стали менее общительными, контактными, но их взаимоотношения с окружающими изменились. Это связано с тем, что, по мнению больных, окружающие не представляют себе их проблем и не поддерживают тот образ жизни, который больные хотели бы вести. Сопоставляя это мнение с тем, что больше половины больных хотят в будущем вести спокойный, щадящий образ жизни (21,9% — здоровый физически и психически щадящий образ жизни, 25% — активную, как до болезни, жизнь), можно предположить, что окружающие находят подходящим для больных еще более умеренный образ жизни, чем они сами. Действительно, многие окружающие больных люди поддерживают их уход на инвалидность, приписывают им роль больного; другая часть окружения безразлична к проблемам больных. Семья как бы "амортизирует" трудности реадаптации больных после операции. Несмотря на резкое изменение образа жизни после операции, значительно повысившуюся раздражительность и несдержанность в кругу семьи, семейные отношения и обычное течение жизни в семье резко изменились у небольшой части больных. Почти все больные отмечают, что они получают семейную поддержку, но в ее надежности половина из них не уверена. Продолжая, с одной стороны, считать себя ответственными за будущее семьи, значительная часть больных чувствуют себя неспособными гарантировать близким материальную поддержку, ожидая, наоборот, поддержки с их стороны. Больше половины больных считают, что они превосходят других людей в моральных, душевных качествах и уступают им в силе воли и силе "Я". Для больных, таким образом, имеют высокую ценность идеал сильного "Я", который по их мнению, ими не достигается, и "излишняя" душевность, мягкость, мешающая им развивать волевые качества личности. Отношение значительной части больных к своему здоровью изменилось. Это изменение, однако, противоречиво. С одной стороны, большинство считают себя ответственными за свое здоровье; с другой стороны, лишь 28% больных считают себя виноватыми в возникновении ИБС. Многие винят себя в невнимательном отношении к своему здоровью в прошлом. Большая часть больных считают, что вредных для здоровья факторов можно избежать, однако сами не чувствуют себя в состоянии справиться с этой задачей: лишь 40% из них может определить степень нагрузки, после которой начинаются сжатия или боли в сердце; 24,5% могут это сделать не всегда, а 35,6% не могут совсем. При этом, чувствуя себя беспомощными перед болезнью (о чем говорит очень эмоциональный характер ответов) и ожидая от медицины помощи, советов и консультаций (82,6%), больные помощи не находят: 93,3% довольны медицинской помощью, 72,3% довольны ею в хирургическом отделении и отделении реабилитации, но 66% больных не довольны медицинской помощью сейчас. Медицинская помощь понимается больными как лекарственная, как обеспечение питания, режима, тренажеров, но редко как психологическая. При этом всего 17% больных регулярно соблюдают диету, 23,4% соблюдают ее частично, 25,5% не соблюдают диету из-за отсутствия продуктов, а 34% больных не испытывают желания ее соблюдать. Продвижение и успехи в работе у большей части больных зависели до болезни от способностей и собственных усилий, а не от внешних факторов. Большинство считают, что до болезни они были материальной опорой семьи. Сейчас работают только половина больных, хотя хотят работать и считают, что могут работать, значительно больше (76,7% ). Руководство большинства больных (75,7%) согласно принять их на работу без всяких ограничений. Таким образом, причины инвалидности больных не лежат на поверхности. По мнению большей части больных, операция не вернула им способности работать с прежней интенсивностью (63,6%). Больше половины больных сейчас стремятся выполнять требуемое от них с наименьшим ущербом для здоровья и предпочитают работу с постоянным заработком, а не с заработком, зависящим от их компетентности и усилий. Интересно, что по представлениям самих больных о причинах инвалидности других больных ИБС, перенесших операцию АКШ, 39% из них действительно больны, у 36,6% существует уход в болезнь, 17,1% не хотят работать и могут себе это позволить. Отношение больных к будущему противоречиво. Наряду с тем, что значительная часть больных продолжают сохранять прежние жизненные цели (для 68% — сейчас — важнее жить полноценной жизнью, чем сохранять здоровье), для большинства из них характерно пессимистическое отношение к будущему, фактически отрицание его (75%). Уверенность в себе у больных снизилась, 56,6% допускают, что в будущем им больше, чем раньше, придется полагаться на других; 66,7% не уверены, что имеют достаточно сил, чтобы справиться с жизненными трудностями; 75,5% свыклись с тем, что их жизнь теперь во многом зависит от того, как они себя чувствуют. 67,4% больных считают, что их жизненные планы выполнялись не всегда, лишь 16% больных считают, что стоит строить планы на будущее. У подавляющего большинства больных в представлениях о будущем отсутствует стремление к активной самореализации; внимание около трети больных (по результатам сопоставления ответов на несколько вопросов) сосредоточено на болезни, возможности ее повторения, надежде на выздоровление; другая треть больных нацелена в перспективе на поддержку близких и друзей и их проблемы (тревога за будущее близких и друзей). При этом большинство больных хотело бы в будущем вести спокойный и щадящий образ жизни (75%). Большинство больных (70,2%) болезнь заставила сосредоточиться на своих ценностных установках, многое переоценить и на многое взглянуть по-новому. Половине из них (53,2%) после перенесенной болезни и операции трудно придерживаться общепринятых норм и представлений. Сосредоточенность на моральных и ценностных вопросах, видимо, вообще характерна для опрашиваемых и связана с конфликтным восприятием этих вопросов, о чем упоминалось выше. Просматривается тенденция к некоторому доминированию ценности материального благополучия. У больных формируется (очевидно, еще до болезни) представление о первостепенной значимости материального достатка как основы нравственной и интеллектуальной жизни. Следует отметить, что 67,4% больных выбирали свою специальность, не руководствуясь материальными соображениями. Однако, данное представление не находит отражения в представлениях больных о будущем образе жизни. Достаточно сложным и противоречивым явлением выглядит по результатам анализа локус контроля больных. Большинство из них утверждает, что болезнь заставила их сосредоточиться на наиболее важных вещах; что в прошлом они во многом отказывали себе, чтобы большего добиться в будущем. Большая часть больных утверждает, что они не отказываются от своих намерений, если оказываются перед препятствием. В будущем для большинства больных (68,1%) важнее жить полноценной жизнью, чем заботиться о сохранении здоровья. По мнению больных, ишемичес-кая болезнь сердца возникла не по их вине, но излечение болезни зависит от них самих (73,9%). Возможно, это понимание возникло у больных еще до операции, т.к. 50% из них сумели настроиться на операцию и шли на нее спокойно, 21% стремились к операции. Однако тяжелый характер болезни и операции, вероятно, послужил причиной снижения и противоречивости .локуса контроля. 63,6% больных считают, что не стоит планировать "вперед", так как многое зависит от обстоятельств, 67,4% считают, что их жизненные планы выполнялись не всегда. Всего 25% больных находят, что у них достаточно сил, чтобы справиться с жизненными трудностями; 62,8% рассчитывают на помощь родных; меньше половины (46,8%) берут на себя ответственность за будущее семьи. Характерно, что мотив производственной деятельности в планах на будущее совсем не возникает. Например, менять специальность большинство больных не собираются (73,2%) и предпочли бы работу с постоянным заработком поискам работы по душе. Побудительная сила мотивации производственной деятельности снизилась у 63,6% больных. Структуре внутренней картины болезни у данной группы больных также свойственны определенные особенности. Актуализация сенсорного уровня болезни произошла неожиданно для большинства больных. Об этом свидетельствует то, что 84,8% больных никогда не предполагали, что у них может заболеть сердце; для 39,4% болезнь была неожиданной; 61,7% до болезни считали себя здоровыми людьми и не были к ней внутренне готовы; для 60% болезнь началась резко. Можно предположить, что процессы осознания болезненных ощущений у больных обладают определенной избирательностью: ощущения не допускаются в сознание до тех пор, пока не превзойдут высокого порогового уровня. Однако не менее примечательно то, что с начала заболевания и до момента опроса (период около 1,5 лет до 4 лет и более) интенсивность сенсорных проявлений не уменьшилась, несмотря на произведенную операцию. 95,7% больных сейчас беспокоят боли: у 83,7% имеются разнообраз боли в сердце; у 14% болят швы; 4%; жалуются на одышку, у до/ отмечаются сенестопатии, у 28% — боли в разных частях тела. Таким образом, субъективно уровень здоровья повысился большинства больных, однако, это составляет определенный контраст с количеством отмечаемых ими сенсорных проявлений. Наряду с рассмотренными особенностями для подавляющего большинства больных характерна высокая тревожность: 85,1% стремятся постоянно быть чем-то занятыми; 70,2% периодически охватывает беспричинная тревога, причем у 61,7% это случается регулярно или часто; 60% больных часто раздражают мелочи. Тревога остается неосознанной: только 2 — больных в будущем беспокоят те или иные болезненные симптомы; характер тревоги, таким образом, говорит в пользу того, что, по крайней мере, частично болезненные ощущения могут являться результатом личностной тревожности, вытесняемой на эмоциональном уровне и находящей выход на сенсорном. Очевидно, выражение "тяжелый период" у больных не ассоциируется с эмоциональными проблемами. Можно предположить, что мотивационная конфликтность больным отрицается и противоречия в эмоциональной сфере не решаются личностью в связи с какими-то особенностями процессов ее самосознания. Ответы на опросник делят больных на 3 группы: с сильно выраженным мотивом сохранения жизни (20-35%); со средне-выраженным мотивом сохранения жизни (4-7%) и слабым. Больные с сильно выраженным мотивом при возникновении болей в сердце прекращают физическую активность и снимают боль лекарствами; больные со средневыраженным мотивом сохранения жизни снимают боль лекарствами и активность в основном не прекращают. Больные со слабо выраженным мотивом сохранения жизни не принимают лекарства и не прекращают физической активности, а стараются отвлечься, сменить деятельность. Очевидно, именно больные с сильно выраженным мотивом сохранения жизни постоянно прислушиваются к работе своего сердца (32%), и именно у них болезнь может сильно фрустрировать деятельность, полностью прекращая ее. Таким образом, выявляются 2 особенности мотивации больных, проявляющиеся во внутренней картине болезни. Одна из них заключается в стеничности, тенденции продолжать однажды начатую активность, несмотря на помехи, или резко прекращать ее, если уровень препятствий превышает некоторый, достаточно высокий, предел. Другая особенность представляет собой тенденцию ликвидировать внутренний (физический и психический) дискомфорт с помощью внешних средств, приемов и ограничений. К таким средствам относятся лекарства (физическое средство), пребывание на инвалидности, стремление быть помещенным в клинику для получения консультаций (социальное средство), стремление к жесткому режиму, тренажерам, гимнастическим комплексам. Эта тенденция в сочетании с нежеланием самостоятельно соблюдать диету (о чем упоминалось выше) и заниматься зарядкой (всего 37% ) намечает стремление к внешнему решению проблем, связанных с болезнью, и недостатком внутренней активности ее преодоления. Взаимодействие двух указанных особенностей создает благополучную почву для сохранения под внешней активностью внутренне нерешенных проблем адаптации личности к болезни. Больные, таким образом, стремясь сохранить личностные ценности здоровых людей, или отрицают болезнь, или поглощены болями и другими сенсорными проявлениями болезни, но при этом подсознательно обходят проблемы включения болезни в прежнюю личностную структуру. Болезнь воспринимается ими как тяжелое физическое страдание, мало затрагивающее их личность. Характерно, что 61,5% больных считают свое состояние сейчас зависящим от физических факторов, 61% — от ближайшего окружения и лишь 20,5% — от собственного характера. Все же эти 20,5% позволяют предположить, что в отдельных случаях, или частично, имеет место понимание больными своих проблем как психических. Таким образом, анализ данных, полученных с помощью опросника, выявил некоторые характерные черты личности и внутренней картины болезни у больных ИБС, перенесших oпeрацию АКШ, которые формируются в условиях специфических особенностей взаимоотношений больных с социальным окружением. Больным свойственно сильное стремление к выздоровлению и реадаптации, которое, однако, они нередко оказываются не в состоянии самостоятельно осуществить в связи с определенными личностными особенностями. Характерное для больных стремление формировать волевое, сильное "Я" может, при определенных условиях, выступать как самостоятельная цель, порождая желание, являющееся защитной стратегией личности, сохранять высокий уровень самооценки и самоуважения любым путем. Анализ внутренней картины болезни этой группы больных очерчивает один из пластов этого конфликта. Результаты этого анализа воссоздают картину тех трудностей, которые личность с подобной внутренней стратегией встречает на пути осознания своих внутренних состояний, неосознанно предпочитая внешние средства преодоления болезни процессам внутренней перестройки мотивационной структуры личности и включению в эту структуру ситуации болезни. Неспособность больных самостоятельно справиться со спровоцированным болезнью кризисом вступает в конфликт с их стремлением сохранить высокий уровень самооценки личности. Этот конфликт является причиной внутренне противоречивого локуса контроля больных и фактически отсутствующей у них темы планирования своего будущего. Проблема, которую больные не могут самостоятельно решить на личностном уровне, проявляется в интересе к ценностным вопросам и определенным образом решается ими на уровне ценностных ориентаций, что еще раз подтверждает целостность психической организации человека. Однако на личностном уровне этот конфликт часто остается нерешенным, в результате чего болезнь осознается человеком как непреодолимая, а собственное "Я" — как слабое. Существующие у больных трудности личностного характера усугубляются спецификой их взаимоотношений с социальным окружением, которое, открыто создавая обстановку щажения, негласно способствует уходу на инвалидность данной группы больных, хотя со стороны больных в большинстве случаев существует сопротивление уходу в болезнь. Описанный характер взаимоотношений с социальным окружением в сочетании со свойственным больным состоянием мотивационной сферы и структурой внутренних конфликтов может снижать побудительную силу мотивации производственной деятельности, несмотря на имеющееся у больных желание работать. Таким образом, исследование показало, что не только сложившихся, но и более или менее определенных представлений о больных ИБС, перенесших операцию аорто-коронарного шунтирования, у подавляющего большинства людей, составляющих социальное окружение больных, не существует, независимо от их профессии, уровня образования, возраста и пола. В таких условиях, когда существует недостаток информации о больных, их окружение склонно искажать истинную послеоперационную картину заболевания. При этом процессе искажения картины заболевания имеют определенную динамику. Первоначально, на первых стадиях контакта с послеоперационными больными, картина их состояния искажается в сторону ее утяжеления у всех групп населения. Интересно, что достаточно часто ишемическая болезнь сердца и операция аорто-коронарного шунтирования воспринимаются в совокупности как тяжелая форма ишемической болезни сердца, и именно в таком смысле употребляются людьми в дальнейших рассуждениях. Однако внешне этот процесс происходит неодинаково у разных групп людей. Анализ полученных данных позволяет выделить два типа первоначальной реакции на больного со стороны окружающих, которое можно обозначить как "мужскую" и женскую" позиции. Первая позиция отличается большей полярностью мнений: к больному относятся или отвергающе, отказываясь принимать на работу, работать бок о бок с "инвалидом", или так же, как к любому другому человеку, не принимая болезнь в расчет. Вторая — "женская" — позиция более понимающая, сочувствующая, это позиция готовности в любой момент оказать помощь или поддержку, если она понадобится. Однако, как показал более глубокий анализ, кажущаяся мягкость этой позиции существует лишь на поверхности. Проведенный анализ данных вырисовывает "роль больного", скрытую за каждой из указанных позиций. "Мужская" позиция подразумевает роль инвалидности, отрицания целесообразности для больного дальнейшей трудовой деятельности. Вторая позиция несет в себе роль, которую можно назвать ролью "индивидуальной трудовой деятельности": независимого от трудовой дисциплины, от контактов с людьми процесса, дающего удовлетворение и материальные средства к существованию больного. И той, и другой предлагаемыми "ролями", таким образом, социальное окружение устанавливает значительную дистанцию с больными. Подобное явление было обнаружено Н.Г.Кощуг и А.Ш.Тхостовым, изучавшими влияние социального окружения на реабилитацию онкологических больных (Кощуг Н.Г., 1990; Тхостов А.Ш.,1991). Было установлено, что, чем выше степень дифференциро-ванности представлений о раке, чем адекватнее эти представления, тем выше степень готовности к социальному контакту. Исследование Н.Г.Кощуг показало, что социальная дистанция с онкологическими больными определяется представлением о заразности онкологических заболеваний. Основной мотивировкой социальной дистанции с больными ИБС, перенесшими операцию АКШ, является, по материалам опроса, нежелание наносить вред здоровью больного. Но нередки откровенные признания, указывающие и другую сторону этого явления — признания в чувстве внутренней уверенности, что больной не в состоянии справиться с нагрузками и в нежелании брать его часть работы на себя, причем под нагрузками чаще понимаются нервные, чем физические. Очевидно, такое представление не случайно и связано с общепринятым пониманием природы сердечных заболеваний, их формирования в результате нервных перегрузок, эмоциональных стрессов. Однако анализ собранного материала показывает, что неизвестность широкому кругу людей операции аортокоронарного шунтирования и ее последствий играет самостоятельную роль. Оказалось, что люди не могут сопоставить тяжесть состояния данной группы больных с другими известными им заболеваниями и определить степень тяжести их состояния. Результатом такого положения оказывается возникновение дезориентированности и сильной настороженности по отношению к больным ИБС, перенесшим операцию АКШ, при контакте с ними, тревога и опасения за последствия этого контакта. Важно отметить, что, как показал анализ результатов опроса, окружающие склонны приписывать свои собственные опасения больным, заранее предполагая, что у больных существует "жуткий страх" за свое здоровье. Помимо вышеописанного результата неизвестности последствий операции АКШ для больных ИБС, предполагается следующий эффект, также сказывающийся при взаимодействии с больными. У многих опрошенных проявляется определенное нежелание налаживать отношения с нашими больными. Даже те из опрошенных, кто, в силу своего характера и специфики своей профессии, стал бы особо выделять больных и создавать им особые трудовые условия, замечали, что у других сотрудников это особое отношение к больным вызывало бы недовольство. Очевидно, производственные отношения по своему характеру не являются благоприятными для существования в их структуре особых, нерегламентированных, отношений. С другой стороны, непонимание состояния больных создает невозможность найти им место в рамках регламентированных отношений, содержащих в себе определенную "сетку" требований к вступающему в них человеку. В итоге со стороны социального окружения возникает отвержение больного, негативное отношение к участию его в трудовом процессе. Окружающие считают, что нерегламентированные отношения человек должен находить вне производственного процесса. Создаваться эти отношения, по мнению опрошенных, должны семьей и обществом. Задача общества — создать правильное отношение к больному в целом — понимается опрошенными достаточно адекватно, как создание специальных клубов, центров, которые призваны формировать вокруг больных благоприятный психологический климат, атмосферу не гиперопеки, а доброжелательной моральной поддержки. Проведенный анализ личностных особенностей больных ИБС, перенесших АКШ, показал, что отношение со стороны социального окружения к больным оказывает определенное влияние на формирование их внутренней картины болезни и на процесс реабилитации после перенесенной операции АКШ. Ответы больных указывают на расхождение между их собственными представлениями о наилучшем для них образе жизни и представлениями окружающих. Исследование показывает, что, по мнению больных, окружающие поддерживают их уход на инвалидность и приписывают им качества тяжело больных людей. В сопоставлении с изучением мнения окружающих, такое убеждение у больных кажется правомерным. Стремление к выздоровлению, которое, как свидетельствуют полученные результаты, имеется у больных, может наталкиваться на внешние трудности профессиональной реабилитации. Учитывая, что подавляющее большинство изучаемого контингента больных — это мужчины трудоспособного возраста, можно утверждать, что профессиональная реадаптация является для них значимым Показателем общего выздоровления. Препятствия социального характера в области трудовой реадаптации должны оказывать глубокое и значительное влияние на процесс личностного выздоровления после перенесенной операции. Ведь личность обусловлена деятельностными связями с миром, отражает характер этих связей и не существует вне их. Отличительной чертой негативного отношения окружающих к участию больных в трудовом процессе является его скрытый характер: в ответах больных нет указаний на объективные препятствия их трудовой деятельности (например, на отказ в работе), но есть указания на негласное косвенное противодействие со стороны окружающих. В ситуации личностного кризиса спровоцированного тяжелой болезнью сердца и связанной операцией дополнительное противодействие реабилитационному процессу со стороны общества может значительно приостановить и даже подорвать этот процесс, порождать уходы в болезнь. Интересным с этой точки зрения является тот факт, что уход в болезнь, по крайней мере отчасти, больными осознается, что является благоприятным показателем с точки зрения реабилитации, т.к. осознание дефекта является стимулом к его преодолению (Выготский Л.С, 1983). Часть больных откровенно признается, что причиной инвалидности является нежелание работать, если для этого имеется возможность. Можно предположить, что снижение побудительной силы мотива производственной деятельности, которое отмечается у данной группы больных, спровоцировано, по крайней мере, не только внутренними причинами — физическим нездоровьем, личностными и характерологическими особенностями, но и факторами внешнего порядка, определенными препятствиями социального плана. Правомерно на основе проведенного анализа выдвинуть предположение о негативном влиянии на процесс трудовой реабилитации больных ИБС, перенесших операцию АКШ, отвергающего и создающего социальную дистанцию отношения со стороны производственного окружения. Результаты проведенного в работе анализа личностных особенностей больных ИБС после перенесенной ими операции АКШ показали, что несмотря на изменившееся состояние физического здоровья и изменившийся образ жизни, больные продолжают сохранять неизменными прежние личностные цели. Однако результаты анализа планов больных на будущее показывают, что личностные цели больных ("жить полноценной жизнью", "вести активный образ жизни"), лишь провозглашаются, но не обладают для больных реальной побудительной силой. Это может являться свидетельством невключения болезни в личностную структуру. В случае невключения болезни и ее последствий в состав структуры личности, болезнь либо подчиняет себе личность, либо имеет по отношению к премор-бидной личностной структуре конфликтный личностный смысл. Полученные данные говорят в пользу того, что мотив сохранения жизни у данных больных достаточно редко становится смыслообразующим и подчиняет себе личность. Гораздо чаще у больных сохраняется конфликтная личностная структура, несмотря на продолжительность времени, прошедшего после операции: стремление сохранять высокую самооценку при любых обстоятельствах и низкая способность к осознанию внутренних (эмоциональных и физиологических) состояний. Кризис личности, спровоцированный болезнью и операцией, связан именно с необходимостью осознания произошедших внутренних изменений и преобразования личностной структуры, включающей эти изменения. Этот кризис больными, как правило, самостоятельно не преодолевается, о чем свидетельствуют результаты исследования отдаленного (1,5-4 года) послеоперационного катамнеза. При этом инвалидность создает вынужденную изоляцию больных. В условиях инвалидности человек, оторванный от привычных связей с миром, самими обстоятельствами своей жизни принуждается обратиться к своим внутренним проблемам, лишается возможности избежать столкновения с ними. Анализ собранного материала показывает, что у изучаемого контингента больных процесс внутренней перестройки протекает тяжело. Хотя и происходит пересмотр ценностных ориентаций, которыми человек руководствовался до болезни, имеет место анализ жизненного пути, предшествующего болезни, эти процессы не приводят, однако, больных к выходу из кризисной ситуации. Продолжительное состояние личностного кризиса, из которого больные не находят выхода, ведет к наслоению на центральное ядро кризисной ситуации — неспособность личности включить болезнь в мотивационную структуру — новых личностных проблем. Больные ИБС, перенесшие операцию аорто-коро-нарного шунтирования, несомненно, нуждаются в интенсивной психологической помощи по преодолению кризисной послеоперационной ситуации, причем эта помощь должна оказываться больным на ранних этапах послеоперационного восстановления, до наслоения вторичных личностных конфликтов, и включать коррекцию существующих у больных личностных установок, направленных на поддержание неизменности высокой самооценки. Кроме того, психологическая помощь больному должна быть направлена на развитие у него способности к осознанию своего физического и эмоционального состояния. Сопоставление результатов, полученных двумя методиками, дает возможность предположить, что предрасположенность к сходному типу реагирования на ситуацию тяжелой болезни с тем, которое наблюдается у изучаемой группы больных, свойственна многим лицам мужского пола. Она заключается в трудности изменения прежних личностных установок, в частности, установок в трудовой деятельности, фиксации на прежних стереотипах или резком и полном переходе на позиции самощаже-ния и отказа от попыток включения произошедших в результате тяжелой болезни изменений в личностную структуру, от перестройки личностной структуры и продолжения профессиональной самореализации. Именно на этой особенности личностного реагирования должна основываться психологическая коррекция, в которой, несомненно, нуждаются больные после перенесенной операции аорто-коронарного шунтирования. Можно предположить, основываясь на факте такого широкого распространения данной формы личностного реагирования, что личностные особенности изучаемой группы больных, препятствующие успешному преодолению многими из них связанной с болезнью кризисной ситуации, формируются задолго до болезни, а болезнь лишь обостряет эти особенности. Возможно, послеоперационная ситуация делает личностные особенности больных ИБС наиболее доступными психологической коррекции. Глава 4 Механизмы смысловой регуляции деятельности в контексте жизненного пути больных (на материале больных, перенесших инфаркт миокарда)1 В предыдущих частях работы мы остановились на характеристике основных изменений личности, возникающих у больных различными хроническими соматическими заболеваниями, и могли убедиться в том, что содержание этих изменений однотипно. Важнейшую роль в их возникновении играет не только дефицитарность условий, создаваемых хронической болезнью, но и сформированность некоторых личностных структур в преморбиде. Речь может идти, прежде всего, о мотивационной сфере личности. Естественно, в этой связи возникает вопрос: каковы те личностные резервы, которые в одних случаях позволяют человеку без серьезных потерь справиться со сложной жизненной ситуацией тяжелой болезни, в других же — не "срабатывают", вследствие чего в условиях болезни формируется дефицитарная, ущербная личность. Мы предположили, что основу подобных процессов составляют качество и эффективность сложившихся в преморбиде механизмов личностно-смысловой регуляции. Теоретическую основу данной части работы составили представления о сущности и функциях личностно-смысловой регуляции, разрабатываемые в отечественной психологии. (На этом вопросе мы уже останавливались в предыдущих разделах данной книги). Основной пафос этих представлений состоит в утверждении единства личностных проявлений в различных сферах жизнедеятельности, в преемственности этапов жизненного пути и устойчивости сформированных способов разрешения жизненных противоречий. Механизмы смысловой регуляции, как отмечалось выше, обеспечивают осознание проблемы, активное преобразование возникших противоречий, возможность взгляда "со стороны" и тем самым — преодоления трудностей, овладения собою в сложных жизненных обстоятельствах. Они формируются прижизненно, являются индивидуаль-нотипическими способами разрешения различных тяжелых жизненных ситуаций. Эти же механизмы функционируют и при выходе" из болезни, как критической для личности ситуации. Больной человек не может рассматриваться вне контекста его жизненного пути, сложившихся способов реагирования — вне болезни и до болезни. 1 Глава написана в соавторстве с Т.Н.Розовой Основной задачей, которая решалась на этом этапе работы являлось вычленение различных способов личностно-смысловой регуляции и изучение их влияния на успешность преодоления критической ситуации, сложившейся в условиях опасной для жизни болезни. В качестве объекта исследования взята группа больных, перенесших инфаркт миокарда. Высокая степень витальной угрозы, тяжесть соматического состояния; общая дефицитарность ситуации объединяла этих больных с пациентами других клинических групп, уже описанных выше. В то же время острое внезапное начало болезни, возможность психологического обследования больных уже спустя 2-3 недели после острого приступа болезни (в связи с улучшением соматического состояния), выраженная положительная динамика состояния открывали возможность проникновения в еще сравнительно сохранные "тайники" личности пациентов, то есть позволили подойти к раскрытию типичных для того или иного больного механизмов преодоления (совладения), сформировавшихся до болезни и еще не успевших кардинально измениться. Было исследовано 107 больных. Обследование проводилось на 10-20 день после начала заболевания, в подостром периоде инфаркта миокарда. Таблица 6 Распределение больных по возрасту Возрастные группы 28-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше число больных 27 52 12 средний возраст 34,7 44,5 53,3 63,3 пол 12 муж.и 4 жен. 12 муж.и 1 жен. 12 муж.и 4 жен. 11 муж. и 1 жен. Лишь 10 человек из обследованных больных находились на инвалидности и не работали, остальные, даже больные пожилого возраста, были трудоспособны к моменту начала заболевания. Среди больных были люди разных профессий: рабочие, служащие, научная интеллигенция. Методики исследования были подобраны в соответствии с требованиями комплексного изучения личности в контексте целостного жизненного пути. Подобный подход предполагает сочетание методик, непосредственно направленных на изучение особенностей мотивационной сферы, с приемами опосредованного ее анализа (Зейгарник, 1971, 1986). Были использованы следующие методики. 1) Анализ истории болезни и беседа с лечащим врачом для получения сведений об особенностях клинического течения заболевания, эмоциональном состоянии больного, соблюдении им врачебных рекомендаций, режима. 2) Клиническая беседа, в ходе которой больным объяснялась цель психологического обследования. Основными темами беседы были: история жизни, отношения со значимыми други-круг интересов, представления о болезни, ее прогнозе, планы на будущее. 3) Методика изучения самооценки (в варианте Дембо-Рубинштейн с добавлением шкалы "Тяжесть заболевания"). Эта методика позволяет существенно дополнить материалы клинической беседы. По шкале "Здоровье" больного просили отметить состояние здоровья до начала заболевания и на момент обследования. По шкале "Тяжесть заболевания" нужно было отметить есто инфаркта миокарда среди других болезней. При анализе полученных данных шкалы самооценки были разбиты на зоны. Фиксировалось число "попаданий" самооценок в ту или иную зону, на полюса шкал. 4) Методика "Значимые события" Кроника-Головахи в модификации Сапаровой И.А. (1989). Применение этой методики было возможно после установления доверительного контакта с больным в ходе клинической беседы. Больным предлагалась инструкция: "Представьте свою жизнь — прошлую, настоящую и будущую, всю, целиком. Назовите самые значимые, самые важные для Вас события. Они могут касаться изменений в вашем внутреннем мире, природе, обществе, быть приятными или неприятными." Больных просили назвать пять таких событий, потом еще пять. Называемые события и их обсуждение позволяли дополнить биографические данные, выделить конфликтные сферы жизнедеятельности. Качественная обработка эмпирических данных (форма сообщения о событиях, их характер, "знак") была дополнена количественной. 5) Методика "Незаконченные предложения" использовалась в модификации Виноградовой Т.В. (1979). К традиционному перечню фраз, касающихся различных сфер жизнедеятельности, были добавлены предложения, непосредственно связанные с заболеванием, пребыванием в больнице, оцениванием себя как больного. Это позволило выявить "нейтральные" сферы жизнедеятельности, в которых вместе с тем "звучала" тема болезни. 6) Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ) использовался в неполном объеме с учетом утомляемости больных, служил проективным средством анализа личности, состояния эмоционально-мотивационной сферы больных. 7) Методики изучения познавательной деятельности (10 слов, пиктограмма, исключение предметов, совмещение признаков). При этом нас интересовала не столько степень снижения психической активности, умственной работоспособности (этому вопросу посвящены многие работы, в частности, Зайцева, 1975) сколько процесс выполнения заданий, особенности мотивационного звена психической деятельности, критичность, возможности опосредствования. Основное внимание обращено было на содержательные характеристики выполнения заданий.1 Были выделены критерии для дифференциации групп больных. Во-первых, при выделении и дифференциации механизмов смысловой регуляции использовались оценки непосредственных показателей выполнения методик до (и независимо) от их психологической интерпретации (например, активность — пассивность в беседе, количество названных событий, частота попадания самооценок в ту или иную зону и т.д.). Во-вторых, осуществлялась психологическая квалификация непосредственных результатов выполнения заданий. Например, активность в беседе позволяла судить об умении больного вести диалог, свидетельствовала о его заинтересованности (то есть мотивации), целенаправленности. Количество названных событий в методике "значимые события" (в сопоставлении с другими показателями) отражало богатство жизненного опыта, насыщенность жизни событиями или, напротив, стремление формально выделить общепринятые этапы в жизни. Частота попаданий самооценок в ту или иную зону давала основание для заключения о "высоте" самооценки, о критериях самооценивания в каждом конкретном случае. Таким образом, при анализе результатов использовались два ряда критериев, тесно связанных между собой. Остановимся на краткой характеристике основных приемов анализа по каждой методике. Психодиагностическую ценость представляло само отношение пациента к психологическому обследованию. Последнее рассматривалось как реальная жизненная ситуация, в которой человек должен опосредовать свое поведение, вступить в контакт с другим человеком и т.д. Обсуждение цели психологического обследования, выяснение ряда вопросов, касающихся хода болезни и самочувствия, являлось не только средством установления контакта с больным, но и позволяло оценить возможность мотивационного опосредствования. Инициативность больного в беседе, заинтересованность в результатах, оценке работы, рекомендациях, дальнейших встречах, критич-ное отношение к ошибкам, возможность удержания инструк-ции, доведение работы до конца и т.д. — позволили сделать вывод о гибкости мотивации, о готовности обсуждать разнооб-разные темы наряду со значимыми для больного, о личностном смысле обследования. 1 Подробнее изложение процедуры проведения экспериментальнопсихологического исследования и описание методик можно найти в работах Рубинштейн С.Я. (1970) и Блейхер В.И., Крук И.В. (1986). При обработке данных, полученных с помощью методики "Самооценка", особое внимание было обращено на такие пара-метры, как: взаимосвязанность различных шкал, характер определения полюсов, частота попадания самооценок в различные зоны. Это позволяло сделать вывод о гибкости самооценки, ее высоте, о критериях самооценивания. Дискриминативными показателями в методике "Значимые события" являлись: форма упоминания событий (формальное называние или развернутый рассказ), характер событий (конкретный факт или процесс), преобладание положительных или отрицательных моментов в жизни. Особенности этих показателей в совокупности свидетельствовали об удовлетворенности жизнью, отношении к трудностям, собственной активности в их разрешении, о причинном объяснении происходящего, личностном смысле этих ситуаций, в том числе, болезни. В "Незаконченных предложениях" особый интерес представляли ответы, характеризующие будущее, "вес" темы болезни в нейтральных предложениях. Психологическая квалификация этих показателей позволяла судить о значимости болезни, ее личностном смысле, отношении к себе как к больному. Материалы рассказов ТАТа явились проективной моделью позиции больных. Фиксировались формальный или развернутый характер рассказов, наличие в них всех частей инструкции, позиции персонажей, наличие средств разрешения конфликтов. По этим параметрам делалось заключение о свойственных самим больным механизмах смысловой регуляции, "работающих" в критических ситуациях. Методики исследования познавательной деятельности использовались с целью анализа самого процесса выполнения заданий (заинтересованности в работе, возможности удержания инструкции, критичности к ошибкам, отношения к помощи экспериментатора и т.д.), что служило также дополнительной характеристикой мотивационно-смысловой сферы больных. На основании описанных выше критериев были выделены 4 группы испытуемых. Ниже даны общие характеристики больных каждой из выделенных групп. ГРУППА А В нее вошло 30 больных (из них 3 женщины, 27 мужчин). Возраст — от 32 до 70 лет. Образование высшее, среднее и средне-специальное. Клинические диагнозы: 17 больных — первый инфаркт миокарда, 9 — повторный инфаркт миокарда, 3 — постинфарктный кардиосклероз, 1 больной — впервые возникшая тяжелая стенокардия. Анализ отношения к психологическому обследований результатов выполнения методик показал, что испытуемым группы А свойственны творческое отношение к происходящему способность к диалогическому общению, умение встать на противоположную точку зрения, установка на самопознание (само психологическое обследование приобретало смысл средства более адекватного самопознания). Деятельность самопознания -значимая деятельность в этой группе больных. Неформальное взаимодействие с психологом, независимость суждений, заинтересованное отношение к заданиям умение находить в них творческие стороны — все это свидетельствует о высокой степени произвольности поведения, развитых механизмах смысловой регуляции в группе А. Возможность оценки происходящего, самого себя со стороны, с позиции эксперта позволяла больным увидеть разные стороны одного и того же явления, найти положительные моменты в отрицательных объективно событиях жизни, осуществить внутреннюю деятельность по приданию безболезненного смысла случившемуся. Как следствие этого — целостное восприятие собственной жизни, все этапы которой взаимосвязаны, взаимообусловлены, "вписаны" в контекст жизнедеятельности, считаются "своими". Все происходящее объяснено с позиций разработанной философии жизни. В той или иной степени все больные группы А считали свою жизнь сложившейся, удачной, состоявшейся. Гибкая самооценка, незастывшие представления о полюсах шкал обуславливали, с одной стороны, отношение к себе как к ценности, принятие себя, а с другой — как к одному из многих людей, к своей жизни — как к одной из многих жизней, что снимало чувство экстраординарности событий в жизни. Такое самоощущение, развитая философия жизни обеспечивали эффективную адаптацию к изменяющимся условиям жизни, к негативным событиям, позволяли ненасильственно включать новое в контекст жизненного пути. ГРУППА Б В группу вошло 32 человека (4 женщины, 28 мужчин)-Возраст больных — от 31 года до 68 лет. Образование — высшее, среднее и средне-специальное, только у двух больных — неполное среднее образование. Для испытуемых группы Б свойственна внутренняя конфликтность, что определяется, с одной стороны, сильной потребностью в лидерстве, контроле за ситуацией, в самоутверждении. в достижении, а, с другой стороны — неуверенностью в себе. самооценкой, зависимой от обстоятельств, мнений других людей. Это согласуется с имеющимися в литературе представлениями о том, что агрессивность, лидерство таких личностей являются компенсаторными средствами, восстанавливающими уверенность в себе, поддерживающими самооценку. Рассогласование внутреннего мира и внешнего поведения привело к восприятию других людей, как могущих угрожать самоуважению, что априори вызывало негативные установки в общении, что ярко видно на примере психологического обследования. Возможно, что тенденция подавления чувства неуверенности в себе, волевого разрешения возникающих противоречий жизни при внешней демонстрации беспроблемности — один из важных психологических факторов риска инфаркта миокарда. Как правило, события, происшедшие в жизни, были оценены однозначно, отрицательные события даже большой давности не были приняты в контекст собственной жизни, стояли "особняком", что не снимало остроту их переживания до настоящего времени, обуславливало чувство неудовлетворенности жизнью. В жизненных коллизиях преобладало отношение к себе как к жертве обстоятельств, действий других людей. Активное участие во всем происходящем у этих испытуемых не сочеталось с возможностью отстраненного взгляда на события, самого себя, что приводило к недостаточной гибкости, пластичности оценок и самооценки, сохранению эмоционального напряжения (в отличие от больных группы А). ГРУППА В В группу В вошло 13 человек (12 мужчин и 1 женщина). Возраст больных — от 38 лет до 61 года. Образование — у 2-х больных — неполное среднее, у остальных — высшее, среднее и средне-специальное. Клиническими диагнозами были: в 1 случае — повторный инфаркт миокарда, в 1 случае — впервые возникшая стенокардия, у 11 больных — первый инфаркт миокарда. Необходимо сразу отметить, что испытуемые, отнесенные в группу В, имеют много общих черт с больными группы А и группы Б, могли бы быть отнесены к этим двум группам. Однако все больные группы В обладают некоторыми общими чертами, отличающими их от испытуемых двух предыдущих групп. Отношение к психологическому обследованию этих больных, характер выполнения ими заданий, анализ собственного жизненного пути могут быть определены как рациональные. На первый план выступали сознательные компоненты смысловой регуляции, а эмоции, переживания занимали второстепенное место. Деловое участие в беседе с психологом, высокая самодисциплина, стремление быть "в форме", потребность в определенности, четкости, упорядочивании ситуации, в расставлении точек над "и", методичность, обстоятельность (иногда до педантичности) — вот основной перечень психологических особенностей больных группы В. "Закрытых" тем для этих больных не существовало, так как в любом случае они были способны оценивать происходящее с позиции эксперта, в контексте причинноследственных связей (таким было отношение испытуемых к негативным моментам собственной жизни, к неопределенному стимульному материалу в ТАТе и т.д.). Рациональная переработка событий, оценок, отсутствие импульсивных ответов обеспечивали лояльное отношение к прожитой жизни и в то же время четкое понимание того, что нужно изменить, к чему стремиться. Важнейшей ценностью испытуемых группы В был ум, под которым понималось умение трезво оценивать происходящее, делать соответствующие выводы, проигрывать новые варианты. Обоснованность оценок, подконтрольность эмоций нам представляются механизмами удержания самооценки на высоком уровне, изоляции от негативных эмоций в критических ситуациях. ГРУППА Г В группу вошло 32 человека (2 женщины и 30 мужчин). Возраст больных — от 28 до 59 лет. Образование — неполное среднее и среднее (только один больной имел высшее образование). Исследование жизненного пути, отношения к себе, особенностей участия в беседе и наблюдения за больными выявили такие особенности больных этой группы: дефицит инициативы, активности в общении, безразличное отношение к психологическому обследованию, изменения мотивационного звена психической деятельности (в виде нецеленаправленности, нарушения критичности), преобладание "бесстрастных" оценок себя и собственной жизни, "бедные" представления о полюсах шкал, самих себе, непоследовательность, стереотипность, алогичность суждений, расхождение между знаемым и личностно значимым и т.д. Возникавшие противоречия в жизни (например, неудовлетворенность работой, семейные конфликты) игнорировались больными или вызывали агрессивные реакции, направленные на окружающих лиц. Недоступность рефлексии жизненных событий, своего внутреннего мира приводило к "однотонной" окраске происходящего, выделению формальных, разрозненных этапов жизни, которые должны быть у всех. Такая жизнь может быть представлена, по словам Рубинштейна С.Л. (1976), как не выходящая за пределы непосредственных связей, всякое отношение в ней есть отношение к отдельному явлению, а не к жизни в целом. Недостаточность рефлексии затрудняла разотождествление с конфликтной ситуацией, взгляд на нее со стороны, делала невозможным творческое участие в собственной жизни, придание произвольного смысла происходящему. Испытуемые группы Г характеризовались диссоциацией аффективных и когнитивных компонентов смысловой регуляции, когда объективно отрицательные или положительные события не приобретают личностного смысла, индивидуального эмоционального заряда, а остаются на уровне знаемых (как в случае упоминания здоровья как компонента счастья при фак-тически безразличном отношении к своему здоровью). Для того, чтобы наглядно представить различия между выделенными группами и качественные особенности смысловой регуляции, рассмотрим более подробно результаты выполнения больными психодиагностических заданий. Важнейшим показателем того или иного типа смысловой регуляции было отношение к психологической беседе (см. таблицу 7). Таблица 7 Особенности отношения к психологическому исследованию у больных, перенесших инфаркт миокарда Группа Инициативное, активное, творческое Тревожное, обесценивание обследования Деловое Безразличное отношение, вплоть до отказа Гр. А 97 % - 3% — Гр. Б 53 % 41 % _ 6% Гр. В 23 % 77 % — Гр. Г 37 % 16 % — 47 % Из таблицы видно, что наиболее активны, инициативны в беседе с психологом были больные группы А. Испытуемые других групп, у которых отмечалось такое же отношение к обследованию, обладали специфическими чертами, обусловленными особенностями их смысловой регуляции. Так, больные группы Г с интересом общались с психологом, только когда беседа затрагивала значимые для них темы. В группе Б взаимодействие с психологом было эмоционально заряжено, 'наполнено" тревогой за возможный неуспех, что приводило к демонстративности, напряженности в общении. Преобладающим в группе В испытуемых был деловой подход к обследованию. Доминирующими типами отношения к психологическому обследованию были: в группе А — инициативный, творческий; в группе Б — тревожный; в группе В — деловой; Г — безразличный. Данные, полученные с помощью методики "Значимые события", отражены в таблице 8. Показательными можно считать следующие результаты: преобладание сообщений о событиях в форме развернутого рассказа или формального Упоминания, численное соотношение событий-фактов и событий-процессов, оценка событий жизненного пути. Важно подчеркнуть, что хотя в инструкции к заданию испытуемых просили включать и события будущего, как правило, число таких событий было мало во всех группах. Часто встречались ответы типа: "Поживем — увидим", "Так далеко лучше не заглядывать" и другие, что очевидно связано с неопределенностью ситуации, в которой оказались больные, а также с особенностями смысловой регуляции деятельности, мотивационной сферы (например, в группе Г). Таблица 8 Характеристика значимых событий жизненного пути у больных инфарктом миокарда Группа Всего названо событий В среднем названо событий События в форме Не выделено событий вообще События в виде Оценка событий формального упоминания развернутого рассказа конкр. факты процессы Диал. Однозн. Форм. констатация Гр. А 163 5,82 47% 53% — 67% 33% 13,5% 40,5% 21% 25% Гр. Б 168 6,2 78% 22% 2 б-х 81% 19% 2,4% 13,1% 23,2% 61,3% Гр. В 68 5,23 76% 24% 3 б-х 66% 34% 6% 10% 6% 78% Гр. Г 128 5,12 89% 11% 4 б-х 87,5% 12,5% 13% 20% 67% Интересным фактом является отсутствие отказов от выполнения задания и неформальный подход к нему в группе А. Большой процент событий-процессов, событий-переживаний (33%), событий, которым была дана всесторонняя оценка (13 5%) преобладание положительных моментов жизни над отрицательными (40,5% против 21%) характеризуют жизненное мироощущение этих больных. Противоположные данные по этим показателям получены в группе Г, где встретилось наибольшее число отказов, в среднем было названо наименьшее число значимых событий (5,12). Формальная констатация событий жизненного пути, их внели-чностная" природа, отсутствие неоднозначных оценок происходящего, следствие и конкретное выражение свойственного этим испытуемым пассивного отношения к собственной жизни. "Промежуточное" положение заняли результаты больных групп Б и В. События, выделенные испытуемыми группы Б, по содержанию представляли собой, в основном, конкретные факты (81 % ), больше трети событий были оценены (причем, почти в два раза чаще) — отрицательно (23,2% против 13,1%). Это согласуется с неоднозначной оценкой собственной жизни в этой группе, а во многих случаях — выраженной неудовлетворенности ею, с неумением "пересмотреть" случившееся, взглянуть на него со стороны. Что касается испытуемых группы В, нужно отметить как сходство полученных данных с результатами групп А и Б (по форме называния события аналогичны событиям группы Б, а по соотношению событий-фактов и событий-процессов результаты близки результатам группы А), так и своеобразие результатов, обусловленное потребностью в четких критериях, взвешенностью, трезвостью рассуждений, изоляцией от эмоции (что определило преобладание формальной констатации фактов жизненного пути). Это свидетельствует о правомерности выделения группы В как отдельной. Анализ выполнения методики "самооценки" также выявил типичные для больных механизмы смысловой регуляции. Например, для больных группы А (см. таблицу 9) характерна гибкая самооценка, обеспечивающая независимость, свободу от обстоятельств, принятие себя. Самооценки тяготели к верхним полюсам шкал. По "высоте'' самооценки аналогичные результаты были получены в группе В (83% самооценок попали в середины или верхние половины шкал), разброс же самооценок (количество зон, в которые попали самооценки) оказался наименьшим по всем группам. В данном случае работал такой механизм смысловой регуляции как рационализация, обоснование оценок. Таблица 9 Особенности самоооценки у больных инфарктом миокарда Группа Взаимосвязь шкал Относительность определений полюсов Доминирующий механизм самооценивания Самооценки на крайних полюсах Самооценки на серединах шкал или в верхних половинах шкал Группа А 79% 76% занижение полюсов в 48% случаев 24% (только положительный полюс) 72% Группа Б 61% 39% обесценивание в 50% случаев 14% 11% 3% положительн. отрицательн. полюс полюс 46% Группа В 83% 75% обоснование в 100% случаев 17% (только положительный полюс) 83% Таблица 10 Частота попаданий самооценок в зоны шкал Зоны I II III IV V VI (мин) Шкала "ум" Гр.А 11% 19%___ 63% 7% — — Гр.Б — 16% 60% 16% 4% 4% Гр.В 33.3% 58,3% 8,3% Гр.Г 11% 14% 53,5% 11% 3,5% 7% Шкала "характер” Гр.А 12% 20% 56% 12% — — Гр.Б 8% 36% 20% 28% 8% — Гр.В 42% 58% Гр.Г 14,8% 18,5% 48,1% 14,8% 3,7% Шкала "счастье" Гр.А 7% 31% 38% 17% 7% — Гр.Б 7% 18% 54% 14% 7% — Гр.В 17% 33% 42% 8% Гр.Г — 44,4% 22,2% .26% — 7,4% Значительно менее эффективным оказался механизм обесценивания верхних полюсов шкал в группе Б: больше половины самооценок попали в нижние половины шкал (54% — см. таблицу 9), разброс самооценок был шире, чем в группах А и тем более В, преобладали однозначные, негибкие определения полюсов шкал. Для испытуемых группы Г были характерны импульсивные, непродуманные ответы, либо отказы от ответов в методике "самооценка", говорящие о некритичности больных. Часто встречались стереотипные, формальные определения, противоречивые самооценки. Лишь 32% самооценок (см. таблицу 10) попало в верхние половины шкал. Самооценки были рассредоточены по всем зонам шкал, отмечались разрывы в континууме самооценок. 16% больных отметили свое положение на значимых шкалах на нижних полюсах, что отражает их самоощущение, отношение к себе. Очень яркой иллюстрацией типичных для испытуемых механизмов смысловой регуляции деятельности явилось выполнение ТАТа. Для испытуемых группы А было свойственно творческое отношение к заданию: рассказы, как правило, были развернутыми, насыщенными мыслями и переживаниями героев. Развитые механизмы смысловой регуляции в этой группе определяли как способность больных идентифицироваться с персонажами, проникать в их внутренний мир, так и способность отстраняться от травмирующего содержания, анализа ситуации с позиции эксперта, что давало возможность находить средства разрешения конфликтов, прогнозировать будущее. В группе Г, напротив, мысли и чувства героев лишь формально назывались, сами сюжеты были формальными, в 66% случаев встречались уходы от составления рассказов, возникающие проблемы игнорировались, средства их разрешения отсутствовали, работали бессознательные защитные механизмы смысловой регуляции. Подведем итоги. Испытуемых группы А можно считать обладающими развитыми, эффективными средствами смысловой регуляции, позволяющими им без ущерба для самооценки разрешать возникающие в жизни противоречия. Процесс разрешения противоречий может идти как по пути совершенствования операционально-технической, так и смысловой сторон действительности. Испытуемым группы А была доступна рефлексия по поводу самих себя, своей жизни в целом, позиция эксперта, наблюдателя, дававшая широкие возможности для анализа ситуации, нахождения в ней наряду с отрицательными моментами преимуществ, стимулов для дальнейшего личностного роста. Испытуемые были способны в то же время придать происходящему произвольный, приемлемый для сохранения психологического ощущения качества жизни, нетравмирующий смысл. Речь идет здесь о другом важном механизме смысловой регуляции — смысловом связывании. В качестве конкретных проявлений функционирования выделенных общих механизмов смысловой регуляции можно предложить такие как юмор и сравнение себя с другими. Способность относиться к проблемам как к не заслуживающим серьезного внимания, юмор в отношении превратностей собственной судьбы реальное средство совладания со стрессовыми ситуациями в жизни. Другое средство, работавшее в критических ситуациях, — отношение к самому себе как к ценности и в то же время как к одному из многих людей. Подход к жизненным проблемам, самим себе у больных группы А может быть назван философским, основу которого составляет общее мировоззрение. Испытуемые группы А обладают мощным потенциалом снятия любого противоречия, превращения трагического, страдания, в точку самосовершенствования. Любое событие на жизненном пути может быть ненасильственно включено в канву индивидуальной жизни, принято личностью. В этом смысле личность получает свободу от обстоятельств, "власть" над ними. Группа Б наиболее важна с точки зрения сопоставления внешне наблюдаемого стиля поведения и особенностей самооценки. Характерные для этих испытуемых мотивация к достижению, конкурентоспособность, стремление к лидерству, уверенное поведение сочетались с неустойчивой самооценкой, неотреагированными отрицательными эмоциями из далекого прошлого. Важнейшей ценностью для этих больных была воля, она же выступала в группе Б как основной механизм смысловой регуляции. В тех критических ситуациях, когда необходимо было усилить уже существующие смыслы, механизм волевой регуляции был действенным и эффективным. Когда же для разрешения кризиса "концентрации сил" было недостаточно, а требовалось переосмысление случившегося, волевые усилия оказывались неэффективными. Можно предположить, что функции рефлексии и смыслового связывания в группе Б были недостаточны, так как не позволяли отстраниться от ситуации, выйти за ее пределы. Испытуемых отличала высокая степень включенности в неприятные события, захваченность ими, неспособность увидеть случившееся "извне", а следовательно, придать ему личностный смысл, не наносящий урон самооценке. Эти особенности смысловой регуляции определили функционирование более частных (по сравнению с волевыми механизмами смысловой регуляции) средств преодоления критических ситуаций — сравнения себя с другими и обесценивания. Принципиальное отличие самоотношения в группах А и состоит в том, что испытуемые группы Б болезненно воспринимали негативные мнения о себе, любая позиция проверки, подчинения оценивалась как угрожающая самоуважению, т.е. самооценка была нестабильна, зависима от обстоятельств. Неустойчивость самооценки и одновременно установка на то, что-бы быть первым, лучшим, формировали в этой группе отношение к себе как к жертве ( в случае различных жизненных коллизий). Поэтому сравнение себя с другими и обесценивание можно рассматривать как средства повышения собственной самооценки за счет обнаружения "минусов" у других людей, снижения в иерархии значимого и недостижимого или могущего подорвать положительное мнение о себе. Подход к проблемам, возникающим в жизни, самим себе в группе Б можно определить как волевой. Отношение к жизни, критическим ситуациям в группе В являлось рациональным. У этих больных были выделены такие механизмы смысловой регуляции как рационализация и изоляция от чувств, которые позволили упорядочить, разложить на элементы любую критическую для личности ситуацию, найти ей место в цепочке причин и следствий, абстрагируясь от чувств. Если у больных группы Б доминировали аффективные составляющие смысловой регуляции, то в данной группе преобладали когнитивные, рассудочные, рациональные компоненты. Это нашло отражение, в частности, в подконтрольности эмоций сознанию, стабильности эмоционального состояния больных. Выделенные механизмы смысловой регуляции в группе В, на наш взгляд, обусловлены особенностями рефлексии и смыслового связывания как базовых механизмов, "самоуправления", лежащих в основе функционирования более частных средств смысловой регуляции. Возможности рефлексии и смыелового связывания были ограничены, зависимы от объема имеющейся информации, деталей, четких обоснований. Именно недостаточной произвольностью смысловой регуляции объясняется неспособность больных группы В принять, оценить и переработать, произвольно переосмыслить эмоциональный вклад критических событий. Очевидно, у этих испытуемых могут встретиться серьезные трудности в тех случаях, когда необходимо построить собственную картину события в отсутствие однозначно заданной структуры ситуации. Однако при обеспечении информацией в уже построенной "системе координат" больные группы В обладают высоким потенциалом адаптации. Смысловая регуляция испытуемых группы Г отличалась слабой разработанностью рефлексивных компонентов, смыслового связывания. Личностный смысл событий, в силу бедности мотивационной сферы и недостаточности ее иерархии задавался ситуативно, случайными факторами. В значительной мере подобная картина была связана также с низким уровнем образования, алкоголизацией больных. Средствами смысловой регуляции здесь были бессознательные защитные механизмы (вытеснение, агрессия, уход), которые формировали безынициативное отношение к собственной жизни, уход от возникающих противоречий или их игнорирование (возможно, что во многих случаях такой уход происходит за счет алкоголизации). Функционирование бессознательных защитных механизмов обуславливало невозможность справиться с критической ситуацией, пассивность при ее разрешении. Можно предположить даже, что многие ситуации, реально угрожавшие чувству самоценности, самоуважения, а иногда и жизни, не воспринимались как критические, требующие специальных усилий по их преодолению за счет вытеснения противоречий. В группе Г можно говорить о низкой степени включенноиспытуемых в ход собственной жизни, о несформированности средств управления ею. Неопосредственность поведения, импульсивность, ощущение монотонности, безысходности в отношении своей жизни или, напротив, ощущение абсолютной беспроблемности — конкретные отражения свойственных этим испытуемым средств смысловой регуляции. Полученные на данном этапе исследования результаты позволяют обсудить вопрос об эффективности выделенных механизмов смысловой регуляции. Частично мы уже затронули его при изложении основных результатов. Попытаемся привести ряд дополнительных фактов, полученных с помощью различных методик. Прежде всего отметим, что отношение к такому важному событию жизни как болезнь теснейшим образом связано с функционированием того или иного механизма смысловой регуляции. Так, среди значимых событий болезнь упоминалась больными группы А в 29% случаев (см.таблицу 11), близкий результат получен в группе В (30%). Однако если невысокий процент называния болезни как важной вехи в жизни в группе А был связан с "подчиненным" положением здоровья в иерархии ценностей (здоровье рассматривалось лишь как средство общения, самореализации в профессиональной сфере и т.д.), то в группе В — определялся рациональным отношением к болезни, рассмотрением ее как закономерного следствия возраста, слабого здоровья и т.д. нивелированием эмоциональной оценки за счет рациональной переработки происходящего. Таблица 11 Частота упоминания болезни среди значимых событий в жизни Группы больных А Б В Г Болезнь как значимое событие (кол-во случаев упоминания) 29% 52% 30% 57% Если в группе А называние болезни как значимого события было неформальным, связывалось с другими значимыми событиями, сферами жизнедеятельности, было "окрашено" той или иной "философией" больных, то инфаркт миокарда как важный Момент в жизни больных группы Г был лишь знаемым: высокий процент упоминания болезни среди значимых событий противоречил упрощенной эмоциональной реакции на нее. Представление о себе как жертве, угроза для возможности реализации мотива борьбы, преодоления в дальнейшем приводили к формированию чувства неполноценности, генерализации отрицательного значения инфаркта миокарда на все сферы жизнедеятельности в группе Б, что проявилось в большом числе событий, связанных с болезнью. Оценка будущего ("по результатам использования методики "Незаконченные предложения") была сходна в группах А и В, что лишний раз подтверждает наше предположение об эффективности механизмов смысловой регуляции, свойственных этим больным (см. таблицу 12). Таблица 12 Количество оптимистических оценок будущего при завершении незаконченных предложений Группы больных А Б В Г Кол-во оптимистических оценок (%) 71% 44% 73% 59% Больные группы В стремились упорядочить, распланировать будущее, что соответствовало их отношению к любым неопределенным ситуациям, оптимистическая же оценка будущего в группе А была следствием их мироощущения, философского подхода к действительности. Наименьшее число оптимистических ответов у больных группы Б при оценивании будущего — результат выраженных эмоциональных реакций, невозможности справиться с критической ситуацией болезни. "Промежуточный" результат, полученный в группе Г (между результатами групп А — В и группы Б), с одной стороны, обусловлен некритичностью к тяжести заболевания, формальной констатацией "лучшего будущего" после выписки из клиники, а с другой — безразличным отношением к самим себе у этих больных, к выполнению задания вообще. Предложения, в которых нашла отражение тема болезни, пребывания в клинике, отношения с медицинским персоналом, касались следующих "нейтральных" тем: вина, отношение к будущему, прошлому, самим себе, цели, страхи. Эти "нейтральные" предложения были наиболее информативными для выявления реакции больных на инфаркт миокарда, особенностей их ВКБ. Однако, как видно из таблицы, 13, и здесь имели место некоторые различия между группами, связанные с типичными для больных средствами смысловой регуляции. Таблица 13 "Вес" темы болезни в "нейтральных предложениях" (по данным, полученным с помощью методики "Незаконченные предложения") Группы больных А Б В Г Общее число "нейтр." предложений 544 781 404 688 Кол-во предложений, связанных с болезнью (в % к общему числу) 14,5% 6% 12,6% 7,7% Таблица показывает, что в наибольшей степени тема инфаркта миокарда, его последствий, причин развития представлена в предложениях больных групп А и В, что лишний раз свидетельствует о незапретности этих острых проблем для обсуждения, об открытости опыта сознанию, способности к рефлексии собственного состояния и трезвой оценке происходящего: в то же время более редкое упоминание темы болезни в "нейтральных" предложениях у больных группы Б и Г, на наш взгляд, объясняется в первом случае — остротой эмоциональных реакций и невозможностью отстраненного взгляда на случившееся, во втором случае — некритичным отношением к болезни, пассивным отношением к своему здоровью. Количественные данные исследования оценки тяжести инфаркта миокарда и себя как больного по всем группам сведены в таблицу 14 Таблица 14 Результаты, полученные с помощью методики "самооценка" (шкалы: "тяжесть заболевания", "здоровье", "счастье"), у больных, перенесших инфаркт миокарда Группы больных А Б В Г Упоминание здоровья как компонента счастья (% случаев) 72% 55% 50% 48% Оценка тяжести болезни в верхней половине шкалы тяжесть заболевания" 86% 86% 88% 69% Оценка состояния здоровья после инфаркта миокарда ниже, чем до начала заболевания 88% 90% 100% 90% Самооценка здоровья до болезни в верхней половине шкалы 81% 72% 92% 90% Самооценка здоровья и до, и после начала болезни в верхней половине шкалы 31% 41% 33% 66% Наличие самооценок здоровья на крайних полюсах (всего) 27% 28% 16% 33% На полюсе "самых больных" — 3% 8% 3% На полюсе "самых здоровых" 27% 24% 8% 33% Расстояние между самооценками здоровья до и после инфаркта миокарда в 85% случаев "разрывы" не превышают 2-х зон в 38% случаев не больше 1/2 зоны в 83% случаев в пределах 2-х зон в 37% случаев в пределах 1/2 зоны Несмотря на сходство некоторых показателей, принадлежащих больным из разных групп, между полученными результатами имеются глубокие различия, обусловленные спецификой механизмов смысловой регуляции. Остановимся на этом вопросе более подробно. Гибкость, произвольность, диалектический характер оценок, отношение к себе как к ценности и в то же время как к одному из многих, ироничное обесценивание болезни в группе А обусловили непротиворечивость самооценок по разным шкалам, высокую степень включенности здоровья в понятие "счастья" и одновременно отсутствие чувства ущербности в связи с ограничением физических возможностей. Упоминание здоровья как компонента счастья в 72% случаев не подрывало оценки себя как счастливого, удовлетворенного жизнью человека. О принятии себя как больного можно говорить и в группе В, где, однако, здоровье значительно реже называлось как необходимый элемент счастья, что было вызвано такими личностными особенностями этих больных как педантизм, стремление взвешивать "за" и "против", рациональное отношение к действительности. Результаты, приведенные в таблице по этим двум группам близки, и хотя психологическое основание различно, и в том и в другом случаях механизмы смысловой регуляции являются достаточно эффективными, позволяют успешно справиться с ситуацией. При этом для больных этих групп характерна достаточно трезвая, критичная оценка изменения состояния здоровья после перенесенного инфаркта миокарда: лишь 31% пациентов группы А и 33% больных группы В "остались" после инфаркта миокарда в верхней половине шкалы "здоровья". Сами изменения самооценок здоровья до и после начала заболевания не были резкими, укладывались в интервал, не превышающий по ширине двух зон. Интервал между самооценками здоровья до и после инфаркта миокарда, не превышающий 1/2 широты зоны был отмечен в 38% и 37% случаев в группах Б и Г соответственно. Если в группе Б больных такой факт может быть интерпретирован как следствие диссоциации между осознанием тяжести болезни (о чем говорит высокий процент случаев критичной оценки тяжести инфаркта миокарда — 86%) и невозможностью выработки отношения к инфаркту миокарда как к своему заболеванию (такое отношение приводит к ощущению собственной неполноценности), то у больных группы Г этот факт может быть объяснен реальной недооценкой тяжести случившегося, что подтверждается и наименьшей (в сравнении с другими группами) частотой оценивания своего заболевания по тяжести в верхней половине шкалы — 69% . Отрицание, игнорирование болезни, ее последствий в группах Б и Г можно проиллюстрировать и тем фактом, что 41% и 66% самооценок соответственно "остались" в верхней половине шкалы "здоровья" после развития заболевания. Однако, если в группе Г такого рода реакции на болезнь должны рассматриваться как истинные, отражающие реальное состояние внутреннего мира и эмоциональный настрой больных, то в группе Б за внешней недооценкой своей болезни скрываются выраженные эмоциональные нарушения в виде тревоги, депрессии, чувства вины, собственной ущербности. "Сдвинутость" самооценок к полюсу "самых здоровых" имеет также разное происхождение в группах А, Б, Г. Если в группе А смещенность самооценок — проявление частичного осознанного отрицания болезни, гармонично сочетающегося с философским подходом к жизни (27% случаев), то в группе Б отмеченные случаи самооценок здоровья на полюсе "самых здоровых" нужно считать следствием сцепленности всех шкал самооценки, угрозы для самооценки по шкалам "ум", "характер", "счастье" в случае действительного снижения своего положения по данной шкале. Упоминание здоровья как составляющей счастья лишь в 55% случаев противоречило жесткой связанности значимых шкал, сфер жизнедеятельности с проблемой собственного здоровья у всех больных этой группы, их стремлению остаться на прежнем уровне социальной активности, фактической остроте переживаний, связанных с заболеванием. Все это свидетельствует о недостаточной эффективности таких механизмов смысловой регуляции группы Б как волевое разрешение противоречий, обесценивание, сравнение себя с другими, о недостаточности рефлексии, отстраненного взгляда на происходящее, а также о том, что за внешними проявлениями и реакциями больных этой группы скрывались совершенно иные по знаку эмоциональные состояния. Что касается больных группы Г, то наименьшая (в сравнении с другими группами) частота упоминания здоровья как компонента счастья связана с особенностями внутреннего мира больных, бедностью мотивационно-смысловой сферы, неразработанными представлениями о счастье и здоровье. Мы считаем что и в 48% случаев называния здоровья как составляющей счастья, оно (называние) носило формальный характер, происходило по стереотипу, понятие самого здоровья было сужено его физическими параметрами. Максимальный процент "попаданий" в верхний полюс шкалы "здоровья" и в одном случае на полюс "самых больных" в этой группе отражают импульсивность, необдуманность ответов больных как следствия недостаточной произвольности мотивации, опосредствования поведения. В рассказах по материалам ТАТа в группе Г также проявились эти особенности смысловой регуляции: отсутствие средств разрешения противоречий в ситуации болезни, дефицит собственной активности больных. В группе А, напротив, часто встречались развернутые рассказы, касающиеся темы болезни, насыщенные мыслями, чувствами персонажей. Даже трагические события больные группы А были способны окрашивать в "мягкие" тона, воспринимать эстетически. Загруженность негативными эмоциями в группе Б нашла отражение в позиции жертвы у героев сюжетов, обесценивании чувств других людей в ситуации болезни, что подтверждает мысль о недостаточной эффективности волевых средств смысловой регуляции в этой группе (по крайней мере на этапе подострого инфаркта миокарда). В противовес таким результатам позиция отстраненного наблюдателя, изоляция от эмоций, структурирование неопределенной информации обеспечивали в группе В хороший контроль отрицательных эмоций в стрессовых ситуациях, связанных с болезнью, наличие будущего. Все сказанное вплотную подводит исследователя к практическим вопросам психологической реабилитации больных. Прежде всего, это проблема методов психологической помощи с учетом индивидуальности каждого больного и эффективности преморбидно сформированных особенностей личностно -смысловой регуляции. Открытость новому опыту, отсутствие эгоцентрических установок, широта мотивационной сферы, особенности механизмов смысловой регуляции (рефлексия, смысловое связывание, равнение своего случая с другими) у больных группы А делают основной задачей психологической коррекции оказание эмоциональной поддержки, на фоне которой будет разворачиваться собственная внутренняя деятельность больных, будут работать эффективные средства преодоления критических ситуаций. В ходе психологической реабилитации больных группы Б первоочередной задачей может быть стабилизация эмоционального состояния. Применение тактики запугивания последствиями нарушения режима (а к этой тактике врачи прибегают достаточно часто) в группе Б недопустимо, так как сами нарушения врачебных рекомендаций лишь следствие эмоциональных сдвигов у больных, причем по механизму замкнутого круга устрашение последствиями приводит к еще большей дестабилизации эмоциональной сферы. Эффективным методом снятия эмоционального напряжения может быть само индивидуально-психологическое обследование как средство отвлечения больных от травматических переживаний. Во время обследования важно обсуждать с больными результаты психодиагностики (например, результаты исследования познавательной деятельности), что способствует формированию отношений сотрудничества с психологом, стабилизирует самооценку больных. В связи с восприятием своего случая как уникального, а также в связи со значимостью здоровья (физического и психического) и выраженностью негативных эмоциональных реакций необходимо квалифицировать переживания больных как "нормальные", "естественные", а само заболевание — как часто встречающееся у людей, ведущих активный образ жизни, трудоспособных. Уже на подостром этапе инфаркта миокарда возможна опора на развитые механизмы волевой регуляции у больных. При этом необходимо "переключать" чувство вины за возникший инфаркт миокарда на чувство ответственности за свое здоровье в будущем; постепенно актуализировать общественно направленные интересы больных; способствовать формированию философского взгляда на происходящее, умения находить положительные моменты в любом событии в жизни. Рациональное отношение к заболеванию, к обследованию, готовность к сотрудничеству у больных группы В говорит о необходимости обстоятельного (конечно, с учетом уровня медицинских знаний) информирования больных, подготовке, настрою их на деловое сотрудничество с медицинским персоналом, выполнение предписаний и рекомендаций. Больные группы В чаще всего и сами настроены на подобное взаимодействие с врачом; дисциплинированы, педантичны в том, что касается их здоровья, верят в успех лечения, в медицину. Осторожное планирование будущего должно сочетаться с пошаговой постановкой целей в процессе реабилитации, результаты достижения которых будут очевидны для самих больных. Детали, подробности, мелочи лечебного процесса — тот материал, в рациональной переработке которого нуждаются эти больные для поддержания эмоционального равновесия и веры в успех лечения. Принимая во внимание личностные черты и механизмы смысловой регуляции больных группы В, ипохондрические реакции на болезнь надо расценивать в этой группе как адекватные в психологическом отношении. Профилактика их упрочения — важнейшая задача психологической коррекции. При проведении психологической реабилитации с больными группы Г важно учитывать их невысокую информированность в области медицины (примитивные представления об анатомии, функционировании сердца, о природе и последствиях инфаркта миокарда) и особенности свойственных им механизмов смысловой регуляции. Первоочередной задачей психологической реабилитации в этой группе больных мы считаем разъяснение пациентам природы и последствий инфаркта миокарда (совместно с лечащим врачом) в понятных больным терминах, внушение им ответственности за свое здоровье. Иногда целесообразно прямо говорить им о возможности летального исхода при нарушениях режима. Только таким образом возможно предотвратить несоблюдение ими врачебных рекомендаций. В наибольшей степени это касается пациентов с безболевым течением болезни, у которых некритичное отношение к болезни подкрепляется отсутствием неприятных телесных ощущений. Таким образом, знание индивидуальных особенностей преморбидно сформированной системы средств личностно-смысловой регуляции может стать надежной опорой для выбора адекватной стратегии и тактики психокоррекционной (и шире — реабилитационной) работы с больными. Глава 5 Хронически больной ребенок в семье Болезнь создает особый социальный контекст развития человека, активизирует собственные познавательные возможности субъекта, направленные на понимание своего нового жизненного положения, а также преодоление преград, вызванных болезнью с целью сохранения своей человеческой индивидуальности и продолжения реализации жизненного замысла. Успешность психологического преодоления может быть различной (в зависимости от используемых субъектом средств). Жизненная ситуация тяжелой болезни может исказить "обычный" путь развития ребенка. "Ребенок, развитие которого осложнено дефектом, — отмечал Л.С.Выготский, — не есть просто менее развитой, чем его нормальные сверстники, но иначе развитой... Дефективный ребенок представляет качественно отличный своеобразный тип развития" (Выготский Л.С, 1984, Т.5. С.15). Высказывая эту мысль, Л.С.Выготский имел в виду прежде всего детей с дефектами органов чувств или с патологией мозга. В равной степени это положение может быть отнесено и к детям, страдающим иными — соматическими — заболеваниями. Болезнь не только изменяет функциональное состояние мозга, но и является для ребенка тяжелой психической травмой, способной вызвать серьезные расстройства поведения. Конечно, реакция на болезнь связана с уровнем психического развития ребенка. Маленький ребенок не способен осознать тяжесть своей болезни, не понимает, что такое смерть. Однако у детей школьного возраста (а в отдельных случаях — как показывают наблюдения — и в более раннем возрасте) может появиться даже предчувствие близкой смерти, которое приводит к депрессии, а иногда — полному равнодушию (эмоциональному ступору) или вообще отрицанию болезни (Харди, 1984). Кроме подобного высоко травматичного значения болезни Для самого ребенка она является также психической травмой и Для родителей. Больной ребенок — объект особой заботы и внимания родителей, часто недостаточно дифференцированного, пристрастного, не всегда учитывающего изменения состояния (например, улучшение — вследствие успешного терапевтического или хирургического вмешательства). В этой связи можно Привести еще одно положение Л.С.Выготского, имеющее, на наш взгляд, принципиальное значение: "Само действие дефекта всегда оказывается вторичным, не непосредственным, отраженным... Непосредственное следствие дефекта — снижение социальной позиции ребенка; дефект реализуется как социальный вывих" (там же. С. 13). И далее: "Всякий дефект создает стимулы для выработки компенсации... Всегда и при всех обстоятельствах развитие, осложненное дефектом, представляет творческий процесс (органический или психологический) coзидания и пересозидания личности ребенка" (там же. С. 12). Следовательно, основная линия развития в условиях дефекта, тяжелой болезни и т.д., намечаемая Л.С.Выготским, — это "дефект — чувство малоценности — компенсация", т.е. создание "обходных путей развития" как средство оптимальной социальной адаптации. Выготский подчеркивал также, что развитие больного ребенка определяется тем, что компенсация (хотя и является творческим процессом) течет не свободно, а по определенному руслу: "... процесс развития дефективного ребенка двояким образом социально обусловлен: социальная реализация дефекта (чувство малоценности) есть одна сторона социальной обусловленности развития; социальная направленность компенсации на приспособление к тем условиям среды, что созданы и сложились в расчете на нормальный человеческий тип, составляют ее вторую сторону" (Выготский Л.С, 1984. Т. 5. С. 22). Эти положения концепции Л.С.Выготского о развитии в условиях дефекта явились для нас ключевыми при подходе к анализу формирования ряда личностных особенностей у детей. страдающих хроническими соматическими заболеваниями, Опираясь на идеи Л.С.Выготского, мы сформулировали общую гипотезу исследования: хроническое тяжелое соматическое заболевание, создавая особую дефицитарную социальную ситуацию развития, активизирует собственную познавательную активность ребенка (подростка), направленную на преодоление преград, созданных болезнью в реализации жизненно важных потребностей. Психические средства совладания с болезнью зависят от возраста больного ребенка, его ведущей деятельности. Не обладая достаточным жизненным опытом, ребенок обнаруживает стремление получить помощь от близкого взрослого (родителей). Последние, устанавливая определенное воспитательное отношение к ребенку, могут как способствовать преодолению психологических преград, вызванных болезнью, так и препятствовать этому процессу — даже в случае благополучного восстановления соматического здоровья. Для эмпирического доказательства данной гипотезы нами проведено (совместно с дипломниками Андриановой и Трофим чук) психологическое исследование двух клинических групп детей и подростков: дети, больные онкологическими заболеваниями, находящиеся в онкологическом стационаре (детское отделение ОНЦ АМН РФ), и подростки, перенесшие операцию по поводу врожденного порока сердца (ВПС) в возрасте до трех лет. Контрольную группу составили здоровые дети. Выбор данных клинических групп продиктован прежде всего том, что в обоих случаях речь идет о тяжелом, угрожаю жизни, заболевании. Однако в первом случае (онкология) болезнь актуальна на момент исследования, в другом же (ВПС) - болезнь в прошлом, но вся жизнь больных детей, отношение родителей к ним, освещены ее присутствием в прошлом, опасением за состояние детей. Серьезная болезнь в прошлом налагает отпечаток на всю социальную ситуацию их развития, искажая ее естественную динамику. Остановимся на последовательном изложении результатов исследования обеих групп больных, предварив их кратким литературным экскурсом. 5. 1. Ребенок в условиях онкологического заболевания Большой опыт в изучении развития ребенка в условиях онкологического заболевания накоплен в зарубежной психосоциальной онкологии. Изучение ребенка, больного раком, проводится с позиций системного подхода (Weisman, Spinelta, 1977), целью которого является сопоставление роли типичных проблем, способов их разрешения с клиническими стадиями болезни, успешностью ее лечения. Предлагая системный подход, исследователи исходят из кризисной природы онкологического заболевания, приводящей к тому, что больной ребенок, его семья и медперсонал включаются в сложную взаимосистему, психологическая оценка которой должна учитывать интерактивную природу этой системы. Рак, являясь длительным заболеванием, предполагает большое количество средств и стратегий адаптации к болезни, ее психологического преодоления. Описаны в литературе и фазы подобного преодоления, сменяющие друг друга в ходе течения болезни и ее лечения. Анализируя способы совладания ребенка с раком, Maslin (1982) выделяет следующую последовательность смены фаз. Сначала возникает некий "оптимизм", эйфория, развивающаяся как адаптивная реакция личности на стресс, связанный с необходимостью стационирования, болезненным обследованием и др. При этом возникает вера в могущество врача, сочетающаяся с непризнанием, отрицанием тяжести болезни. Наступление рецидива значительно меняет картину — возникает разочарование в возможностях лечения. Ряд исследователей (Holland, 1984; Jay, 1985) считают, что с увеличением процента выживаемости онкологических пациентов только рецидив воспринимается как подтверждение тяжести состояния и угрозы смерти. Это приводит к крушению иллюзий: ребенок становится раздражительным в отношениях с врачами и родителями, часто направляет свой гнев против себя же самого, Развиваются депрессия и анорексия. Вслед за этим наступает отказ. Однако, он не является неизбежным, в его возникновении большую роль играют родители, отчаявшиеся и не способные принять случившееся. Если этого не происходит наступает переоценка: ребенок и его родители воспринимают смерть как освобождение от длительного страдания. Приведенные данные о фазовости состояния больных детей касаются, в основном, детей старше десяти лет, так как большинство исследователей считают, что младшие дети вообще не должны рассматриваться как требующие специального наблюдения и подхода (Gogin, 1976; Lansky, 1974). Тем не менее существуют данные, о том, что даже очень маленький ребенок (4-5 лет), хотя и не понимает, что такое смерть, не осознает тяжести своего заболевания, но опосредованно через реакции взрослых эмоционально реагирует на то, что у него настолько тяжелая болезнь, что никто не хочет говорить с ним об этом (Bozeman, 1976). Для того, чтобы иметь возможность обеспечить благоприятное течение процесса адаптации к болезни, необходимо выяснить, какие факторы являются наиболее травмирующими для ребенка в условиях онкологического заболевания. Они имеют различную природу. С одной стороны, это факторы, непосредственно связанные с болезнью и тяжелым лечением. К ним относятся болевой синдром и побочные эффекты специфической терапии. Боль является частым спутником рака, она может быть вызвана как самим опухолевым процессом, так и специфическим лечением. Болевой синдром тяжело переживается всеми детьми. Но у младших контроль боли хуже, больше отрицательных эмоций (LeBaron, 1984). Это относится и к побочным эффектам химиотерапии, которая может быть длительной, изматывающей ребенка, снижающей его адаптивные возможности. Однако основным источником психологических проблем авторы считают факторы, непосредственно не связанные с болезнью, а определяющиеся той ситуацией, в которой оказывается больной ребенок. Среди них — ограничение активности (Brungell, 1982), отрыв от группы, изоляция (Fudell, 1984). Все эти факторы, по мнению исследователей, имеют регрессивные последствия для личности ребенка, состоящие в нарушениях социального поведения, школьной фобии, изменении отношений со сверстниками (агрессия, аутизация). Необходимо отметить, что эти факторы не являются специфичными для онкологического заболевания. Во всех группах хронически больных детей отмечается отрицательное влияние болезни на нормальное течение жизни в целом и в особенности на отношения со сверстниками, родителями и самостоятельность ребенка. Но онкологически больные дети высказывают больше проблем относительно лечения, которое оценивается ими как более тяжелое, чем даже сама болезнь (Kellermann, 1980). Остановимся несколько подробнее на вопросе о том, как влияют взаимоотношения со взрослыми на процесс адаптации болезни. Большинство авторов считают достижение взаимопонимания между врачом и ребенком необходимым условием успешной адаптации к болезни. Взаимопонимание достигается открытым общением с ребенком, которое предполагает знание диагноза. Диагноз обсуждается с ребенком на языке, доступном для его возраста, уровня психического развития. Установление контакта с детьми позволяет им почувствовать себя активными участниками лечения (Levinson, 1976; Phyllis, 1976). Основные способы адаптации к жизни в новых условиях дети находят внутри семьи. На этапе диагностики многие родители благодаря ответственности за здоровье, жизнь и благополучие ребенка, испытывают чувство вины в отношении поставленного диагноза. Необходимость стационирования убеждает их в серьезности заболевания. Все это может привести к ятрогенному поведению родителей, которое способствует возникновению чувства безнадежности у ребенка (Blotsky, 1978). Различные варианты адаптивного поведения родителей (интеллектуализация, отказ от надежды, агрессия и др.) оказывают значительное воздействие на стиль поведения ребенка. При этом нужно учитывать, что механизм адаптации родителей, направленный на возникновение оптимизма у детей, отличается от механизмов, обеспечивающих определенный уровень дистресса у самих родителей (Maslin, 1982). Таким образом, можно отметить, что в большинстве случаев исследования ведутся в рамках эмпирических наблюдений, единая схема их анализа отсутствует. Тем не менее, эти работы вносят значительный вклад в организацию реабилитационных мероприятий, основной целью которых является перенесение акцента с вопросов смерти и угасания ребенка на адаптацию к болезни как хронической. На этом этапе основными задачами исследования явились: рассмотрение отношения ребенка к болезни в разные возрастные периоды; выделение тех психологических средств, которые применяет ребенок для совладения с болезнью; изучение роли родителей в переживании ребенком болезни. Для решения поставленных задач были применены следующие методики исследования. 1. Во-первых, рисунки детей. Рисование является способом установления контакта с ребенком. Рисование как методика исследования личности ребенка имеет много вариантов: тесты Вартега, тест завершенного рисунка (Kindet), рисунок человека (Loodenough — Harris Draw & Person Test), рисунок человеческой фигуры (Machover). Однако эти тесты громоздки, трактовка их большей частью основана на психоанализе. Не Учитывается, что качество рисунка зависит не только от интеллектуальных и личностных особенностей ребенка, но и от его интересов, способа обучения и ряда других факторов. Поэтому попытки применения рисунка как метода исследования личности онкологически больных детей дают противоречивые результаты. При оценке рисунка мы исходили из того, что рисование позволяет заглянуть во внутренний мир ребенка. В рисунке дети могут ненамеренно отразить свои фантазии, влечения, конфликты, которые они не осознают и не могут выразить словами. Поэтому мы предлагали детям создать свободный рисунок, а также рисунок не существующего животного и "дом — дерево — человек". Ту же функцию, что и рисунок в исследовании, выполняла методика пиктограмм, проективная ценность которой единодушно признается всеми исследователями и практическими работниками. Мы применяли также методику исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, несколько видоизменив процедуру оценивания. Наряду с актуальной самооценкой дети оценивали себя "глазами родителей" и "глазами сверстников". Критериями оценки результатов этой методики являлись следующие показатели: средние значения по шкалам, которые подсчитывались по формуле Пирсона для вычисления корреляции двух случайных последовательностей. Мы учитывали также и то, что само психологическое обследование является моделью реальной жизненной ситуации, поэтому отношение к нему, поведение ребенка в ситуации исследования является важным показателем для оценки его личности, особенностей отношения к болезни. Результаты первого этапа исследования и их обсуждение На первом этапе нами обследовались 16 детей в возрасте 6-8 лет с различными онкологическими новообразованиями. У большинства детей наблюдается опухолевый симптомакомплекс, обусловленный сильной интоксикацией организма (вялость, слабость, повышенная утомляемость). Тем не менее, дети с удовольствием принимают участие в экспериментально-психологическом исследовании, воспринимая его как возможность отвлечься от однообразной больничной обстановки, встать с постели (у многих из них постельный режим). Дети заинтересованы в оценке своей работы. Для них характерны высказывания: "если на выставку, то я буду рисовать", "а призы будут?" Некоторые ребята рисуют по несколько рисунков на выбор. Безусловно, маленький ребенок не может осознать тяжести своего заболевания и его последствий. Но, оказавшись в новой ситуации, ситуации болезни, он формирует свое собственное отношение к, новым обстоятельствам жизни и к самому себе. У ребенка нет социально-эталонного понятия болезни. Она воспринимается как ограничение нормальной, привычной жизни. В большинстве случаев дети не могут сказать, что такое болезнь, они определяют ее через те ограничения, которые существуют для больного человека по сравнению со здоровым. То, что у шестилетнего ребенка выражается словами "в больнице, плохо, потому что я к дому привык" (Женя И.), у детей постарше превращается в перечисление того, что здоровому можно в отличие от больного. Так, Дима К. говорит: "Болезнь — когда здоровья нет, здоровый бегает, зарядкой занимается, больному нельзя — он простудиться может". Очень ярко это проявилось в пиктограмме Вовы Н.: на слово болезнь он нарисовал дорожный знак, запрещающий переходить улицу: "Болезнь — как тот знак, этого нельзя, того нельзя". Можно выделить два вида ограничений, которые наиболее остро переживаются детьми в условиях больницы: а) ограничение движений; б) ограничение учебной деятельности. Ограничение движений является одной из основных проблем онкологической клиники. Оно связано с длительными процедурами (ребенок может лежать под капельницей по много часов подряд), постельным режимом до и после операции, недомоганием. Моторная активность является важной формой самовыражения для ребенка, она оказывает влияние не только на телесное развитие, но становится необходимым условием развития образа мира. Поэтому болезнь осознается, в первую очередь, как ограничение игры, той основной деятельности, в которой реализуется двигательная потребность ребенка. Так, Алеша П. говорит: "Здоровый человек бегает, на санках катается, в снегу валяется, а больной не может". В пиктограмме на слово болезнь одна девочка рисует человека, лежащего под капельницей: "Он лежит, и ему скучно, в болезни всегда так". Стремление двигаться проявляется и в рисунках детей. На просьбу нарисовать человека Игорь П. рисует мальчика, играющего в мяч и объясняет: "Раньше я любил в футбол играть". Ограничение движений становится причиной конфликтов с родителями. Так, Даша Р. рисует себя и маму, стоящих в разных концах комнаты, отвернувшись друг от друга и объясняет: Мама не пустила меня гулять". Конечно, смысл игры не сводится к проявлению двигательной активности. В игре происходит ориентация ребенка в самых общих смыслах человеческой деятельности, и, что особенно важно, игра является средством овладения своим внутренним миром, через объективацию в игре переживаний Ребенка. Именно это имел в виду Эриксон, определяя игру как самый естественный способ врачевания" (Анцыферова, 1978. С.172). Поэтому ограничение игры, затрудняя ориентацию ребенка в своем внутреннем мире, препятствует и процессу переживания ребенком болезни, ее преодолению. У 6-7 летнего ребенка формируется познавательное отношение к действительности, возникает отчетливое желание быть взрослым, заниматься серьезным делом, и поступление в школу выступает для детей как условие реализации этого желания, Длительное пребывание в больнице связано с пропусками школы или откладыванием поступления в школу. Это рушит планы ребенка, фрустрирует познавательную потребность и потребность в определенных социальных отношениях, выражающихся в положении школьника. У части детей болезнь осознается через ограничение учебной деятельности. Так, Ваня Ж. рисует "счастливого человека" с портфелем. У 70% ребят оценка себя как несчастливых связана именно с невозможностью ходить в школу. Дети внимательно следят за реакцией экспериментатора, стараются "правильно" отвечать на вопросы, требуют выставлять оценки за свои рисунки. У большинства ребят ум называется среди положительных качеств характера. Двое ребят на слово "счастье" в пиктограмме рисуют улыбающегося ученика, которого хвалит учитель. Следует отметить еще один важный момент, способствующий осознанию ребенком своего заболевания. Это тяжелое лечение, связанное с болью и неприятными побочными эффектами. Лечение вызывает у маленького ребенка больший поведенческий дистресс, чем у подростка, что связано с плохим по сравнению со старшими детьми контролем боли. Ребята часто определяют болезнь через перечисление тех процедур, которые им делают. Катя Т. говорит: "Больной человек по больницам ходит, ему уколы делают, капельницу ставят". В пиктограмме на слово "болезнь" шестеро ребят изображают шприц, двое — капельницу. Причем боль и неприятные ощущения, связанные с лечением, повидимому, оцениваются как более сильные, чем боль, связанная с опухолевым процессом. На вопрос "что болит?" дети отвечают "больно, когда делают уколы", "больно капельницу ставят, кровь берут". Хотя из истории болезни видно, что у многих детей присутствует боль, связанная с опухолью. Ограничение движений, учебной деятельности, тяжелое лечение, нарушающее обычный распорядок жизни ребенка, приводит к перестройке самооценки ребенка. Для обследованных детей характерно низкое ценностное отношение к себе. Средняя оценка по шкале здоровья составляет 0,2. Здоровье становится точкой отсчета для оценки себя по другим шкалам. Это выражается в высокой корреляции между шкалами. Примером может служить самооценка Юли К. Из протокола экспериментальнопсихологического исследования Юли К.: "Здоровья нет совсем, в больнице долго лежу; несчастливая — в больницу попала, в школу не хожу; характер у меня испортился, маму не слушаюсь". Фактор здоровья доминирует в самооценке. Отсутствие здоровья становится травмой, поскольку вплетается в самые разные виды деятельности, создает постоянную ситуацию неуспеха. Невозможность реализовать себя в учебе не означает, что для ребенка она перестает быть значимой: большинство ребят (12 человек) отмечают, что самый счастливый человек — тот, кто ходит в школу. Ограничение двигательной активности также отражается на самооценке: среди вещей, которых не хватает ребенку прежде всего, выделяется возможность свободно играть, бегать, заниматься зарядкой. Ситуация болезни, фрустрируя ведущие мотивы деятельности ребенка, приводит к изменению самооценки и по шкале характера. Сильная интоксикация организма, побочные действия лекарств приводят к тому, что ребенок становится раздражительным, плохо переносит любое резкое воздействие. Раздражительность связана также с неудовлетворенностью потребностей ребенка, невозможностью реализации желаний. Осознавая свою несдержанность, дети больше всего ценят в людях "умение не кричать", "не ругаться". Довольно часто к положительным качествам характера относится ум. Это объясняется как недифференцированностью самооценки ребенка, так и фрустрацией мотива учебной деятельности. В результате низкая оценка по шкале характера оказывается связанной с низкой оценкой по шкале ума. Неуверенность в себе проявляется и в рисунках детей. Так, Олеся Т. рисует дерево, падающее от ветра и белку, "которая не может на нем удержаться". Оля С. в аналогичном задании изображает яблоню: "Ветер срывает яблоки с дерева, и тучи сейчас закроют солнце". Айгунь А. сама предлагает нарисовать что-нибудь. На рисунке появляются улетающие птицы и Серая Шейка, "которая не может улететь и прощается с ними". С неуверенностью в себе, по-видимому, связано то, что дети держатся в стороне друг от друга, они не чувствуют, что могут оказать друг другу поддержку. Они почти не играют вместе, в игровой комнате или смотрят телевизор, или собирают по отдельности мозаику. Следует сказать, что отношение ребенка и к себе, и к болезни в значительной степени ситуативно. Конечно, ребенок не скован наличным впечатлением, но все же понятие болезни У него сильно связано с нахождением в больнице. Выздоровление, отсутствие болезни ассоциируется только с выпиской из больницы. При этом изменяется и ценностное отношение к себе. Трое ребят, которых готовили к выписке, показали совершенно иное отношение к себе и к своим возможностям. У них гораздо более высокие показатели по всем шкалам. Средняя оценка по шкале "здоровье" составляет 0,9. При этом телесный недостаток не является значимым для ребенка в этой ситуации. Так, Алеша С. с удаленным глазом по поводу ретинобластомы считает себя здоровым и счастливым так как "операцию уже сделали, и он уходит домой". Связь понятия болезни с больничной реальностью проявляется и в пиктограмме. На слово "болезнь" Инна В. рисует аквариум, "как у нас в больнице", Лера Д. изображает шприц, а потом добавляет еще телевизор "из игровой комнаты". Это говорит о том, что представление ребенка о болезни в значительной мере ограничено больничной реальностью. Такое отношение к болезни связано с особенностями психики ребенка. "Игра, которая является центром поведения ребенка на протяжении всего дошкольного периода, накладывает отпечаток на все другие особенности этого периода. Вся интеллектуальная жизнь ребенка протекает в сфере наглядного, отсюда несовершенство схематизирующей деятельности. Дети, хотя и не скованы внешними впечатлениями и часто выходят за рамки здесь и сейчас данного, пытаясь установить связь с тем, что было раньше и будет после, но устанавливаемые ими связи так же легко разрываются, как и возникли" (Смирнов, 1985. С.47). Остановимся подробнее на описании внутренней картины болезни, так как именно на основе отражения болезни в сознании ребенка формируется деятельность, направленная на ее преодоление. Анализ литературных данных и собственное экспериментальнопсихологическое исследование показывают, что в непосредственно-чувственном отражении болезни у онкологически больных детей представлены главным образом жалобы не столько на основное заболевание, сколько на лечение, которое оценивается как более тяжелое, чем сама болезнь. Выписка из больницы связана если не с прекращением лечения, то, по крайней мере, с уменьшением количества лечебных процедур, что воспринимается ребенком как освобождение от болезни, которая связывалась с неприятными процедурами. Наряду с непосредственно-чувственным уровнем отражения болезни во ВКБ детей представлен эмоциональный уровень. Болезнь связывается с ограничением нормальной жизни. Она воспринимается как преграда в реализации учебной деятельности, игры. Невозможность реализации ведущих мотивов деятельности приводит к возникновению отрицательных эмоциональных переживаний. Отражение болезни приобретает субъективную окрашенность. Однако, личностный смысл болезни не осознается ребенком. Осознание личностного смысла, который имеют те или иные явления, возникает, лишь когда формируется подлинное самосознание. Отрицательные эмоциональные переживания в связи с болезнью вызывают снижение эмоциональноценностного отношения к себе. Низкая самооценка, неуверенность в себе сказываются на отношениях с людьми. "Всякий телесный недостаток не только изменяет отношение к миру, но прежде всего сказывается на отношениях с людьми" (Выготский Л.С, 1984. Т.5. С.39). Это проявляется, с одной стороны, в сильной привязанности к родителям. В рисунках детей часто появляются родители. На просьбу нарисовать человека 8 из 16 ребят рисуют маму и дочку или сына. В пиктограмме образ родителей связан с понятием счастья. Уровень рациональной оценки тяжести заболевания практически отсутствует у ребенка. Это объясняется как ограниченностью знаний ребенка о болезни, так и тем, что знание о болезни не означает для ребенка осознания реальной тяжести заболевания. Так, рассказывая о своей болезни, дети часто упоминают слово "опухоль", однако за этим словом либо вообще не стоит никакой реальности для ребенка, и на вопрос "что это такое?" дети отвечают "не знаю, все так говорят", либо это понятие является для ребенка рядоположенным с симптомами болезни, и дети называют опухоль наряду с насморком и головной болью. Из описания ВКБ видно, что ситуация болезни приводит к изменению психологического мира ребенка. Для социальной ситуации развития ребенка в норме характерно ослабление тесной связи, которая характеризовала отношения между взрослым и ребенком на предыдущем этапе развития. Ситуация болезни создает объективную зависимость от родителей. Кроме того, ограничивая те виды деятельности, в которых происходит развитие самостоятельности ребенка (учебную и игровую деятельность), болезнь приводит к сильной субъективной зависимости ребенка от родителей. Наряду с привязанностью к родителям, которая носит защитный характер, у детей наблюдается стремление к компенсации дефекта, которое проявляется в отношении к эксперименту, описанном выше. Подводя итог описанию тех преобразований психического мира, в которых состоит "работа" переживания болезни у маленького ребенка, необходимо отметить, что специфика деятельности переживания в значительной степени определяется той критической ситуацией, в которой оказывается больной человек и тем, как она отражается в сознании. У маленького ребенка нет развернутого жизненного плана, главным измерением времени для него является настоящее, его отношение к себе наполнено непосредственно-чувственным содержанием. Поэтому деятельность переживания направлена в первую очередь на освобождение от больничной реальности. Результаты второго этапа исследования и их обсуждение На втором, основном, этапе исследования нами обследовались 22 подростка с различными онкологическими новообразованиями. (Подростки с диагнозом "остеогенная саркома" обследовались на послеоперационном этапе, после ампутации ноги). В большинстве случаев дети попадают на лечение на поздних этапах развития опухоли, когда сильная интоксикация организма приводит к вялости, адинамии, выраженной утомляемости. Наиболее ярко явления астении проявляются в гематологии (о.лейкозы, лимфосаркома). Болевой синдром, связанный с заболеванием, наиболее характерен для опухолей костей. Подростковый возраст является периодом обращения к своему "Я". Впервые в развитии личности отдельные проявления самосознания — самопознание, самоотношение, саморегулирование деятельности — становятся необходимыми потребностями личности. У подростка появляется стремление к целенаправленному изменению себя в связи с осознанием каких-либо собственных психологических несоответствий с внешними требованиями, идеалами. Ситуация болезни становится для подростка психической травмой. Так же, как и у младших детей, у подростков нет социально эталонного понятия болезни. Но по сравнению с младшими детьми у подростка меняется смысл травмирующих переживаний. В значительно меньшей степени осознание болезни связано с внешними атрибутами больничной реальности. В отличие от маленького ребенка, для которого из всех изменений времени самым важным и существенным является настоящее, "здесь и теперь", для подростка характерно осознание непрерывности, преемственности во времени. Время переживается как живое, связанное с конкретными значимыми событиями и мотивами, причем главным измерением его становится будущее. Поэтому наиболее травмирующим для подростка, лицом к лицу столкнувшегося с тяжелой болезнью, является вырывание его из привычной жизни, из его прошлого и будущего. Так, Витя Г. говорит: "Здесь и в больнице все суетятся, врачи ходят, уколы делают, процедуры всякие, а жизнь как будто остановилась, ничего не происходит, сидишь целый день или лежишь". Наташа Д. в пиктограмме на слово "болезнь" рисует "серый лист бумаги — его с какой стороны ни посмотри, он и справа и слева везде одинаково серый". Возможно, что с этим ощущением остановленности жизни, покинутости связано своеобразное изображение деревьев на рисунках Саши С. Лены О., Вити Г.: опадающие листья, либо вообще голые ветки, несмотря на то, что изображается лето — зеленая трава и яркое солнце. Болезнь оказывается заданной ухудшающимся самочувствием, необходимостью лежать в больнице, выполнять те или иные процедуры. Ребенок не чувствует себя способным оказывать влияние на течение собственной жизни. Это проявляется в результатах экспериментально-психологического исследования. Витя Г. в пиктограмме изображает болезнь как масляное пятно на ткани: "оно расползается и ничего с ним не сделаешь, его нельзя никак остановить". Похожий образ болезни и у Игоря Ш.: "Болезнь — как газета, черные буквы проступают на белом листе". Этот же феномен можно заметить и в рисунках детей, когда на просьбу нарисовать человека подростки рисуют роботов, "механических людей", а несуществующие животные напоминают заводные игрушки. Так, Дима К. рисует "чудо-птицу, которая летает от того, что ее накачали насосом". Сережа И. изображает "змея-чамба", летающего по ветру. Дети чувствуют себя отвергнутыми сверстниками, в больнице они не стремятся к общению друг с другом, а свои прошлые дружеские связи считают потерянными. Игорь Ш. говорит что "болезнь — это состояние, которое показывает, что ты не такой как все: друзья отвернулись, не с кем даже поговорить". Галя К.: "Самое плохое, что пока я здесь, про меня там дома все забывают, я почти никого не вижу, в школу не хожу, учителя ко мне на дом приходят". Чувство изоляции, одиночества появляется и в рисунках детей. Саша С, рисуя несуществующее животное, изображает "тонкое-тонкое облако, которое живет в космическом вакууме, и о его существовании никто не знает". Витя Г. на просьбу нарисовать человека изображает лесника: "Он живет в лесу совсем один, только с собакой, и каждое утро обходит его, чтобы в лес не ходили люди — чаще всего это бывают браконьеры". Как уход в себя, ощущение собственной изоляции можно интерпретировать и рисунок Лены О., изображающей дом изнутри (печку, лавку и стол), замки и закрытые ставни на окнах дома Карена М. Для части детей характерны реакции отказа, негативизма. Ребенок либо вообще отказывается рисовать и отвечать на вопросы: "Зачем мне это нужно? Я все равно умру" (Катя Н.), либо, несмотря на инструкцию рисовать каждый рисунок на отдельном листе, изображает все вместе, хаотически располагая предметы (Вика Г., Дима Д.). У этих детей ситуация болезни, фрустрируя ведущие мотивы деятельности, привела к значительному снижению ценностного отношения к себе. Для них характерны низкие показатели по Шкале здоровья и высокая корреляция между всеми самооценочными шкалами. Болезнь воспринимается как ограничение той или иной деятельности подростка. Так, Вика Г. определяет болезнь как ненормальное состояние, когда человек не может или не должен что-нибудь делать". На первый план выступает ограничение деятельности общения и, собственно, тех форм активности, в которых она реализуется. Так же, как и для маленького ребенка, для подростка важной проблемой становится ограничение движений. Но для маленького ребенка ограничение двигательной активности является ограничением игры, затрудняет осуществление стремления ребенка к учению из-за невозможности посещать школу. Для подростка моторная активность имеет другой смысл. Так, большинство детей переживает, что из-за болезни они не могут заниматься спортом. Очень показательно высказывание Лены О.: "Дамке если больной человек и будет заниматься спортом, то результаты у него будут хуже, чем у здорового". Занятия спортом являются способом завоевания уважения сверстников. Как преграда в общении воспринимается изменение внешности, вызванное болезнью. Выпадение волос в результате химиотерапии, прибавка в весе, вызванная гормональными препаратами, тяжело переживаются подростками. Несмотря на жару в отделении, многие мальчики ходят в шапках, девочки с удовольствием показывают друг другу свои фотографии до болезни. Очень показательны следующие высказывания детей: "как же я пойду в школу, не буду же я на уроках в платочке сидеть" (Вика Г.); "не пойду же я с такой шишкой в школу" (Лена О., опухоль на запястье). Неслучайно люди на рисунках подростков выглядят подчеркнуто подтянутыми, стройными. Семь из девяти ребят этой группы называют красоту условием счастья. Вообще болезнь и связанные с ней ограничения нормальной жизни становятся точкой отсчета для оценки себя по другим шкалам. Из протокола экспериментально-психологического исследования Игоря Ш.: "Я не счастливый, потому что у меня вся жизнь такая... по больницам. Характер плохой стал изза болезни, раздражаюсь, кричу на всех... Много в школе пропустил, какой же я умный?" Переживание является деятельностью, т.е. самостоятельным процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные жизненные проблемы. Оно не ограничивается эмоциональным отражением болезни, проявляющимся в снижении ценностного отношения к себе. Низкая самооценка, чувство своей непохожести, неадекватности приводит к ограничению общения. Это ограничение уже не связано однозначно с ситуацией болезни (отрывом от школы, от друзей), а является следствием низкого эмоционально-ценностного отношения к себе. У шести из девяти ребят этой группы оценка, которой они обладают в глазах одноклассников, расположена в самом низу шкалы. У всех ребят можно отметить сильную привязанность к родителям. Это проявляется в единстве оценок себя глазами родителей и самооценок. Привязанность к родителям проявляется также в "постоянном присутствии" родителей в определении шкал ("Хороший человек — добрый, заботится о близких — как моя мама"). Такая привязанность является, с одной стороны, замещением общения со сверстниками, родители становятся теми "значимыми другими", на которых переносится потребность ребенка в общении. С другой стороны, эта привязанность объясняется тем, что ребенок ощущает себя пассивным объектом внешних воздействий, он стремится переложить ответственность за свое состояние на родителей, самоустраниться от решения собственных проблем. Поэтому эта привязанность не служит средством достижения ценностного отношения к себе. Таким образом, можно выделить группу подростков, для которых болезнь, изменив социальную ситуацию развития, стала преградой для реализации ведущих смыслообразующих мотивов (общения, учебной деятельности). Сосредоточение на этой преграде, субъективная невозможность ее преодоления приводит к падению эмоционально-ценностного отношения к себе. Трудности, порожденные болезнью, вызывают активизацию защитных механизмов личности. Эта защитная активность проявляется в ограничении общения, в уходе в себя, в сильной привязанности к родителям, смысл которой — в самоустранении от решения своих проблем. Однако эта активность носит именно защитный характер, а не компенсаторный. Если воспользоваться классификацией переживаний, данной в книге Василюка (1984), то можно охарактеризовать эту активность как "неудачное" переживание, оно не ведет к повышению адаптивных возможностей ребенка, а приводит к заострению трудностей, вызванных ситуацией болезни. Наряду с принятием болезни как заданной внешними обстоятельствами, в ходе которых сами больные ничего не могут изменить, можно выделить иной тип реагирования на болезнь, характерный для восьми обследованных подростков. У этих детей значительно более высокие показатели по шкале здоровья и низкая корреляция между шкалой здоровья и остальными шкалами. Болезнь также воспринимается как преграда для осуществления планов на будущее, как ограничение нормальной жизни. Но этими детьми признается временный характер преграды. К определению болезни добавляются мысли о выздоровлении, о том времени, когда они вернутся домой. Так, Катя Ш. говорит: "Болезнь — очень плохо, никому бы не пожелала, у человека, когда он болеет, только и мысли, чтобы выздороветь". Люся В.: "Раньше, когда я болела, очень радовалась, что можно дома сидеть, в школу не ходить, теперь, когда заболела серьезно, я понимаю, что болезнь — настоящее горе, выздоровлю, буду с удовольствием в школу ходить". Такая устремленность в будущее проявляется и в рисунках детей. Сережа И. рисует дом в деревне, куда поедет после выздоровления, и себя, подтягивающегося на турнике. Игорь П. изображает "динозавра", который только что перелез через высокую гору, и "хотя устал, но очень доволен, потому что теперь он сможет пойти туда, где раньше не был". Рисунки детей этой группы часто имеют субъективную окраску. В отличие от детей предыдущей группы подростки рисуют не просто дома, а "мой дом в деревне" (Женя М.), "цветы на окошке, как моя мама любит" (Дима М.). На просьбу нарисовать дерево Маша Н. рисует березу: "у нас около дома растет — высокая такая". Уход от болезни, устремленность в будущее не зависят, на наш взгляд, от прогноза заболевания. Так, Рома К., у которого прогноз не благоприятен, и мальчик знает об этом, с удовольствием рассказывает о своей коллекции моделей самолетов, о том, как после возвращения домой он сможет пополнить ее новыми моделями, которых в больнице он склеил больше тридцати. При этом у подростков нет просто мотива выживания, который у взрослых больных становится ведущим смыслообразующим мотивом и побуждает к деятельности по сохранению здоровья. Ребенок хочет не просто выжить, будущее имеет для него вполне определенное конкретное содержание. Вызванное болезнью изменение социальной роли может повлиять на представление о будущем, но оно не лишает ребенка веры в возможность полноценного будущего. Марина П. раньше собиралась стать учителем танцев, теперь готовится стать модельером: "В хореографическое меня теперь не возьмут — вон как растолстела". У этой группы подростков изменяется смысл, который они вкладывают в название самооценочных шкал. У детей происходит переосмысление понятия "счастье". В первую очередь оно связывается с родителями. Игорь П.: "Счастье — когда есть родные, близкие". Катя Ш.: "Я счастливая, у меня родители хорошие, сестра, брат". Если для предыдущей группы обследованных детей привязанность к родителям является подтверждением зависимости от них, переложением на них ответственности за решение своих проблем, то у подростков этой группы она является способом поддержания ценностного отношения к себе. Из протокола экспериментально-психологического обследования Люси В.: "Мама у меня самый близкий друг, у нас очень похожие взгляды на все". У большинства детей счастье ассоциируется с хорошей учебой в школе, значительно коррелируют между собой шкалы счастья и ума. При этом отношение к болезни как ко временной преграде, устремленность ребенка в будущее, в то время, когда он выздоровеет, приводит к тому, что дети, которые находятся в больнице уже почти год, говорят об учебе в школе как о своей реальной основной деятельности. Марина П. говорит: "Я счастливая — хорошо учусь в школе, меня уважают одноклассники, учителя". Изменяется точка отсчета и для характера. Основными качествами становятся умение "не унывать в тяжелых ситуациях", "не раскисать". Наиболее ярко это проявляется у одного подростка. Витя М., оценивая себя очень высоко по всем шкалам, объясняет: "Человек заболевает и становится несчастным, когда начинает верить в свою болезнь. Мне хирурги сказали, и я поверил, и вот теперь я здесь". И хотя это скорее идеальное, чем реальное "Я", стремление подростка к сохранению постоянства своей личности, к сверхкомпенсации своего дефекта очень показательно. Устремленность в будущее, характерная для этих подростков, вообще говоря, свойственна всем подросткам. Необходимость определить свое место в жизни, являясь важным компонентом социальной ситуации развития, создает у подростка направленность в будущее. Болезнь нарушает психологическое будущее, целостность жизни. Но препятствия, созданные болезнью, служат стимулом для компенсаторного развития. Для этих детей совершенно верно высказывание Адлера: "Он (ребенок с недостаточностью) будет хотеть все видеть, если он близорук; все слышать, если у него аномалия слуха... желание летать будет выше всего выражено у тех детей, которые уже при прыганий испытывают большие затруднения" (Цит. по: Выготский Л.С., 1984. С. 9). Наконец, можно выделить третью группу подростков, для которых характерно совершенно особое отношение к болезни. К этой группе относятся четверо ребят с диагнозом "остеогенная саркома нижней конечности". Они обследовались на послеоперационном этапе лечения после ампутации ноги. У этих ребят почти совпадают реальная и идеальная самооценка. Среднее значение по шкале здоровья составляет у них 0,9. Так, Рамиль X., оценивая себя высоко по шкале здоровья, объясняет: "Раньше я болел, у меня ныло в ногах, и вообще, было очень плохо, теперь я чувствую себя гораздо лучше. Скоро домой поеду". Дима Г. оценивает свое состояние так: "Мне кажется, я счастливый, болезнь проходит". Понятие счастья оказывается связанным с понятием здоровья, которое они вновь обрели. Из анамнеза этих детей видно, что дети высказывали большое количество жалоб на сильные боли в области пораженной конечности. Осознание болезни у этих ребят и связано прежде всего с болью. Ваня Б. определяет свою болезнь так: "Болезнь — тяжелое состояние человека, когда у него что-нибудь болит, и это мешает ему заниматься тем, чем он хочет". Рамиль X.: "Самое плохое в болезни — это боль". Можно предположить, что исчезновение боли или хотя бы ее ослабление после операции приводит к тому, что болезнь, которая являлась преградой для самореализации ребенка, считается преодоленной; преграда оказывается позади, и это вызывает резкое повышение самооценки ребенка. Болезнь не отрицается вообще, но она оценивается как событие прошлого. При этом телесный недостаток игнорируется. Для поддержания высокой самооценки ребенок ищет такие условия, такие формы деятельности, в которых этот телесный недостаток был бы незаметен. Так, Дима Г. в больнице начал увлекаться шахматами, Ваня Б. играет на гитаре, сочиняет музыку. На просьбу нарисовать человека, он изображает "веселого человечка, исполняющего песню". Алеша Д. "обожает книжки про путешествия". Его пиктограмма напоминает большой фантастический сюжет. Феномен ухода от болезни в фантазии ярко проявляется в рисунках детей. В той фантастической реальности, в которой живут их несуществующие животные, этого телесного недостатка просто нет. Так, Алеша Д. рисует "рыбоедов", с дельфиньим хвостом вместо ног. Ваня Б. — "плантодинофанозавра", скользящего по гладкой поверхности. Рамиль X. — дельфинов, Дима Г. — "моржарыборога", который передвигается с помощью ластов. Поведение окружающих, способствующее осознанию настоящей тяжести заболевания, приводит к реакциям протеста, агрессии. Так, в рассказах о несуществующих животных, окружающая действительность рассматривается как враждебная, угрожающая существованию. Из рассказа о несуществующем животном Алеши Д.: "Это рыбоеды, на той планете, где они живут, их осталось очень мало — они вымирающие животные. Вот они плывут в поисках пищи и увидели какое-то устройство, из него доносится музыка. Один рыбоед хочет посмотреть, что это, и не знает, что к нему подсоединен взрыватель, он сейчас взорвется, и его убьет, другой рыбоед кричит, хочет предупредить об опасности, но уже поздно". У другого мальчика в аналогичном задании появляются дельфины, попадающие в специально расставленные для них сети. При этом дети не хотят говорить о своем будущем. Любой вопрос о школе встречается "в штыки": "А что школа? Я знаете, сколько читаю?" Если для детей предыдущей группы будущее имеет вполне конкретное содержание, то у этих подростков представление о будущем расплывчато. Дети ограничиваются общими фразами: "Поеду домой", "Скоро выпишут". Очень показательно отношение к психологическому обследованию у этих ребят. Дети неохотно отвечают на вопросы, в исследовании самооценки ограничиваются односложными предложениями. При этом с удовольствием рисуют или сочиняют рассказы о несуществующем животном. Характерно и отрицательное отношение к помощи экспериментатора. Дети отвергают помощь, воспринимая ее как неверие в их возможности. Так, Дима Г. переживает, что не может вспомнить слово в пиктограмме, но на предложение помочь резко отвечает: "Не нужно, я сам вспомню, у меня хорошая память". Такое отношение к помощи наблюдается не только в ситуации эксперимента. Это проявляется в отношениях с родителями. Так, Ваня Б. вообще отказывается себя оценивать с точки зрения матери, так как "он не знает, что мама думает о нем". У Рамиля X. самооценка и оценка глазами матери находятся на разных полюсах. При этом отстаивается правильность самооценки: "Мама у меня всегда очень переживает — она такой человек". У этих детей также происходит активное переживание болезни, которое выражается в уходе в фантазии. Фантазии и воображение играют значительную роль в подростковом возрасте. "Строго говоря, впервые только в переходном возрасте образуется фантазия... только подросток начинает выделять и осознавать указанную форму как особую функцию. Наша фантазия — это осуществление желания, корректив неудовлетворяющей действительности" (Выготский Л.С, 1984. Т.4. С.218). Однако в данном случае фантазия принимает форму особой деятельности, направленной на поддержание эмоциональноценностного отношения к себе. Остановимся подробнее на описанных выше феноменах. Человек, выступая в качестве субъекта деятельности, заболевая, остается им. Это находит выражение прежде всего в том, что в новой жизненной ситуации человек формирует свое собственное отношение к новым обстоятельствам жизни и к себе в этих обстоятельствах. Переживание болезни не ограничивается эмоциональным отражением, поскольку эмоция может только выразить субъективный смысл ситуации, но не может изменить ее. Разрешить эту ситуацию может лишь собственная деятельность субъекта. Специфика этой деятельности определяется невозможностью реализовать ведущие смыслообразующие мотивы (игры, учебной деятельности, общения). Деятельность переживания и есть преодоление этой невозможности. Для обследованных детей характерны разные типы переживания болезни, которые связаны с особенностью психики ребенка, разным отражением болезни в сознании. "Любая психическая функция, любой психологический процесс или качество могут приобретать при определенных условиях компенсаторное значение' (Савенко Ю., 1981. С.З), т.е. выполнять работу переживания. Те функции и качества, на которые опирается ребенок в ходе переживания болезни, берутся из его психического опыта, они являются закономерными компонентами социальной ситуации развития в норме. Так, для первой группы подростков носителем переживания является отграничение собственной личности от окружающего мира. Сознание своеобразия своей личности является одним из направлений развития самосознания подростка. В условиях болезни чрезмерное развитие самосознания в этом направлении приводит к замкнутости, уходу в себя. Для второй группы подростков характерно компенсаторное переживание болезни. Носителем переживания является устремленность ребенка в будущее, черта, характерная для социальной ситуации развития всех подростков. Устремленность в будущее служит успешной адаптации ребенка к болезни. С позиции теории деятельности ситуация является осмысленной, имеющей смысл, если деятельность субъекта развертывается в направлении реализации смыслообразующих мотивов. Болезнь "повреждает" психологическое будущее. А "смысл не индифферентен ко времени, он воплощается во временной форме как смысловое будущее, в отношении к вневременному он отражает в себе целостность индивидуальной жизни" (Бахтин М.М., цит. по: Василюк Ф.Е., 1984. С. 129). Нарушение психологического будущего и целостности жизни, связанное с болезнью, вызывает у подростка компенсаторную деятельность по преодолению бессмысленности ситуации, которая выражается в устремленности в будущее. Для третьей группы подростков носителем переживания является фантазия. "В фантазии подросток находит живое средство направления эмоциональной жизни, овладения ею" (Выготский Л.С., 1984. С.218). Однако уход в фантазии как тип переживания болезни носит чисто защитный характер, он служит лишь поддержанию эмоциональноценностного отношения к себе. При таком переживании не учитывается ни целостность ситуации, ни долговременная перспектива. Для этих типов преодоления болезни характерно и различное отношение к помощи в ходе переживания, которое проявляется в отношениях с родителями. Для первой группы подростков привязанность к родителям носит защитный характер. Дети пытаются самоустраниться от решения собственных проблем, поэтому привязанность к родителям не способствует сохранению ценностного отношения к себе, преодолению болезни, а направляет процесс переживания по пути ухода в себя, аутизации личности. Во второй группе подростков отношения с родителями служат реализации мотива общения. Ребенок ищет помощи в преодолении болезни и принимает ее со стороны родителей. В третьей группе, где переживание идет по пути сокрытия реальности, дети вообще не ищут помощи, воспринимая окружающий мир как враждебный, и отвергают поведение родителей, направленное на осознание настоящей тяжести заболевания. Анализ данных литературы и собственное экспериментальное психологическое исследование позволяют сделать следующие выводы: Болезнь является тяжелой психической травмой для всех детей. Для маленького ребенка травмирующей является прежде всего больничная реальность. Для подростка болезнь становится травмой в результате того, что в ситуации болезни нарушается смысл, целостность жизни, психологическое будущее подростка. У всех детей в ситуации онкологического заболевания возникает деятельность, направленная на преодоление невозможности реализации "внутренних необходимостей жизни". Те функции и качества, которые играют основную роль в работе переживания, свойственны социальной ситуации развития ребенка в норме. Деятельность переживания может иметь как защитный, так и компенсаторный характер. 4. Отношения с родителями включаются в деятельность переживания болезни и отражают отношение ребенка к помощи в ходе переживания. 5.2. Особенности родительского отношения к детям, перенесшим операцию по поводу врожденного порока сердца в возрасте до 3-х лет Врожденные пороки сердца (ВПС) — тяжелые заболевания, влекущие за собой серьезные нарушения физического, а в ряде случаев и психического развития. ВПС — группа заболеваний, объединенных по признаку аномального положения и морфологической структуры сердца и крупных сосудов. Последние возникают вследствие нарушения или незавершенности их пренатального развития. При многих ВПС возникают патологические условия гемодинамики, иногда настолько тяжелые, что угрожают самой жизни больных. Статистика показывает, что около 40% детей с тяжелыми пороками без оперативного вмешательства умирают в возрасте до 5 лет. Средняя же продолжительность жизни неоперированных больных — 30-40 лет при инвалидизации. У ребенка обычно ВПС выявляется сразу после рождения или в младенчестве. Из двух типов пороков (синие и белые) наиболее тяжелыми являются пороки синего типа, при которых наблюдаются более выраженные нарушения гемодинамики и газообмена, артериальная гипоксия. Эти дефекты часто сопровождаются отставанием в физическом и психическом развитии (Ковалев В.В., 1974). Современный уровень развития кардиохирургии позволяет успешно корректировать ВПС оперативным путем. Последующее же развитие ребенка во многом определяется воздействием двух биологических факторов: а) стойкого нарушения гемодинамики, сложившегося в результате органической компенсации порока и не коррегируемые даже после операции; б) биологических вредностей самой операции, проводимой в условиях искусственного кровообращения, глубокой гипотермии (хотя подобная технология операций резко повысила эффективность лечения ВПС). Развитию детей, перенесших в раннем возрасте операцию по поводу ВПС, в настоящее время посвящено множество работ как в нашей стране (преимущественно психиатрические), так и за рубежом. Значительная их часть посвящена оценке развития интеллекта у детей. Ряд исследователей, изучая уровень психического развития детей спустя 3—7 лет после операции (Barret-Boyes, Neutre, Clarkson etal, 1976; Satanieni, 1979), показали, что уровень их развития не отличается от уровня здоровых детей (Egerton, Kay, 1964; Sanderland, Matarasso etal, 1973; Whitman, Drotar etal, 1973; Silbert, Kenneth, 1977 и другие). Было показано также, что психоневрологические осложнения после операции коррелируют с использованным методом операции (Wada, Jakavashi, Matsui, 1982). Отечественные исследования также свидетельствуют о том, что снижения уровня психического развития после операции не возникает (Ильин, Венгер, 1979; Амосов, Бендет, Морозов, 1980; Морозов, 1978, 1980), если она проведена в раннем возрасте. Однако прооперированные после 8 лет дети обнаруживают ряд особенностей личности, которые скорее связаны с дефектным стилем воспитания (Амосов и соавт., 1980). Многие работы посвящены анализу влияния типа порока на психическое развитие ребенка и проблеме выбора оптимального возраста для операции (Литасова, Валыков и соавт., 1983). Специально обсуждается в литературе проблема социальной адаптации детей, перенесших операцию в различном возрасте (Бендет, Морозов, Скумин, 1980; Морозов, 1980; Ваег, Freedman 1984; Толпыкин, 1985). По мнению авторов, основой дезадаптации детей часто является поведение родителей, которые и после операции продолжают относиться к детям как к больным. Именно особые условия жизни (щадящий режим в школе, гиперопека, родительский страх и т.д.) приводят к формированию таких особенностей, как раздражительность, эмоциональная неустойчивость, инфантильность, становящихся особенно заметными в подростковом возрасте (Кремнева, 1975; Литасова, Валыков, 1983). Особое внимание авторы обращают на незрелость эмоционально-волевой сферы в сочетании с высоким уровнем интеллектуального развития. Рассматривая сочетание черт первичного и вторичного дефекта у детей с ВПС, исследователи (Ковалев, 1974) указывают на возможность появления последнего за счет оценки окружающими болезни детей как "более тяжелой". Однако динамика и закономерности формирования такой дефицитарности до последнего времени остаются исследовательской проблемой (Лебединский В.В., 1985). На основе сопоставления литературных данных и некоторых общепсихологических положений можно очертить круг проблем, встающих при исследовании особенностей психического развития подростков, перенесших операцию по ликвидации врожденного порока сердца в раннем детстве. Состояние подростков, перенесших в детстве операцию по поводу врожденного порока сердца, их психическое развитие и личностные особенности являются недостаточно изученными вопросами. Решение их крайне необходимо, так как излечение ребенка от такого тяжелого соматического заболевания еще не означает устранения вторичного — социального дефекта, изменения отношения к ребенку окружающих его людей. Следовательно, даже не будучи хронически больным (особенно если порок не сопровождается резким ухудшением соматического состояния и если ликвидация его проведена в раннем детстве), ребенок может стать "социальным хроником". Таким образом, именно исследования вторичного социального дефекта, а затем и его нейтрализация являются важнейшими задачами психолога при работе с детьми и подростками, имевшими тяжелые соматические заболевания, и в частности, врожденные пороки сердца. Особенности психического развития и формирования личности подростков при ликвидации врожденного порока сердца в раннем детстве определяются, как было сказано выше, взаимодействием, взаимовлиянием трех типов вредностей: 1) вредность порока, 2) вредность операции, 3) вредность искаженной социальной ситуации развития. Например, нарушения психического развития, возникшие из-за вредности влияния порока и операции, могут быть, предположительно, полностью скомпенсированы благодаря оптимальному воспитанию. И, наоборот, при благополучном исходе операции, полном излечении, вследствие гиперопеки, неправильного стиля воспитания возможны проявления социальной дезадаптации, нарушений психического развития. Особенно ярко этот момент может проявиться именно в подростковом возрасте. При этом встает вопрос о возможности и необходимости разведения влияния трех названных факторов вредности. Проблема заключается в том, что с точки зрения практической медицины представляется важным выделение тех особенностей психического развития, которые связаны собственно с операцией по поводу порока, проводимой в условиях искусственного кровообращения. Это становится необходимым, так как возрастает вес таких операций, в то время как последствия их еще недостаточно ясны. С другой стороны, практически не представляется возможным в отдаленные сроки после операции выделить последствия именно оперативного вмешательства. Это определяется тем, что изменившиеся нарушения впоследствии могут быть успешно скомпенсированы, а при обнаружении каких-либо особенностей психического развития подростков можно предположить, что эти нарушения являются следствием вторичного дефекта, а не последствиями операции. Путем решения вопроса о влиянии собственно операции на психическое развитие детей и подростков может стать патопсихологическое и нейропсихологическое исследование детей до и в раличные сроки после операции. При этом необходим постоянный контроль за социальной ситуацией развития. Однако это предположение требует экспериментальной проверки. В частности необходимо исследовать некоторые параметры познавательной деятельности подростков в отдаленные сроки после операции с целью определить: возможно ли по результатам таких исследований говорить о конкретном вкладе, вносимом различными типами вредностей. Важной проблемой, встающей при проведении данной работы, является конкретизация понятия "социальная адаптация" применительно к развитию подростков, перенесших в детстве операцию по поводу врожденного порока сердца. Что нормально для данного подростка при наличии данной социальной ситуации развития, насколько ему необходима психологическая помощь, мешают ли ему выявленные особенности психического развития, и, если мешают, то как... На наш взгляд, поставленные вопросы важны для оказания помощи детям и подросткам с врожденной патологией сердца, но для своего решения они требуют особого подхода — с точки зрения определения функционального диагноза. Функциональная диагностика требует, во-первых, чтобы объектом диагностики был не только пациент, а вся социальная ситуация развития в целом (в нашем случае — социальная ситуация развития подростка, перенесшего в детстве операцию по поводу врожденного порока сердца). И, во-вторых, она требует ориентации не только на выделение ведущего психологического синдрома, но и на качественный анализ сохранного потенциала психической деятельности. Применительно к данному исследованию изложенные выше принципы могут быть конкретизированы следующим образом: мы предполагаем, что по ряду экспериментальных методик, направленных на оценку особенностей психического развития и личностного реагирования, необходимо и возможно выявить критерии социальной адаптированности — неадаптированности подростков, оперированных по поводу ВПС в раннем детстве. Следующим принципиально важным вопросом является вопрос о роли внутрисемейных отношений и родительского отношения, в частности, в процессе нормальной социальной адаптации или дезадаптации подростков с врожденной патологией сердца. Исходя из тезиса "через других мы становимся самими собой" и из того положения, что изначально для самого ребенка его дефект не существует (социальный дефект, так как биологические вредности существуют независимо от их осознания), роль ближайшего окружения ребенка, подростка оказывается чрезвычайно велика. Наша гипотеза заключается в следующем: если болезнь, операция не только включаются в социальную ситуацию развития, но и становятся центральным звеном в ситуации развития, то результатом этого становятся дезадаптация ребенка, его социальная и физическая инвалидизация и, напротив, если этого не происходит, можно предположить в качестве исхода нормальную социальную адаптацию, развитие компенсаторных возможностей. При этом предполагается, что реализация дезадаптирующей ситуации "болезнь как центральное звено" происходит через родительское отношение и соответственно через взаимоотношения подростка с родителями. Действительно, абсолютизация факта болезни, больного ребенка в семье необходимо будет проявляться на всех уровнях родительского отношения: поведенческом, когнитивном, эмоциональном, и может привести к формированию симбиотического и симбиотически-авторитарного типов родительского отношения. Таким образом, негативное влияние включения болезни как центрального звена в социальную ситуацию развития подростка может проявляться по двум направлениям: вопервых, в формировании воспитательного стиля, фрустрирующего основные психологические потребности подростка, и, во-вторых, в осознании подростком себя как больного (уже после ликвидации порока), происходящем через принятие им точки зрения родителей. Если подросток пытается сопротивляться симбиотическому родительскому отношению, то следствием являются семейные конфликты, если же подросток смиряется и между ним и родителем (в большинстве случаев — мамой) устанавливается симбиотическая связь, то велика вероятность снижения самостоятельности, нарушения контактов со сверстниками, трудностей эмансипации, отрыва от семьи. Следовательно, оба варианта ведут к социальной дезадаптации, снижению компенсаторных возможностей подростка. Если же факт болезни и имевшейся операции осознан, "проработан" родителями и не становится центральным, определяющим развитие ребенка, подростка, если ему предоставляются самостоятельность, возможности для реализации себя, собственной активности и общения, возможностей удовлетворения ведущих потребностей, если осуществляется принимающе-авторитарный тип родительского отношения, то результатом такой ситуации в семье может стать предположительно нормальная социальная ситуация развития, социальная адаптация подростка, компенсация и гиперкомпенсация. Итак, можно предположить, что мы столкнемся с преломлением факта болезни, формированием внутренней картины болезни сначала на интерпсихологическом уровне — во внутрисемейных отношениях, в родительском отношении, а затем — с переводом этой "внешней внутренней картины болезни" на интрапсихологический уровень по мере взросления ребенка. Действительно, если при развитии ребенка с врожденной патологией сердца операция проведена в более позднем возрасте или после операции продолжают наблюдаться соматические нарушения, то для формирования внутренней картины болезни у ребенка имеются собственные наблюдения. Если же операция проведена достаточно рано и успешно, то практически единственным основанием для формирования у ребенка, подростка чувства малоценности становится принятие им той оценки себя, которую формулируют родители. Это — "чистый" вариант того, как ребенок или подросток может стать "социальным хроником". Следовательно, наше предположение сводится к тому, что тот или иной исход при развитии ребенка, подростка с врожденной патологией сердца — нормальная социальная адаптация, компенсация — или дезадаптация — во многом определяется типом и структурой родительского отношения; включенностью болезни как центрального звена в структуру родительского отношения, а через него и в социальную ситуацию развития — или осознаванием болезни как имевшегося факта, не более других проблем определяющего дальнейшее развитие ребенка и подростка. Представляется, что именно через такой подход можно понять основные особенности психического развития и выйти на конкретную помощь детям и подросткам, перенесшим в детстве операцию по поводу врожденного порока сердца или другое тяжелое соматическое заболевание, на психокоррекци-онную работу с самими подростками и их семьями. Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сформулировать следующую эмпирическую гипотезу: центральным фактором, определяющим возникновение вторичного (социального) дефекта, социальную адаптацию или дезадаптацию подростка, оперированного по поводу врожденного порока сердца (или имевшего другое тяжелое соматическое заболевание в раннем детстве), является включение факта болезни в социальную ситуацию развития ребенка, подростка в качестве центрального звена. Основной задачей работы на этом этапе стало изучение некоторых особенностей структуры и типа родительского отношения как детерминанты социальной адаптации — дезадаптации подростков. На базе Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР, в Центре по коррекции врожденных пороков сердца был проведен ряд исследований подростков, перенесших операцию по поводу врожденного порока сердца в возрасте до 3 лет. Исследования подростков проводились в поликлиническом отделении в комплексе с обязательными повторными медицинскими осмотрами, спустя длительные сроки после операции1. Было исследовано 30 подростков в возрасте 11—16 лет (15 девочек и 15 мальчиков). При анализе полученных результатов оказалось принципиальным разделение по возрастному признаку основной и контрольной групп. Такое деление оправдано в связи с достаточно большими возрастными различиями и соответствует литературным данным. Операция по поводу порока у всех обследованных была проведена в возрасте до 3-х лет. У всех подростков до операции имелись пороки белого типа (цианоз отсутствовал). Все испытуемые обучаются в средней школе, с обучением справляются (за исключением одного случая — М.Н. оставлен на второй год в 7-ом классе в связи со школьной неуспеваемостью). Контрольную группу составили 20 подростков 11—16 лет (12 девочек и 8 мальчиков). Из них 10 человек — младшая подростковая группа (11-13 лет) и 10 человек — старшая подростковая группа (14-16 лет). Основным фактором отбора контрольной группы было отсутствие в раннем детстве и на протяжении всего развития тяжелого соматического заболевания. Использованная схема исследования включала методики, направленные на оценку особенностей познавательной деятельности, особенностей личностного реагирования и особенностей взаимоотношений подростка в семье. Были использованы следующие методики: 1. Проба на совмещение признаков (Когана-Валлаха), 2) Методика запоминания 10 слов, 3. Пиктограмма, 4. Исследование самооценки по методике ДембоРубинштейн. Помимо этого с подростками была проведена подробная беседа, а с подростками из контрольной группы проводилось исследование с помощью опросника, направленного на анализ взаимоотношений в семье. Еще одна часть исследования включала работы с родителями: 1. Систематизированная беседа, 2. Оценка ребенка по методике Дембо — Рубинштейн, 3. Опросник А.Е.Личко для определения типа и особенностей воспитания, осуществляющегося в семье подростка. Помимо этого была использована методика, направленная на оценку реального взаимодействия подростка и родителя (в большинстве случаев — мамы) в экспериментальной ситуации — совместное выполнение методики "куб Линка". В ходе исследования учитывались общие характеристики отношения к работе, к отдельным заданиям, заинтересованность в успехе, в результатах, реакция на помощь. Принималось во внимание отношение родителей к психологическому исследова нию. Выбор методик определялся задачами, поставленными в работе: необходимостью оценки родительского отношения, необходимостью проведения комплексного исследования. 1 Больные исследовались после консультации доктора медицинских наук М.П.Черновой. Для оценки результатов, получаемых в ходе беседы как с подростками, так и с родителями, беседа проводилась по определенной, достаточно стандартизированной схеме. Предполагалось при обработке результатов систематизировать и сопоставить характеристики высказываний подростков и родителей по ряду параметров, например: жалобы, трудности, интересы, черты характера подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками, ориентация на будущее и некоторые другие. Методика "Самооценка" (по Дембо-Рубинштейн) является достаточно информативной по мнению ряда авторов (Рубинштейн, 1970, 1979; Соколова, Чеснова, 1986). Представляется, что эта методика не может и не должна быть использована в данном случае в качестве действительного критерия измерения самооценки, но может быть достаточно информативной для выяснения оснований у испытуемого для оценивания себя так, а не иначе, оценки уровня самооценки (высокий — низкий), наличия защитных тенденций и некоторых других явлений. В этом плане очень интересным и ценным может оказаться сопоставление оценки себя подростком и оценки его родителем. В качестве примера такого исследования можно привести работы Е.Т.Соколовой по исследованию зависимости самооценки от отношения к подростку родителей (1986). В результате было выделено две тенденции в развитии самооценки в раннем подростковом возрасте: 1. Тесная связь самоотношения с родительским отношением на аффективном и когнитивном уровне, 2. Начинающаяся отстройка самооценки от отношения родителей прежде всего по параметру "уважение" (вторым был параметр "сила"). В исследовании была использована модификация методики "Самоооценка". Таким образом, при проведении методики "Самооценка" оказалось важным диагностическим критерием сопоставление оценки себя подростком и оценки его родителями, а также выяснение оснований у тех и у других для таких оценок. Был использован стандартный вариант проведения методики: подростку и маме (в большинстве случаев) давались одинаковые шкалы: "здоровый — больной", "счастливый — несчастливый", "умный — неумный", "общительный — замкнутый", "легкий характер — трудный характер". В работе была апробирована методика "Совместное складывание куба Линка", направленная на оценку взаимодействия родителя и подростка. По литературным данным известно применение теста Роршаха для оценки такого взаимодействия (Общая психодиагностика, 1987), совместный тест Роршаха позволяет как диагносцировать процессы взаимодействия, так и проанализировать продукты взаимодействия — последнее "совместный куб Линка" сделать не позволяет. Однако, положительные качества этой методики проявляются в быстроте проведения (что принципиально для столь обширной программы обследования), возможности наблюдения совместных действий, осуществляемых как на вербальном, так и на невербальном уровне, возможности оценки различных параметров взаимодействия. По аналогии с предложенными для совместного теста Роршаха параметрами поведения партнеров, в качестве основных параметров взаимодействия были взяты следующие: 1) кому принадлежит инициатива, 2) оказание помощи (прямой и косвенной) и запрос о помощи, 3) оценка действий партнера, 4) кому принадлежит функция контроля. Мы предположили, что с помощью этих параметров можно будет выявить такие типы взаимодействия в экспериментальной ситуации, как: 1) сотрудничество — кооперация, 2) гиперопека — повиновение, 3) изоляция и некоторые другие. В исследовании был использован также опросник А.Е.Личко, применяемый для изучения отношений в семьях подростков. В работе использовалась только часть опросника, предназначенная для родителей: это было вызвано как чисто объективными трудностями (слишком большой объем работы для подростков), так и принципиальными соображениями: говорить о ярко выраженных акцентуациях характера, психопатиях, неврозах и неврозоподобных состояниях (на выявление которых и направлен опросник) в случае исследования подростков с врожденной патологией сердца не представляется возможным. В то же время оценить тип воспитания в семье было крайне важно. Мы предполагали, что результаты, полученные по опроснику Личко при совместном выполнении методики "куб Линка", оценка подростка родителями, самооценка и данные, полученные в ходе беседы в комплексе могут показать достаточно достоверную картину взаимоотношений в семье подростка. В результате исследования основной группы испытуемых были получены следующие данные. Предварительная оценка уровня психического развития подростков показала, что во всех случаях испытуемые интеллектуально сохранны, уровень познавательной активности ни в одном случае не выходит за нижние рамки нормы, а напротив — в большинстве случаев достаточно высок. Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что познавательная активность, нацеленность подростка на получение знаний по различным интересующим его вопросам, выраженность определенных интересов могут служить показателем интеллектуальной сохранности и лежать в основе социальной адаптации. В ходе беседы было обнаружено, что заинтересованность родителей в результатах психологического обследования подростков тесно связана с отношением к подростку, отношениями в семье, причем связь наблюдалась обратная. Чем благополучнее обстановка в семье, тем большую заинтересованость проявляют родители, и напротив — чем нужнее коррекция сложившегося неадекватно отношения к подростку (в большей части случаев инвалидизации, инфантилизации), тем непонятнее для родителей необходимость исследования. Видимо в таких случаях имел место феномен симбиотического родительского отношения, которое родителями воспринимается как субъективно-благополучное, для самого подростка таким не являясь. Сопоставление результатов беседы с родителем (в большинстве случаев, с мамой) и с подростком оказалось информативным для оценки взаимоотношений в семье, в частности того, насколько родителям известны и насколько для них актуальны проблемы подростка, насколько подросток близок с родителями. Важно, что предположение о связи результатов беседы и совместного выполнения методики "куб Линка" подтвердилось: проблемы только очерченные в беседе, проявились и при моделировании взаимоотношений в экспериментальной ситуации — этот факт будет рассмотрен ниже. При исследовании самооценки выяснилось, что крайне важно, есть ли совпадение самооценки подростка с оценкой его родителем и, если есть, то по какому радикалу это совпадение идет. Проанализировав случаи совпадения и расхождения оценок, можно прийти к следующим выводам. Оценка себя и оценка подростка родителем могут расходиться и могут быть похожи, но похожи по-разному. В том случае, когда они очень сходны, но при этом у подростка имеется самостоятельность в обосновании своих оценок, можно говорить о хороших взаимоотношениях в семье, о наличии контакта с родителями, о нормальной социальной адаптации. Если же они совпадают, но подросток просто повторяет характеристики себя с точки зрения родителей, то можно говорить лишь о доминировании родителя, реализации симбиотического или симбиотическиавторитарного типов родительского отношения и о том, что у подростка не сформировано собственное представление о себе, он во всем следует за родителями. Реализация такого типа взаимоотношений, если мы имеем дело с подростком, в силу возрастных особенностей необходимо ведет к социальной дезадаптации, инфантилизации, а в наиболее тяжелых случаях может привести к возникновению аномалий психического развития. Если оценки вообще расходятся, то это также является плохим признаком — обычно такой результат свидетельствует о закрытости подростка, недостатке контакта с родителями. Представляется, что последний вариант все равно более благоприятен для самого подростка, чем реализация и закрепление симбиотической связи с родителями. Нужно отметить тот факт, что именно по параметру реализации симбиотической связи родителей с ребенком мы получили наибольшее различие между основной и контрольной группами испытуемых, что позволяет говорить об особой значимости этого параметра. В контрольной группе мы ни разу не столкнулись с реализацией такого типа взаимодействия: встречались только варианты несовпадения оценок или совпадения (примерного — профилей оценок) при отстаивании подростком своей собственной точки зрения на то, почему он себя оценил именно таким образом (эти варианты встречались приблизительно с одинаковой частотой). В основной группе — в 50% случаев (в обеих группах) имел место вариант совпадения не только профилей самооценки и оценки родителя, но и совпадений для таких оценок. В основе такой зависимости, по-видимому, лежат следующие факторы. В 60% случаев при исследовании основной группы испытуемых шкала "счастье" служила проекцией шкалы "здоровье" и у подростков, и у родителей (причем, характерно, что там, где родители не связывают эти понятия, не проецируют одно на другое, там не делает этого и подросток). В контрольной группе в 10% случаев шкалы "здоровье" и "счастье" были связаны у подростков. Представляется, что связь обнаруженная в основной группе испытуемых, может свидетельствовать о фиксированности родителей и подростков на болезни, операции, о включении болезни и операции в социальную ситуацию развития подростка в качестве одного из центральных звеньев. В том же случае, когда шкала "здоровье" у подростка была более изолированной, а показатели по шкалам "счастье" и "общительность" определялись его собственными интересами, проблемами, мы имели дело с "отвязыванием" подростка от болезни и, следовательно с наиболее оптимальной социальной адаптацией. Обычно в наличии связи между шкалами "здоровье" и остальными виноваты родители: для ребенка, подростка, она устанавливается опосредованно и в случае ее фиксации мы обычно сталкиваемся с "уходом в болезнь", когда собственно болезни уже нет, врожденный порок сердца ликвидирован. Причем, поскольку от узнавания о своей болезни ребенку, подростку, уйти не удается, то чем больше осознан, "проработан" факт болезни и операции, тем больше стремится подросток к различным формам компенсации, что может обеспечить наилучшую социальную адаптацию. Когда же ситуация "у меня был порок, поэтому я болен, поэтому я не как все, а слабее, менее счастлив и т.п." воспринимается подростком как данность и поощряется родителями, ни о какой социальной адаптации говорить нельзя. Еще одним элементом диагностической схемы, направленной на исследование внутрисемейных отношений, стало совместное выполнение методики "куб Линка". При выполнении данной методики достаточно четко в экспериментальной ситуации моделировались взаимоотношения подростка и родителя. (см. таблицу 15). Таблица 15 Распределение типов взаимодействия между родителями и подростками при совместном выполнении методики "куб Линка" 11-13 лет 14-16 лет осн. группа контр. группа осн. группа контр. группа 1. Инициатива полностью принадлежит родителю (доминирование) 56% 10% 53% — 2. Потакание 11% 10% i 3. Отказ родителя от активности 16% — 4. Неорганизованная деятельность 11% 10% 5% 30% 5. Сотрудничество 22% 80% 16% 70% В качестве критерия нормальной социальной адаптации подростка, контакта в семье, неискаженного типа воспитания оказалось возможным принять наличие или отсутствие сотрудничества. При этом сотрудничество понимается как равномерное оказание помощи друг другу, переход инициативы от подростка к родителю и наоборот, когда это необходимо, целенаправленное, успешное выполнение задания. В нашем иследовании в основной группе испытуемых такой вариант взаимодействия наблюдался в 22% случаев в младшей возрастной подгруппе и в 16% случаев — в старшей и сочетался с социальной адаптированностью подростка и с оптимальным типом семейного воспитания. Во всех же остальных случаях наблюдались гиперопека, доминирование, потакание, что коррелирует с нарушениями социальной адаптации, ситуации в семье и в случае акцентуации того или иного типа взаимодействия может вести к искажению формирования личности подростка. При этом наиболее вредными и, по всей видимости, соответствующими симбиотическому и симбиотически-авторитарному типу родительского отношения, являются взаимодействия типа "потакание", "доминирование", которые в основной группе встретились в сумме в 67% случаев в младшей подгруппе и в 63% случаев — в старшей, а в контрольной группе — только 10% случаев в младшей подгруппе. В контрольной группе реализовывались, в основном, взаимодействия типа "неорганизованная деятельность" или "сотрудничество". Опросник Личко (часть для родителей) также оказался достаточно информативным. В основной группе испытуемых были выявлены следующие ведущие типы искажений воспитательного стиля и его структуры: доминирующая или потакающая гиперопека; страх утраты ребенка; воспитательная неуверенность; неустойчивость воспитательного стиля; тенденции к снижению санкций, требований и запретов. Ясно, что все названные искажения крайне вредно сказываются на психическом развитии детей и подростков. Так, неустойчивость воспитательного стиля, накладывающаяся на имеющиеся у подростка медлительность, инертность, может привести к еще большей замедленности в качестве защиты или к невротическим реакциям. Или гиперопека, доминирование, гиперпротекция, имеющие место при воспитании астенизированного подростка (что очень часто встречается после операции по поводу врожденного порока сердца), ведут к еще большей астенизации. Принципиально важно, что в указанных искажениях воспитательного стиля реализуются симбиотический и (реже) в симбиотически авторитарный типы родительского отношения, что вредно сказывается на процессе социальной адаптации и реализации компенсаторных возможностей подростка. Нужно отметить, что в нашем исследовании в основной группе испытуемых только в двух случаях по опроснику Личко не было выявлено никаких нарушений воспитательного стиля — в этих случаях наблюдались высокая социальная адаптация, полная реабилитация подростка после операции. В контрольной группе, кроме нескольких случаев снижения санкций и запретов (что не представляет искажения типа воспитания) и тенденций по некоторым другим факторам, нарушений воспитательного стиля и его структуры выявлено не было. Таким образом, можно сказать, что основная группа испытуемых — подростки, перенесшие в детстве операцию по поводу врожденного порока сердца, и контрольная группа — подростки того же возраста, не имевшие тяжелых соматических заболеваний, отличаются друг от друга, главным образом, характеристиками семейных взаимоотношений, особенностей отношения родителей к подростку. Суммируя сказанное выше, можно выделить основные критерии социальной адаптированностидезадаптированности подростков основной группы, реализующиеся на уровне внутрисемейных отношений. Основной характеристикой взаимоотношений является наличие или отсутствие симбиотического и симбиотически-авторитарного типов родительского отношения как главных детерминант социальной дезадаптации подростка. Эти детерминанты реализуются в различных нарушениях воспитательного стиля, нарушениях взаимоотношений с подростком и могут служить основой формирования аномалий психического развития. Критериями социальной адаптированностидезадаптированности являются особенности самовосприятия подростка, особенности его самооценки. При этом принципиальными представляются два положения: во-первых, на основе анализа внутрисемейных отношений испытуемых основной группы можно утверждать, что первоначальное осознание себя как больного у ребенка, подростка, оперированного в раннем детстве по поводу врожденного порока сердца, происходит опосредствованно, через родительское отношение. Фиксация такого осознания по мере взросления и особенно в подростковом возрасте служит основой различных проявлений социальной дезадаптированности на всех уровнях (когнитивном, уровне личностного реагирования, поведенческом). Во-вторых, основной детерминантой формирования дезадаптирующего типа родительского отношения, а через него и детерминантой социальной дезадаптации подростка является включение болезни как центрального звена сначала в структуру родительского отношения, а потом в социальную ситуацию развития ребенка, подростка. Следствием этого становится перевод феномена "болезнь как центральное звено" с интрапси-хологического на интерпсихологический уровень, социальная инвалидизация и дезадаптация подростка. Если же имевшиеся болезнь и операция не становятся центральным звеном в структуре родительского отношения, социальной ситуации развития и в осознании подростком самого себя, то результатом будет нормальная социальная адаптация, компенсация и гиперкомпенсация нарушений, возникших в результате действия биологических вредностей (порока и операции). На основе полученных результатов можно сказать о подтверждении того предположения, что основным фактором, лежащим в основе социальной адаптации или дезадаптации подростков, оперированных по поводу врожденных пороков сердца, является включение болезни и операции в социальную ситуацию развития подростка в качестве центрального звена. Важнейшая роль в реализации или нереализации такого включения принадлежит родительскому отношению, так как именно через него происходит перевод феномена "болезни как центрального звена" с внешнего на внутренний уровень и соответственно осознание подростком себя как больного (если произошла фиксация на болезни) или неосуществление такого осознания. Последний вариант должен стать целью как воспитания подростков в семье, так и психокоррекционной работы при обнаружении негативных особенностей психического развития. Рекомендуемая литература Братусь. Б.С. Аномалии личности. М., 1988. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. М., 1970. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1975. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986. Кабанов М.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. Смирнов В.М. Карвасарский БД. Медицинская психология. Л., 1982. Квасенко А.В. Психология больного. Л., 1980 Зубарев Ю.Г. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. М., 1987. 9. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989. Ташлыков ВЛ. Психология больного. Л., 1984. Телесность человека: междисциплинарные исследования (Под ред. В.В.Николаевой и П.Д.Тищенко) М., 1991. ОГЛАВЛЕНИЕ От авторов Введение. Теоретико-методологические проблемы патопсихологии ЧАСТЬ I Глава 1. Изучение личностных особенностей и самосознания при пограничных личностных расстройствах Методологическая и теоретическая парадигма исследовавания самосознания при пограничных личностных расстройствах Обоснование проективного диагностико-исследовательского метода феноменологического анализа самосознания Факторы формирования пограничной личностной структуры и особенностей самосознания в онтогенезе Роль неблагоприятных семейных условий (современные концепции) Изучение особенностей подростковой самооценки в семьях с патогенными родительскими установками и нарушением общения (по данным диагностических обследований и психотерапии Особенности мотивационно-потребностной сферы (по результатам проективных методов) Исследование феномена нестабильности самоотношения как симптомообразующего фактора при пограничных личностных расстройствах (экспериментальные данные) Теоретические подходы и клинико-экспериментальные исследования нестабильности самоотношения при аффективной патологии (депрессии) Психодинамические концепции депрессии Когнитивные концепции депрессии 1.6. Индивидуально-типологические стили стабилизации и защиты субъективновыгодного самоотношения Стиль "эмоциональной подпитки или утоления эмоционального голода" Стиль самоприукрашивания и образования слепых пятен в самовосприятии Стиль "привлечения рациональных аргументов в свою пользу" 1.7. Расщепление образа телесного Я в структуре пограничной личности у лиц с пищевыми аддикциями 1.7.1. Некоторые теоретические направления исследования образа телесного Я в зарубежной психологии 1.7.2. Эмпирическое изучение телесного опыта у пациентов с пищевыми аддикциями Манипулятивная структура общения при пограничных расстройствах Роль насилия в развитии пограничной личностной структуры Рекомендуемая литература Глава 2. Базовые принципы и методы психотерапии пограничных личностных расстройств Теоретическое обоснование Методы установления и развития психотерапевтического контакта Заключение психотерапевтического контакта. Позиция принятия пациента Молчание психотерапевта Исследование чувств и телесных ощущений. Метод диалога со значимым другим Краткое описание случая из психотерапевтической практики Заключение. К психологии терапевтических отношений Рекомендуемая литература ЧАСТЬ II Глава 1. Личность в условиях хронического соматического заболевания Хронически больной в обыденной жизни, наблюдениях и художественной литературе Феноменология личности больных хроническими соматическими заболеваниями в клинических исследованиях Психология развития личности в условиях хронического соматического заболевания 1.3.1. Социальная ситуация развития личности при хронических соматических заболеваниях 1.3.2. Проблема кризиса развития личности при хронических соматических заболеваниях 1.3.3. Возможности преодоления кризиса Глава 2. Динамика ВКБ как показатель кризиса развития личности в условиях болезни Глава 3. Социокультурные стереотипы отношения к тяжелобольным как условие изменения личности Глава 4. Механизмы смысловой регуляции деятельности в контексте жизненного пути больных Глава 5. Хронически больной ребенок в семье Ребенок в условиях онкологического заболевания Особенности родительского отношения к детям, перенесшим операцию по поводу врожденного порока сердца в возрасте до 3-х лет Рекомендуемая литература