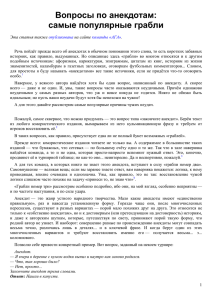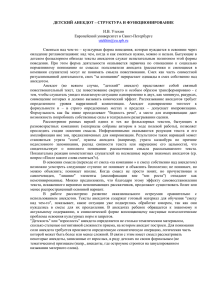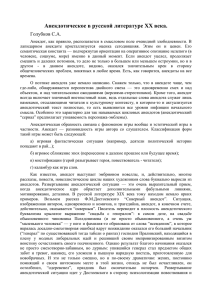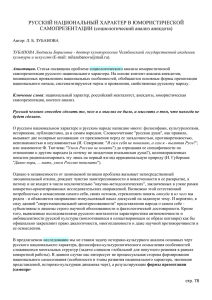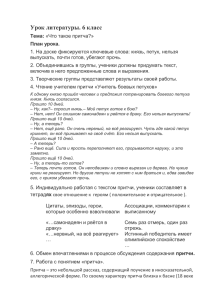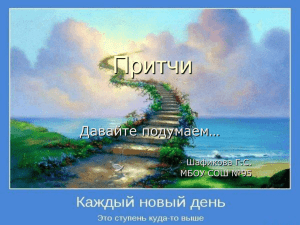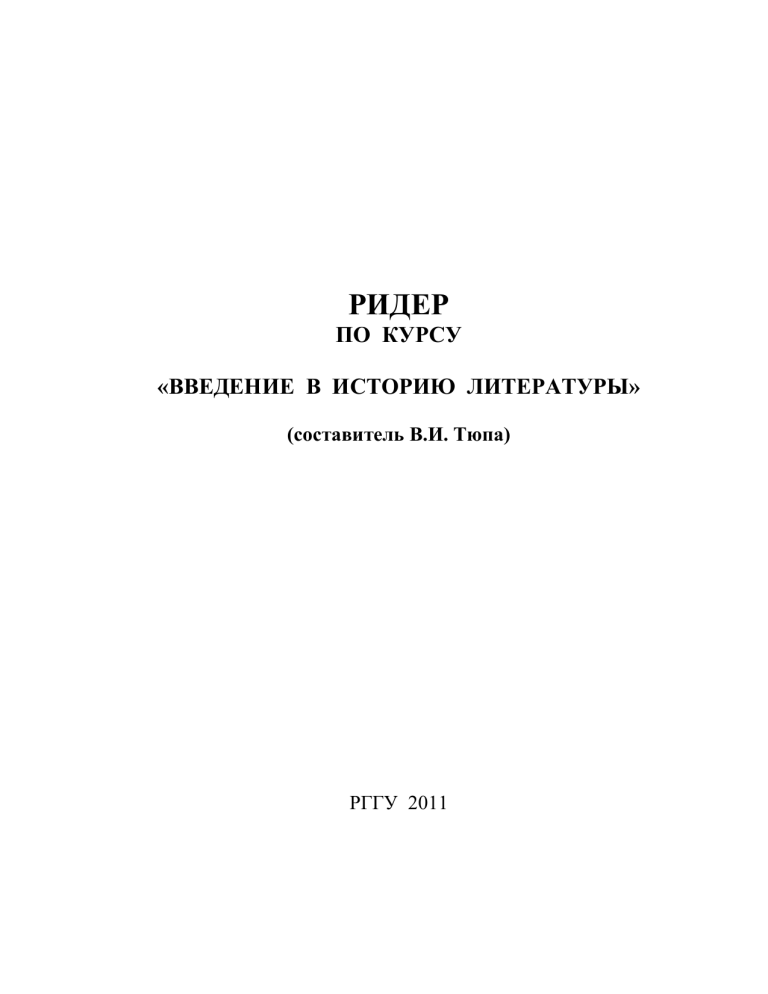
РИДЕР ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ» (составитель В.И. Тюпа) РГГУ 2011 ОГЛАВЛЕНИЕ Часть I: Стадиальность литературного процесса Парадигмы художественности ……………………………… 3 Неклассическая парадигма художественного письма (В.И. Тюпа) …… 3 1. А.П. Сумароков. Эпистола о стихотворстве ……………………….. 16 2. В.А. Жуковский. Невыразимое ……………………………………… 25 3. А.С. Пушкин. Поэт и толпа …………………………………………. 26 4. Д.В. Веневитинов. Поэт …………………………………………...… 28 5. Е.А. Баратынский. Не подражай: своеобразен гений… ………….. 29 6. М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон, я другой… ………………….. 30 7. Ф.И. Тютчев. Silentium! …………………………………………….. 30 8. А.А. Фет. Одним толчком согнать ладью живую… ….…...……… 31 9. И.С. Никитин. Поэту …………………………………….………....... 31 10. А.К. Толстой. Тщетно, художник, ты мнишь… ……….………….. 32 11. А.А. Блок. Художник …………………………………………....…... 32 12. В.В. Хлебников. Пен пан ………………………………….…....……. 33 13. А.А. Ахматова. Тайны ремесла ………………………….……...….. 34 14. О.Э. Мандельштам. Как землю где-нибудь… ………….…...……. 38 15. Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго [фрагмент] ………….………….. 38 Часть II: Преемственность литературного процесса Жанровые традиции ………………………………………... 39 Протолитературные нарративы (В.И. Тюпа) ……………….………… 39 Рассказ (В.И. Тюпа) ………………………………………….…………. 64 1. И.С. Тургенев. Воробей ………………………………….………….. 79 2. И.С. Тургенев. Щи …………………………………….....…………... 80 3. И.С. Тургенев. Уа…Уа! ……………………………………………… 81 4. Е.И. Замятин. Дракон ………………………………………………. 82 5. И.А. Бунин. Телячья головка …………………………………...…… 83 Часть III: Список рекомендованной литературы …………….... 85 2 ЧАСТЬ I СТАДИАЛЬНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА Неклассическая парадигма художественного письма Парадигмы художественности являют собой исторически конкретные системные единства аксиоматических (для своего времени) общекультурных представлений о месте искусства в жизни человека и общества, о его целях, задачах, возможностях и средствах, о критериях и образцах художественности. Классицизм, например, есть такое историческое состояние общественного сознания, при котором трагедии Шекспира или романистика Рабле воспринимаются как недостаточно художественные. Появление и укрепление в общественном сознании каждой новой такой парадигмы совершается в стадиальной последовательности, именуемой художественно-историческим (в частности, литературным) процессом. Понятие о парадигмах художественности пришло в современную теорию литературы1 из науковедения: утвердилось по аналогии с категорией «парадигм научности», разработанной Т. Куном в прославившей его книге «Структура научных революций» (1962). Здесь научная парадигма (а в принципе и всякая иная культурная парадигма) была представлена как «совокупность убеждений, ценностей, технических средств и т.д.», которая может концентрироваться в отдельных достижениях, «когда они используются в качестве моделей или примеров, могут заменять эксплицитные правила»2. При всей хаотичности картины индивидуальных исканий и проб научной, художественной или иной культурной деятельности смена таких парадигм, «подобно развитию биологического мира, представляет собой однонаправленный и необратимый процесс»3. См.: Тюпа В.И. Парадигмы художественности (конспект цикла лекций) // Дискурс. Вып. 3-4. Новосибирск, 1997. 2 Кун Т. Структура научных революций. М., 2002. С. 225. 3 Там же. С. 264. 1 3 В отличие от так называемых «художественных направлений», объединяющих писателей на основе общей творческой программы (при этом немало авторов остается вне группировок), парадигмы художественности охватывают не только создающих, но и воспринимающих произведения искусства: это культурообразующие единения множества сознаний с общей для них художественной интенцией. Смена ведущей парадигмы художественности предполагает существенное изменение статусов субъекта (автора), предмета (произведения) и адресата эстетической деятельности, вытекающее из нового понимания ее природы. Это приводит к смещению ценностных ориентиров художественного сознания – критериев художественности. За такого рода изменениями всегда стоит некий качественный скачок творческой рефлексии: художественное сознание глубже проникает в природу самой художественности. Происходит открытие законов искусства, действовавших и ранее, но не актуальных (скрытых от сознания) для более ранних парадигм. Никакая очередная парадигма художественности не в состоянии отменить освоенного ранее: гипертрофируя вновь открытое, она лишь оттесняет на второй план (дезактуализирует) то, что доминировало на предыдущей стадии и будет аккумулировано последующими. Вследствие сказанного систематическое рассмотрение парадигм художественности по одним и тем же параметрам ведет к построению исторически обоснованной общей теории искусства. Первоначальная парадигма художественности была выявлена и охарактеризована C.C. Аверинцевым под именем рефлективного традиционализма, которому предшествует «дорефлективный традиционализм» фольклора и мифа с их бессознательной, не отрефлектированной протохудожественностью4. Утверждение классицизма в национальных культурах Европы – лишь завершающий этап многовекового господства нормативного художественного сознания, доминировавшего в историческом промежутке между архаической поэтикой синкретизма5 и «эстетической революцией» XVIII века, разрушившей основания эйдетической поэтики6. Для всех модификаций рефлективного традиционализма в различные периоды его бытования (несмотря на реальное многообразие этих субпарадигм) статус художественного произведения оставался единым. Со См.: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой липтератары. М., 1981. 5 См.: Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004. 6 См.: Там же. 4 4 стороны субъекта художественной деятельности искусство мыслилось ремесленнической деятельностью по правилам («техне» на языке Платона и Аристотеля), подлежащей оценке согласно императиву мастерства (уровня практического владения правилами). Художник – это мастер, исполнитель некоторого жанрового задания. Определяющим отношением художественности оказывается «ремесленное» отношение автор – материал; критерием художественности – каноническая «правильность» текста, отождествляемая с мастерством его создателя. Исполнение жанрового задания может совершенствоваться, но само оно исторической динамикой якобы не обладает: «Испытав много перемен, трагедия остановилась, приобретя достодолжную и вполне присущую ей форму»7. Автор литературного произведения – изготовитель текста как вариации некоторого жанрового канона; его «ремесло» состоит в обработке «сырого» (прозаического) речевого материала и преобразовании его в особый язык – язык поэзии. Адресату художественной деятельности отводилась роль своебразного эксперта, не уступающего, а то и превосходящего автора в знании тех правил, по которым строится авторский текст. Основа не подвергаемого сомнению взаимопонимания между писателем и читателем – конвенция жанра, мотивированная авторитетностью его классических образцов. Содержание первой парадигмы художественности состоит в осознании семиотической природы искусства, что ведет к отождествлению произведения с текстом. Антитрадиционалисткая (по Аверинцеву) парадигма художественности, порожденная историческим кризисом нормативного сознания и нашедшая свою первоначальную реализацию в предромантических явлениях культуры (рококо, сентиментализм) может быть названа эстетическим креативизмом. Отныне, как это было сформулировано Кантом, «искусство» перестает отождествляться с «наукой» или «ремеслом» и начинает рассматриваться в качестве творчества. Произведение искусства более не сводится к объективной данности текста, оно мыслится субъективной «новой реальностью» фикции, фантазма, творческого воображения. Такое произведение бытует в авторском сознании (Лермонтов: «В уме своем я создал мир иной»), оставляя тексту значимость лишь своего «оттиска» в материале данного вида искусства (то еcть в слове – для литературы). Определяющим отношением художественности становится эстетическое отношение автор 7 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. C. 51. 5 – герой, в рамках которого формируется поэтика модальности8. Предтечей столь существенного скачка в области художественной рефлексии выступил основатель систематической эстетики А. Баумгартен, впервые увидевший в деятельности художника не столько регламентированное исполнение задания, сколько креативное изобретение другой реальности – «гетерокосмоса». В основании новой парадигмы художественности обнаруживается открытие эстетической природы искусства и последовательное освоение ее законов (целостности, оригинальности, концептуальной обобщенности образа). Парадигма эстетического креативизма, на почве которой выросла немецкая классическая эстетика, русская классическая литература и т.п. явления художественной культуры Нового времени, всего лишь за столетие прошла в своем стремительном развитии три существенных этапа. Они явились полемически сменявшими друг друга субпарадигмами: предромантической, романтической и постромантической. Уже на ступени предромантизма деятельность по правилам начинает восприниматься как факультативный признак искусства. Назначение последнего отныне не сводится к мастерскому оформлению нравственного и политического опыта, как это мыслилось, например, Ломоносовым. Искусству вменяется собственно эстетическая цель «изображать красоту, гармонию, и распространять в области чувствительного приятные впечатления» (Карамзин). Средоточием художественной деятельности оказывается не столько владение словом, сколько эмоциональная рефлексия (эстетическое «переживание переживания»), в связи с чем художественный субъект мыслится как человек со специфически повышенной «чувствительностью», Эта природная одаренность ценится теперь значительно выше приобретаемого научением мастерства. В концепции авторства на смену императиву мастерства приходит императив вкуса. Произведение начинает мыслиться как особого рода переживание, объединяющее автора, героя и читателя (зрителя, слушателя), которое в тексте лишь фиксируется. По этой причине в рамках новой парадигмы художественности статус произведения могут приобретать любые, в частности прозаические, формы текстуальности, включая частные человеческие документы (дневники, письма, мемуары, исповедальные записки, путевые заметки). Отводимая адресату позиция со-чувствия, сострадания, со-радования, эмоционального вживания в «господствующий См.: Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004. 8 6 строй чувств» (Шиллер) данного произведения предполагает читателя в качестве своего рода эмоционального «эха» автора, его «единочувственника», поскольку переживания, составляющие содержание художественной деятельности, мыслятся сверхиндивидуальными, общечеловеческими (аналогичными категории «расы» в санскритской традиции). Для адекватного эмоционального контакта текст должен быть наделен не столько «правильностью», сколько «красотой», то есть исключительной целостностью, при наличии которой не остается возможности заметить в его организации ничего недостающего или избыточного. Читатель при этом должен обладать соответствующим вкусом, который бы позволял ему ощутить, рассмотреть, расслышать, оценить эту сложно упорядоченную целостность. Романтизм явил собой художественную культуру антинормативного «уединенного» (Вяч. Иванов) сознания. В рамках романтической субпарадигмы креативизма, теоретически предваренной Кантом, субъект художественной деятельности мыслится как созидающая в воображении и самоутверждающаяся в этом образотворческом созидании яркая индивидуальность гения, чья деятельность носит внутренне свободный, игровой характер самовыражения: «поэт ничему не учит, он и сам не должен превращать игру в труд»9. Гениальность отныне понимается как «способность создать то, чему нельзя научиться»10 и оттесняет на задний план не только мастерство, но и вкус. Искусство начинает восприниматься как условно-игровое жизнетворчество, своеобразная игра без оговореных заранее правил: игра с читателем в сотворение мира. Доминирующим критерием художественности впервые становится оригинальность: смелость разрушения стереотипов художественного мышления и художественного письма, что знаменовало осознание собственно творческой стороны эстетического, выражаемой законом невоспроизводимости творческого акта. Отрицается ориентация на какой бы то ни было канонический «сверхтекст» (Пушкин очень точно назвал романтизм «парнасским афеизмом»), в связи с чем категория жанра оттесняется со своего ведущего положения категорией стиля как индивидуального художественного языка, на котором, строго говоря, написан один единственный текст – текст данного шедевра. Творческий помысел гения никем не может быть постигнут вполне, однако романтического читателя это не удручает, поскольку он и сам своей Кант И. Из «Антропологии в прагматическом отношении» // Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т. 3. М., 1967. C. 77. 10 Там же. С. 79. 9 7 индивидуальной самобытностью аналогичен автору: «Каждый человек … в душе своей содержит роман» – эту «энциклопедию всей духовной жизни некоего гениального индивидуума»11. Авторский текст становится для читателя предлогом и формой игровой реализации своего собственного «романа». С этой точки зрения, читать, духовно присваивая текст (как пушкинская Татьяна, которая в чужом тексте «ищет и находит свой тайный жар, свои мечты»), означает для читателя становиться самим собой, обретать внутреннюю свободу самобытной личности. Классический реализм XIX века при всем своем отталкивании от романтизма является продолжением и развитием креативистской художественной культуры. Постромантическая субпарадигма художественности питается радикальным открытием другого (чужого «я») в качестве самобытной реальности, аналогичной мне, но принципиально внеположной моему сознанию. В силу своей абсолютной единичности «яв-мире» – такая форма существования, которая не поддается научному описанию; но в силу своей самобытной целостности она поддается эстетическому обобщению и концептуализации. Герой литературного произведения – своего рода «действующая модель» человеческого присутствия. Творческий процесс писателя оказывается мысленным экспериментом с этой воображенной моделью, направленным на постижение духовного содержания жизни. Однако «дух определен здесь как частный, как человеческий», способный «полностью выразить себя в единственном человеческом образе»12, т.е. как некоторое «я». Тот или иной строй эстетической целостности оказывается одновременно откровением личностного смысла жизни, обобщающим принципом присутствия «я» в мире. Эпоха классического реализма выдвигает откровение некоторой истины о жизни на роль высшего предназначения искусства. После Гегеля художественная деятельность мыслится уже не просто связанной так или иначе с познанием, но собственно познавательной деятельностью, направленной на вымышленный мир персонажей как аналог действительного мира. К вымышленному персонажу автор относится как к настоящему другому, силится постичь внутреннее «я» героя как суверенное. Субъект художественной деятельности самоопределяется при этом как «историк современности» (О. Бальзак), реконструирующий скрытую (внутреннюю) сторону окружающей его жизни подобно тому, Шлегель Ф. Фрагменты // Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т. 3. М., 1967. C. 254. 12 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1968-73. Т. 1. C. 84. 11 8 как ученый историк реконструирует скрытые причины, факторы, следствия событий далекого прошлого; а произведение искусства предстает креативным аналогом реальной действительности (по преимуществу исторической современности), которая обретает при этом значимость неканонического «сверхтекста». На смену мастерству, вкусу, оригинальности в качестве главенствующих императивов художественного творчества выдвигается императив проницательности (Чернышевский), т.е. концептуального проникновения в суть отраженных воображением феноменов жизни (прежде всего – человеческих характеров). Это делает достоверность ключевым критерием художественности и позволяет «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения» (Добролюбов). При этом быть адресатом, адекватным постромантической художественности, не так просто, как это может показаться, исходя из «жизнеподобия» реалистических произведений. От читателя также требуется проницательность (аналогичная авторской) в отношении к чужому «я» другого (героя). Литературная классика XIX столетия предполагает высокую эстетическую культуру сопереживания как развитой способности усмотрения общечеловеческого в индивидуальном. Реалистический читатель есть жизненный аналог персонажа – только в иной, в своей собственной житейской ситуации. Зарождающаяся в конце XIX века посткреативисткая парадигма – это парадигма неклассической художественности, именуемая нередко модернизмом, начало которой положили две постклассические тенденции: символизм и противоположный ему по своей направленности натурализм. Они явились порождениями кризиса креативного я-сознания («кризиса авторства», по Бахтину). Этот ментальный кризис эстетической классики (как ранее кризис рефлективного традиционализма) принес ощущение исчерпанности оснований и возможностей художественной деятельности, в данном случае – «вообразительного» творчества произведений классической художественности. Вл. Соловьев полагал, что последующее искусство, если оно вообще возможно, призвано творить «не в одном воображении, а … должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь»13. А Лев Толстой в трактате 1898 года «Что такое искусство?» отверг его эстетическую природу и провозгласил художественность одним из существеннейших способов «духовного общения людей». Эти и подобные Соловьев В.С. Обший смысл искусства // В.С. Соловтев. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т.2. C. 404. 13 9 им прозрения открывали путь различного рода модификациям рецептивизма, переносящего центр внимания размышлений об искусстве с автора на получателя художественных впечатлений. В основе всех постсимволистских исканий ХХ века обнаруживается осознанность коммуникативной природы искусства, его неустранимой адресованности, связывающей художественную реальность с «действительной жизнью», которой принадлежат писатели и читатели литератутрных текстов. Подобно тому, как формирование текста со временем предстало не самоцелью, а только лишь манифестацией эстетической игры воображения, так и само творческое воображение в искусстве оказалось способом общения. Чтобы не остаться субъективным фантазмом, чтобы сделаться художественной реальностью, образам одного сознания необходимо быть «конвертированными» в образы другого сознания. Творец предстал перед неизбежностью выстраивать художественную реальность не на территории собственного сознания, а в сознании адресата. Именно так Толстой, например, организовывал тексты своих «народных рассказов». А для постсимволиста становится аксиомой, что художествнная деятельность — это «работа с восприятием» (Вс. Некрасов, современный поэт-концептуалист). Доминировавшие прежде «работа» с материалом, а затем (в XIX веке) «работа» с собственным воображением не могли быть устранены из искусства, но отошли в тень. После символизма художественное произведение обретает статус дискурса – трехстороннего коммуникативного события: автор – герой – читатель. Чтобы такое событие состоялось, чтобы произведение искусства было «произведено», не достаточно креативной (творящей) актуализации его в тексте, необходима еще и рецептивная актуализация в художественном восприятии. Эстетический объект перемещается в сознание адресата – в «концепированное» сознание читателя, которому произведение «навязывает известную позицию»14. Тогда как автор занимает «режиссерское» место первочитателя, первозрителя, первослушателя собственного текста. (Само искусство режиссуры формируется одновременно с разворачиванием рецептивистской парадигмы художественности). Смещение вектора художественности от креативности к рецептивности потребовало от произведений эстетической неклассичности: известной незавершенности, открытости, конструктивной неполноты целого, располагающей к сотворчеству. Но в то же время искусство активизировало свое воздействие на воспринимающее сознание. 14 Корман Б.О. Теория литературы. Ижевск, 2006. C. 210. 10 Творческий акт художника оборачивается вторжением в суверенность чужого «я», поскольку распространяет и на реального адресата (а не только на воображаемого героя) ту или иную концепцию существования – способа присутствия внутреннего «я» во внешнем мире. Художественная деятельность мыслится отныне деятельностью, направленной на чужое сознание; истинный предмет такой деятельности – ее адресат, а не объект воображения или знаковый материал текста. Субъект художественной деятельности оказывается организатором коммуникативного события. Адресат этой деятельности впервые осознается неэлиминируемым конститутивным моментом самого искусства – реализатором коммуникативного события. Эстетическое переживание воспринимающего должно стать самостоятельным внутренним «высказыванием» на уникальном художественном языке авторского текста, должно явиться самобытной интерпретацией общего с автором «художественного задания», когда адресат может по-своему (а иной раз и лучше самого автора) реализовать виртуальное содержание, потенциально присутствующее в тексте. «Вся поэтика модернизма оказывается рассчитана на активное соучастие читателя: искусство чтения становится не менее важным, чем искусство писания»15. Определяющим отношением художественной культуры выступает отношение автор – читатель (зритель, слушатель), возвращающее художественность, мыслимую при этом как эффективность воздействия на воспринимающее сознание, в сферу самой «действительной жизни» (по слову Вл. Соловьева). Термин «неклассическая художественность» возник по аналогии с философским понятием «неклассической рациональности»16. Поэтика неклассической художественности – при всем многообразии ее субпарадигмальных проявлений – основывается на последовательном осознании и творческом освоении коммуникативной природы искусства. Теперь не сам текст, но «акт коммуникации является мироопределяющей единицей»17 художественной культуры, остро нуждающейся в адекватно воспринимающем рецептивном сознании. «Задача нового писателя … в Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного вкека» // Русская поэзия «серебряного вкека», 1890-1917: Антология. М., 1993. C. 42. 16 См.: Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 2004. (Первоначальная публикация статьи М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева и В.С. Швырева на тему неклассической рациональности была осуществлена в 1970 г.). 17 Faryno Y. Поэтика Пастернака. Wien, 1989. C. 45. 15 11 каждом вызвать свое собственное слово»18. Дискредитация авторской монополии креативного сознания («смерть Автора» по Барту) отводит решающую роль в коммуникативном событии художественного дискурса сотворческой инстанции: «Поэма обретает жизнь лишь в момент своего прочтения»19. Это придает эффективности воздействия значимость важнейшего критерия художественности. Категории поэтики начинают последовательно мыслиться как «способы поэтического воздействия»20, а текст – как «совокупность факторов художественного впечатления»21. Осмысление неклассической художественности как эстетической дискурсивности, отталкиваясь от экспликативной (традиционализм) и суггестивной (креативизм) коммуникативных стратегий, развивает импликативную стратегию литературного письма. Согласно этой стратегии, формирующейся уже в поэтике Чехова, зерно недосказанного в авторском тексте смысла должно прорасти на почве воспринимающего сознания. Инновационное качество неклассической художественности характеризуется своеобразием художественного целого: установкой на «актуальную бесконечность» как «межсубъектную целостность»22. При этом – в отличие от восприятия классической художественности – следует «отказаться», как полагал И. Анненский, «от аналогий с действительностью»23, поскольку произведение искусства и само должно cтать действительностью. Переосмысление статуса художественных произведений фактически явилось реализацией жизнетворческих («теургических») притязаний символизма. Если «само бытие человека (и внешнее, и внутреннее) есть глубочайшее общение»24, то сотворение коммуникативного события общения и есть жизнетворчество. Креативный акт художника оборачивается формированием не только текста, но и чужого менталитета: «Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций «коробки» – психики слушателя»25. То, что открывается одному лишь автору, Мандельштамом мыслится как субъективная картина творческого Пришвин М.М. О Розанове // Контекст 1990. М., 1990. C. 209. Валери П. Об искусстве. М., 1993. C. 103. 20 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. C. 56. 21 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 18. 22 Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала ХХ века в свете исторической поэтики. М., 1997. C. 214-215. 23 Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. C. 339. 24 Бахтин М.М. Собр. cоч.: В 7 т. Т. 5. С. 344. 25 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. C. 49. 18 19 12 «безумия»; но открывающееся также и адресату обретает жизненную императивность «совести». Стихотворение, начинающееся обнаружением этой альтернативы («Может быть, это точка безумия, / Может быть, это совесть твоя»), завершается словами: «То, что я говорю, мне прости… / Тихо, тихо его мне прочти…» Вторжение в сознание другого в данном случае неоспоримо заслуживает «прощения», поскольку достигает цели «породить мир чувственного резонанса»26. В связи с актуализацией коммуникативной стороны эстетического отношения множественность параллельно складывающихся дискурсных формаций (субпарадигм неклассической художественности) – принципиальное свойство данной стадии литературного процесса. Авангардистская тенденция неклассической художественности, начало которой было положено футуризмом, культивирует провокативную стратегию «ударного», экстатического, эпатирующего письма, «акции» которого состоят в преодолении косного, инертного «нея». Творческий акт, из которого устраняется эстетический объект, сводится к самоизвержению субъекта – «самовитого», уединенного сознания, по-ницшеански придающего хаосу окружающего бытия (как окказионального, случайностного мира) субъективные «значенья собственного я» (И. Северянин). Авангардистский «дискурс свободы», которая якобы «возможна только вне языка» как «формы принуждения»27, состоит в диалогическом разногласии с альтернативным сознанием другого – порабощенного традицией хранителя «барахла культуры» (Маяковский). Это предполагает поэтику антитекста, семантического рассогласования между речевом произволом «я» и «стоглавой вошью», жаждущей «взгромоздиться на бабочку поэтиного сердца» (Маяковский), – в конечно счете, поэтику «осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания»28. Вслед за футуризмом в данном русле художественной культуры ХХ века формируются литературные практики дадаизма, сюрреализма, экспрессионизма, имажинизма, абсурдизма, заумников, обэриутов, концептуалистов, соцарта, «нового романа», «антидрамы» и т.п. группировок. Наиболее значительное явление неоавангардистской направленности представляет собой поэтика постмодернизма с ее акцентированной интертекстуальностью, коллажностью, серийностью, Валери П. Об искусстве. C. 91. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. C. 549-550. 28 Бродский И.А. Нобелевская лекция // Он же. Соч.: В 4 т. Т. 1. СПб., 1992. C. 14. 26 27 13 тяготением к «инсталляции» как ведущей форме эстетической деятельности. Поэтика соцреализма, зародившаяся в контексте «пролетарской культуры» начала ХХ столетия, реализует императивную стратегию письма как политически ангажированного, пропагандистского «истолкования действительности» (Г.А. Белая), ориентированного на монологическое согласие (единогласие) субъектов. Произведение искусства функционирует как властный дискурс подчинения и насильственного преодоления обособленности, внутренней маргинальности человеческого «я»; как коммуникативное событие «социальной адаптации», формирующей «авторитарный склад личности»29 с нормативно-ролевым сознанием. Соцреалистический субъект самоопределения, налагаемого на себя, «как упряжь» (Пастернак), подобно авангардистскому, не укоренен в бытии и одержим синдромом насилия над объектом. Однако – в противоположность авангардистскому произволу – регламентированное творческое поведение соцреалиста состоит в самоограничении, в установке на то, «чтоб над мыслью времен комиссар с приказанием нависал», а если требуется, то и «запирал мои губы замком» (Маяковский), вследствие чего складывается коммуникативная ситуация взаимоподчинения и обоюдного контроля, при которой автор выступает как «народа водитель и одновременно – народный слуга» (Маяковский). Такая субъективность смиряет себя не перед объективностью бытия, но перед преодолевающей эту объективность коллективной гиперсубъективностью «общего дела» (Николай Федоров), персонифицируемого в эмблематических образах (революции, партии, народа, родины, эпохи и т.п.) или в авторитарной фигуре вождя, с которой коррелирует идеологический гипертекст: после «Краткого курса истории ВКП(б)» «любое сочиненье … воспринимается как дополненье / К этой книге – простой и большой» (Александр Яшин). Неклассическая художественность этого типа напоминает практику классицизма, однако ориентируется не на жанровые каноны, а на идею образцового сверхтекста, по отношению к которому все индивидуальные тексты мыслятся эпифеноменами. Соцреализм базируется на сверхценности одной такой «песни, чтоб в ней прозвучали / Все весенние песни земли» (Василий Лебедев-Кумач). Но практическая недостижимость сверхтекста (как и пропагандируемого общественно-политического См.: Добренко Е. Формовка советского читателя. СПб., 1997; Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб., 1999. 29 14 идеала) обосновывает поэтику варьирования иллюстративных сюжетных схем, «нейтрального стиля» (Г.А. Белая), небрежения словом как слабым отзвуком «дела». «Семантическая поэтика»30 (Левин и др.) неотрадиционализма привнесла в неклассическую художественность солидаристскую стратегию «конвергентного» письма как «диалога согласия» (Бахтин) по поводу онтологических характеристик мировой целокупности бытия. Начало этой тенденции было положено русскими акмеистами (включая также и «московский акмеизм» Цветаевой31), продолжено их единомышленниками (поздний Пастернак, Булгаков, Пришвин и др.) и последователями («неоакмеизм»32, «метареализм»33 70-80 гг.). Среди аналогичных явлений западной художественной культуры можно назвать Т.С. Элиота, Р.М. Рильке, П. Валери, Дж. Унгаретти, Р. Фроста, У.Х. Одена, отошедших от авангардизма П. Элюара, О. Паса и т.д. Сам термин «неотрадиционализм» подсказан основополагающим эссе Элиота «Традиция и индивидуальный талант»; синонимические обозначения явления терминами «неоклассицизм» (восходит к В.М. Жирмунскому) или «постреализм» (Н.Л. Лейдерман) представляются менее удачными. Кредо данной тенденции неклассической художественности не в возврате к поэтике канона, но в реонтологизации искусства: в идее «онтологической сгущенности языка»34; в «реабилитации» эстетической природы художественности (без отказа от ее коммуникативности); в почитании классической традиции как неотменимой и плодотворной почвы новаторского творчества. В своем стремлении «к воссозданию эффекта непрерывности культуры»35 неотрадиционализм не только вновь укореняет субъекта в историческом бытии (А. Кушнер: «Времена не выбирают, / В них живут и умирают»), что было утрачено после классического реализма, но и художественному творчеству придает онтологическое измерение эманации творческого духа самой жизни. Произведение мыслится как объективно существующая потенциальная возможность, которая может открыться и быть реализованной (или не См.: Левин Ю.И. и др. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. Vol. 7-8. Amsterdam, 1974. 31 См.: Клинг О.А. Поэтический мир Марины Цветаевой. М., 2001. 32 См.: Лейдерман Н.Л и Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 – 1990 годы: В 2 т. М., 2003. 33 См.: Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. М., 1988. 34 Струве Н. Осип Мандельштам. Томск, 1992. C. 119. 35 Бродский И.А. Нобелевская лекция. C. 15. 30 15 реализованной) автором, а поэтический талант – как «дар тайнослышанья тяжелый» (Вл. Ходасевич). И Ахматова, и Гумилев, и Мандельштам, и Пастернак, и Цветаева неоднократно рефлектировали творческий процесс как внутренюю устремленность художника «к физическому воплощению духовно уже сущего (вечного)»36. Поэтому неотрадиционалист, которого «зависимость» от языка не порабощает, а как раз «раскрепощает» (Бродский), – это «искатель слова» (Даниил Андреев), а не соцреалистический «повелитель светлых словес» (Н. Асеев) и не авангардно «сильный к битве со смыслами, быстрый к управлению слов» (Д. Хармс). Но для него «поиски собственного слова на самом деле есть поиски именно не собственного, а слова, которое больше меня самого»37 (Бахтин, ЭСТ, 354). Культивируемая неотрадиционализмом поэтика обусловлена коммуникативной ситуацией встречи взаимодополнительных (а не альтернативных и не соподчиненных) сознаний, при которой вступающие в общение личности достигают «раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности»38 (Вяч. Иванов, 100). Это поэтика «диалогизированного» слова – дискурса взаимной ответственности. (Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: 2009. С. 84-98) 1. Эпистола о стихотворстве О вы, которые стремитесь на Парнас, Нестройного гудка имея грубый глас, Престаньте воспевать! Песнь ваша не прелестна, Когда музыка вам прямая неизвестна. Но в нашем ли одном народе только врут, Когда искусства нет или рассудок худ? Прадон и Шапелен не тамо ли писали, Где в их же времена стихи свои слагали Корнелий и Расин, Депро и Молиер, Делафонтен и где им следует Вольтер. Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил, Кто грамматических не знает свойств, ни правил Цветаева М.И. Искусство при свете совести // М.И. Цветаева. Об искусстве. М., 1991. C. 87. 37 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 354. 38 Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. C. 100. 36 16 И, правильно письма не смысля сочинить, Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть. Он только лишь слова на рифму прибирает, Но соплетенный вздор стихами называет. И что он соплетет нескладно без труда, Передо всеми то читает без стыда. Преславного Депро прекрасная сатира Подвигла в Севере разумна Кантемира Последовать ему и страсти охуждать; Он знал, как о страстях разумно рассуждать, Пермесских голос нимф был ввек его утеха, Стремился на Парнас, но не было успеха. Хоть упражнялся в том, доколе был он жив, Однако был Пегас всегда под ним ленив. Разумный Феофан, которого природа Произвела красой словенского народа, Что в красноречии касалось до него, Достойного в стихах не создал ничего. Стихи слагать не так легко, как многим мнится. Незнающий одной и рифмой утомится. Не должно, чтоб она в плен нашу мысль брала, Но чтобы нашею невольницей была. Не надобно за ней без памяти гоняться: Она должна сама нам в разуме встречаться И, кстати приходив, ложиться, где велят. Невольные стихи чтеца не веселят. А оное не плод единыя охоты, Но прилежания и тяжкия работы. Однако тщетно всё, когда искусства нет, Хотя творец, трудясь, струями пот прольет, А паче если кто на Геликон дерзает Противу сил своих и грамоте не знает. Он мнит, что он, слепив стишок, себя вознес Предивной хитростью до самых до небес. Тот, кто не гуливал плодов приятных садом, За вишни клюкву ест, рябину виноградом И, вкус имея груб, бездельные труды Пред общество кладет за сладкие плоды. Взойдем на Геликон, взойдем, увидим тамо Творцов, которые достойны славы прямо. Там царствует Гомер, там Сафо, Феокрит, Ешилл, Анакреон, Софокл и Еврипид. Менандр, Аристофан и Пиндар восхищенный, Овидий сладостный, Виргилий несравненный, Терентий, Персий, Плавт, Гораций, Ювенал, Лукреций и Лукан, Тибулл, Проперций, Галл, 17 Мальгерб, Руссо, Кино, французов хор реченный, Мильтон и Шекеспир, хотя непросвещенный, Там Тасс и Ариост, там Камоенс и Лоп, Там Фондель, Гинтер там, там остроумный Поп. Последуем таким писателям великим. А ты, несмысленный, вспеваешь гласом диким. Всё то, что дерзостно невежа сочинит, Труды его ему преобращает в стыд. Без пользы на Парнас слагатель смелый всходит, Коль Аполлон его на верх горы не взводит. Когда искусства нет иль ты не тем рожден, Нестроен будет глас, и слог твой принужден. А если естество тебя тем одарило, Старайся, чтоб сей дар искусство украсило. Знай в стихотворстве ты различие родов И, что начнешь, ищи к тому приличных слов, Не раздражая муз худым своим успехом: Слезами Талию, а Мельпомену смехом. Пастушка за сребро и злато на лугах Имеет весь убор в единых лишь травах. Луг камней дорогих и перл ей не являет, — Она главу и грудь цветами украшает. Подобно каковой всегда на ней наряд, Таков быть должен весь в стихах пастушьих склад. В них гордые слова, сложения высоки В лугах подымут вихрь и возмутят потоки. Оставь свой пышный глас в идиллиях своих И в паствах не глуши трубой свирелок их. Пан скроется в леса от звучной сей погоды, И нимфы у поток уйдут от страха в воды. Любовну ль пишешь речь или пастуший спор, Чтоб не был ни учтив, ни груб их разговор, Чтоб не был твой пастух крестьянину примером И не был бы, опять, придворным кавалером. Вставай в идиллии мне ясны небеса, Зеленые луга, кустарники, леса, Биющие ключи, источники и рощи, Весну, приятный день и тихость темной нощи; Дай чувствовати мне пастушью простоту И позабыть, стихи читая, суету. Плачевной музы глас быстряе проницает, Когда она в любви власы свои терзает, Но весь ея восторг свой нежный склад красит Единым только тем, что сердце говорит: Любовник в сих стихах стенанье возвещает, Когда аврорин всход с любезной быть мешает, 18 Или он, воздохнув, часы свои клянет, В которые в глазах его Ирисы нет, Или жестокости Филисы вспоминает, Или своей драгой свой пламень открывает, Иль, с нею разлучась, представив те красы, Со вздохами твердит, прешедшие часы. Но хладен будет стих и весь твой плач — притворство, Когда то говорит едино стихотворство; Но жалок будет склад, оставь и не трудись: Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись! Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает, Хребет Рифейских гор далеко превышает, В ней молния делит наполы горизонт, То верх высоких гор скрывает бурный понт, Эдип гаданьем град от Сфинкса избавляет, И сильный Геркулес злу Гидру низлагает, Скамандрины брега богов зовут на брань, Великий Александр кладет на персов дань, Великий Петр свой гром с брегов Балтийских мещет, Российский меч во всех концах вселенной блещет. Творец таких стихов вскидает всюду взгляд, Взлетает к небесам, свергается во ад, И, мчася в быстроте во все края вселенны, Врата и путь везде имеет отворенны. Что в стихотворстве есть, всем лучшим стих крася И глас эпический до неба вознося, Летай во облаках, как в быстром море судно, Но, возвращаясь вниз, спускайся лишь рассудно, Пекись, чтоб не смешать по правам лирным дум; В эпическом стихе порядочен есть шум. Глас лирный так, как вихрь, порывами терзает, А глас эпический недерзостно взбегает, Колеблется не вдруг и ломит так, как ветр, Бунтующ многи дни, восшед из земных недр. Сей стих есть полн претворств, в нем добродетель смело Преходит в божество, приемлет дух и тело. Минерва — мудрость в нем, Диана — чистота, Любовь — то Купидон, Венера — красота. Где гром и молния, там ярость возвещает Разгневанный Зевес и землю устрашает. Когда встает в морях волнение и рев, Не ветер то шумит, — Нептун являет гнев. И эхо есть не звук, что гласы повторяет, — То нимфа во слезах Нарцисса вспоминает. Эней перенесен на африканский брег, В страну, в которую имели ветры бег, 19 Не приключением, но гневная Юнона Стремится погубить остаток Илиона. Эол в угодность ей Средьземный понт терзал И грозные валы до облак воздымал. Он мстил Парисов суд за выигрыш Венеры И ветрам растворил глубокие пещеры. Посем рассмотрим мы свойство и силу драм, Как должен представлять творец пороки нам И как должна цвести святая добродетель: Посадский, дворянин, маркиз, граф, князь, владетель Восходят на театр; творец находит путь Смотрителей своих чрез действо ум тронуть. Когда захочешь слез, введи меня ты в жалость; Для смеху предо мной представь мирскую шалость. Не представляй двух действ к смешению мне дум; Смотритель к одному свой устремляет ум. Ругается, смотря, единого он страстью И беспокойствует единого напастью: Афины и Париж, зря красну царску дщерь, Котору умерщвлял отец, как лютый зверь, В стенании своем единогласны были И только лишь о ней потоки слезны лили. Не тщись глаза и слух различием прельстить И бытие трех лет мне в три часа вместить: Старайся мне в игре часы часами мерить, Чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить, Что будто не игра то действие твое, Но самое тогда случившесь бытие. И не бренчи в стихах пустыми мне словами, Скажи мне только то, что скажут страсти сами. Не сделай трудности и местом мне своим, Чтоб мне, театр твой, зря, имеючи за Рим, Не полететь в Москву, а из Москвы к Пекину: Всмотряся в Рим, я Рим так скоро не покину. Явлениями множь желание, творец, Познать, как действию положишь ты конец. Трагедия нам плач и горесть представляет, Как люто, например, Венерин гнев терзает. В прекрасной описи, в Расиновых стихах, Трезенский князь забыл о рыцарских играх, Воспламенение почувствовавши крови И вечно быть престав противником любови, Пред Арисиею, стыдяся, говорит, Что он уже не стал сей гордый Ипполит, Который иногда стрелам любви ругался И сим презрением дел нежных величался. 20 Страшатся греки, чтоб сын Андромахин им По возрасте своем не стал отцом своим. Трепещут имени Гекторова народы, Которые он гнал от стен Троянских в воды, Как он с победою по трупам их бежал И в корабли их огнь из рук своих метал. Страшася, плод его стремятся погубити И в отрасли весь корнь Приамов истребити Пирр хочет спасть его (защита немала!), Но чтоб сия вдова женой ему была. Она в смятении, низверженна в две страсти, Не знает, что сказать при выборе напасти. Богинин сын против всех греков восстает И Клитемнестрин плод под свой покров берет. Нерон прекрасную Июнью похищает, Возлюбленный ея от яда умирает; Она, чтоб жизнь ему на жертву принести, Девичество свое до гроба соблюсти, Под защищение статуи прибегает И образ Августов слезами омывает, И, после таковых свирепых ей судьбин, Лишася брачных дум, вестальский емлет чин. Мониме за любовь приносится отрава. «Аталья» Франции и Мельпомене слава. «Меропа» без любви тронула всех сердца, Умножив в славу плеск преславного творца: Творец ея нашел богатство Геликона. «Альзира», наконец, — Вольтерова корона. Каков в трагедии Расин был и Вольтер, Таков в комедиях искусный Молиер. Как славят, например, тех «Федра» и «Меропа», Не меньше и творец прославлен «Мизантропа». Мольеров «Лицемер», я чаю, не падет В трех первых действиях, доколь пребудет свет. «Женатый философ», «Тщеславный» воссияли И честь Детушеву в бессмертие вписали. Для знающих людей ты игрищ не пиши: Смешить без разума — дар подлыя души. Не представляй того, что мне на миг приятно, Но чтоб то действие мне долго было внятно. Свойство комедии — издевкой править нрав; Смешить и пользовать — прямой ея устав. Представь бездушного подьячего в приказе, Судью, что не поймет, что писано в указе. Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос, Что целый мыслит век о красоте волос, 21 Который родился, как мнит он, для амуру, Чтоб где-нибудь к себе склонить такую ж дуру. Представь латынщика на диспуте его, Который не соврет без «ерго» ничего. Представь мне гордого, раздута, как лягушку, Скупого, что готов в удавку за полушку. Представь картежника, который, снявши крест, Кричит из-за руки, с фигурой сидя: «Рест!» О таинственник муз! уставов их податель! Разборщик стихотворств и тщательный писатель, Который Франции муз жертвенник открыл И в чистом слоге сам примером ей служил! Скажи мне, Боало, свои в сатирах правы, Которыми в стихах ты чистил грубы нравы! В сатирах должны мы пороки охуждать, Безумство пышное в смешное превращать, Страстям и дуростям, играючи, ругаться, Чтоб та игра могла на мысли оставаться И чтобы в страстные сердца она втекла: Сие нам зеркало сто раз нужняй стекла. Тщеславный лицемер святым себя являет И в мысли ближнему погибель соплетает. Льстец мажется, что он всея вселенной друг, И отрыгает яд во знак своих услуг. Набитый ябедой прехищный душевредник Старается, чтоб был у всех людей наследник, И, что противу пpaв, заграбив, получит, С неправедным судьей на части то делит. Богатый бедного невинно угнетает И совесть из судей мешками выгоняет, Которы, богатясь, страх божий позабыв, Пекутся лишь о том, чтоб правый суд стал крив. Богатый в их суде не зрит ни в чем препятства: Наука, честность, ум, по их, — среди богатства. Охотник до вестей, коль нечего сказать, Бежит с двора на двор и мыслит, что солгать. Трус, пьян напившися, возносится отвагой И за робятами гоняется со шпагой. Такое что-нибудь представь, сатирик, нам. Рассмотрим свойство мы и силу эпиграмм: Они тогда живут красой своей богаты, Когда сочинены остры и узловаты; Быть должны коротки, и сила их вся в том, Чтоб нечто вымолвить с издевкою о ком. Склад басен должен быть шутлив, но благороден, И низкий в оном дух к простым словам пригоден, 22 Как то де Лафонтен разумно показал И басенным стихом преславен в свете стал, Наполнил с головы до ног все притчи шуткой И, сказки пев, играл всё тою же погудкой. Быть кажется, что стих по воле он вертел, И мнится, что, писав, ни разу не вспотел; Парнасски девушки пером его водили И в простоте речей искусство погрузили. Еще есть склад смешных геройческих поэм, И нечто помянуть хочу я и о нем: Он в подлу женщину Дидону превращает Или нам бурлака Энеем представляет, Являя рыцарьми буянов, забияк. Итак, таких поэм шутливых склад двояк: В одном богатырей ведет отвага в драку, Парис Фетидину дал сыну перебяку. Гектор не на войну идет — в кулачный бой, Не воинов — бойцов ведет на брань с собой. Зевес не молнию, не гром с небес бросает, Он из кремня огонь железом высекает, Не жителей земных им хочет устрашить, На что-то хочет он лучинку засветить. Стихи, владеющи высокими делами, В сем складе пишутся пренизкими словами. В другом таких поэм искусному творцу Велит перо давать дух рыцарский борцу. Поссорился буян, —не подлая то ссора, Но гонит Ахиллес прехраброго Гектора. Замаранный кузнец в сем складе есть Вулькан, А лужа от дождя не лужа — океан. Робенка баба бьет-то гневная Юнона. Плетень вокруг гумна — то стены Илиона. В сем складе надобно, чтоб муза подала Высокие слова на низкие дела. В эпистолы творцы те речи избирают, Какие свойственны тому, что составляют, И самая в стихах сих главна красота, Чтоб был порядок в них и в слоге чистота. Сонет, рондо, баллад — игранье стихотворно, Но должно в них играть разумно и проворно. В сонете требуют, чтоб очень чист был склад. Рондо — безделица, таков же и баллад, Но пусть их пишет тот, кому они угодны, Хороши вымыслы и тамо благородны, Состав их хитрая в безделках суета: Мне стихотворная приятна простота. 23 О песнях нечто мне осталося представить, Хоть песнописцев тех никак нельзя исправить, Которые, что стих, не знают, и хотят Нечаянно попасть на сладкий песен лад. Нечаянно стихи из разума не льются, И мысли ясные невежам не даются. Коль строки с рифмами — стихами то зовут. Стихи по правилам премудрых муз плывут. Слог песен должен быть приятен, прост и ясен, Витийств не надобно; он сам собой прекрасен; Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть; Не он над ним большой — имеет сердце власть. Не делай из богинь красавице примера И в страсти не вспевай: «Прости, моя Венера, Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет», Скажи, прощаяся: «Прости теперь, мой свет! Не будет дня, чтоб я, не зри очей любезных, Не источал из глаз своих потоков слезных. Места, свидетели минувших сладких дней, Их станут вображать на памяти моей. Уж начали меня терзати мысли люты, И окончалися приятные минуты. Прости в последний раз и помни, как любил». Кудряво в горести никто не говорил: Когда с возлюбленной любовник расстается, Тогда Венера в мысль ему не попадется. Ни ударения прямого нет в словах, Ни сопряжения малейшего в речах, Ни рифм порядочных, ни меры стоп пристойной Нет в песне скаредной при мысли недостойной. Но что я говорю: при мысли? Да в такой Изрядной песенке нет мысли никакой: Пустая речь, конец не виден, ни начало; Писцы в них бредят всё, что в разум ни попало. О чудные творцы, престаньте вздор сплетать! Нет славы никакой несмысленно писать. Во окончании еще напоминаю О разности стихов и речи повторяю: Коль хочешь петь стихи, помысли ты сперва, К чему твоя, творец, способна голова. Не то пой, что тебе противу сил угодно, Оставь то для других: пой то, тебе что сродно, Когда не льстит тебе всегдашний града шум И ненавидит твой лукавства светска ум, Приятна жизнь в местах, где к услажденью взора И обоняния ликует красна Флора, 24 Где чистые струи по камышкам бегут И Птички сладостно Аврорин всход поют, Одною щедрою довольствуясь природой, И насыщаются дражайшею свободой. Пускай на верх горы взойдет твоя нога И око кинет взор в зеленые луга, На реки, озера, в кустарники, в дубровы: Вот мысли там тебе по склонности готовы. Когда ты мягкосерд и жалостлив рожден И ежели притом любовью побежден, Пиши элегии, вспевай любовны узы Плачевным голосом стенящей де ла Сюзы. Когда ты рвешься, зря на свете тьму страстей, Ступай за Боалом и исправляй людей. Смеешься ль, страсти зря, представь мне их примером И, представляя их, ступай за Молиером. Когда имеешь ты дух гордый, ум летущ И вдруг из мысли в мысль стремительно бегущ, Оставь идиллию, элегию, сатиру И драмы для других: возьми гремящу лиру И с пышным Пиндаром взлетай до небеси, Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси: Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен; А ты, Штивелиус, лишь только врать способен. Имея важну мысль, великолепный дух, Пронзай воинскою трубой вселенной слух: Пой Ахиллесов гнев иль, двигнут русской славой, Воспой Великого Петра мне под Полтавой. Чувствительней всего трагедия сердцам, И таковым она вручается творцам, Которых может мысль входить в чужие страсти И сердце чувствовать других беды, напасти. Виргилий брани пел, Овидий воздыхал, Гораций громкий глас при лире испускал Или, из высоты сходя, страстям ругался, В которых римлянин безумно упражнялся, Хоть разный взяли путь, однако посмотри, Что, сладко пев, они прославились все три. Всё хвально: драма ли, эклога или ода — Слагай, к чему тебя влечет твоя природа; Лишь просвещение писатель дай уму: Прекрасный наш язык способен ко всему. (А.П. Сумароков) 25 2. Невыразимое (Отрывок) Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежною и легкою свободой Она рассыпала повсюду красоту И разновидное с единством согласила! Но где, какая кисть ее изобразила? Едва-едва одну ее черту С усилием поймать удастся вдохновенью... Но льзя ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ль выраженью?.. Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час Вечернего земли преображенья — Когда душа смятенная полна Пророчеством великого виденья И в беспредельное унесена — Спирается в груди болезненное чувство, Хотим прекрасное в полете удержать, Ненареченному хотим названье дать — И обессиленно безмолвствует искусство? Что видимо очам — сей пламень облаков, По небу тихому летящих, Сие дрожанье вод блестящих, Сии картины берегов В пожаре пышного заката — Сии столь яркие черты — Легко их ловит мысль крылата, И есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито с сей блестящей красотою, — Сие столь смутное, волнующее нас, Сей внемлемый одной душою Обворожающего глас, Сие к далекому стремленье, Сей миновавшего привет (Как прилетевшее незапно дуновенье От луга родины, где был когда-то цвет, Святая молодость, где жило упованье), Сие шепнувшее душе воспоминанье О милом радостном и скорбном старины, Сия сходящая святыня с вышины, Сие присутствие создателя в созданье — Какой для них язык?.. Горе́ душа летит, Все необъятное в единый вздох теснится, И лишь молчание понятно говорит. (В.А. Жуковский) 26 3. Поэт и толпа Procul este, profani39 Поэт по лире вдохновенной Рукой рассеянной бряцал. Он пел — а хладный и надменный Кругом народ непосвященный Ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая: „Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо поражая, К какой он цели нас ведет? О чем бренчит? чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей? Как ветер песнь его свободна, Зато как ветер и бесплодна: Какая польза нам от ней?“ Поэт Молчи, бессмысленный народ. Поденщик, раб нужды, забот! Несносен мне твой ропот дерзкой, Ты червь земли, не сын небес; Тебе бы пользы всё — на вес Кумир ты ценишь Бельведерской. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог!... так что же? Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь. Чернь Нет, если ты небес избранник, Свой дар, божественный посланник, Во благо нам употребляй: Сердца собратьев исправляй. 39 Прочь, непосвященные 27 Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь, ближнего любя, Давать нам смелые уроки, А мы послушаем тебя. Поэт Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас! В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глас! Душе противны вы как гробы. Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры Бичи, темницы, топоры; — Довольно с вас, рабов безумных! Во градах ваших с улиц шумных Сметают сор, — полезный труд! Но, позабыв свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вас метлу берут? Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. (А.С. Пушкин) 4. Поэт Тебе знаком ли сын богов, Любимец муз и вдохновенья? Узнал ли б меж земных сынов Ты речь его, его движенья? Не вспыльчив он, и строгий ум Не блещет в шумном разговоре, Но ясный луч высоких дум Невольно светит в ясном взоре. Пусть вкруг него, в чаду утех, 28 Бушует ветреная младость, Безумный крик, нескромный смех И необузданная радость: Всё чуждо, дико для него, На всё спокойно он взирает, Лишь редко что-то с уст его Улыбку беглую срывает. Его богиня - простота, И тихий гений размышленья Ему поставил от рожденья Печать молчанья на уста. Его мечты, его желанья, Его боязни, упованья Всё тайна в нем, всё в нем молчит: В душе заботливо хранит Он неразгаданные чувства... Когда ж внезапно что-нибудь Взволнует огненную грудь Душа, без страха, без искусства, Готова вылиться в речах И блещет в пламенных очах... И снова тих он, и стыдливый К земле он опускает взор, Как будто слышит он укор За невозвратные порывы. О, если встретишь ты его С раздумьем на челе суровом Пройди без шума близ него, Не нарушай холодным словом Его священных, тихих снов; Взгляни с слезой благоговенья И молви: это сын богов, Любимец муз и вдохновенья. (Д.В. Веневитинов) 5. * * * Не подражай: своеобразен гений И собственным величием велик; Доратов ли, Шекспиров ли двойник Досаден ты: не любят повторений. С Израилем певцу одни закон: Да не творит себе кумира он! Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, Я застаю у Байроновых ног, 29 Я думаю: поклонник униженный! Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог! (Е.А. Баратынский) 6. *** Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой. Я раньше начал, кончу ране, Мой ум немного совершит; В душе моей, как в океане, Надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, Твои изведать тайны? Кто Толпе мои расскажет думы? Я - или бог - или никто! (М.Ю. Лермонтов) 7. Silentium! Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звезды в ночи, — Любуйся ими — и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими — и молчи. Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, — Внимай их пенью — и молчи!.. (Ф.И. Тютчев) 30 8. * * * Одним толчком согнать ладью живую С наглаженных отливами песков, Одной волной подняться в жизнь иную, Учуять ветр с цветущих берегов, Тоскливый сон прервать единым звуком, Упиться вдруг неведомым, родным, Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, Чужое вмиг почувствовать своим, Шепнуть о том, пред чем язык немеет, Усилить бой бестрепетных сердец Вот чем певец лишь избранный владеет, Вот в чем его и признак и венец! (А.А. Фет) 9. Поэту Не говори, что жизнь ничтожна. Нет, после бурь и непогод, Борьбы суровой и тревожной, И цвет, и плод она даёт. Не вечны все твои печали. В тебе самом источник сил. Взгляни кругом: не для тебя ли Весь мир святилища раскрыл. Кудряв и зелен лес дремучий, Листы зарёй освещены, Огнём охваченные тучи В стекле реки отражены. Покрыт цветами скат кургана. Взойдя и став на вышине, — Какой простор! Сквозь сеть тумана Село чуть видно в стороне. Звенит и льётся птички голос, Узнай, о чём она поёт; Пойми, что шепчет спелый колос И что за речи ключ ведёт? Вот царство жизни и свободы! Здесь всюду блеск! здесь вечный пир! Пойми живой язык природы — И скажешь ты: прекрасен мир! (И.С. Никитин) 31 10. * * * Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! Вечно носились они над землею, незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса! Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гeте великого Фауста создал, который, В древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской, С образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, Плач неутешной души над погибшей великою мыслью, Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса? Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве, Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света, Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный. O, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен, Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака всe ярче цвета, осязательней формы, Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье... Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, И, созидая потом, мимолетное помни виденье! (А.К. Толстой) 11. Художник В жаркое лето и в зиму метельную, В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную Легкий, доселе не слышанный звон. Вот он - возник. И с холодным вниманием Жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием Тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь? Или сирины райские 32 В листьях поют? Или время стоит? Или осыпали яблони майские Снежный свой цвет? Или ангел летит? Длятся часы, мировое несущие. Ширятся звуки, движенье и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого - нет. И, наконец, у предела зачатия Новой души, неизведанных сил,Душу сражает, как громом, проклятие: Творческий разум осилил - убил. И замыкаю я в клетку холодную Легкую, добрую птицу свободную, Птицу, хотевшую смерть унести, Птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка - стальная, тяжелая, Как золотая, в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, Обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся. Я же, измученный, Нового жду - и скучаю опять. (А.А. Блок) 12. Пен пан У вод я подумал о бесе И о себе, Над озером сидя на пне. В реке проплывающий пен пан И ока холодного жемчуг Бросает, воздушный, могуч, меж Ивы, Большой, как и вы. И много невестнейших вдов вод Преследовал ум мой, как овод, Но, брезгая, брызгаю ими. Мое восклицалося имя. Во сне изрицал его воздух. За воздух умчаться не худ зов. 33 Я озеро бил на осколки И после расспрашивал, сколько. Мне мир был прекрасно улыбен, Но многого этого не было. Но свист пролетавших копыток Напомнил мне много попыток Прогнать исчезающий нечет Среди исчезавших течений. (В.В. Хлебников) 13. Тайны ремесла 1. Творчество Бывает так: какая-то истома; В ушах не умолкает бой часов; Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один, все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растет трава, Как по земле идет с котомкой лихо... Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки,— Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. 2. Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне. 34 3. Муза Как и жить мне с этой обузой, А еще называют Музой, Говорят: «Ты с ней на лугу...» Говорят: «Божественный лепет...» Жестче, чем лихорадка, оттреплет, И опять весь год ни гу-гу. 4. Поэт Подумаешь, тоже работа,— Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое. И чье-то веселое скерцо В какие-то строки вложив, Поклясться, что бедное сердце Так стонет средь блещущих нив. А после подслушать у леса, У сосен, молчальниц на вид, Пока дымовая завеса Тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, И даже, без чувства вины, Немного у жизни лукавой, И все — у ночной тишины. 5. Читатель Не должен быть очень несчастным И, главное, скрытным. О нет!— Чтоб быть современнику ясным, Весь настежь распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта позорное пламя Его заклеймило чело. А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, 35 Когда ей угодно, от нас. Там кто-то беспомощно плачет В какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад, Там те незнакомые очи До света со мной говорят, За что-то меня упрекают И в чем-то согласны со мной... Так исповедь льется немая, Беседы блаженнейший зной. Наш век на земле быстротечен И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен — Поэта неведомый друг. 6. Последнее стихотворение Одно, словно кем-то встревоженный гром, С дыханием жизни врывается в дом, Смеется, у горла трепещет, И кружится, и рукоплещет. Другое, в полночной родясь тишине, Не знаю, откуда крадется ко мне, Из зеркала смотрит пустого И что-то бормочет сурово. А есть и такие: средь белого дня, Как будто почти что не видя меня, Струятся по белой бумаге, Как чистый источник в овраге. А вот еще: тайное бродит вокруг — Не звук и не цвет, не цвет и не звук,— Гранится, меняется, вьется, А в руки живым не дается. Но это!.. по капельке выпило кровь, Как в юности злая дечонка — любовь, И, мне не сказавши ни слова, Безмолвием сделалось снова. И я не знавала жесточе беды. 36 Ушло, и его протянулись следы К какому-то крайнему краю, А я без него... умираю. 7. Эпиграмма Могла ли Биче, словно Дант, творить, Или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! 8. Про стихи Владимиру Нарбуту Это — выжимки бессонниц, Это — свеч кривых нагар, Это — сотен белых звонниц Первый утренний удар... Это — теплый подоконник Под черниговской луной, Это — пчелы, это — донник, Это — пыль, и мрак, и зной. 9. Осипу Мандельштаму Я над ними склонюсь, как над чашей, В них заветных заметок не счесть — Окровавленной юности нашей Это черная нежная весть. Тем же воздухом, так же над бездной Я дышала когда-то в ночи, В той ночи и пустой и железной, Где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыханье гвоздики, Мне когда-то приснившейся там,— Это кружатся Эвридики, Бык Европу везет по волнам. Это наши проносятся тени Над Невой, над Невой, над Невой, Это плещет Нева о ступени, Это пропуск в бессмертие твой. Это ключики от квартиры, О которой теперь ни гугу... Это голос таинственной лиры, На загробном гостящей лугу. 10. 37 Многое еще, наверно, хочет Быть воспетым голосом моим: То, что, бессловесное, грохочет, Иль во тьме подземный камень точит, Или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты С пламенем, и ветром, и водой... Оттого-то мне мои дремоты Вдруг такие распахнут ворота И ведут за утренней звездой. (А.А. Ахматова) 14. * * * Как землю где-нибудь небесный камень будит, Упал опальный стих, не знающий отца; Неумолимое - находка для творца Не может быть другим - никто его не судит. (О.Э. Мандельштам) 15. Доктор Живаго (фрагмент) Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение. (Б.Л. Пастернак) Часть II СТАДИАЛЬНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА Протолитературные нарративы 38 Здесь будут рассмотрены некоторые базовые нарративные дискурсы, не входящие в состав художественной литературы как таковой. Однако сложившиеся в них коммуникативные стратегии сыграли, как уже говорилось ранее, принципиально существенные роли в происхождении и формировании основных литературных жанров (не только эпических). Следует обратить внимание также на то, что анализируемые здесь долитературные повествования (от устного сказания до письменного жизнеописания) представляют собой неочевидную систему взаимодополнительных жанровых образований, а не случайный их набор. Речевые жанры сказания и сказки, притчи и анекдота по природе своей принадлежат к устному народному творчеству. Их изучению посвящены обширные разделы науки о фольклоре, однако здесь они рассматриваются не с позиций фольклористики, но исключительно в своей «протолитературной» актуальности. Поэтому они не получают у нас разносторонней характеристики. Выявляются лишь наиболее существенные моменты нарративных стратегий, реализуемых этими жанрами впервые в истории словесности и оказавшихся продуктивными для становления и последующего развития как литературной эпики, так и общелитературной жанровой системы. Позднейшее проникновение данных форм высказывания в литературу (феномен авторской литературной сказки, например) существенно меняет их жанровую природу и также не рассматривается нами. Приведем убедительное рассуждение В.Я. Проппа о том, что фольклор не остается неизменным на протяжении своего исторического существования, «на нем отлагаются следы и более поздних стадий, вплоть до современности. Мы назвали бы это явление полистадиальностью. Задача науки состоит в том, чтобы расслоить памятники по их исторически сложившимся элементам, начиная от древнейших и кончая современными»40. Но такова задача фольклористики. Теорию литературы в изучении полистадиальных по своей природе явлений устного народного творчества интересуют в первую очередь те свойства, которые отграничивают их как от мифа, так и от литературы, располагая наиболее ранние нарративы в этом стадиальном промежутке. Конечно, коммуникативная ситуация устного общения и отсутствие личного авторства являются наиболее очевидными, базовыми отличительными свойствами предлитературных жанров. Однако имеются и другие – привходящие, но неотъемлемые. Еще в XIX веке Ф.Ф. Зелинским для фольклорной эпики был сформулирован «закон хронологической несовместимости», согласно которому в архаичных нарративах невозможны 40 Пропп В.Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 162. 39 события, параллельно совершающиеся в одно и то же время41. Действительно, в ранней наррации еще не актуализирована ее основная конструктивная проблема: в плоскостном линейном времени «события рассказывания» передать объемное, нелинейное время рассказываемых событий. «Илиада» и «Одиссея» принадлежат к области литературы не только потому, что изустные сказания запечатлены здесь в письменных текстах полулегендарного личного авторства, но и потому, что в них имеются отступления от закона хронологической несовместимости. Уже одно это делает вполне обоснованным утверждение А.Н. Веселовского, что «гомерические поэмы стоят на более поздней стадии развития, чем современная народная поэзия»42. В данном разделе, посвященном начальной, генетической фазе литературного творчества, рассмотрены важнейшие, так сказать, «условно» эпические жанры (будучи явлениями долитературными, они не могут быть названы эпическими в строгом значении термина). Их эпичность состоит в их нарративности. Подчеркнем, что далеко не вся художественная литература нарративна: референтная сторона высказывания не всегда событийна, а коммуникативное событие в драматургии состоит не в рассказывании, а в миметическом показе – словесном воспроизведении речевого поведения персонажей. Однако историко-генетическая значимость протохудожественных нарративов исключительно высока, поскольку в любом литературном жанре имеется соотносительность текстосложения, принадлежащего к действительности автора и читателя (зрителя), и миросложения – воображенной действительности, в которой пребывают герои. Сказание и сказка. Несколько расплывчатый в своих пределах термин «сказание» мы употребляем для обозначения фольклорных произведений несказочной устной прозы, не проводя при этом разграничения между «преданием» и «легендой»43, поскольку принципиальных различий в их нарративных стратегиях не наблюдается. В.Я. Пропп пользовался терминами «сказание» и «предание» как синонимами, однако второй из них в качестве жанрового обозначения весьма неудобен, ибо это слово со времен А.Н. Веселовского употребляется также и в значении субстрата традиции в новом тексте («границы предания в акте личного творчества»). В понятии же о Зелинский Ф.Ф. Закон хронологической несовместимости и композиция «Илиады» // Сборник в честь Ф.Е. Корша. М., 1896. 42 Веселовский А.Н. Из лекций по истории эпоса // А.Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 450. 43 См.: Азбелев С.Н. Отношение прелания, легенды и сказки к действительности (с точки зрения разграничения жанров) // Славянский фольклор и историческая действительность. М.; Л., 1965. 41 40 «сказании» содержится наиболее актуальный для нас признак изустности (долитературности). Поверхностному взгляду Евангелия Нового завета могут представиться записанными сказаниями, тогда как их жанровая природа принципиально иная: это священное писание, а не сказание. Сказание может быть записано, но его текст в результате этого утрачивает свою принадлежность к жанровой ситуации непосредственно-устного общения, не становясь в то же время и литературой. Нас же будет интересовать собственная жанровая природа самого сказания. Важнейшее отличие сказания от сказки состоит в том, что в период своего актуального бытования сказание претендует на достоверность, чего сказка никогда не делает. Отграничивая сказку от различного рода сказаний, Пропп характеризовал последние как «рассказы, которые выдаются за историческую истину, а иногда и действительно ее отражают или содержат»44. Однако за исключением данного различия (при всей его существенности) нарративные стратегии этих смежных жанровых образований в сущности однородны, почему они и будут рассмотрены вместе. Общий наиболее существенный отрыв и сказки, и сказания от мифологических текстов заключается в отсутствии у стадиально более поздних дискурсов анарративной «заклинательно-магической цели»45. При этом сказка представляет собой не моножанр, а своего рода пучок жанровых разновидностей, различающихся прежде всего тематически, но также и композиционно, а отчасти и стилистически: сказки о животных, волшебные, авантюрно-бытовые и т.д. Последнюю группу сказок в фольклористике часто именуют «новеллистическими», однако такой термин оправдан лишь в тех случаях, когда указывает на явления обратного (литературного) влияния на фольклор. У нас же речь идет о сказке как принципиально протолитературном жанре. Различные жанровые модификации сказок по-разному соотносятся со сказаниями. Если сказки о животных непосредственно восходят к мифологической архаике, к тотемистическим мифам о зооморфных предках и культурных героях, то волшебные сказки воспроизводят ритуальномифологический комплекс мотивов инициации46 через посредство «множества преданий о царских детях, покидающих свою родину, чтобы воцариться в чужой стране»47. Эти древние сказания о чужаке-пришельце, ставшем нашим Пропп В.Я. Русская сказка. С. 52. Там же. С. 103. 46 См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки, Л., 1986 (первое издание – 1946). См. также: Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. С.192-193 47 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 180. 44 45 41 вождем, запечатлели социально-историческую стадию матрилокального престолонаследования (передачи власти от тестя к зятю, а не от отца к сыну) и, разумеется, весьма разнятся от позднейших сказаний о «справедливом царе» или «благородном разбойнике», но едины с ними в жанровом отношении. Однако все многообразие модификаций сказания и сказки в эпоху их становления и активной творческой жизни объединяются своим отношением к мифу, с одной стороны, и к литературе – с другой. Это жанры-посредники. Они формируются из материала отмирающей ритуально-мифологической культуры первобытных обществ в процессе становления наррации, а впоследствии выступают источниками, «жанровыми зародышами» (Бахтин) литературы. Жанры героического эпоса возникают как авторская (хотя и анонимная по большей части) обработка национальных легендарно-исторических сказаний, а «генетический код» сказки с достаточной очевидностью обнаруживается в романной прозе, не говоря уже о некоторых более ранних жанровых явлениях. Исходя из протолитературной исторической значимости данных речевых жанров, выделим общие черты их жанровой структуры. Прежде всего, это единая жанровая картина мира, которая может быть определена как прецедентная (т.е. по природе своей пока еще ритуальномифологическая). Это фатально непреложный и неоспоримый «круговорот жизни – смерти – жизни»48, где происходит только то, что и должно происходить. От анарративного мифа49 сказание, как и сказку, отграничивает одно радикальное качество – «выдвижение человека в центр мифологической картины мира»50. Здесь, по формуле А.-Ж. Греймаса, «мир оправдан существованием человека»51. Эта семантическая трансформация предания и ведет к его нарративизации. Нарративность (событийность) придается мифологическому субстрату сказания или сказки тем, что он излагается как прецедент (от лат. praecedens – предшествующий) – первое свершение в ряду всех подобных ему. Жанр сказания в своем живом бытовании предполагал абсолютную ценностную дистанцию по отношению к такому состоянию мировой жизни, какое Гегель именовал «веком героев», действия которых формируют Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 226. Ср.: «В волшебной сказке всякое событие предопределено как возможное развите всем, что предшествовало данному событию, т.е. тем, какие персонажи были введены, что с ними произошло и т.д. Эта предопределенность всякого события в сказке обусловлена, очевидно, не законами объективной действительности (ведь сказка не претендует на правдивость), а только интересами повествования», тогда как в мифе «такой формальной предопределенности нет» (Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. С. 52). 50 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. Свердловск, 1992. С. 38. 51 Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985. С. 106. 48 49 42 жизнеуклад. В сказке имеет место также абсолютная дистанция, но не ценностно-временáя, а условно-пространственная («тридевятое царство»), «вневременная» (М.И. Стеблин-Каменский) – «естественный результат осознанности вымысла при неосознанном авторстве»52. И в том и в другом случае персонажи «не выбирают, а по своей природе суть то, что они хотят и свершают»53. Поэтому жанровая форма героя и сказания, и аналогичной ему в этом отношении сказки – актант54, то есть исполнитель действий, реализующих некоторую необходимость. Такой герой не наделен детализированной индивидуальностью и потому готов к разного рода метаморфозам, но при этом он всегда однозначен, тождествен самому себе. «Образ сказочного человека … всегда строится на мотивах превращения и тождества»55. Герой здесь поглощен своей судьбой – предопределенной ему статусно-ролевой моделью причастности к общему миропорядку. Индивид «не отделен от своей судьбы, они едины, судьба выражает внеличную сторону индивида, и его поступки только раскрывают содержание судьбы»56. Вследствие этого, как и в позднейшем героическом эпосе, персонаж актантного типа «стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем он стал. Он весь овнешнен … Его точка зрения на себя самого полностью совпадает с точкой зрения на него других – общества (его коллектива), певца, слушателей»57. В жанровой «ситуации» произнесения сказания субъект речи обладает достоверным, но не верифицируемым знанием; таков жанровый статус его «предмета», сообщение которого и составляет его жанровую «цель»58. Соответственно жанровая стилистика сказания – это стилистика общинного, обезличенного слова. Говорящий здесь – только исполнитель воспроизводимого и передаваемого текста. Да и персонажи сказания «не от своея воля рекоша, но от Божья повеленья»59. Сказание в известном смысле домонологично, оно объединяет участников коммуникативной ситуации (говорящего и слушающих) общим знанием, поэтому жанровая форма Стеблин-Каменский М.И. Миф. С. 86. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 593. 54 См.: Tesnière L. Eléments de sintaxe structurale. P., 1959; Greimas A.-J. Sémantique structurale. P., 1966. 55 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С7 262-263. 56 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С.265. 57 Бахтин М.М. Эпос и роман // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. С. 477. 58 Напомним: речевой жанр «определяется предметом, целью и ситуацией высказывания» (6, 371). 59 О хазарах из Повести временных лет. 52 53 43 авторства такого высказывания – своего рода хоровое слово общенародной «хвалы». «Именно здесь, в области чистой хвалы создавались формы завершенной и глухой индивидуальности» (5, 84), то есть актантные формы героя. Жанровое содержание сказки не претендует на статус знания, говоря словами В.Я Проппа, она – «в основе своей небывальщина», «нарочитая поэтическая фикция»60, вследствие чего «повествователь последовательно осуществляет игровое отношение к сказочному миру»61. Зато, будучи в большей или меньшей степени несовместимой с реальной действительностью, сказка послужила принципиально важной переходной формой словесности между мифом и художественной литературой. Своей недостоверностью и одновременно повышенной эстетической значимостью она закрепила нарративное «двоемирие»: неотождествимость «рассказываемого» мира персонажей с миром коммуникантов. Аналогично позднейшей фигуре авторатворца, обладающего «причастной вненаходимостью» (Бахтин) по отношению к художественной реальности, «сказочный повествователь стоит на границе сказочного и реального миров, он вхож как свой в любой из этих миров и это он осуществляет их взаимосвязь»62. Однако никакого принципиального различия в коммуникативных стратегиях рассказывания сказки и сказания нет. С одной стороны, содержание сказания достоверно, но не верифицируемо; с другой стороны, сказочник – также носитель общинного, репродуктивного знания: знания текста сказки. Хоровые формы авторства и стилистики здесь аналогичны. К В.Г. Белинскому восходит традиция наделения сказки развлекательной целью. А.И. Никифоров, поддержанный впоследствии Проппом, определял сказки как «устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения»63. Это неоправданная модернизация весьма архаичного явления культуры, которое, как и сказание, первоначально осуществляло чрезвычайно важную для своего времени консолидирующую коммуникативную цель единения коллективного адресата. «Вопрос о концепции адресата речи (как ощущает и представляет его себе говорящий или пишущий) – писал Бахтин – имеет громадное значение в истории литературы. Для каждой эпохи … для каждого литературного жанра в Пропп В.Я. Русская сказка. С. 29, 40. Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. C. 37. 62 Там же. C. 36. Попутно заметим, что утверждение М.Н. Липовецкого, будто «сказочный мир подвластен повествователю», как его «создателю» (Там же. C. 37), по отношению к фольклорному тексту является ошибочным. 63 Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители // О.И. Капица. Русская народная сказка. М.; Л., 1930. С. 7. 60 61 44 пределах эпохи и направления характерны свои особые концепции адресата литературного произведения, особое ощущение и понимание своего читателя, слушателя, публики, народа» (5, 204). Сказание, как и сказка, предполагало (и композиционно-тематически определялось этим предположением) адресата, занимающего позицию внутреннего приобщения к общенародной хвале или хуле, плачу или осмеянию. В частности, тематика этих жанровых образований характеризовалась общезначимостью для определенного (более или менее широкого) круга «своих». Принципиально изустные тексты данных жанров конституировали адресата, наделенного репродуктивной компетентностью, то есть способностью хранения и передачи коллективного знания (предания) аналогичному адресату. Такова была изначально общая для сказания и сказки «концепция адресата» как «конститутивный момент целого высказывания». Совокупность отмеченных особенностей древнейшей нарративной стратегии обнаруживает себя в основании национального героического эпоса и позднейшей эпопеи как литературного жанра, а также некоторых лирических жанров (гимн, ода). Что же касается литературной сказки (например, «Черная курица» А.А. Погорельского или «сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина), то при некоторых очевидных внешних сходствах с фольклорными образцами (прежде всего демонстративно игровая вымышленность мира персонажей или некоторой «изнаночной» части этого мира) здесь «сказочная жанровая семантика восстанавливалась далеко не полностью»64. Более того, это позднейшее явление художественного творчества, сформировавшееся в эпоху романтизма, реализует стадиально более позднюю жанровую стратегию – стратегию притчи. Притча. Из всякого нарративного высказывания можно извлечь некий урок. Однако среди протолитературных нарративов выделяется класс таких, для которых учительство, назидание являлось определяющей коммуникативной целью. Это притчевый дискурс. Притча – один из важнейших истоков литературной традиции. В новейшее время присущая ей нарративная стратегия далеко не утратила своего значения и даже, напротив, к ХХ веку заметно актуализировалась. Сошлемся хотя бы на М.М. Пришвина, записывающего в дневнике за 1952 год: «Говорили о восточном происхождении моей «мелкой» по внешности и глубокой по содержанию формы. Еще говорили о моей самобытности, а сам я думал о Розанове, о Шопенгауэре, о Льве Толстом, о народных притчах, об Евангелии и 64 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. C. 154. 45 что эту форму, ближе к правде, надо бы назвать притчами. И что это притча, и чем она отличается от басни и сказки. Об этом надо подумать»65. Притчевое начало в творчестве Пришвина (и не только его) действительно существенно. Однако обычно оно выступает конструктивным ядром иной, сугубо литературной жанровой формы. О такой притчевости можно сказать словами Бахтина: «Жанр, становящийся элементом другого жанра, в этом своем качестве уже не является жанром» (5,40). В иных случаях мы имеем дело с авторской литературной притчей, чья жанровая природа, как и литературной сказки, уже существенно видоизменилась. Изначально притча представляла собой словесную зарисовку, общепонятный наглядный пример событийного характера – нарративную иллюстрацию к устному изложению наставительной мудрости, носившему по преимуществу сакральный характер. Помимо назидательности столь же сущностной характеристикой данного речевого жанра является его иносказательность, что очевидным образом свидетельствует о стадиально более позднем происхождении притчи сравнительно со сказанием и сказкой. Здесь между повествуемым событием и «событием рассказывания» обнаруживается не количественная дистанция – временнáя (сказание) или пространственная (сказка), – но качественная, ментальная, побуждающая к более активному (интерпретирующему) восприятию; она не абсолютна, поскольку мысленно преодолима. В науке о литературе имеет место излишне расширительное использование термина «притча». В частности, Е.К. Ромодановская указывала на некорректность смешения притчи с некоторыми разновидностями сказания или анекдота66. Вненарративная структура текстов Физиолога (переводного памятника древнерусской литературы) также не позволяет причислять их к притчам67. То же самое следует сказать и о Книге притчей Соломоновых в составе Ветхого завета. Использование слова «притча» в каноническом переводе заглавия этой книги нельзя признать удачным. Составляющие ее высказывания, именуемые в начальной фразе «изречениями разума» [Притч. 1, 2], по своей дискурсивности являются медитативными: не рассказами о событиях, но размышлениями о долженствованиях. Они по праву должны быть отнесены к жанру афоризма. В них иногда обозначается некоторая гипотетическая ситуация («если будут склонять тебя грешники, не соглашайся» [Притч. 1, 10], и т.п.), но отсутствует Пришвин о Розанове // Контекст-1990. М., 1990. С. 210. Ромодановская Е.К. Русская литература на пороге нового времени. Новосибирск, 1994. С. 98-99. 67 Там же. С. 100-101. 65 66 46 изложение гипотетического события (случая). Между тем слово «притча», по свидетельству В. Даля, происходит от «притечь, приточиться» и «приток» в значении: случиться и случай. При отсутствии поучительного случая как предметно-тематического содержания события рассказывания (а не только поучения) дискурс не является притчевым. К тому же поучения Соломона лишены не только нарративности, но и иносказательности: наличие многочисленных сравнений, параллелей, антитез отнюдь не создает второго смыслового плана, оно лишь усиливает прямой смысл. Притча в строгом значении своего термина располагается между двумя пределами, намеченными Ю.И. Левиным как «малая» и «большая» притчи68 (в нашем понимании, слишком малая и слишком большая). С одной стороны, это афористическая сентенция – то ли извлеченная из редуцированного притчевого текста, то ли не нуждающаяся для своего подтверждения в нарративном компоненте. С другой стороны, это сюжетно и композиционно усложненный, развернуто детализированный и притом письменный притчевый текст, переросший в аполог, какова, например, древнерусская Повесть о царе Аггее69. Иносказательно-назидательное высказывание может быть признано притчей только в том случае, если оно обладает системой персонажей, сюжетом, повествовательной композицией. Однако эти структуры должны быть элементарными, чем обеспечивается предельная концентрированность и законченность текста. Расширение текста за счет умножения персонажей, усложнения их сюжетных функций и характеристик, развертывания композиционного и речевого строя ведет к перерастанию притчи в литературные жанры (прежде всего повести и басни) или в сакральное жизнеописание (житие). Классической притчей (едва ли не наиболее продуктивной в истории европейских литератур) следует признать притчу о блудном сыне, как и иные краткие нарративы из уст Иисуса Христа. Они записаны с сохранением основных параметров соответствующего (изустного) коммуникативного события. Такие притчи иллюстрируют некое универсальное положение вероучения сугубо частными, конкретными, произвольно привлекаемыми примерами. В Евангелии от Луки для подтверждения мысли о том, «что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» [Лк. 15, 7], Иисус рассказывает Левин Ю.И. Структура евангельской притчи // Ю.И. Левин. Избр. труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. 69 См.: Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII - XIX веков. Новосибирск, 1985. 68 47 три разные притчи: о заблудшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Внешнее несходство рассказанных событий снимается единством их иносказательного смысла – единством коммуникативного события учительства («Сказываю вам, что так на небесах…»). Рассказанное событие является условным, вымышленным (почти как в сказке), но одновременно претендующим на абсолютную достоверность (почти как в сказании). Притчевая достоверность достигается не ценностной дистанцией, устанавливаемой сказанием, а напротив – ее устранением: для лаконичной детализации рассказываемого привлекаются легко узнаваемые частности из повседневного опыта слушателей («кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них…» [Лк. 15, 4]). Когда отец блудного сына говорит слугам: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его» [Лк. 15, 22], – слушателям ближневосточного культурного ареала понятно, что отец назначает растратчика своим наследником70. Это как будто бы противоречит сложившейся семейной ситуации, но зато соответствует ближневосточному социально-бытовому укладу: обычаю минората (передачи наследства младшему из сыновей как наиболее жизнеспособному). Долитературная притча неотъемлемо принадлежит ситуации живого общения, тогда как в книге афоризмов царя Соломона такая ситуация лишь формально обозначатся обращениями к сыну в начальных фразах глав. Жанровая картина мира в притче – императивная картина мира, где персонажем в акте выбора осуществляется (или преступается) не предначертанность судьбы, а некий нравственный закон, собственно и составляющий морализаторскую «премудрость» притчевого назидания. Притча осваивает универсальные, архетипические ситуации общечеловеческой жизни, где герой оказывается перед лицом некоего нравственного императива. Жанровая форма героя притчи и представляет собой некий нрав: не индивидуальный характер, а тип жизненной позиции (что отчетливо демонстрируется, например, иисусовой притчей о сеятеле). Субъект нрава (безымянный «человек некий») оказывается в ситуации «выбора между альтернативами» (Ю.И. Левин), а не осуществления предначертанной ему судьбы. Альтернативное жизненное поведение двух сыновей в притче о блудном сыне – типичный конструктивный принцип данного жанра. Здесь действующие лица, по рассуждению С.С. Аверинцева, «не имеют не только внешних черт, но и ''характера'' в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного Ср.: Фараон «надевает на палец Иосифа перстень со своего пальца (овеществление магии власти)» (Аверинцев С.С. Иосиф Прекрасный // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т.1. С. 556). 70 48 наблюдения, но как субъекты этического выбора»71. Моральная ответственность выбора и ценностного отношения к этому выбору со стороны рассказчика и слушателей составляет семантическое ядро притчи, которое может быть сведено к сентенции, но при этом нарративная жанровая форма, со временем развившаяся в повесть, разрушается. Другой литературный жанр, произрастающий из притчевого «жанрового зародыша», – басня. Однако герои басни наделены жестко очерченными, условно-типовыми характерами (поэтому чаще всего выступают в эмблематических обликах животных). Их поведение также мылится в категориях этической, а порой и социально-политической оценки, но оно определяется не моральным выбором героя, а его характером как «объектом художественного наблюдения» (эстетического отношения). Притча же, пришедшая в книжность, но сохранившая свою жанровую природу, принадлежит к внехудожественной системе словесности, в рамках которой «христианский писатель средних веков хотел внушить своему христианскому читателю самое непосредственное ощущение личной сопричастности к мировому добру и личной совиновности в мировом зле … Такой ''сверхзадаче'' объективно-созерцательная ''психология характера'' явно не соответствует»72. Притчевый «человек некий» – фигура вымышленная, но одновременно и неотличимая от действительного человека, воспринимающего наставление на путь истинный. В ситуации рассказывания притчи авторский статус говорящего – это статус носителя и источника авторитетного убеждения (верования), организующего учительный, убеждающий (или переубеждающий) по своей коммуникативной цели дискурс. Именно иллюстрируемое убеждение, а не иллюстрирующий его случай составляет предметно-тематическое содержание притчевого высказывания. Тогда как в жанре анекдота, к которому мы обратимся ниже, случай самоценен. Речевая маска субъекта притчевого дискурса – регламентарная риторика императивного, монологизированного слова. «В слове, – писал Бахтин, – может ощущаться завершенная и строго отграниченная система смыслов; оно стремится к однозначности и прежде всего к ценностной однозначности … В нем звучит один голос … Оно живет в готовом, стабильно дифференцированном и оцененном мире»73. Слово сказания – еще не таково; слово анекдота – уже не таково. Слово же притчи – слово не подыскиваемое, а, Аверинцев С.С. Притча // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 305. Аверинцев С.С. Греческая литература и ближневосточная «словесность». С. 257. 73 Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 513. 71 72 49 по выражению Бахтина, «готовое»: авторитарное, назидательное, безапелляционное в своей монологической императивности. Притча разъединяет участников коммуникативного события на поучающего и поучаемого. Это разделение иерархично, оно не предполагает хоровой (ситуация сказания) или диалогической (ситуация анекдота) равнодостойности сознаний, встречающихся в дискурсе. Речевой акт притчевого типа есть монолог в чистом виде, целенаправленно устремленный от одного сознания к другому. Что касается ментальной и речевой деятельности персонажа, то она здесь присутствует, как правило, лишь в стилевых формах косвенной речи (хотя композиционно может оформляться и как прямая). Компетентность восприятия со стороны адресата притчи может быть определена как регулятивная. Отношение слушателя к содержанию не предполагается здесь ни столь свободным, как к содержанию анекдота, ни столь пассивным, как к содержанию сказания. Это позиция активного приятия. Не удовлетворяясь репродуктивной рецепцией, притча с ее иносказательностью требует истолкования, активизирующего позицию адресата, а также извлечения адресатом некоего ценностного урока – лично для себя. Если первое может быть проделано и рассказывающим притчу, то нормативное приложение запечатленного в притче универсального опыта к индивидуальной жизненной практике может быть осуществлено только самим слушающим. Принципиальная для притчи иносказательность является своего рода механизмом активизации воспринимающего сознания. Однако внутренняя активность адресата при этом остается регламентированной, притча не предполагает внутренне свободного, произвольного отношения к сообщаемому. Коммуникативная стратегия притчи оказалась весьма продуктивной в историко-литературном отношении. Отмеченные особенности притчевого дискурса обнаруживаются в основе житийного жанра средневековой книжности, а также ряда литературных жанров. Рассмотренный речевой жанр явился протолитературной почвой для становления повести, понимаемой как одно из канонических жанровых образований эпики. Он же сыграл существенную роль в формировании канонических жанров драматургии: трагедии и, в особенности, комедии74. Наиболее очевидным образом притча выявляется в основании басни – одного из канонических жанров лирического рода. Не случайно заглавиями многих комедий А.Н. Островского служили паремии (пословично-поговорочные сентенции), а своеобразным истоком русской литературной комедии служит «Комедия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. 74 50 Анекдот. Рассмотренная выше притча и анекдот в качестве кратких протолитературных нарративов имеют немало общего: лапидарность ситуации, компактность сюжета, лаконичная строгость композиции, неразвернутость характеристик и описаний, акцентированная роль немногочисленных и как бы укрупненных деталей, краткость и точность словесного выражения. Сходны они и по своему происхождению: оба суть «астероидные» жанровые образования, возникающие на устной периферии фундаментальных письменных контекстов культуры: для притчи – это контекст религиозного учения и соответствующей сакральной книжности; для анекдота – контекст политизированной монументальной историографии. В греко-римской античности официальные гипомнематические (справочные) биографии исторических деятелей обычно сопровождались прилагаемым перечнем анекдотов о них. В качестве показательного примера можно указать на многочисленные анекдоты об Александре Македонском, запечатлевшие зарождение «приватного образа жизни», реализующего «идеал нового индивидуализма»75. Одним из наиболее общеизвестных является рассказ о том, как Александр якобы подошел к лежащему на земле философу-кинику Диогену и спросил, не может ли что-нибудь сделать для него. «Отойди немного в сторону, не заслоняй мне солнце», – ответил Диоген. Удаляясь, Александр будто бы произнес, обращаясь к приближенным: «Если бы я не был Александром, я желал бы быть Диогеном». Впоследствии анекдот (как и другой астероидный жанр – притча), отделяясь от породившего его контекста, используется в иных коммуникативных ситуациях, «подключается к текстам, относящимся к (различным – В.Т.) областям и разговорного, и письменного творчества»76. Однако это отнюдь не вынуждает, как делает Е. Курганов, видеть в анекдоте «своего рода поджанр», который «не обладает собственным жанровым пространством, не может функционировать сам по себе, не может существовать просто как анекдот»77. Вполне естественной является ситуация, когда короткий, ни к чему не обязывающий разговор двух вполне знакомых между собой людей сводится к рассказыванию нового анекдота. Наиболее известными собирателями анекдотов в истории этого жанра явились придворный византийский историк Прокопий Кессарийский (VI в.) и деятель итальянского Возрождения Поджо Браччолини (XV в.). Первый параллельно с работой над фундаментальным трудом «История войн Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 163. Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб., 1997. С. 25 77 Там же. 75 76 51 Юстиниана» тайно вел «скандальную хронику константинопольского двора, вобравшую в себя злейшие антиправительственные анекдоты и слухи, шепотом передававшиеся из уст в уста подданными Юстиниана»78, чей образ резко раздваивался на «лицевой» и «изнаночный»: «в официальных трактатах – мудрый отец своих подданных, великий строитель христианской державы, а в «Тайной истории» – садист, демон во плоти, окруживший себя негодяями и взявший в жены развратнейшую из женщин»79. Эта изнанка официальной историографии и была названа «Anecdota», что означает: не подлежащее публикации. Почти тысячелетие спустя Браччолини, будучи секретарем папской курии, негласно записывал курьезные, нередко тайком подслушанные им рассказы посетителей. Многие из его записок, собранных в «Книгу фацеций», содержали комические сведения о частной жизни известных людей своего времени. Однако литературно обработанные фацеции (facetia – шутка, острота) испытали заметное влияние существовавшей в Италии к тому времени уже около ста лет новеллистики и стали образцом для городского анекдота в современном его понимании. В России в 1764 г. Петром Семеновым под названием «Товарищ разумный и замысловатый» было опубликовано «собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешнего веков». Этот подзаголовок вполне отвечал первоначальному значению термина анекдот, которое было определено в «Словаре английского языка» С. Джонсона (1775) как пока еще не опубликованная сокровенная история из частной жизни официального лица80. Аналогичным образом данный жанр устного общения понимался Пушкиным, коллекционировавшим курьезные истории из жизни своих известных современников в «Table-talk» и писавшим в «Евгении Онегине»: «Но дней минувших анекдоты / От Ромула до наших дней / Хранил он в памяти своей». К 30-м годам XIX столетия анекдот в русской словесности занимает строго определенное положение риторического (внехудожественного) жанра. По определению Н. Кошанского, это «беспристрастное» повествование, которое «говорит о том, что было». «Содержанием анекдота бывают умные слова или необыкновенный поступок. Цель его: объяснить характер, показать Аверинцев С.С. Византийская литература // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 2. М., 1984. С.345. 79 Там же. 80 См.: Cuddon J.A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. L., 1999. P. 39. 78 52 черту какой-нибудь добродетели (иногда порока), сообщить любопытный случай»81. Современное расхожее понимание анекдота как шутки, насмешки, вымышленной комической сценки с участием не только исторически конкретных, но и условных, «неких», как в притче, персонажей (представителей различных национальностей, например) для задач нашего рассмотрения не вполне корректно. Эти явления современного городского фольклора возникают и бытуют под весьма значительным обратным влиянием со стороны комической литературы. Нас же здесь занимает природа исследуемого жанра в его стадиально более архаичном, долитературном состоянии, сыгравшем особую и существенную роль в генезисе литературных жанров. Неразличение анекдотического нарратива в его долитературном и «постлитературном» качествах приводит Е. Курганова к ошибочному «уяснению генезиса анекдота». «Жанровая кристаллизация анекдота, – по мнению автора первой на русском языке специальной монографии об этом явлении культуры, – происходила в процессе медленного, постепенного отпочковывания от целого комплекса жанров, принципиальные различия между которыми не всегда достаточно четко ощущались. Можно даже сказать, что анекдот первоначально возник и существовал в особом жанровом поле, среди составных компонентов которого явственно различимы басня, аполог, притча, эпиграмма»; «что анекдот впитал … линию басни, что он ее боковой отросток»82. Об анекдотах Прокопия Кесарийского этого сказать нельзя: как показывает С.С. Аверинцев, не было в византийской словесности первых веков христианской эры такого «жанрового поля». Что же касается эпиграммы, то, будучи действительно ведущим лирическим жанром эпохи Юстиниана, она носила тогда изысканно стилизаторский характер, и существенно отличалась от анекдотических эпиграмм нововременной европейской поэзии, в частности, пушкинского времени. В качестве рядовых жанровых образчиков анекдота в первоначальном его понимании приведем две разнохарактерные, но единые в жанровом отношении записи из «Table-talk» Пушкина: На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда он был в таком состоянии, накопилось множество бумаг, требовавших немедленного его разрешения; но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник по имени Петушков, подслушав толки, вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему 81 82 Кошанский Н. Частная реторика. СПб., 1932. С. 59, 65. Курганов Е. Анекдот как жанр. С. 39, 42. 53 поручили их с охотою и с нетерпением ожидали6 что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесаный и грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чtм дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другою. Петушков поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом: «Подписал!..» Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! нечего сказать». Но кто-то всматривается в подпись – и что же? на всех бумагах вместо: князь Потемкин – подписано: Петушков, Петушков, Петушков… * * * Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат», – отвечал Рылеев; «Так что же, сказал Дельвиг, разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?» Такой анекдот представлял собой «рассказ, передающий интимную страницу биографии исторического лица, яркий эпизод, острое изречение и т. п.»83. Он мог вызывать не только насмешку, но и восхищение или удивление; мог быть домыслом, сплетней, ложным слухом, однако он всегда касался фактической человеческой индивидуальности – если и не исторического (знатного, выдающегося, широко известного), то все же эмпирически конкретного лица. В этом значении слово «анекдот» употребляется Пушкиным в «Повестях Белкина» (примечание издателя гласит: «Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает») и в «Пиковой даме» («И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот»). Искусство слова в ходе своего развития овладело возможностями создания образов исключительной индивидуальной яркости. Однако это было достигнуто в полной мере лишь в эпоху классического романа. На ранних этапах литературной эволюции герой далеко еще не индивидуален, первоначально весьма схематичен, подобен в данном отношении персонажам сказки или притчи. Именно через анекдот человеческая индивидуальность приходит в сферу речевой культуры, смежную с литературой, а позднее – и в литературу. Но это пока еще не сотворенная, а заемная индивидуальность: непосредственно взятая из жизни. Для полноценного бытования анекдота необходимо, чтобы рассказчик и слушатели казусного повествования хорошо знали или во всяком случае ясно себе представляли героя в его живой характерности. Петровский М. Анекдот // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: В 2 томах. Т. 1. М.; Л., 1925. Стлб. 52. 83 54 По этой причине хранимые памятью Онегина «дней минувших анекдоты» по сути дела мертвы, как коллекционные бабочки, поскольку в их восприятии утрачена «зона фамильярного контакта» с текущей действительностью «наших дней» в ее незавершенности. (Здесь нами перефразирована бахтинская характеристика романного образа, исторические корни которого обнаруживаются, в частности, в анекдотическим пласте культуры). Природа обсуждаемого жанра такова, что его полноценная жизнь как культурного явления возможна «только в составе той ситуации, в которой он прозвучал»84. Классический анекдот с его вниманием к уникальным, часто курьезным проявлениям индивидуального, а не типового человеческого характера – явление стадиально более позднее, нежели притча. Однако и оно – весьма древнего происхождения. Греко-римская античность сохранила немалое количество забавных случаев из жизни знаменитых философов, полководцев, ораторов, поэтов. В греческой риторике искусное (устное) изложение такого случая именовалось «хрия» (от chrao – возвещаю). Мастерство увлекательного рассказа до сих пор составляет один из конструктивных признаков этого жанра: неудачно рассказанный анекдот не достигает своего эффекта и, по сути дела, так и не становится собственно анекдотом как коммуникативным событием особого рода. Тогда как неумелое изложение сказания, сказки или притчи портит, но не губит данные высказывания в их жанровом своеобразии. Более того, мастерство рассказчика в жизни анекдота важнее достоверности. Ради эффектности он имеет «жанровое право» на искажения и преувеличения. Но при этом содержание классического анекдота (в отличие от современной устной «фацеции») претендует на достоверность. «Анекдот может быть невероятен, странен, необычен, но претензия на достоверность в нем совершенно незыблема … каким бы фантастичным он ни казался»85. Однако такова лишь установка рассказчика. Адекватная реакция слушателя – удивление, то есть сомнение в истинности рассказанного, неполное приятие, компенсируемое увлекательностью достигаемого эффекта. Анекдотический эффект не обязательно комический. Превалирующий в этом жанре комизм (недопустимый в сказании и притче, возможный в сказках, но только определенной разновидности) является следствием основного эффекта – эффекта парадоксальности, который Е. Курганов удачно характеризует как «обнажение, раздевание реальности, снятие оков этикета»86. Жанровая ситуация рассказывания анекдота не требует от субъекта речи подлинного знания; статус анекдотического предметно-смыслового Курганов Е. Анекдот как жанр. С. 8. Там же. С. 10. 86 Там же. С. 25. 84 85 55 содержания – субъективное, но заслуживающее внимания мнение (что особенно очевидно в анекдотах о политических деятелях). Это жанровый статус, присущий не только вымышленным анекдотическим историям (посрамляющим или апологетическим), но и невымышленным. Даже будучи порой фактически точными, они бытуют как слухи или сплетни, то есть принадлежат самой ситуации рассказывания, а не ценностно дистанцированной, как в сказании, повествуемой ситуации. Анекдот – первый в истории словесности речевой жанр, делающий частное мнение, оригинальный взгляд, курьезное слово достоянием культуры. Анекдотические истории ценны не истинностью своего свидетельства и не глубиной мысли, а именно своей ненавязчивой неофициальностью, альтернативностью доксе (общему мнению), что и побуждает на определенной стадии развития культуры их фиксировать, собирать, публиковать не подлежащее публикации. Этот жанровый импульс сыграет существенную роль в становлении литературы нового времени. Анекдотическим повествованием, где сообщается не обязательно нечто смешное, но обязательно – курьезное (любопытное, занимательное, неожиданное, маловероятное, беспрецедентное) творится окказиональная (случайностная) картина мира, которая своей «карнавальной» изнаночностью и казусной непредвиденностью отвергает, извращает, профанирует этикетную заданность человеческих отношений. Этическую или политическую императивность анекдот отменяет своим релятивизмом. Он не признает миропорядка как такового, жизнь глазами анекдота – это игра случая, непредсказуемое стечение обстоятельств, взаимодействие индивидуальных инициатив. Поскольку анекдот осваивает уникальные, исторически периферийные ситуации частной жизни, мир здесь представляет собой игровую арену столкновения субъективных воль, где герой – субъект самоопределения в непредсказуемой игре случайностей. Жанровой формой героя в анекдоте выступает индивидуальный характер как некий казус бытия. Анекдотическое событие состоит в самообнаружении этого характера, что является результатом инициативно-авантюрного поведения в окказионально-авантюрном мире – поведения остроумно находчивого или, напротив, дискредитирующе глупого, или попросту чудаковатого, дурацкого, нередко кощунственного. В анекдоте уже присутствуют те моменты, которые Бахтин связывал с начальной формой новеллы как литературного жанра: «посрамление, словесное кощунство и непристойность. «Необыкновенное» в новелле есть нарушение запрета, есть профанация священного. Новелла – ночной жанр, посрамляющий умершее солнце» (7, 41). 56 Существенная зависимость успешности анекдота не столько от содержания, сколько от мастерства рассказчика проявляется в решающей композиционной роли его пуанта (внезапного преображения ситуации вследствие смены точки зрения). Именно пуант должен быть рассказчиком композиционно, интонационно и лексически искусно подготовлен и эффектно реализован. Слово анекдота – слово инициативное, курьезное своей беспрецедентностью, всегда готовое включиться в игру значениями или созвучиями. Жанровый предел, до которого анекдот легко может быть редуцирован (как притча может быть сведена к сентенции), – это комическая апофегма, то есть хранимая в памяти культуры острота (или острота наизнанку: глупость, неуместность, ошибка, оговорка), где слово деритуализовано, личностно окрашено. Жанровая речевая маска анекдота – риторика окказиональноситуативного, диалогизированного слова прямой речи. Именно диалог персонажей (организованный однако нарративно-эпически, а не драматургически) здесь обычно является сюжетообразующим. При этом и сам текст анекдота (выбор лексики, например) в значительной степени зависим от актуальной диалогической ситуации рассказывания, которое непосредственным образом ориентировано на предполагаемую и организуемую рассказчиком ответную реакцию. Предварительное знакомство слушателей с содержанием анекдота непремлемо ни для рассказчика, ни для аудитории: оно разрушает коммуникативную ситуацию этого жанра. Поэтому анекдот невозможно рассказать себе самому, тогда как притчу – в принципе – можно, припоминая и примеряя ее содержание к собственной ситуации жизненного выбора. Анекдот как речевой акт предполагает общность кругозора рассказчика и слушателей, взаимную доверительность общения и акратическую (безвластную) равнодостойность взаимодействующих сознаний. Поэтому наличие между субъектом коммуникации и ее адресатом властных отношений (начальник рассказывает анекдот подчиненному) само становится ситуацией анекдотической. Необходимая рецептивная характеристика слушателя анекдота – особого рода нерегламентарная компетентность, предполагающая наличие так называемого чувства юмора, умения отрешиться от «нудительной серьезности» (Бахтин) существования. Постулируемая анекдотом взаимная альтернативность индивидуальных сознаний предполагает со стороны адресата наличие собственного мнения, а также инициативно-игровую позицию сотворчества. Анекдот должен не у-влекать слушателей, преодолевая и подавляя их 57 внутреннюю обособленность, но раз-влекать их, предлагая адресату внутренне свободное отношение к сообщаемому. Приобщаясь к демонстрируемому анекдотом изнаночному аспекту действительности, слушатель перемещается на новую ценностно-смысловую позицию: он преодолевает рамки привычного, стандартного ориентирования в мире и обретает внутреннюю свободу. В этом заключается столь частый для данного речевого жанра смеховой катарсис, жанрообразующая роль которого максимально приближает анекдот к литературно-художественным жанрам. В русской литературе XIX столетия анекдот на некоторое время (приблизительно 1830-1860-х гг.) действительно приобретает статус полноценного литературного жанра, классиком которого можно признать И.Ф. Горбунова, чьи курьезные «Сцены» («из народного быта», «из купеческого быта», «из городской жизни»), а также отчасти «Монологи» и «Подражания старинной письменности» оказались существенным предварением раннего творчества А.П. Чехова. Знаменательно заглавие одного из первых опубликованных сочинений Горбунова: «Просто – случай» (1855). Отказавшись от изначальной лаконичности анекдота, но сохраняя его жанровую стратегию, в особенности, поэтику окказионально-диалогического слова, Горбунов создает занимательные тексты очерковой достоверности, близкие в одних случаях к жанру комической пьесы, в других – к жанру рассказа. Но комические ситуации и реплики в этих сценках характеризуются самодовлеющей значимостью, не претендуя на иносказательность. Впоследствии анекдот такого рода вытесняется из литературы водевилем и рассказом (в строгом значении данного термина), возвращаясь к исконному своему лаконизму и становясь ведущим жанром городского фольклора. Историческая роль анекдота в становлении литературной жанровой системы заключается, прежде всего, в том, что в любой ситуации он усматривает возможность «совершенно иной конкретной ценностносмысловой картины мира, с совершенно иными границами между вещами и ценностями, иными соседствами. Именно это ощущение составляет необходимый фон романного видения мира, романного образа и романного слова. Эта возможность иного включает в себя и возможность иного языка, и возможность иной интонации и оценки, и иных пространственно-временных масштабов и соотношений» (5,134-135, курсив наш – В.Т.). Такая возможность, принципиально недопустимая в сказании или притче, была впервые освоена в анекдоте, подготовившем почву для жизнеописания, вырастающего из цикла анекдотов об одном персонаже, для литературного жанра новеллы, а через названных посредников – и для романа. Жизнеописание. Биография – в отличие от рассмотренных выше устных жанров – жанр письменной, но внехудожественной словесности. «Своим 58 возникновением, – по свидетельству С.С. Аверинцева, – она всецело обязана (как и ее пластический коррелят – греческий скульптурный портрет) кризису полисного образа жизни … развязавшему индивидуалистические тенденции духовной жизни»87. Это жанр, отколовшийся от «монументальной историографии геродотовско-фукидидовского типа»88. Поэтому первоначально биография расценивалась как «жанр легковесный и недостаточно почтенный»89, что в немалой степени объясняется его происхождением из анекдота. В античности биографический интерес к индивидуальности человека реализовался в нескольких жанровых формах. Далее речь пойдет не о биографии вообще, но об особом нарративном протолитературном жанре жизнеописания как одном из важнейших предтеч романного жанра. У О.Э. Мандельштама были веские основания определять романное творчество как «искусство заинтересовывать судьбой отдельных лиц» (как частных индивидуальностей, а не как народных героев или характерных примеров) и утверждать: «мера романа – человеческая биография. Человеческая жизнь еще не есть биография и не дает позвоночника роману»; «человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа»90. Жанровый генезис жизнеописания в специальном, протороманном значении термина имел место в творчестве Плутарха – автора «Параллельных жизнеописаний», возникающих на рубеже I-II вв. н. э.; отчасти у Тацита в «Агриколе». Многочисленные тексты их предшественников до нас не дошли, но есть основания предполагать, что, как и сохранившиеся доплутарховские античные биографии, они были иной жанровой природы, нежели жизнеописания Плутарха. Это были, с одной стороны, анарративные биографические справки (данный жанр бытует и в современной словесности); с другой – весьма специальные риторические жанры: энкомий (восхваление) и псогос (поношение). В этих последних нарративный момент существенно деформировался перформативным (непосредственным речевым действием по отношению к адресату), поскольку осуществлялся «отбор материала, исключавший не только эмоционально диссонирующие, но и эмоционально нейтральные сведения»91. Названные «два полюса античного биографизма» – энкомий и псогос – «оказываются не столь уж далекими друг от друга»92, имеющими тенденцию к Аверинцнв С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 161. Там же. С. 188. 89 Там же. С. 160. 90 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 72-75. 91 Аверинцнв С.С. Плутарх и античная биография. С. 121. 92 Там же. С. 168-169. 87 88 59 взаимодополнительности, которая и была реализована Плутархом, придавшим жизнеописанию инновационный строй «моралистико-психологического этюда»93. Среди наиболее известных продолжателей данной жанровой традиции можно назвать Дж. Бокаччо («Жизнь Данте Алигьери»), Дж. Вазари, Вольтера («История Карла XII»), С. Цвейга, А. Моруа, Г. Манна, А. Труайя и мн. др. В русской словесности можно назвать древнерусскую повесть о Юлиании Лазаревской, «Фон-Визин» П.А. Вяземского, «Освобождение Толстого» И.А. Бунина, «Пушкин» Ю.Н. Тынянова, книги из серии «Жизнь замечательных людей». Следует, однако, не упускать из виду, что подобно позднему анекдоту, испытывающему заметное литературное влияние, и биографический жанр словесности в XIX-XX вв. существенно обогащается романным творческим опытом. Нас же будет занимать лишь его раннее состояние, предшествующее этому художественному опыту. Поношение представляется наиболее древним жанровым истоком жизнеописания, непосредственно вырастающим из анекдота. Так, обличительно-гротескная биография Перикла, составленная Стесимбротом Фасоским, выставляла вождя афинской демократии «героем пикантных анекдотов и тайным злодеем», свидетельствуя «о силе жанровой инерции античного биографизма, выросшего прежде всего на ''сплетне''»94. С другой строны, в энкомие очевидным образом проглядывало притчевое начало поучительного восхваления чьей-то жизни как образца для подражания. Наконец, биографическая справка характеризовала своего персонажа просто как актанта, исполнителя отведенной ему свыше роли в исторической ситуации. Герой жизнеописания может и быть, и не быть субъектом ролевого действия (актантом), как в сказании, или субъектом этического выбора, как в притче, или субъектом инициативного самообнаружения, как в анекдоте. Все эти характеристики для него возможны. Предваряя жизнеописание Демосфена и Цицерона, Плутарх заявляет, что будет исследовать их «поступки» (компетенция сказания), их «нравы» (компетенция притчи) и «врожденные свойства» (компетенция анекдота). Но все эти характеристики в то же время и факультативны. В основе своей жанровый герой жизнеописания является носителем и реализатором самобытного смысла развертывающейся индивидуальной жизни, то есть субъектом самоопределения. Этот жанровый статус героя в «Параллельных жизнеописаниях» только еще складывался. Так, биографии Александра и Цезаря содержали в себе 93 94 Там же. С. 126. Там же. С. 170. 60 традиционно «величественные образы властителей, за которыми стоит судьба … Но им симметрично противопоставлены, как яркое напоминание об опасных возможностях единовластия, фигуры Деметрия и Антония»95. О последнем, в частности, Плутарх говорит как о единоличном творце собственной жизни: «Этот человек сделал себя столь великим, что другие считали его достойным лучшей участи, чем та которой пожелал он сам». В предисловиях к своим диадам биографий Плутах обосновывал каждую параллель трояко: либо сходством этоса двух героев, либо сходством их исторической роли, либо сходством выпавших на их долю жизненных ситуаций (то есть игрой случая). Все три момента восходят к нарративным стратегиям, соответственно, притчи, сказания и анекдота. Но в заключающем каждую пару биографий синкрисисе Плутарх выявляет черты различий между персонажами, что на деле оказывается набросками их личностного облика. Человек как субъект самоопределения – это личность; она не сводится ни к ролевому предопределению со стороны судьбы, ни к случайному жребию, и не к типовому этосу. Личность как объект нарративного интереса определяется индивидуальным опытом частного, приватного существования человеческого «я» в мире. Жизнь личности при этом (в противоположность характеру, типу, актанту) не может обладать собственным смыслом ни в мире фатальной необходимости, ни в мире императивной нормы, ни в окказиональном и релятивном мире случайности. Полноценная биография возможна только в вероятностном мире всеобщей межличностной соотносительности («я» и «другой»). Зачатки именно такой картины мира начинают просматриваться в плутарховом цикле парных жизнеописаний, чтобы раскрыться вполне в классическом романе реалистической эпохи, где «образ становящегося человека» с его уникальным жизненным опытом выводится в «просторную сферу исторического бытия»96. Ни анекдот, ни притча не знают исторического бытия в его событийной динамике и процессуальной последовательности (мир притчи статичен, анекдота – хаотичен). Вероятностная же картина мира по природе своей предполагает становление и развитие, поскольку каждый момент жизни здесь содержит в себе, как листья в почке, большую или меньшую вероятность одного из последующих ее моментов. Та или иная из имеющихся перспектив дальнейшего бытия реализуется поступками личностей, осуществляющих свои жизненные проекты или отступающих от них. Жизнеописание личности 95 96 Там же. С. 187. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 203. 61 представляет «мир как опыт»97 становления и развития самоопределяющегося субъекта жизни. Одной биографической фабулы для манифестации вероятностной картины мира с полноценной личностью в качестве героя недостаточно. По справедливому замечанию Мандельштама, «жития святых, при всей разработанности фабулы, не были романами, потому что в них отсутствовал светский интерес к судьбе персонажей, а иллюстрировалась общая идея»98. Средневековый житийный жанр, продолжая традицию энкомия, в развернутой форме реализовал жанровую стратегию притчи, что решительно не позволяет рассматривать его как протороманное жизнеописание. Творчество же античного автора, испытывавшего глубокую историческую ностальгию по полисному укладу жизни с его преимущественно устной культурой общения и отвергавшего риторический профессионализм в качестве креативной позиции, породило иннновационную коммуникативную стратегию, которая получила адекватный отклик в культурной среде и оформилась в новый жанр (сохранивший прежнее название). «Плутарх своей иной, более открытой интонацией разговора с читателем о герое биографии уже как бы ставит себя в необходимость не только излагать, но также и объяснять»99, что ведет к зарождению, словами Мандельштама, «искусства психологической мотивировки». Объяснение отсутствовало как в гипомнематических «биосах» справочного характера, составлявшихся в модальности репродуктивного знания, так и в энкомиях или псогосах, выдерживавшихся в модальности убеждения. Риторическая модальность собственно жизнеописания в качестве нового, самостоятельного жанра – понимание излагаемой жизни как исполненной некоторого индивидуального смысла. Плутарха отличало «живое, непредубежденное любопытство к реальному человеческому существованию», вследствие которого «он от позиции учителя жизни постоянно переходит к позиции изобразителя жизни, повествователя о ней»100. Установка не на раскрытие общественно-идеологического значения чьей-то биографии (зафиксированного знанием или навязываемого убеждением), но на вникание в ее собственный смысл, изложение авторского понимания этого смысла, закономерно приводит к «интонации доверительной и раскованной беседы автора с читателем», к «иллюзии живого голоса, зримого жеста и как бы Там же. Мандельштам О.Э. Слово и культура. С. 72. 99 Аверинцнв С.С. Плутарх и античная биография. С. 135 (курсив автора – В.Т.). 100 Аверинцнв С.С. Плутарх и античная биография. С. 76. 97 98 62 непосредственного присутствия рассказчика»101. Характерно обращение Плутарха к своим читателям как «слушателям». Однако диалогизм биографического слова не сводится к этим моментам, родственным анекдотическому дискурсу. Речевая маска биографа призвана быть диалогизированной, в первую очередь, по отношению к самому герою жизнеописания (чего анекдот не знает), к его ценностно-смысловой позиции в мире. Это требует поэтики двуголосого слова, манифестирующего двоякий жизненный опыт (запечатлеваемый и запечатлевающий). Основу такой поэтики, которая разовьется и утвердится в классическом романе, составляет преломляющая несобственно-прямая речь, включая «разные формы скрытой, полускрытой, рассеянной чужой речи и т.п.» (5, 331). В отличие от пропагандистских биографий политических деятелей (нарративная стратегия сказания), а также от агиографии (нарративная стратегия притчи) собственно биографический дискурс, реализующий стратегию жизнеописания, вовлекает адресата в особое отношение к своему герою, определяемое отсутствием ценностной дистанции между ними. Здесь невозможно притчевое нормативное самоотождествление с «человеком неким», ибо предметно-тематическое содержание жизнеописания вполне самобытно. Но и характерное для восприятия сказания или анекдота ценностное самоотмежевание адресата от героя окажется неадекватным: субъект, объект и адресат протороманного коммуникативного события суть равнодостойные субъекты смыслополагания, между которыми устанавливаются отношения ценностно-смысловой солидарности. Жизнеописание несет в себе рецептивную интенцию «доверия к чужому слову» (5, 332), чего не требует анекдот, но без «благоговейного приятия» и «ученичества» (там же), как того требует «авторитетное слово» (там же) сказания или притчи. «Типической ситуацией речевого общения» (5, 191) для собственно биографического нарратива является ситуация некоторого рода солидарности носителей различного жизненного опыта, их «свободного согласия», за которым обнаруживается «преодолеваемая даль и сближение (но не слияние)» (5, 364). Иными словами, конципированный адресат биографического, а позднее романного дискурса призван обладать проективной компетентностью остраненного узнавания: себя – в другом и другого – в себе. Ему надлежит не послушно следовать преподанному уроку мудрости (адресат притчи) и не отстраненно наблюдать героя с пиететной (сказание) или фамильярной (анекдот) дистанции, но уметь проецировать чужой экзистенциальный опыт присутствия в мире – на свой опыт жизни, а также вероятностно проектировать 101 Там же. С. 259. 63 свою жизненную позицию, опираясь на индивидуальный опыт чужой жизненной позиции. (См.: Теория литературных жанров. Учебное пособие для вузов / М.Н. Дарвин, Д.М. Магомедова, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа; под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: «Академия, 2011. С. 28-42). Рассказ В специальном, терминологически строгом словоупотреблении «рассказ» означает не любую малую эпическую форму, но вполне определенную в жанровом отношении. Вопреки расхожему представлению, от повести рассказ отличается не объемом, а своей «романизированной», неканонической поэтикой, определяемой не внешней, устоявшейся нормой организации текста, а внутренней мерой художественного целого, принадлежащего к данному жанру. Это жанр относительно позднего происхождения102, возникший в результате радикальной перестройки всей жанровой системы литературы, осуществленной романом. От романа как явления принципиально письменной культуры рассказ отличается не только объемом, но прежде всего имитацией изустного (непосредственного) общения, чем первоначально и было мотивировано его жанровое обозначение. Перепечатывая свой «анекдот» 1826 года «Странный поединок» в 1830 году как «рассказ», О. Сомов вводит в прежний текст фигуру рассказчика и ситуацию рассказывания. Изустность такого рассказа – в отличие от анекдота – является литературной условностью этого жанра, «особой тональностью 103 повествования» , которая сближает его с каноническим жанром новеллы в период ее становления. Данная условность проявляется не столько в сказовой речевой манере изложения, сколько в особой коммуникативной стратегии, роднящей рассказ с рассмотренными выше долитературными нарративами – притчей и анекдотом, объединяемыми при всей их жанровой противоположности принципиальной устностью своего происхождения и бытования. Термин «рассказ» появляется в рецензии К. Полевого «Черная немочь, повесть М. Погодина» (Московский телеграф, 1829, ч. 28, № 15), впервые выстроившего расхожую парадигму количественных жанровых различий литературной прозы (роман – повесть – рассказ), впоследствии закрепившуюся благодаря статье В.Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года». 103 Локс К. Рассказ // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т. Т.1. М.; Л., 1925; 102 64 Стратегия литературного рассказа как речевого жанра характеризуется, с одной стороны, концентрацией внимания преимущественно на «одном лице»104, с другой – поистине романной тематической широтой, восходящей к традициям жизнеописания и позволяющей сделать предметом художественного внимания практически любую сторону индивидуальной человеческой жизни. В том числе и причастность отдельной личности к широкомасштабным общественно-историческим событиям, как это представлено, например, в цикле рассказов И. Бабеля «Конармия». Жанру рассказа – вследствие его моноцентричности и одновременно потенциальной широты «фона» – вообще присуще внутреннее тяготение к циклизации («Записки юного врача» М. Булгакова, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сельские жители» В. Шукшина и мн. др.) При всех романных особенностях тематики рассказ сохраняет свойственную сказке, притче, анекдоту установку на адресата-слушателя, а не читателя. Конечно, как и всякое произведение нововременной жанровой системы, рассказ обладает письменным текстом и может быть прочитан не менее внимательно, чем роман. И все же жанровая стратегия изустности формирует «интенсивный тип организации художественного времени и пространства, предполагающий <…> центростремительную концентрированность сюжетно-композиционного единства»105. Центростремительностью системы персонажей и композиционного строя текста (а не крайне неопределенной мерой количества событий или слов) и определяется относительная краткость рассказа. Имитация устной речи – распространенный, но факультативный признак данного жанра. Однако присущая рассказу стратегия квазиустного, «неолитературенного», менее дистанцированного общения с читателем требует преимущественно разговорной или, по крайней мере, нейтральной лексики и синтаксиса, допуская стилистику письменной речи различных типов только в качестве цитируемого чужого слова. Но важнейшей, поистине жанрообразующей особенностью рассказа является взаимодополнительность диаметрально противоположных интенций Ср. авторскую рефлексию А,П, Чехова: «Делая рассказ, хлопочешь прежде всего о рамках: из массы героев и полугероев берешь только одно лицо … кладешь это лицо на фон и рисуешь только его, его и подчеркиваешь, а остальных разбрасываешь по фону, как мелкую монету, и получается нечто вроде небесного свода: одна большая луна и вокруг нее масса очень маленьких звезд» (письмо А.С. Суворину от 27.10.1888). 105 Cкобелев В.П. Поэтика рассказа. Воронеж, 1982. С. 59. Процитированное определение автор справедливо распространяет на рассказ и новеллу, однако принимаемое им отождествление этих жанров, как уже говорилось и будет показано далее, совершенно неубедительно. 104 65 жанрового мышления – притчевой и анекдотической, – составляющая ту внутреннюю меру жанра, которая сближает рассказ с романом и радикально отмежевывает его от канонических новеллы и повести (генетически восходящих, соответственно, к анекдоту и притче). Это взаимодополнительность, во-первых, жанровых картин мира: императивной (притчевой) и релятивно-случайностной (анекдотической); во-вторых, жанровых статусов героя: субъекта этически значимого выбора «типовой» жизненной позиции и субъекта индивидуального самоопределения («выбора себя»); в-третьих, жанровых стилистик: авторитетного слова притчи, наделенного глубиной иносказательности, и окказионального, внутренне диалогизированного, «двуголосого» анекдотического слова; наконец, взаимодополнительность коммуникативных ситуаций: монологического (иерархического) согласия между поучающим и внимающим и диалогического согласия равнодостойных участников общения. Вследствие взаимодополнительности такого рода между автором и читателем складывается коммуникативное отношение, предполагающее «открытую ситуацию читательского выбора между «анекдотическим» истолкованием всего рассказанного как странного, парадоксального случая и притчевым его восприятием как примера временного отступления от всеобщего закона»106. В русской литературе жанр рассказа возникает на рубеже 1820-30 гг. Решающую роль в этом отношении сыграли «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.» (1830), обычно трактуемые одними – как повести, другими – как новеллы. Тексты, приписанные Белкину, в принципе являются повестями с ясно различимой притчевой стратегией, ключом к которой служат лубочные картинки из «Станционного смотрителя». В то же время, однако, это записи устных рассказов анекдотического свойства (вроде тех, которыми обменялись примирившиеся Берестов и Муромский), что побуждало расматривать их в качестве новелл. Деканонизирующая интеграция диаметрально противоположных жанровых канонов осуществляется подлинным автором – конструктором цикла, в рамках которого повести получают «двоякое эстетическое завершение: Белкин пытается придать пересказанным анекдотам назидательность, однозначную серьезность …, а подлинный автор стирает «указующий перст» своего «предшественника» лукавым юмором. Так беспрецедентно оригинальная повествовательная форма воплощает 107 художественную концепцию цикла» . 106 107 Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. М., 2007. С. 40. Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина». М., 1989. С.42-43. 66 «Повести Белкина» – цикл не суммативный, а интегративный, представляющий собой такое художественное целое, которое ослабляет самостоятельность своих частей, превращая их в своего рода главы. Это еще не рассказы в полном значении термина, но уже некие «проторассказы», сцепленные в интегративное целое романного типа108. Как уже неоднократно замечалось исследователями, композиционная структура белкинской книги весьма сходна с композиционной структурой «Героя нашего времени». Грань между «уже» романом и «еще» циклом полуповестей-полуновелл оказывается не принципиальной. Знаменательно и то, что «Повести Белкина» создаются практически одновременно c завершением первого русского классического романа (почти совпадая своими финальными сценами диаметрально противоположной значимости для Онегина и Берестова). Внутренней мерой «беспрецедентно оригинальной повествовательной формы», сотворенной Пушкиным, оказалось взаимоналожение анекдота и притчи, чьи жанровые стратегии создают уникальный контрапункт, пронизывающий поэтику данного цикла в полном его составе. Не последнюю роль в этой согласованности противоположного сыграли система персонажей и сюжет Притчи о блудном сыне, оценивающей анекдотическую инициативность нестандартного поведения выше, нежели догматическую ортодоксальность. Перед нами поистине двуголосый в жанровом отношении текст, предполагающий возможность одновременного его прочтения как на языке повести, так и на языке новеллы. Для реализации такой возможности необходимо, чтобы взаимодополнительные жанровые интенции при всей своей противоположности имели некоторую жанровую общность. Общими для поэтики обоих рассмотренных выше протолитературных нарративов являются: компактность сюжета в сочетании с емкостью ситуации, лаконичная строгость композиции, неразвернутость характеристик и описаний, акцентированная роль немногочисленных и как бы укрупненных деталей, краткость и точность словесного выражения. Все это, по общему мнению, присуще стилю белкинских текстов. Например: «Скупость деталей, отсутствие развернутых описаний, закрытость характеров <…> недостаточность психологических мотивировок в поступках героев», а также «устная интонация»109, — столь же свойственны притче, как и анекдоту. Их общим эффектом оказывается 108 См.: Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина. Новосибирск, 2001 (гл. 6). Попова И.Л. Смех и слезы в «Повестях Белкина» // А.С. Пушкин. Повести Белкина. М., 1989. С.503, 509. 109 67 отмеченный Л. Толстым «интерес самых событий», вследствие которого пушкинские повести, с позиций классического реализма, «голы как-то»110. В пределе своем анекдот «конденсируется» в остроту (ср. из «Выстрела»: «...знать у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку»; или из «Барышникрестьянки»: «Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты»), а притча — в паремию, пословично-афористическую сентенцию (ср. из «Станционного смотрителя»: «...сегодня в атласе да бархате, а завтра метут улицу вместе с голью кабацкою»; или из «Барышни-крестьянки»: «Вольному воля, а дорога мирская»). Однако при этом слово притчи — слово авторитарное, назидательное, безапелляционное в своей афористичности (из «Гробовщика»: «Разве гробовщик брат палачу?»). Слово же анекдота — слово инициативное, диалогизированное, курьезное своей окказиональностью и беспрецедентностью (из «Барышни-крестьянки»: «Не твое горе — ее счастие»). Притча осваивает универсальные, архетипические ситуации общечеловеческой жизни и творит императивную картину мира, где герой – субъект этического выбора перед лицом некоего нравственного закона. Таковы притчевые персонажи «истории о блудном сыне». Анекдот же осваивает единичные, исторически периферийные ситуации частной жизни и творит релятивную, игровую картину мира как арены столкновения и взаимодействия субъективных воль, где герой – субъект свободного самоопределения в непредсказуемой игре случайностей. Таков герой анекдота Белкин (в первом примечании Издателя читаем: «Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает»). Белкин и Блудный сын суть внесюжетные фигуры цикла. Обрамляя вымышленную реальность произведения, они остаются на границах литературного сюжета, поскольку вполне принадлежат: первый – национальноисторическому быту, второй – внеисторическому и вненациональному общечеловеческому бытию. В пределах же самого сюжета герой притчи (Владимир, развивающий план побега и покаянного возвращения по схеме «блудных детей») становится героем анекдота (диалог заблудившегося жениха с мужиком в затерянной деревушке), а герой анекдота о случайном венчании (Бурмин) – героем притчи о том, что «суженого конем не объедешь». Типично притчевые герои (Сильвио, или Самсон Вырин, со всей серьезностью осуществляющие некий регулятивный подход к жизни) сталкиваются лицом к лицу с типичными героями анекдота (граф Б. с его черешнями, мнимый больной Минский). Сквозь явную анекдотичность сюжетов «Гробовщика» и «Барышни110 Толстой Л.Н. О литературе. С.18. 68 крестьянки» отчетливо проступает притчевая символика (актуализируемая эпиграфами этих повестей), а Сильвио, мыслящий себя героем притчи о муках совести («Предаю тебя твоей совести»), оказывается героем анекдота о стрелке-мухобое («Вы смеетесь, графиня? Ей-богу правда»). Очевидно анекдотичен набор свидетелей Владимира: человек мирной профессии «землемер Шмит в усах и шпорах» демонстративно дополняет этими атрибутами гусарства «отставного сорокалетнего корнета» (младший офицерский чин, приличный юноше, но не зрелому мужчине) и безымянного шестнадцатилетнего улана, – между тем как сам Владимир планирует осуществить с Машей на практике притчевую схему «блудного» возвращения. Даже в пределах одной фразы обнаруживается порой контаминация окказионального слова остроты (редуцированный анекдот) и авторитарного слова паремии (редуцированная притча): «Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет» и т.п. Взаимопроникновение анекдота и притчи может быть продемонстрировано и на примере такой частности, как одеяние родителей Марьи Гавриловны: колпак и шлафорк, упоминаемые в «Метели» (халат Прохорова, халат и скуфья Минского эквивалентны им), совпадают с теми же деталями, повторенными дважды в описании немецких «картинок»; но они же в пушкинском сознании выступали атрибутами анекдотичности111. В конечном счете жанровая стратегия притчевого мышления позволяет Пушкину сопрягать историческую действительность с универсальными общечеловеческими ценностями (ср. с финальной ситуацией притчи о блудном сыне: «Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе <...> Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! <...> А для него (отца-государя. — В.Т.) какая была минута!»). Тогда как жанровая стратегия анекдотичности сопрягает «большое» время общенародного, исторического бытия с «малым» временем индивидуального, интимного быта (ср.: «Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..»). В такого рода взаимодополнительности и состоит жанровая природа рассказа, осваиваемая в некоторых творческих пробах 30-40-х гг. В тургеневской книге очерков «Записки охотника» помещено, например, «Свидание» – своего рода элегическая пародия на искрившуюся юмором «Барышню-крестьянку» (тургеневскую героиню зовут тем самым именем Акулина, какое присвоила себе Лиза, а герой оказывается тем самым «камердинером молодого барина», кем пытался представить себя Алексей). Ср.: «Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафорке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее» // Литературная газета, 1830, № 5. 111 69 Здесь контаминация двух жанровых импульсов достигается гораздо проще, чем у Пушкина. И героиня, и герой легко узнаваемы: она – типовой персонаж повести о несчастной девушке из народа; он – типовая анекдотическая фигура недалекого слуги, в обезьянних ужимках которого узнается прообраз барского поведения. Сюжетная ситуация рассказа создается взаимодействием двух вполне канонических, но разножанровых героев. А обрамляющие картины природы, выписанные с очерковой подробностью и узнаваемостью, не оставляют места для типового завершения: ни для свойственного повести, ни для свойственного новелле. Однако представление, будто именно в «Записках охотника» рассказ окончательно сформировался как самостоятельный жанр, не соответствует истине. Cоответствующий термин в это время действительно прочно входит в литературно-критический и журнально-издательский обиход, но служит он для обозначения признака краткости и отграничивает рассказ от повести, которая в условиях становления реализма насыщается подробностями и расширяется в объеме. От «физиологических» очерков тургеневские «Записки охотника» отличались по большей части не структурно, а эстетически: высока была мера их художественности. Именно это могло побудить В.Г. Белинского именовать «рассказом» столь классический очерк, как «Хорь и Калиныч». Сложившийся в практике натуральной школы «вольный» жанр очерка характеризуется гораздо менее сложной жанровой структурой, лишенной как анекдотической исключительности события, так и его притчевой многозначительности. В ряду прозаических жанров Белинский убедительно поместил очерк между рассказом и мемуарами. Принадлежность очерка к художественной литературе носила временный характер и характеризовала литературное сознание натуральной школы. Впоследствии данный жанр прочно обосновался в области журнальной публицистики. Предметнотематически очерк близок к новелле в ранний период ее становления: его внимание привлекают необычные, поразительные нравы, ситуации, происшествия. Однако очерк не обладает разработанным новеллистическим сюжетом с пуантом и не соотносит жизненый материал своего повествования с авантюрно-анекдотической картиной мира и концепцией бытия как инициативного самопроявления индивидуально-личностного начала жизни. Чужда очерку с его «осколочным» видением реальности и притчевая стратегия универсализации способов нравственного присуствия человека в мире. Эмпирические картины жизни, воссоздаваемые в этом жанре с использованием романной техники литературного письма, освещаются осмыслением и оценкой, привносимыми в текст повествователем. Особенностью тургеневского цикла на фоне рядового «натурального» очерка явилось наделение фигуры повествтвателя cвойствами художественного 70 образа: из автора (субъекта прямого говорения) тургеневский «охотник» превращается в одного из героев – свидетеля, причастного наблюдаемым фактам жизни. Но в большинстве случаев это еше не приводит к перерастанию очерка в полноценный рассказ как весьма сложное жанровое образование. Ошибочно утверждая, что «русский рассказ в «Записках охотника» достиг поры зрелости», А.В. Лужановкий в другом месте своего исследования убедительно опровергает собственный вывод: «И все же большинство произведений «Записок охотника» еще не имели образно-сюжетной структуры, способной отразить действительность объемно. Их сюжетно-образная структура была нацелена на воссоздание отдельных характеров, чем-либо примечательных с точки зрения автора. Именно поэтому и требовался в этой структуре повествователь, который своими рассуждениями и ассоциациями расширял бы горизонт повествования, переводил бы повествование в социальный и общечеловеческий планы … Отдельному рассказу цикла еще недоставало прочной несущей сюжетной конструкции, емкой сюжетной конфликтной ситуации»112. Инвариантная для зрелого рассказа внутренняя мера взаимодополнительности новеллистической поэтики, восходящей к анекдоту, и поэтики повести, опирающейся на притчевую традицию, не требует их непременной гармонической уравновешенности, достигнутой Пушкиным в «Повестях Белкина». Достаточно динамического равновесия этих жанровых интенций, при котором одна из них выдвигается на роль доминанты, но и второе, субдоминантное начало из рассказа не устранимо. Оно приобретает в рамках данного жанра принципиальное конструктивное значение. Так, в рассказе Ф.М. Достоевского «Господин Прохарчин» (1846) можно констатировать явный перевес анекдотического начала. Здесь драматическое столкновение главного героя c остальными персонажами состоит в несовместимости картин мира, в которых живут конфликтующие стороны. Мелкочиновное «братство» (во главе с Марком Ивановичем, который, владея правильным литературным слогом, «любил внушить своим слушателям») живет в упорядоченном мире, где всякий человек предсказуем и может быть однозначно определен и оценен со стороны. Эгоцентризм, связываемый с фигурой Наполена, в этом мире недопустим как «безнравственный соблазн». В жанровой своей основе это мир притчи. Семен же Иванович Прохарчин c его отгороженностью «от вcего Божьего света», тайной накопительства и анекдотически характерной невразумительной речью обретается в собственном уединенном мире. Мир этот принципиально Лужановский А.В. Выделение жанра рассказа в русской литературе. Вильнюс, 1988. C.124, 111. 112 71 окказионален и непредсказуем («оно стоит, место-то <…> а потом и не стоит»; канцелярия «сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна»); такова же и жизненная позиция самого героя в этом мире («я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный <…> волнодумец!»). При всей своей безрадостности это мир анекдота – мир случая и своевольной инициативы. Благодаря жанровому двоемирию рассказа читателю адресованы две правды. Контрапункт этих правд не состоит в противостояни добра и зла или истины и заблуждения. Они равнодостойны в своей сугубой относительности. Одна гласит: «Прими он вот только это в расчет, – говорил потом Океанов, – что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как, куда следует». Вторая правда состоит в самобытности даже такой незначительной личности, каков этот «прохарчинский человек», не желающий жить «кое-как» и тянуть «куда следует». При этом в сюжете рассказе вырисовываются два центральных события, ни одно из которых не может претендовать на большую значимость, нежели другое. Посмертное раскрытие тайны Прохарчина могло бы стать событийным центром повести. Но другое центральное событие – словесная схватка, идеологический спор Марка Ивановича с Семеном Ивановичем, чреватый назревающим новеллистическим переворотом ситуации. При всей анекдотичности выяснения, кто таков Прохарчин, «нуль» или «Наполеон», в этом диалоге глухих обнажаются миросозерцательные основания дискуссии. Начинают проглядывать неожиданная внутренняя растерянность ученого человека Марка Ивановича («книга ты писаная», – характеризует его словесный противник) и столь же неожиданная внутренняя сила убежденности Прохарчина. Однако «болезненный кризис» вдруг прерывает схватку миропониманий, не позволив ей разрешиться пуантом. Бессмысленное накопительство и смерть «неожиданного капиталиста» отнюдь не дискредитируют его правды. Напротив, после раскрытия тайны Прохарчина мир чиновного «братства» начинает распадаться, а завершается рассказ анекдотически нелепым словом мертвого (чей «глазок был как-то плутовски прищурен»), утверждающего в своем загробном монологе присущую его сознанию анекдотически случайностную, релятивистскую картину мира: «… оно вот умер теперь; а ну как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак того, и не умер – слышь ты, встану, так что будет, а?» Однако этот монолог не выдается за действтительный и не может претендовать на статус однозначно завершающего и проясняющего ситуацию. 72 Такая концовка при всей ее непредвиденности не является ни новеллистическим пуантом (только предположением фантастической возможности невероятного пуанта), ни переосмыслением центрального сюжетного события, что свойственно повести. Итоговую речь Прохарчина имитирует сам повествователь («как будто бы слышалось»), отдавая умершему герою концовку рассказа и признавая тем самым неуничтожимость его правды. Однако при ведущей роли анекдотического мировосприятия субдоминантное притчевое начало неустранимо присутствует в поэтике рассказе. Не предлагая читателю нравственного урока, оно явственно просвечивает в тексте как невысказанная мысль о возможности иного, диалогического отношения между сознаниями («правдами») – вместо имевшего место глухого столкновения двух замкнутых в себе монологов. Эта находка раннего Достоевского в поздних его произведениях разовьется в жанровую структуру полифонического романа, лишний раз подтверждая глубокое историческое родство романа и рассказа как неканонических жанров нового времени, чей протолитературный прообраз обнаруживается в рассмотренном ранее речевом жанре жизнеописания. Что же касается самого рассказа как литературного жанра романной эпохи, то в качестве ведущего структурообразующего момента здесь обнаруживается момент кризиса: неустойчивого вероятностного состояния жизни, динамического равновесия альтернативных возможностей. Белинский в свое время этого не уловил. Упорно называя «рассказ» Достоевского (точное авторское определение жанра, встречавшееся в 40-е гг. не часто) «повестью», критик осудил «Господина Прохарчина» как произведение, не соответствующее канонической поэтике: он его (по-своему проницательно) охарактеризовал как нечто более похожее «на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, нежели на поэтическое создание. В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного»113. Последующее развитие литературы лишило этот тезис его безапеляционной истинности. Общепризнанной классикой рассказа является большинство эпических произведений зрелого Чехова. В ранний период чеховского творчества из-под пера Антоши Чехонте вышло множесто разнообразных «осколков», имитирующих различные формы внехудожественной текстуальности (вплоть до жалобной книги) или стилизующих различные романные традиции (так, рассказ «Отец» является очевидным «отражением» романистики Ф.М. Достоевского). Были созданы также многочисленные анекдотические сценки (литературно-авторские аналоги фольклорного анекдота) и несколько литературных притч («Казак», 113 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. Х. СПб., 1914. С. 420. 73 «Без заглавия», «Пари»). Если последние свидетельствуют о влиянии Л.Толстого («Казака» Чехов впоследствии исключил из собрания своих сочинений как «уж чересчур толстовитого»), то первые вынуждают вспомнить о творческом опыте И.Ф. Горбунова – автора не только «сцен» простонародной жизни, но и т.н. «рассказов», которые представляли собой (например, «Медведь» или «Царь Петр Христа славит») развернутые повествования анекдотического характера. Обе жанровые традиции – анекдота и притчи – в творчестве Чехова нашли свое наиболее органичное соединение. Среди многообразия малых эпических форм раннего чеховского письма время от времени встречались и собственно рассказы, а к переломному 1887 году в таких произведениях, как «Тоска», «Счастье», «Поцелуй», «Володя», «Мальчики» и ряд других, вполне сформировался чеховский рассказ как подлинная историческая вершина данного жанра. Взаимодополнительность разнонаправленных интенций, представляющую собой инвариант «младшего» неканонического жанра романной эпохи, может быть наглядно продемонстрирована на примере рассказа «Счастье», где два пастуха – молодой и старый – оказываются принадлежащими двум несовместимым картинам мира. В концовке текста о них говорится, что пастухи «уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью». Даже позы, в которых читатель застает героев, знаменуют диаметрально противоположные ориентации человека в окружающем его бытии. Увлеченный кладоискательством старик лежит на животе, его лицо обращено к пыльному подорожнику, к той самой земле, где схоронены клады, именуемые «счастьями». Молодой же пастух Санька лежит на спине и глядит в небо. Не случайно Санька предстает субъектом надчеловеческих раздумий небожителя: «… интересовало его не само счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья». Именно ему приходит в голову соломоновский вопрос о тщетности индивидуальных стремлений: «… к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть?» Вопрос этот, кажется, порождается самим окружающим героев безграничным степным пейзажем, упорядочивающими ориентирами которого в глазах молодого пастуха выступают «могильные курганы», в чьей «неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку». Во всем, что входит в рассказ с фигурой Саньки, дает себя знать притчевое по своей всеобъемлемости и универсальности видение жизни. Иной картины мира придерживается старый пастух. Ее конструктивными центрами оказываются авантюрные «места, где клады есть»: «в крепости … под тремя камнями» или «где балка, как гусиная лапка, расходится на три 74 балочки» и т.п. Здесь царят удача (либо неудача) и произвол: «Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет». Вот как старик начинает свой анекдот про колдуна Жменю: «Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что французов гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезда были – что ни шаг, то гнездо дудачье». Перечисляемые детали к рассказу о колдуне не имеют никакого отношения, но из них складывается мозаичная, казусная картина жизни, где меняется направление дорог, где богаты событиями, но превратны человеческие судьбы (то царь-покойник французов гнал до Парижа, то самого везут из Таганрога), где на каждом шагу маленькие мальчишечьи «клады» – гнезда дроф. Эта динамичная, чреватая анекдотическими ситуациями (хохочущая щука, говорящий заяц и т.п.), беспрецедентная картина мира полемически противостоит инертно закономерной, притчево стабильной, императивно (но в данном случае скептически) осмысливаемой: «Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничной степи – ни в чем не было видно смысла». Какому же из этих организующих мировидение начал отдает предпочтение автор? На первый взгляд, притчевому скепсису перед наивной фантастикой и авантюрностью кладоискательских анекдотов. Но тут же притчевое мышление находит свою пародийную параллель в образе мыслящих овец: «Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия». Организующим центром притчевой картины мира в рассказе выступает «далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой». С этой вершины «видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог». Всеобъемлющий взгляд с позиции возвышенного однообразия вечности на низменное многообразие человеческой жизни – своего рода кульминация притчевого мировидения. Но уже следующей фразой почти достигнутая кульминация срывается: «Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей». Инициативно свободная идея «другой жизни» органична для анекдота и глубоко чужда притчевому мышлению. К повести в строгом значении этого понятия Чехов обращался не часто («Дуэль», «Палата №6», «Черный монах», «Ионыч», «В овраге»)114. 114 См.: Тамарченко Н.Д, Русская повесть Серебряного века. М., 2007. 75 Большинство относительно протяженных чеховских текстов, привычно именуемых «повестями», представляют собой, в сущности, цепь из нескольких рассказов, спаянных единством системы персонажей, сквозных мотивов, композиционных соотношений теснее, чем это бывает в рамках цикла. Таковы, например, «Три года» или «Моя жизнь». Жанровым ключом к подобным текстам может служить «Учитель словесности», фактически состоящий из двух рассказов (первая часть под названием «Обыватели» была написана в 1889, а продолжение – в 1894). В основе таких построений лежит глубоко знаменательное для природы рассматриваемого жанра побуждение молодого Чехова написать роман, представляющий собой серию взаимосвязанных рассказов. Замысел этот отчасти осуществился в цикле 1898 года («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Остановимся на «маленькой трилогии», которая не только принадлежит к классике жанра, но и показательна еще в одном – метажанровом отношении: являя собой рассказы в рассказе, эти тексты позволяют более полно охарактеризовать коммуникативную стратегию данного литературного явления. Знаменательно и то, что обрамляющая ситуация цикла очевидным образом воспроизводит ситуацию первоначальной и весьма еще незрелой в жанровом отношении пробы Тургенева (рассказ «Три портрета», 1846). История Беликова рассказывается Буркиным как анекдот, но общий контекст «Человека в футляре» придает ей притчевый характер, как она и воспринимается слушателем; история Чимши-Гималайского, напротив, излагается как притча, но в рамках «Крыжовника» как целого приобретает очевидную анекдотичность. При этом два рассказчика-охотника своими портретными характеристиками являют традиционно комическую «карнавальную пару», сам облик которой наводит на мысль об их взаимодополнительности. Наконец, заключительный рассказ Алехина демонстрирует неделимое взаимопроникновение анекдотического и притчевого начал, предельно заостряя, но оставляя открытым вопрос, следует ли в любви рассуждать, «исходя из высшего», или «не нужно рассуждать вовсе». Второй ответ, будучи формулой авантюрно-инициативного, «анекдотического» поведения в окказиональном мире, в то же время неявно претендует на роль притчевого итога всеобщей значимости. Подобные инверсии глубоко органичны для данного жанра. Знаменательно, что жанрообразующая ситуация кризиса, утраченной стабильности, открытого спектра вариантов жизненного поведения в вероятностном мире и Буркиным, и Иваном Иванычем в своих историях исчерпывается, однако она тут же возобновляется в обрамляющем тексте – в обстоятельствах восприятия и обсуждения изложенного. Рассказ Алехина 76 отличается от предыдущих неразрешенностью сюжетообразующего кризиса, составляющего сквозное единство обрамленной и обрамляющей ситуаций. Обратим внимание на отношения собеседников, складывающиеся в ходе рассказывания как коммуникативного поведения. Первые две внутритекстовые наррации разобщают («молчали, точно сердились друг на друга» – на утро после рассказа Буркина; «сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали» – после рассказа Ивана Иваныча), и только третья (рассказ Алехина) – неожиданно объединяет собеседников. Дело в том, что и Буркин, и Иван Иваныч говорят о своем («…как будто просил лично для себя»), остаются глухи к ответной реакции («Ну, уж это вы из другой оперы…»); выговорившийся всякий раз спокойно засыпает, а слушатель, которого рассказ «не удовлетворил», мучается бессонницей «от наплыва мыслей». При этом первые два рассказчика трилогии резко порицают своих персонажей, решительно отстраняются от их жизненного опыта. Иное дело – рассказ Алехина, хотя в нем повторяются ситуации и мотивы первых двух историй (в Лугановиче легко узнается женатый Беликов, а сам Алехин внешним укладом своей жизни напоминает героя «Крыжовника»). Персонажи третьего рассказа оказались хорошо известными слушателям, чего не было в предыдущих повествованиях, а предмет разговора («Стали говорить о любви») и проблематика «тайны личного счастья» – общеинтересными. В концовке рассказа они «жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чемнибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой». Вследствие непроизвольно возникающей солидарности взаимодействующих сознаний содержание рассказа в этих сознаниях получает дальнейшее развитие, а их былое разобщение преодолевается, что подчеркнуто в финале привходящими моментами символического характера. За развернутой Чеховым триадой коммуникативных ситуаций рассказывания проглядывает глубинная жанровая стратегия самого рассказа. Новелла и повесть не только обладают достаточно жесткими структурами текстовой организации, но и предполагают однозначно определенные позиции восприятия со стороны читателя: притчу недопустимо воспринимать как анекдот, или анекдот – как притчу, ибо это ведет к содержательному извращению высказывания. Тогда как рассказ не навязывает определенной рецептивной стратегии; он полагается в этом отношении на встречную коммуникативную активность адресата. Однако от адресата требуется, во77 первых, установка на известного рода солидарность с авторским сознанием: не подчинение, не дублирование, но именно солидарность двух равнодостойных, не соподчиненных сознаний. Во-вторых, рассказ содержит в себе установку на принципиальную совместимость собственного личного опыта адресата с жизненным опытом героя, поскольку жанровое содержание рассказа, как и романа, разворачивается «в зоне контакта с незавершенным настоящим и, следовательно, с будущим»115. С данным обстоятельством непосредственно связана давно отмечаемая исследователями открытость чеховских финалов. Эту конструктивную особенность П.М. Бицилли считал «главной» для чеховских произведений: «нет ‘развязки’, ‘завершения’, разрешения жизненной драмы»116. Исход художественных построений зрелого Чехова всегда «одновременно четкий и двусмысленный: четкий потому, что полюс подлинного положителен по отношению к неподлинному (ср. «две жизни Гурова в «Даме с собачкой». – В.Т.), но этико-интеллектуальное содержание и того, и другого проблематично, и ни герои, ни рассказчик не в состоянии решить проблему»117. Ответственность за ее решение возлагается на читателя, собственно и формирующего своими нравственно-эстетическими предпочтениями внетекстовое ментальное пространство жизни. Писатель искусно формирует все необходимые предпосылки для классической эстетической завершенности целого. Но заключительный акт смыслового завершения (ответ на «правильно поставленный вопрос») автор оставляет читателю, апеллируя к его коммуникативной, эстетической и моральной ответственности. В самых общих чертах это напоминает майевтику Сократа, ибо чеховская сверхзадача – «активизировать мысль человека, внушить ему интеллектуальную тревогу за необходимость решения вопроса жизни»118. Не лишая читателя внутренней самостоятельности, чеховская поэтика формирует для него некоторую анфиладу вероятных смыслов, некоторый спектр допустимых, но инициативных прочтений. Инстанция читателя ответственно включается в коммуникативное событие произведения как невербальная – когнитивная – составляющая его текста. Упрощенно говоря, оптимистически настроенный читатель получает возможность наделять чеховский текст позитивным завершающим смыслом, а настроенный Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 480. Бицилли П.М. Творчество Чехова: Опыт стилистического анализа // П.М. Бицилли. Трагедия русской культуры. М., 2000. С. 205. 117 Страда В. Антон Чехов // История русской литератры: ХХ век: Серебряный век. М., 1995. С. 62. 118 Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П. Чехова. М., 1982. С. 34 115 116 78 пессимистически – негативным. Этим создается характерный эффект чеховского письма, будто автор «с каждым читателем ведет задушевный разговор наедине»119. Отсюда столь значительные порой расхождения в истолковании эмоционально-волевой тональности одного и того же текста чеховедами самой высокой квалификации. Однако эта особенность, столь ярко проявившаяся в творческой практике Чехова, зародилась гораздо раньше – еще в «Повестях Белкина», завершенных отсылкой читателей к их собственному воображению. Открытый (в той или иной мере) финал – это конструктивное жанровое свойство рассказа, несущее в себе некоторый смысловой потенциал: достаточно определенное (и, соответственно, исследовательски определимое) соотношение взаимодополнительных неопределенностей. В юношеской пьесе <Безотцовщина> Чехов устами персонажа Глагольева рассуждал о «выразителе современной неопределенности» как «состоянии нашего общества»; о «русском беллетристе», который «чувствует эту неопределенность», который «не знает, на чем остановиться»120. Зрелый Чехов не то, чтобы «не знает», – он не считает для себя возможным вносить собственную определенность в жизнь, самоопределяющуюся экзистенциальным выбором каждого своего субъекта. В данном случае мы имеем счастливое совпадение творческой воли автора с волей жанра – исторически сложившийся коммуникативной стратегией. (См.: Теория литературных жанров. Учебное пособие для вузов / М.Н. Дарвин, Д.М. Магомедова, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа; под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: «Академия, 2011. С. 28-42). 1. Воробей Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким 119 120 Страда В. Антон Чехов. С. 49. Чехов А.П. ПСС и П: В 30 т. М.: Наука, 1974-1983. Соч., т. 11. С. 16. 79 писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище… но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса – и удалился, благоговея. Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. (И.С. Тургенев) 2. Щи У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома. Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движеньем правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли… но она держалась истово и прямо, как в церкви. «Господи! – подумала барыня. – Она может есть в такую минуту… Какие, однако, у них у всех грубые чувства!» И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе! А баба продолжала хлебать щи. Барыня не вытерпела наконец. – Татьяна! – промолвила она. – Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи! – Вася мой помер, – тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. – Значит, и мой пришел конец: с 80 живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные. Барыня только плечами пожала – и пошла вон. Ей-то соль доставалась дёшево. (И.С. Тургенев) 3. Уа… Уа! Я проживал тогда в Швейцарии… Я был очень молод, очень самолюбив – и очень одинок. Мне жилось тяжело – и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Всё на земле мне казалось ничтожным и пошлым, – и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль… о самоубийстве. «Докажу… отомщу…» – думалось мне… Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде… а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу и что пора разбить стесняющий сосуд… Байрон был моим идолом, Манфред моим героем. Однажды вечером я, как Манфред, решился отправиться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от людей, – туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов! Что я намерен был там делать… я не знал… Быть может, покончить с собою?! Я отправился… Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, всё выше поднимался… всё выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья… Камни – одни камни кругом, – резким холодом дышит на меня близкий, но уже невидимый снег, – со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени. Я остановился наконец. Какая страшная тишина! Это царство Смерти. И я здесь один, один живой человек, со всем своим надменным горем, и отчаяньем, и презреньем… Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденил меня – но я воображал себя великим!… Манфред – да и полно! – Один! Я один! – повторял я, – один лицом к лицу со смертью! Уж не пора ли? Да… пора. Прощай, ничтожный мир! Я отталкиваю тебя ногою! 81 И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой… человеческий звук… Я вздрогнул, прислушался… звук повторился… Да это… это крик младенца, грудного ребенка!… В этой пустынной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла, – крик младенца?!! Изумление мое внезапно сменилось другим чувством, чувством задыхающейся радости… И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий – и спасительный крик! Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. Я побежал еще скорее – и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами, такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов. Я толкнул полураскрытую дверь – и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною… Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка… пастух, вероятно ее муж, сидел с нею рядом. Они оба уставились на меня… но я ничего не мог промолвить… я только улыбался и кивал головою… Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величье, куда вы все делись?… Младенец продолжал кричать – и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа… О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил! (И.С. Тургенев) 4. Дракон Люто замороженный Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и серые решетки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в тумане – слева, справа, вверху, внизу – голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь – белые круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи. На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несся в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы 82 голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху – пустые. И дыра в тумане: рот. Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим: – … Веду его: морда интеллигентная – просто глядеть противно. И еще разговаривает, стервь, а? Разговаривает! – Ну и что же – довел? – Довел: без пересадки – в Царствие Небесное. Штычком. Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай. И вдруг – из пустых рукавов – из глубины – выросли красные, драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу – и в лапах серенькое, холодное, материализовавшееся из лютого тумана. – Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость! Дракон сбил назад картуз – и в тумане два глаза – две щелочки из бредового в человечий мир. Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова воробьенышу, но их – в бредовом мире – не было слышно. Скрежетал трамвай. – Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ейбо… Ну ска-жи ты! Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныш дрыгнул, еще дрыгнул – и вспорхнул с красных драконьих лап в неизвестное. Дракон оскалил до ушей туманно-пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие Небесное поднял винтовку. Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира, трамвай. (Е.И. Замятин) 5. Телячья головка Мальчик лет пяти, веснушчатый, в матроске, тихо, как завороженный, стоит в мясной лавке: папа пошел служить на почту, мама на рынок и взяла его с собой. 83 - У нас нынче будет телячья головка с петрушкой, - сказала она, и ему представилось что-то маленькое, хорошенькое, красиво осыпанное яркой зеленью. И вот он стоит и смотрит, со всех сторон окруженный чем-то громадным, красным, до полу висящим с железных ржавых крючьев короткими, обрубленными ногами и до потолка возвышающимся безголовыми шеями. Все эти громады спереди зияют длинными пустыми животами в жемчужных слитках жира, а с плечей и бедер блещут тонкой пленкой подсохшего тучного мяса. Но он в оцепененье смотрит только на головку, которая оказалась лежащей прямо перед ним, на мраморной стойке. Мама тоже смотрит и горячо спорит с хозяином лавки, тоже огромным и тучным, в грубом белом переднике, гадко испачканном на животе точно ржавчиной, низко подпоясанным широким ремнем с висящими толстыми сальными ножнами. Мама спорит именно о ней, о головке, и хозяин что-то сердито кричит и тычет в головку мягким пальцем. О ней спорят, она же лежит неподвижно, безучастно. Бычий лоб ее ровен, спокоен, мутно-голубые глаза полузакрыты, крупные ресницы сонны, а ноздри и губы так раздуты, что вид имеют наглый, недовольный... И вся она гола, серо-телесна и упруга, как резина... Затем хозяин одним страшным ударом топора раскроил ее на две половины и одну половину, с одним ухом, одним глазом и одной толстой ноздрей швырнул в сторону мамы на хлопчатую бумагу. (И.А. Бунин) 84 Часть III Список рекомендованной литературы Учебные и справочные издания Основные: Теория литературы: В 2 т. Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: «Академия», 2004, (2006, 2008, 2010). Т.1. Ч. 1. Гл. 3. C. 77-104. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. Учебное пособие / Под. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008 (см.: Интертекстуальность, Классицизма поэтика, Контекст, Компаративизм, Литература художественная, Миф в литературе, Мифопоэтика, Неклассическая художественность, Парадигмы художественности, Реализма поэтика, Романтизма поэтика, Сентиментализма поэтика, Символизма поэтика, Традиционализм рефлективный, Художественность). Введение в литературоведение. Учебник для вузов / Под ред. Л.В. Чернец. М.: «Академия», 2010. Ч. 3. С. 632-665. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: «Академия», 2009. Гл. VIII. C.387-405. Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы ХХ века: Антология / Сост. Г.А. Белая. М.: РГГУ. 2003. Дополнительные: Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 тт. Учебное пособие для вузов. М.: Academia, 2004, (2006, 2008, 2010). Т.2. 85 Теория литературных жанров. Учебное пособие для вузов / М.Н. Дарвин, Д.М. Магомедова, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа; под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: «Академия», 2011. Жирмунский В.М. Биография писателя. Личная и социальная биография писателя. Литературный аспект биографии писателя // В.М. Жирмунский. Введение в литературоведение. Курс лекций. М., 2009. С.108-168. Зарубежная литература XIX века. Романтизм: Хрестоматия историколитературных материалов. М., 1990 и др. гг. Зарубежная литература XIX века. Реализм: Хрестоматия историколитературных материалов. М., 1990 и др. гг. Соколов А.Г., Михайлова М.В. Русская литературная критика конца XIX – начала XX века: Хрестоматия. М., 1982 и др. гг. Научная литература Основная: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3-14. Веселовский А.Н. О методе и задачах истории литературы как науки // А.Н. Веселовский. Избранное: На пути к исторической поэтике. М., 2010. Лотман Ю.М. Память культуры. История и семиотика // Ю.М. Лотман. Внутри мыслящих миров. М.,1999. С. 301-385. Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М.6 2008. Тюпа В.И. Литература и ментальность. М., 2009. Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант // Т.С. Элиот. Назначение поэзии. Киев, 1997. Дополнительная: Аверинцев С.С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. М., 1989. С. 3-25. 86 Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. М., 2010. Искусство как сфера культурно-исторической памяти. М.: РГГУ, 2008. Кемпер Д. Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна. М., 2009. Кнабе Г.С. Русская античность. М.: РГГУ, 2000. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. Манн Ю.В. Русская литература ХХ века. Эпоха романтизма. М., 2007. Методология анализа литературного процесса. М., 1989. Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. Шайтанов И.О. Компаративистика и/или поэтика. М., 2010. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. 87