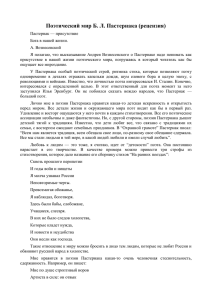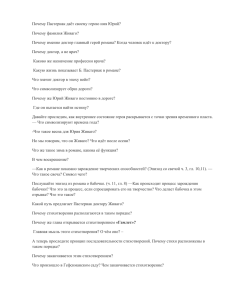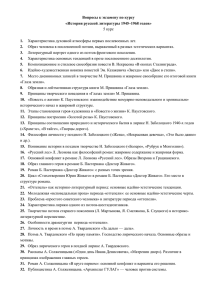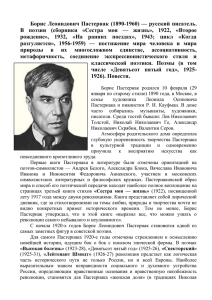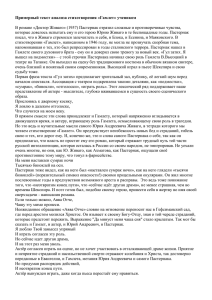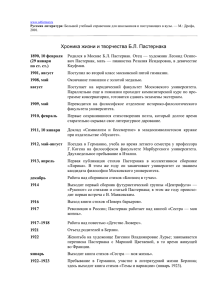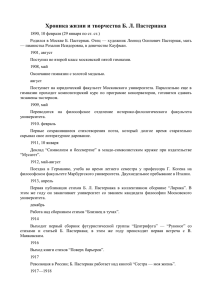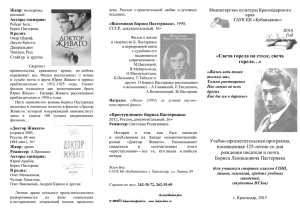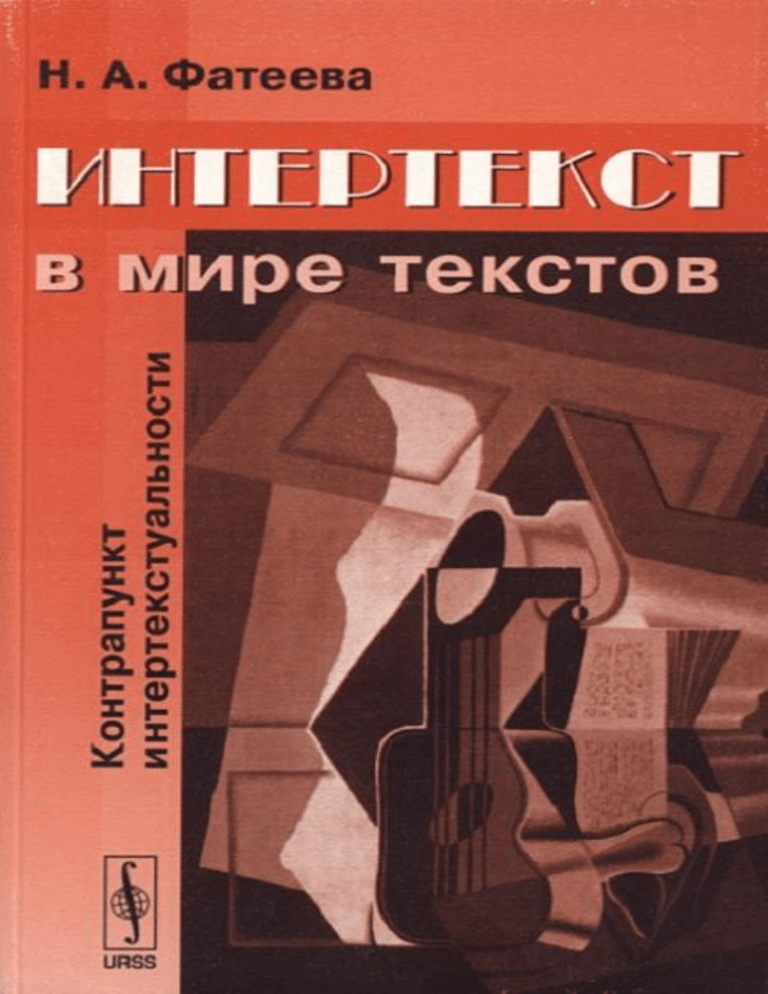
Н. А. Ф а т е е в а
Н.А.Фатеева
ИНТЕРТЕКСТ
В МИРЕ ТЕКСТОВ
Контрапункт
и нтертекстуал ьности
Издание третье, стереотипное
МОСКВА
URSS
ББК81.2Рус-5
Фатеева Наталья Александровна
Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. Изд. 3-е, сте­
реотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 280 с.
Данная монография, с одной стороны, является обобщающей, а с дру­
гой — автор в ней предлагает собственную теорию процесса интертекстуализации. В книге дается суммирующее определение понятия «интертекстуальности»,
вводятся формальные единицы интертекстуального анализа, опирающиеся на по­
нятия «памяти слова» и «памяти текста». Определяются функции межтекстовых
отношений в художественном тексте и выделяются их основные типы. В работе
также рассматривается проблема идиостилевых влияний: «Пастернак и Пушкин»,
«Пастернак и Достоевский», «Белый и Пушкин», «Белый и Мандельштам», «На­
боков и Пушкин», «Набоков и Достоевский», в связи с чем с точки зрения
межтекстовых связей изучаются наиболее выдающиеся произведения русской ли­
тературы XX века: «Петербург» А. Белого, «Египетская марка» О. Мандельштама,
«Дар» и «Отчаяние» В. Набокова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака.
Книга будет интересна как специалистам в области языкознания, литерату­
роведения, культурологии, так и всем интересующимся литературой Серебряного
века.
Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор А. Н. Баранов,
кандидат филологических наук, профессор Н. А. Николина
В оформлении обложки использована картина Хуана Гриса «Le Canigou».
Издательство «КомКнига». 117312, г.Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
Формат 6 0 x 9 0 / 1 6 . Бумага типографская. Печ. л. 17,5.
Отпечатано в О О О «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. П А , стр. 11.
13-значный ISBN, вводимый с 2007 г.:
© КомКнига, 2006, 2007
ISBN 978-5-484-00832-2
Соотв. 10-значный ISBN, применяемый до 2007 г.:
ISBN 5-484-00832-8
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
E-mail: URSS@URSS.ru
417607 Ю 39093
Каталог изданий в Интернете:
http://URSS.ru
Тел./факс: 7 (495) 135-42-16
URSS Тел./факс: 7 (495) 135-42-46
9"785484"008322
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
4
Часть I
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
1.1. Интертекстуальность и ее функции в художественном дис­
курсе
1.2. Организация художественного времени при интертекстуаль­
ных связях
1.3. Интертекстуальные отношения и тропы
1.4. Автоинтертекстуальность: за и против
1.5. Типология интертекстуальных элементов и межтекстовых свя­
зей в художественных текстах
16
40
50
91
120
Часть 2
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ИДИОСТИЛЕВЫЕ
ВЛИЯНИЯ
2.1. Идиостилевые влияния, или Единый текст русской литера­
туры
2.2. Пастернак и Пушкин: путь к прозе
2.3. Пастернак и Достоевский (Опыт интертекстуального анализа)
2.4. «Петербург» А. Белого: кто автор плана?
2.5. От «отчаянного побега» А. Пушкина к «Отчаянию» В. Набо­
кова
2.6. Пушкин и «Дар» В. Набокова
Заключение
Список источников
Литература
160
173
198
215
227
246
260
269
271
ВВЕДЕНИЕ
Я знаю мы не скажем ничего
я знаю и никто не скажет
иного чем написано до нас.
В. Кривулин
«Для первой буквы»
Хотя в последние десятилетия и в России, и за рубежом
появилось множество работ, посвященных интертексту и интер­
текстуальности в сфере художественного дискурса, проблему
межтекстового взаимодействия нельзя считать исчерпанной.
В пользу этого говорит то, что литература все решительнее поры­
вает с жизненной реальностью, теряет свою «миметическую референциальность» |Miller 1985, 411], углубляется в самопознание
и ищет источники развития уже внутри себя. Образуется обшир­
ное поле метапоэтики, стирающей границы между собственно
художественными и научно-филологическими жанрами.
Со времен поструктурализма проблема интертекстуальности
впрямую связывалась с проблемой «расщепленности» сознания
современного человека, с поисками в себе Другого и «инаковости» по отношению к самому себе (Ж. Деррида, М. Фуко, амери­
канские деконструктивисты). «Расщепленность»
порождает
стремление выйти за пределы индивидуального языкового созна­
ния в мир уже созданных другими текстов, в бесконечную об­
ласть межтекстовых цепочек, в которой снимается оппозиция
«язык —мир» и смещаются границы между «своими» и «чужими»
текстами. Как следствие этого рождается понятие «децентрации»
текстовой структуры, в которой сосуществуют «нетождественные
друг другу, но вполне равноправные смысловые инстанции»
IDerrida 1980].
Иными словами, создание языковых конструкций «текст
в тексте» и «текст о тексте» связано с активной установкой автора
текста на диалогичность, которая позволяет ему не ограничивать­
ся лишь сферой своего субъективного, индивидуального созна-
ния, а вводить в текст одновременно несколько субъектов выска­
зывания, которые оказываются носителями разных художествен­
ных систем. Возникает то, что еще ранее М. М. Бахтин назвал
«полифонизмом» текста и определил как соприсутствие в тексте
нескольких «голосов».
В этом смысле понятие «полифонизма» текста, благодаря
своей внутренней музыкальной форме, впрямую связывается
с понятием «контрапункта». Как известно, слово «контрапункт»
имеет следующие значения: 1) одновременное сочетание двух
и более самостоятельных мелодий в разных голосах; 2) мелодия,
присочиняемая к данной мелодии; 3) то же, что полифония;
4) подвижной контрапункт — повторное проведение полифони­
ческого построения с изменением интервалов между мелодиями
или времени их вступления друг относительно друга .
Все эти измерения «контрапункта» могут быть развернуты
в применении к явлениям межтекстового взаимодействия, и при
этом обнажится малоизученная на данный момент проблема
организации временных планов при интертекстуальных связях.
И действительно, когда в тексте «встречаются» по крайней
мере два текста, один из которых во времени намного пред­
шествует вновь создаваемому, то происходит включение двух
авторских голосов в разных темпоральных срезах, и при этом
«старший» голос как бы обгоняет «младший», совмещаясь с ним
в своей новой семантической фазе. Показательными в этом
отношении могут быть строки Т. Кибирова из стихотворения
1
2
1
Б. М. Гас паров в своей статье, посвященной анализу композиции романа
Б. Пастернака «Доктор Живаго», которая, по его мнению, основана на принципе
«контрапункта», дает этому ведущему принципу организации следующее опреде­
ление: «принцип контрапункта, то есть совмещения нескольких относительно
автономных и параллельно текущих во времени линий, по которым развивается
текст <...>. Неодновременное и неравномерное вступление разных линий и раз­
личная скорость их протекания создают бесконечное разнообразие их переплете­
ний, при которых любые отдельные линии развития то далеко расходятся, то на
какое-то время сливаются в один поток, каждый раз совмещаясь друг с другом
различными своими фазами. Психологически и символически весь этот процесс
может быть интерпретирован как преодоление линейного течения времени: благодаря
симультанному восприятию разнотекущих, то есть как бы находящихся на разных
временных фазах развития линий, слушатель оказывается способен выйти из
однонаправленного, однородного и необратимого временного потока и тем са­
мым совершить символический акт преодоления времени, а значит, и «преодо­
ления смерти» [Б. Гаспаров 1990, 250].
Сам М. М. Бахтин [1972, 75) писал, что «по существу, с точки зрения
философской эстетики контрапунктические отношения в музыке являются лишь
музыкальной разновидностью понятых широко д н а л о г и чес ких о т н о ш е н и й».
2
«Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социо­
культурной ситуации» (1991), которые, видимо, послужили
«интертекстуальным трамплином» (Р. Барт) для заглавия послед­
него романа В. Пелевина «Generation «П»» («Поколение «П»».
1999):
Мы скажем бодро: «Здравствуй, племя
младое, как румяный персик,
нью дженерэйшен, поколенье,
навеки выбравшее пепси!*
Пушкинские строки, воспроизводящие обращение и поэтому
сокращающие временной разрыв, служат здесь импульсом текстопорождения и даже подвергаются американизации. При этом
меняется адресат обращения: у Пушкина это были деревья, у Кибирова — поколение «пепси», лишь похожее на «персик». Однако
если внимательно посмотреть на круг слов, окружающих ориги­
нальные пушкинские строки, то мы заметим, что среди них
довольно много слов, начинающихся с «п»: племя, поздний, перерастешь, прохожий, приветный, приятельская, приятных (мыслей)
полон, пройдет, — и дважды повторяется смысл, связанный с «пе­
ременой»: и много/Переменилось в жизни для меня,/И сам, покор­
ный общему закону,/Переменился
я —но здесь опять/Минувшее
меня объемлет живо...
Таким образом, не только по своей семантике, но и по
звуковому составу классические строки образуют в тексте Кибирова свою мелодическую линию, соприкасаясь через определен­
ный интервал со строками из того же источника и пополняясь
строками «пленительной смеси» серебряного века: Давай, свободноя стихия!/Мы вырвались!.. Куда же ныне/мы путь направим?...
<...> Давай, давай! Начнем сначала./Не придирайся к рифмам./
Рассказ пленительный, печальный./Ложноклассические
ритмы.
В отличие от Кибирова, «племя младое» у Пелевина [1999, 9]
характеризуется как «беспечальное юное поколение, которое
улыбнулось лету, морю и солнцу — выбрало «Пепси».
Итак, мы попадаем сразу в четыре временных слоя, в которых
«пушкинская классика» неоднократно подвергается переосмыс­
лению: сначала это Пастернак (Два моря менялись в лице:/ Стихия
свободной стихии/С свободной стихией стиха), Мандельштам (И,
словно музыкант на десяти цимбалах,/'<...> Ведет туда-сюда, не
зная сам, как быть,/Запутанный рассказ о рыцарских скандалах./
На языке цикад пленительная смесь/Из грусти пушкинской и сре-
диземной спеси; ложноклассическая шаль Ахматовой), а также упо­
минаемые в тексте Есенин (так же, как и Гандлевский, к которо­
му обращается Кибиров, Сережа, но только адресат Маяков­
ского), Гумилев, затем вспоминаются Самойлов и Рубцов, потом
вступает в силу поколение Кибирова, Гандлевского и, наконец,
Пелевина. При этом имеет место «деконструкция» и перераз­
ложение исходных компонентов текстов разных временных сре­
зов, их перекомпозиция, создающая новое единство и движение
во времени поэтической материи, которая уподобляется музы­
кальной. Снимается прежнее деление на слова и строки, и от­
дельные формообразования-тексты, входящие в состав нового
словесного потока и образующие конструкцию «текст в тексте»,
даже оказываются меньше слова. Так, у Кибирова находим об­
разование, аналогичное пушкинскому «кюхельбекерно», однако
с новым слоем иносказания, поверх исходного: Пусть бенкендорфно здесь и тошно,/но все равно — побойся Бога!
Однако, следуя «букве» классических образцов и используя их
как материал для своих построений, современные авторы «в
процессе интертекстуальной работы» значительно упрощают претексты и стремятся «низвести чужую речь на уровень, лежащий
ниже того, на котором та и впрямь находится, чтобы — парадок­
сальным образом — устранить превосходство над собой иного
«Я»» [Смирнов 19916, 18]. Хотя, видимо, на современном этапе,
в эпоху постмодернизма, когда доминирует принцип «нонселекции» и «отсутствия иерархии», даже трудно говорить о «низведе­
нии», релевантном для эпохи модернизма и исторического аван­
гарда. Прежде всего в основу «устранения» кладется оператор
«не», который либо легко присоединяется к любому претексту,
либо подчеркивается и вычленяется в тексте-источнике. Напри­
мер, у А. Вознесенского в поэме «Жуткий Crisis Супер Стар»
(1999) НЕТ, написанное большими буквами и проецирующееся
на Интернет, утраиваясь до НЕТНЕТНЕТ, превращается в «опре­
деленный артикль ТНЕ», вызывающий к жизни строку Пастерна­
ка «Не тот это город и полночь не та» . Другие же современные
авторы, основываясь на новейших способах «размножения», под­
вергают авторитетные художественные тексты клонированию.
Так, В. Сорокин в романе «Голубое сало» (1999) не просто созда­
ет «пародии» на тексты Достоевского, Толстого, Пастернака
3
3
Ср. также у Л. Лосева вариации на тему «не-Пастернак»: О, если бы я только
мог!/Но я не мог: торчит комок/в гортани, и не будет строк/о свойствах страсти
(«Посвящение»).
и Ахматовой, а доводит художественные принципы и словесные
образования своих предшественников до такой абсурдной ста­
дии, что создает невозможность восприятия и своего собственно­
го текста как некоего целого.
Безусловно, такое расщепление единого текстового потока,
когда почти каждое слово отсылает к претекстам, и разорван­
ность нити повествования, заданная уже самой формой текста,
возникли не сейчас, а как раз в эпоху модернизма. Наиболее
показательной в этом отношении является «Египетская марка»
О. Мандельштама, в которой принцип контрапункта работает
в состоянии разрыва: один и тот же претекст просматривается
сразу с полным веером своих коррелятов и отражений в разных
слоях времени и контекстах. Сама структура текста, подчиняясь
сквозной идее болезненного «разрыва» и «расщепления» (ср.
продырявленыый воздух, раздираемое полотно, расщелина петербур­
гского гранита, перо расщепилось), разделяется на мелкие строфы абзацы, что увеличивает «степень свободы» каждого слова и по­
зволяет ему «жить своей жизнью»; а также дает возможность
свободной смены «точек зрения» и «голосов» повествования. Так,
кореферентные друг другу сущности «расщепляются» по отдален­
ным друг от друга строфам-абзацам: например, «запутанный
рассказ» о пролетке, соотносимой с «лакированной каретой»
«Петербурга» Белого (первоначальным названием романа), ведет­
ся, как и у Ариоста, «на десяти цимбалах»: Роскошное дребезжание
пролетки растаяло в тишине, подозрительной, как кирасирская
молитва [2, 76] «-> Пролетка была с классическим, скорее москов­
ским, чем петербургским шиком; <...> с блестящими лакированными
крыльями. <...>— ни дать, ни взять греческая колесница [2, 78].
Одновременно на звуковом уровне возникает соотношение клас­
сическим /колесница, аллюзивно связанное с Аполлоном (это имя
носит и один из главных героев «Петербурга»). При этом сам
герой повести называется то «египетской маркой», то «лакиро­
ванным копытом» [2, 70].
Неудивительно, что сама теория М. М. Бахтина, приведшая
к формулированию идеи «неоднородности текста» и наличия
4
4
Идея «расщепления» личности и соответственно создаваемого им текста —
доминантная у Мандельштама и проходит через все его творчество. Формулиров­
ку ее он дает еще в статье «Франсуа Виллон» (1910): «лирический поэт, по
природе своей, двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во
имя внутреннего диалога» [2, 138). Тексты цитируются по изданиям, приведен­
ным в списке источников, с указанием тома и страницы.
нескольких «текстов в тексте» [Лотман 19816] родилась одновре­
менно с метаязыковыми и метатекстовыми поисками в литерату­
ре начала XX века и стала их имплицитным описывающим меха­
низмом. В этом смысле Ф. М. Достоевский как объект изучения
стал для Бахтина лишь катализатором идеи «полифонии» и «диалогизма» слова в романе, а не реальным ее «носителем».
Ю. Кристева совершенно справедливо подчеркивала, что поли­
фонический роман XX столетия (Джойс, Пруст, Кафка) кардина­
льно отличается от романов предшествующих эпох, поскольку
«реализуется внутри языка» и отличается выявленной установкой
на интертекстуальность. Ср. «Сама теория Бахтина (так же, как
и теория соссюровских «анаграмм») возникла исторически из
этого разрыва. Бахтин смог открыть текстуальный диалогизм
в письме Маяковского, Хлебникова, Белого <...> раньше, чем
выявить его в истории литературы как принцип всякой подрыв­
ной деятельности и всякой контестативной текстуальной продук­
тивности» [Kristeva 1970, 92—93].
Однако авторы эпохи постмодернизма, видимо, не в силах
привыкнуть к мысли, что «маленький томик Пастернака» (а
также томики его современников) «уже попал в эту вечность»
и нет «никакой силы, способной его оттуда выкинуть» [Пелевин
1999, 14], и точно так же, как и герой романа «Поколение «П»»
Пелевина, становятся литературными «копирайтерами» и «криэйторами», в произведениях которых песни модных групп и со­
временные слоганы соседствуют с «аллюзиями на позднего Дос­
тоевского» . И их «контестативная продуктивность» на новом
временном витке «интертекстуальной работы» основывается на
двух «китах»: (1) возможности существования текста в электрон­
ном виде, когда любой интертекст может быть эксплицирован
при помощи «гипертекстуальных ссылок», (2) ощущении повы­
шенной «телесности», «физической самобытности» и даже «эро­
тичности» (Р. Барт) заимствованного цитируемого текста по от­
ношению к его синтагматическому окружению.
5
6
7
' Точно так же, по свидетельству Б. Лившица, будетляне хотя и «бросали»
в своих манифестах Пушкина с «парохода современности», спали «с Пушкиным
под подушкой» [Лившиц 1933, 222).
Высказывание героя Пелевина как бы вторит выводам Г. Блума [1975]
о том, что молодой писатель, страшась, что все места в литературе уже заняты
классиками, обрушивается на последних, искажая классические образцы.
Так, Ю. Ким просто адресуется к Достоевскому: Вот как вышло-то, Федор
Михалыч//Пошло вышло./Впрочем, Вы это, может быть, видите сами... («Памяти
Достоевского»).
6
7
Что касается первого «кита», то, по мнению Дж. П. Ландоу
[Landow 1992], определения идеального текста Р. Барта, Ю. Кристевой (типа «Всякий текст есть между-текст по отношению
к другому тексту» [Барт 1989, 418] и «Для познающего субъекта
интертекстуальность —это понятие, которое будет признаком то­
го способа, каким текст прочитывает историю и вписывается
в нее» [Kristeva 1969, 443]) как бы предрекают появление понятия
«гипертекста». Неудивительно поэтому, что сам термин «гипер­
текст» появился почти одновременно с термином «интертексту­
альность», введенным Ю. Кристевой. «Гипертекст» как понятие
был терминологизирован Т. Нельсоном и Д. Энгельгардтом
в 1967 году. Под «гипертекстом» стали понимать текст, фрагмен­
ты которого снабжены определенной системой выявленных свя­
зей с другими текстами и предлагают читателю различные «пути»
прочтения (см. [Landow 1992, 3—4]). Таким образом, каждый
текст оказывается включенным во всю систему созданных до него
или параллельно с ним текстов, приобретает визуальное много­
мерное представление и становится «мультисеквенциальным»,
т. е. читается в любой последовательности . Более того, новый
текст и исходные, к которым даны отсылки, могут одновременно
сосуществовать на экране компьютера. «По существу, гипертекст,
в своей законченной форме, предстает перед нами как самодеконструирующийся текст. Если смысл линейного текста —это
результат иерархического упорядочения отдельных его смысло­
вых фрагментов, то в гипертексте эта иерархия исчезает. В про­
странстве гипертекстов любой подавляемый голос отсылает
к тексту, в котором он является главным. Здесь от классического
«различия», когда один из полюсов бинарной оппозиции ставит­
ся в преимущественное положение, происходит естественный
переход к дерридеанскому «различАнию», когда полюса оппози­
ции принципиально равноправны» [Корнев 1998, 41] .
Понятно, что такое представление текста уже самой своей
структурой обеспечивает его «децентрацию», и поэтому совер­
шенно естественно, что ориентация на «гипертекстуальное созна­
ние» порождает тексты, созданные по типу словарей, энциклопе­
дий или строение которых можно обозначить как «На Ваше
усмотрение» (ср. заглавие романа Р. Федермана) или «Сад рас8
9
8
У. Эко [1998, 6] даст следующее определение гипертекста: «Гипертекст —
многомерная сеть, в которой каждая точка или узел самостоятельно увязывается
с любой другой точкой или узлом».
См. также [Хартунг, Брейдо 1996], [Лукин 1999, 114].
9
холящихся тропок» (ср. название рассказа X. —Л. Борхеса). По­
добная композиция текста в какой-то мере приравнивает на
уровне интерпретации писателя и читателя, поскольку выбор
и смена фокуса и пути чтения текста зависят по преимуществу от
«потребителя» информации.
Однако при создании собственно художественных текстов
«гипертекстуальность» как раз и таит в себе основные подводные
камни. Она позволяет работать лишь в локальном контексте, где
многочисленные связи еще обозримы и воспринимаемы, но об­
рекает на неудачу возможность целостного существования боль­
шой формы как в прозе, так и в поэзии. Парадоксальным об­
разом экспликация связей между текстами не усиливает его
«полифоничность» и «многоголосие», а лишь делает явным, что
вновь создаваемый текст вращается вокруг очень ограниченного
и замкнутого круга текстов, на который он ссылается. Эффекта
«множественности текста» (Р. Барт) не возникает, не создается
и ожидаемая «когерентность» ставшего линейным гипертекста,
заданного лишь соположением предложений и строф. Ср., на­
пример, отрывки из текста под названием «Александрийцы» (гл.
«Футуризм») В. Сосноры:
пароход современности вез по волге из корсуня с Кавказа молодежь с медными
щеками в цилиндрах с нарисованными самолетиками на лбу и под чириканье чаек
сбрасывали с мачты вниз в набежавшую волну винную в пузырях александрий­
ское бревно с курчавым чучелом на вершине <...>
ничто не мешало этим смехачам ни тупые волны власти ни царь ни полиция
ни народ дуреющий на берегу от семечек помидоров и дынь <...>
алексей крученых компас он автор слова заумь и формулы заумный язык и это не
эпатаж на самом деле крученых считает что поэт имеет право на язык изобретен­
ный лилия прекрасна но название ее пошло а сама затасканная крученых обнов­
ляет называю лилию еуы создает род концертного речетатива с чтением вьюги
волчьих когтей верещанья крыльев ласточкоподобных его заумь от древнерусских
заклинания змей и ведьм плясовых стержней марионеток крученых же начинает
свой манифест дыр бул щыл убешщур мая ко вс кий декларирует есть еще хорошие
буквы эр ша ща сравним автор слова о полку игореве боян бо вещий аще кому
хотяще и т. д.
При такой «имплантированной» (С. Корнев) интертекстуаль­
ности, пропадает главное эстетическое содержание интертексту­
ального отношения— «несравненная радость открытия в сокры­
тии» (М. Цветаева). Такая «радость узнаванья» заложена лишь
в авторской «центрации» смысла, когда, по мысли Л. Женни
[Jenny 1976, 262] трансформация и ассимиляция множества тек­
стов осуществляется «центрирующим текстом, сохраняющим за
собой лидерство смысла». Таким образом, для осуществления
реального текстового взаимодействия необходимо, чтобы текст
стал «садом сходящихся тропок» .
Именно с «наслаждением от текста» связана и повышенная
установка на его «эротичность», понятая современными поэтами
буквально. Прежде всего это находит свое выражение в акцентуа­
ции «родовой» (а на самом деле половой) принадлежности язы­
ковых единиц, которые являются показателями межтекстовых
отношений. Интересные примеры такой «родовой» интертекстуализации находим в работах Л. В. Зубовой [1998] под общим
названием «Категория рода и лингвистический эксперимент в со­
временной поэзии». Исследовательница отмечает в произведени­
ях современных поэтов родовой грамматический конфликт меж­
ду словами-реалиями подтекста-источника и вновь рождаемого
текста. Наиболее показательно стихотворение Л. Лосева «Цитат­
ник», травестирующее «Песнь о Вещем Олеге» Пушкина. В нем
поэт представляет отношения души с телом как отношение Олега
с конем (Как ныне прощается с телом душа,/<...>/Она
—еще,
право, куда хороша,/Оно — пожило и устало), но при этом взаимо­
отношения «родов» меняются. Обращение к «телу» вводит и дру­
гие «телесные» преобразования текста: возникает игра, основан­
ная на перекрытии интертекстуального и буквально-референциального смыслов. «Нога» (вспомним знаменитые пушкинские
«ножки») и «язык» становятся «слугами» поэта: «Прощай, мой
товарищ, мой верный нога,/проститься настало нам время./И ты,
ненадежный, но добрый слуга,/что сеял зазря свое семя./И ты, мой
язык, неразумный хазар,/умолкни навеки, окончен базар». Л. В. Зу­
бова отмечает, что строка о языке «соотносится не только с лето­
писным и пушкинским источником (ср. отмстить неразумным
хазарам), но и с поговоркой «язык мой —враг мой» [там же]. В то
же время строки о языке показывают, что разговор идет не
о князе Олеге, а о поэте, призванном сеять «разумное, доброе,
вечное». В реальности же возникает не только грамматическая
игра-аномалия, связанная с тем, что слово «слуга» раньше было
женского рода, а теперь общего, но и паронимия неразумный
хазар —зазря —базар, которая образует предикативный слой
«языка».
Непосредственно же «эротика текста» обретает свою жизнь
в языке и литературе благодаря паронимии интертекстуальность/
10
10
Именно так называется венок сонетов современного поэта А. Крестовиковского.
интерсексуальность". Исходно существовавшее поэтическое со­
общение может быть легко превращено в новое, лишь стоит
с него снять ореол «высокого» и сделать «примитивно ощути­
мым»: Но когда сам язык указывал на пол стихий, сил, светил, их
отношения вытекали из языка. Ветер гонял стаи тун. Звезда
говорила со звездою. Русское гермафродитное солнце надолго засело
за русским андрогинным морем [ср. Солнце за море садится.—
Н. Ф.] (В. Нарбикова «Равновесие света дневных и ночных
звезд»). Нарочито акцентируются языковые и шире знаковые
характеристики предшествующего текста (в последнем примере
«грамматический род» природных явлений), вплоть до восстанов­
ления его собственного «интертекстуального» генезиса.
Итак, любое интертекстуальное отношение строится на вза­
имопроникновении текстов разных временных слоев, и каждый
новый слой преобразует старый. В этом смысле отношение между
данным текстом и его претекстом становится подобным тропеическому, и, как считают американские деконструктивисты, «на
первый план в качестве смыслопорождающих выдвигаются внут­
ренние элементы языка, якобы имманентная ему «риторическая
форма», освобождающая его от прямой связи с внеязыковой
реальностью» (см. [Ильин 1996, 189]). Причем каждый новый
интертекстуальный слой все более будет терять прямую денотацию и будет приобретать «метареферентную функцию интерпре­
тации или экспликации референтного смысла прототекста»
[Смирнов 1985, 9].
Проследим, к примеру, хотя бы одну интертекстуальную линию,
по которой шло приращение смысла пушкинской строки «жизни
мышья беготня». В романе А. Белого «Петербург» о «мышке»
вспоминает Николай Аполлонович, «ловя убежавшую мысль»,
и «мышь» становится «шипящим» коррелятом «мысли», превращая
«ужасное содержание» романа в «себя измышлявшие мысли». У совре­
менного же поэта А. Левина мы уже встречаем аграмматическую
конструкцию «серых мышлей раз за разом вылезало из норы», которых
так же много, как и «жижиц мухалиц летало много более одной».
Таким образом, словесный символ «мышья» сначала, претерпевая
«смягчение», раздваивается у Белого, образуя варианты основы
11
На сближении этих терминов играют и современные исследователи интер­
текстуальности. Так, Н. Букс [1998, 185J считает, что «аллюзивная природа эроти­
ки обеспечивает в произведении дополнительный род отсылок, творчески мото­
ризует исходный прием литературной аллюзии». Последняя глава ее книги
о В Набокове так и называется «Эротика литературных аллюзий в романе «Дар»».
мышь/мышля/мысль с параллельным значением 'бег мыши —бег
мысли', а затем у Левина эта основа уже в метатекстовом варианте
мышл' (как словообразовательный и семантический межтекстовый
неологизм) подвергается обратной метафоризации — в ней вновь
становится явным «животное начало» (т. е. пушкинский текст
в тексте Белого), а сама «мышль» связывается с другими предста­
вителями литературно-мифологического царства, в которых ак­
тивизируются звуки серой «жизни» «побегающих мерзайцев» и по­
рождаются новые ненормативные образования, имеющие интер­
текстуальный генезис . И эти семантические аграмматизмы, как
заметил М. Риффатерр [RifTatterTe 1979, 249], «в силу того, что
они блокируют декодирование, заставляют читателя непосред­
ственно читать структуры».
Одновременно в этой цепочке преобразований «текст в тек­
сте» нарастает игровое начало интертекстуализации. «Текст в тек­
сте,—пишет Ю. М. Лотман [1992, ПО—111], —это специфиче­
ское риторическое построение, при котором различие в закоди­
рованное™ разных частей текста делается выявленным фактором
авторского построения и читательского восприятия текста. Пере­
ключение из одной системы семиотического осознания текста
в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет
в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение,
прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого
способа кодирования, текст приобретает черты повышенной ус­
ловности, подчеркивается его игровой характер».
При этом прослеживается следующая закономерность: чем
вновь создаваемый текст более отдален во времени от текстаисточника, тем в нем ярче проступает игровой характер обраще­
ния с прототекстом, снимающий авторитетность последнего. Это
проявляет себя даже в том, что в текстах-донорах может даже
смещаться понятие «нормы». В этом смысле интертекстуальная
игра, с одной стороны, также выступает как один из способов
сокращения временной перспективы, с другой — задает такой
угол смещения культурной проекции, что прототекст как бы
изживает сам себя: внимание сосредоточивается не на нем, а на
степени его искажения. Иными словами, элементы, находящиеся
на переднем плане, приобретают «свои очертания только в про12
12
Например, лисица в этом стихотворении начинает «размышлять», как
съесть убегающего «мерзайца». Ср. также «Мухи как мысли» И. Анненского
и «Мухи, как черные мысли» А. Апухтина, а также весь ряд вариаций на тему
«мух» в русской литературе, описанный в работе (Хансен-Лёве 1999).
цессе перемещения с заднего плана. Но поскольку выделенный
элемент первоначально был составной частью заднего плана, то
он как таковой создается только сейчас» [Изер 1997, 130].
Поэтому в задачу нашей работы входит показать, как посте­
пенно в XX веке литературное творчество для «интертекстуаль­
ной работы» выбирало для себя не проекцию углубления исход­
ной перспективы текста, а проекцию ее «расщепления» и как
«язык-объект» литературы все больше становился ее «метаязы­
ком», но в «разобранном виде». Мы хотим исследовать тексты
разных временных срезов с начала XX века до наших дней,
которые связаны принадлежностью к русской литературе и об­
щностью языка, выявив как фазы совмещения этих текстов, так
и фазы их расхождения. При этом мы надеемся, что сам текст
этой книги также будет подчинен принципу контрапункта: это
будет некая новая линия изучения проблемы «интертекстуаль­
ности», которая в определенной своей фазе должна совместиться
со всеми предшествующими.
Отдельные фрагменты этой книги писались и публиковались
в разное время, однако хочется думать, что сейчас эти в полном
смысле слова «пре-тексты», прямо не связанные друг с другом
до настоящего момента, соединятся в единое текстовое про­
странство.
ЧАСТЬ 1
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
1.1. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФУНКЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Если ты художник, копируй!
Всегда что-нибудь останется.
Всегда что-нибудь да родится.
С. Дали
В трудах по лингвистике текста последних лет термины
«интертекст», «интертекстуальность» вместе с термином «диалогичность» получили очень широкое распространение (ср.,
например, работы
Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Дерриды,
М. Риффатерра,
Г. Блума,
К. Тарановского,
И. Смирнова,
А.Жолковского, И.Ильина, Р. Тименчика, С. Золяна и др.) .
Однако как в зарубежной, так и отечественной лингвистике,
во-первых, не существует четкого теоретического обоснования
понятий, стоящих за этими терминами, во-вторых, не получили
полного развития идеи М. М. Бахтина, сформулированные им
еще в 1924 году в работе «Проблема содержания, материала
и формы в словесном художественном творчестве». А именно те,
согласно которым писатель, определяя в процессе творчества
отношения своего текста к другим текстам, не только выходит
в широкий «диалогический» контекст настоящей, предшест­
вующей и последующей литературы, но и вырабатывает свою
эстетико-мировоззрительную позицию и те художественные
формы, которые наиболее адекватным образом позволяют ее
выразить.
Говоря об «интертекстуальности», кажется вполне обоснован­
ным различать две ее стороны — читательскую (исследователь­
скую) и авторскую. С точки зрения читателя интертекстуаль­
ность—это установка на (1) более углубленное понимание текста
или (2) разрешение непонимания текста (текстовых аномалий) за
счет установления многомерных связей с другими текстами
1
1
См. также (Кузьмина 1999].
( Т > 1). Для читателя всегда существует альтернатива: либо про­
должать чтение, рассматривая некоторую языковую формулу
лишь как фрагмент данного текста, ничем не отличающийся от
других и являющийся органичной частью его синтагматического
строения, либо для адекватного понимания данного текста ему
необходимо обратиться к тексту-источнику, осуществив своего
рода «интеллектуальный анамнез», благодаря которому маркиро­
ванный элемент в парадигматической системе текста-реципиента
выступает как «смещенный и отсылающий к синтагматике исход­
ного текста» (см. [Jenny 1976, 266[).
По аналогии с интертекстуальностью можно говорить об ав­
тотекстуальности, когда непонимание разрешается за счет уста­
новления многомерных связей, порождаемых циркуляцией
интертекстуальных элементов внутри одного и того же текста.
Показательной с этой точки зрения является повесть Т. Тол­
стой «Лимпопо» (1990), смысловая глубина заглавия которой
раскрывается читателю по мере разрешения им различных
межтекстовых и внутритекстовых соотношений. Основная оп­
позиция произведения «Россия — Африка» — она же основа
межтекстовой и «межмировой» (в двух значениях —лингвисти­
ческом и философском) референции. Так, в повести обыгрывается одна и та же текстовая ситуация: не нашли приюта
в метельной России ни «негр» Александр Пушкин, ни не­
гритянская девушка Джуди, приехавшая в Россию учиться
лечить животных. Ее полюбил, с надеждой родить нового
Пушкина, поэт-диссидент Леня. Все действие повести раз­
ворачивается на фоне лейтмотивных строк «Метели» Б. Па­
стернака (Не тот это город, и полночь не та) и «Доктора
Айболита» К. Чуковского, герой которого проделывает обратный
путь из России в Африку и все время «бежит» в неизвестном
направлении, подобно основным героям повести (и вперед
побежал Айболит, и одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо,
Лимпопо). Там, в Африке, гибнет растерзанный неким диким
животным Ленин дядя «Женя», который был слишком «честных
правил», здесь «в мрачных пропастях земли» России—Джуди,
2
2
Эта оппозиция была очень важна для Пушкина. «Следует особо отметить
пушкинский порыв умчаться в экзотическую свободную страну, — пишет В. На­
боков в комментарии к «Евгению Онегину» [1998, 47], —сказочный край, басно­
словную Африку с единственной целью — мучительно сожалеть там о сумрачной
России (той самой стране, которую он покинул), сочетая таким образом новый
опыт и сохраненные воспоминания в синтезе художественной переоценки». Все
эти наблюдения Набокова «играют» в «Лимпопо» Толстой.
которая характеризуется автором, «цитирующим Ленечку», как
обрывок мрака, уголь среди метели, мандариновые шали в москов­
ском январе, под Сретенье! В честь этой негритянской девушки
в начале повести героиня-нарратор и зажигает свечу, отблеск
поэтической валентности которой восстанавливает в прозаиче­
ском тексте по принципу контраста «Зимнюю ночь» Пастерна­
ка—точнее, «доктора» Живаго (И горела свеча, <...> и неслась за
окном метель...).
Ленечка же после смерти Джуди помутился в рассудке и «бе­
жал в леса на четвереньках»— он становится символом того
«дикого среднерусского человека», в памяти которого строки
«Памятника» Пушкина так и остаются незавершенными: И гор­
дый внук славян и ныне дикий... Ведь новый Пушкин так и не
родился (А Пушкина все не было), а его реальный памятник
видится оставшимся в живых после лет застоя героям «Лимпопо»
как «негреющий, занесенный московскими метелями, металли­
ческий футляр», в своем «командорском обличье» готовый благо­
словить всех —людей и животных, «пропавших среди пиров,
в житейском море, и в мрачных пропастях земли» (Ср. слова
настоящего Пушкина: Бог помочь вам, друзья мои,/<...>/И
на
пирах разгульной дружбы,/ <...>/И в бурях, и в житейском горе,/В
краю чужом, в пустынном море,/ И в мрачных пропастях земли).
Так кончается эпоха «беспамятства», для которой «Москва,
Лимпопо, город Р. или остров Итака —не все ли одно?» Ведь, по
совету, который автор мысленно дает Джуди, если «раскрыть
книги», то: «все бегут, бегут,— прочь от себя и на поиски себя
самого : бесконечно бежит Одиссей, кружа и топчась в мелком
блюдце Средиземного моря, <...> перебирая шестью ногами и не
двигаясь с места, бежит доктор Айболит, тоже, вроде тебя,
размечтавшийся о каких-то заморских больных зверях...» И ока­
зывается, что три слова Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо кодируют
семантику вечного кружения пушкинской метели «Бесов», его
«Дорожных жалоб» (ведь на месте могилки Джуди проложили
шоссе в «Лимпопо») и русскую поэтическую формулу «бега»
«Медного всадника», а интеллигент Ленечка так похож на бедно­
го Евгения, «смятенный ум» которого «против ужасных потрясе­
ний не устоял»: И так он свой несчастный век/Влачил, ни зверь,
ни человек...
3
• Эти строки Толстой почти точно повторяют слова главного героя романа
«Дар» о своем отце (он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то |3. 104)),
образ которого сливается у Набокова с образом Пушкина (см. 2.6).
/ftp-five*
л*
tt
Рис 1
Повесть «Лимпопо» Т. Толстой наглядно показывает, что
расщепленность семантики художественного слова становится
ключевой интертекстуальной фигурой, причем часто менее
актуальные для полного раскрытия смысла текста межтекстовые
параллели более эксплицированы, чем те, с которыми данный
текст носит глубинные связи, и именно имплицитный текст
становится местом множественного структурирования смысла.
Так, на первый взгляд, видение памятника Пушкина в «Лим­
попо» оказывается абсолютно контрастным тому, которое
рисуется в эссе М. Цветаевой «Мой Пушкин» (1937). Однако
у Толстой мы встречаем такое же превосходство «черного»
над «белым»: тщательное интертекстуальное сравнение об­
наруживает, что Джуди описана в повести подобно (столбик
живой темноты, кусочек мглы, дрожащий от холода, карие
собачьи глаза <...> уголь среди метели) Памятнику-Пушкина
у Цветаевой (Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака,
еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда
над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое [1986,
337]).
В нарративном тексте стратегия интертекстуальности стано­
вится особенно эффективной в местах нарушения линейной ло­
гики рассказа, когда дискурсивные аномалии могут быть раз­
решены только за счет выхода в другой текст. Таковы в большин­
стве своем романы В. Нарбиковой. Ср., например, ее «...и
путешествие» (1996), где история отношений героини романа с ее
мужем проецируется на пушкинскую биографию и тексты, клю­
чом этого интертекстуального отношения служит неслучайное
совпадение имени-отчества «Александр Сергеевич» у «мужа»
и «поэта»: Киса любила Александра Сергеевича безусловно, но если
бы он был Пушкин, она любила его еще больше.... Это совпадение
затем создает сюжетную игру, которая строится на «раздвоении»
литературных ролей «мужа» и «поэта» .
С точки зрения автора интертекстуальность — это способ
генезиса собственного текста и постулирования собственного
поэтического «Я» через сложную систему отношений оп­
позиций, идентификаций и маскировки с текстами других
авторов (т. е. других поэтических «Я»). Аналогично можно
говорить об автоинтертекстуальности, когда при порождении
нового текста эта система оппозиций, идентификаций и мас­
кировки действует уже в структуре идиолекта определенного
автора, создавая многомерность его «Я». Таким образом,
в процессе творчества вторым «Я» поэта, с которым он
вступает в «диалог» (или, точнее, автокоммуникацию «Я-Ты»,
«Я-Он»), может быть как поэт-предшественник, так и он
сам. В процессе матаосмысления и метаописания создается
«диалогичность» литературных текстов. Эта «диалогичность»
делает очевидным, почему двойственность, двойничество ста­
новятся столь органичными способами интертекстуализации:
соотнесение текста с другими порождает «двойников» как
на уровне сюжета, так и на уровне «текст-текст» (см. [Lachmann
1990]).
Рассмотрим, например, своеобразную автометаописательную
систему соотношений, образуемую заглавиями и текстами
В. Нарбиковой. Так, заглавие ее повести «План первого лица.
И второго» (1993) (в которой главными героями-любовниками
«иррациональной» героини оказываются Додостоевский и Тоестьлстой ) получает мотивировку в романе «...и путешествие».
Этот роман открывается тремя «предисловиями»— автора, героя,
4
5
4
Иногда все же героиня приходит к более общему интертекстуальному
выводу: «Хотя, кто знает, может А. С. Пушкин был и мужем, и отцом, и поэтом,
может, он был наше все*, играя на фразе Ап. Григорьева «Пушкин —наше все»,
которая стала крылатой благодаря юбилейной речи Ф. Достоевского.
В произведениях В. Нарбиковой часто намеренно искажаются (и этим
снижаются) уважаемые и даже «святые» имена и фамилии: Тоестьлтой, Додосто­
евский, Негоголь, Свя, Отматфеян, последний из которых орфографически ста­
новится арменином, Муравьев становится Муравьевым, апостол — апостолом.
Пушкин же превращается в «вводное слово», равнозначное кстати [Нарбикова
1994, ПО], и выступает «предлогом для любого разговора» и для любого произ­
ведения самой Нарбиковой (ср. «...и путешествие», «Шепот шума», «Пробег —про
бег» и др.).
5
читателя. В первом раскрывается автокоммуникативная сущ­
ность творчества (Но не произнося ни слова, не понимая ни слова,
ты бежишь из «Ты» в «Я», совершая необычайное путешествие из
второго в первое лицо), во втором — происхождение героя (Напи­
сать о себе самом на себе самом —не так просто. Потому что
героем романа и являюсь Я—Язык. <...> С автором у нас любовь,
мучение, страсть), последнее предисловие — пустое, заполняется
каждым читателем самостоятельно. Конец же романа Нарбико­
вой вновь обращает нас к формуле «бега» (Бежать впереди себя.
Успевать за самим собой) и «Памятнику» Пушкина (...и буду тем
дороже я народам). Я-героиня романа, живущая в Германии,
отказывается от чтения и перевода плохих стихов немецкого
поэта, заменившего ей мужа «Александра Сергеевича», и начи­
нает писать свое стихотворение, переносясь из чужой страны
в «...и путешествие». И в этом безусловно можно увидеть
композиционный ход, аналогичный тому, который мы встречаем
в «Даре» (1937) В. Набокова: там главный герой —поэт и писа­
тель Федор Годунов-Чердынцев также отправляется из «Герма­
нии туманной» в словесную игру-путешествие со своим отцом,
который оказывается по своим интертекстуальным характерис­
тикам воображаемым двойником Пушкина (см. подробно 2.6).
Становится очевидным, что любое интертекстуальное сближение
основывается не только на лексических совпадениях, но и на
структурном сходстве, «при котором текст и его интертекст
являются вариантами одной и той же структуры» [Riffatterre
1972, 132]. Именно поэтому следует говорить не только о соб­
ственно межтекстовых связях, но и о более глубинных интеридиостилевых влияниях.
Благодаря авторской интертекстуальности все пространство
поэтической и культурной памяти вводится в структуру вновь
создаваемого текста как смыслообразующий элемент, и таким
образом литературная традиция идет не из прошлого в настоя­
щее, а из настоящего в прошлое и «конституируется всяким
новым художественным явлением» [Borges 1970, 236]. Причем
подобной смысловой обратимостью могут обладать и тексты
одного автора, что показывает, например, исследование М. Эпштейна «Медный всадник и золотая рыбка. Поэма-сказка Пуш­
кина» [1996). В нем ученый, выбирая третьим, интерпретирую­
щим текстом так называемый «Петербургский текст» Ф. Достоев­
ского, находит общность в замысле, композиции, системе
образов у двух созданных почти одновременно, но совершенно
разножанровых произведениях Пушкина («Медный всадник»
и «Сказка о рыбаке и рыбке» — болдинская осень 1833 г.). Осно­
вой сопоставления послужили М. Эпштейну пушкинские автоинтертекстуальные соответствия. «То, что у Пушкина разделя­
лось на трагический и комический варианты сюжета, у Достоев­
ского в предельно сжатой, однообразной формуле выступает как
слитый гротескно-фантастический образ: трагедия исчезнувшего
города и комически застрявший среди болота медный всадник.
Памятник основателю того, что так и не приобрело основы»,—
суммирует Эпштейн [1996,214]. Завершение же этой интертексту­
альной линии (На берегу пустынных волн <...> Чтоб служила мне
рыбка золотая), в котором сведены все мотивы Пушкина-Досто­
евского, автор статьи видит в словах В. Розанова 1918 года, кото­
рые суммируют сюжет уже самой российской истории: «Боже,
Россия пуста ... Мечтая о «золотой рыбке» будущности и ис­
торического величия» [там же, 215].
Параллели, установленные М. Эпштейном, парадоксальным
образом помогают увидеть еще одну страшную координату ранее
обсуждаемой повести Т. Толстой «Лимпопо»: таким же «болотным»
памятником выглядит в начале 1980-х годов московский «памят­
ник» Пушкину — «слепое позеленевшее лицо, до ушей загаженное
голубями мира...». Здесь в качестве «третьего» текста выступает уже
детская сказка К. Чуковского, где «из болота тащат бегемота».
Все это говорит о том, что при установлении интертекстуаль­
ных связей важен «принцип третьего текста», введенный М. Риффатерром («третий» здесь, конечно, условность, важно, что коли­
чество текстов больше двух). Опираясь на семиотический тре­
угольник Г. Фреге, Риффатерр [Riffaterre 1972, 135] рисует свой,
где Т —текст, Т ' —интертекст, И — интерпретанта:
И
Рис.
2
И совершенно обоснованно пишет, что «интертекстуальность
не функционирует и, следовательно, не получает текстуаль­
ности, если чтение от Т к Т ' не проходит через И, если
интерпретация текста через интертекст не является функцией
интерпретанты» [там же]. Все это, согласно Риффатерру, позво­
ляет говорить о том, что текст и интертекст не связаны между
собой как «донор» и «реципиент» и их отношения не сводимы
к примитивному представлению о «заимствованиях» и «влияни­
ях». Благодаря интерпретанте происходит скрещение и взаимная
трансформация смыслов обоих текстов, и появляется то, что
Бахтин называл «смысловыми гибридами» (см. также [Ямпольский 1993, 82]).
По мнению М. Ямпольского [1993, 136], ««сильные» произ­
ведения и авторы, вокруг которых и разворачивается истин­
ный процесс художественной эволюции, включены в интер­
текстуальные связи совершенно особым образом. В их про­
изведениях цитаты —это не просто нуждающиеся в нор­
мализации аномалии, но и указания-сокрытия эволюционного
отношения к предшественнику. Цитирование становится па­
радоксальным способом утверждения оригинальности». Для
доказательства положений об обратимости эволюции и о «силь­
ных» авторах вернемся из настоящего в эпоху «серебряно­
го века» русской литературы. Как известно, эта литературная
эпоха, именующаяся еще эпохой «модернизма» и «авангар­
да», согласно своим манифестам, должна была стать тотальным
отрицанием предшествующей классической традиции. Однако
фактически, с точки зрения теории интертекста и памяти
поэтического слова, она стала, если говорить о самых «силь­
ных» ее представителях, эпохой «странного авангарда» (исполь­
зуя слова Б. Пастернака). Несмотря на то, что блокировка
всех связей с предшественниками, а значит, и блокировка интер­
текстуальности входили в программу авангарда, все лучшие про­
изведения первой трети XX века ориентированы на интертексту­
альные интерпретации—т. е. на память живого поэтического
слова.
Самым ярким примером указания-сокрытия эволюционного
отношения к предшественнику можно считать «Тему с ва­
риациями» (1918) Б. Пастернака, посвященную Пушкину. Слова
«Подражательной» вариации В его устах звучало «завтра»,/Как
на устах иных «вчера», вложенные в процессе' воображаемого
диалога «Я —Он» одновременно в уста Пушкина и, из-за
неопределенности референции местоимения Он в начале текста
(На берегу пустынных волн/Стоял он дум великих полн), в уста
героя поэмы «Медный всадник» —Петра I, как нельзя лучше
отражают саму сущность интертекстуализации как семиотиче­
ского явления. Дело в том, что Пастернак в своих вариациях
фактически строит интенсиональную функцию, которая не толь­
ко соединяет его тексты с пушкинскими, но и соединяет три
эпохи — «начало славных дней Петра», последний период твор­
чества Пушкина (после «слома» 1829—1830 гг.), а также со­
временную ему эпоху. При этом благодаря цитации «мир, кото­
рый описывается в одних и тех же выражениях, может восприни­
маться как 'один и тот же, регулярно воспроизводимый
в определенные моменты времени'» [Золян 1989а, 160]. Ср.
у самого Пастернака: Два дня в двух мирах... (хотя на самом деле
их три, что покажет все последующее творчество поэта —хотя бы
«Столетье с лишним —не вчера» (1931), памятью текста восходя­
щее к «Стансам» (1826) Пушкина).
«Цитация в данном случае оказывается лингвистически зада­
ваемым и определяемым отношением между мирами и контек­
стами, а не между языковыми выражениями и смыслами. От­
ношения между выражениями и смыслами выступают как средст­
во для установления межмировых соответствий» [Золян 1989а,
161]. А именно, для Пастернака важным становится установление
двух «параллелей»: одна из них чисто творческая —стремление
переосмыслить свою «авангардно-сложную» поэтическую манеру
через позицию третьего лица —Пушкина, поэзия которого все
более становится для Пастернака ориентиром «неслыханной про­
стоты»; вторая —социально-политическая, впоследствии полу­
чившая выражение в еще одной «вариации» Пушкина: Начало
славных дней Петра/Мрачили мятежи и казни, как ни пытался
Пастернак разными способами камуфлировать, «разнить» оба эти
«сравненья» .
Ведь еще ранее он создает цикл «Петербург» (1915), давший
название всей книге «Поверх барьеров». Именно в этом цикле
6
6
Ср. парадоксальное высказывание Пастернака в письме 1922 г. Ю. И. Юркуну: «Я серьезно и запальчиво заявляю им [людям Революции], что я —ком­
мунист <...> а затем уже раздраженной скороговоркой прибавляю, что ком­
мунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, — и слава Богу, Пушкинское время,
и, как ни дико быть Петербургу в Москве, ему было бы легче этот географический
парадокс осилить, если бы все эти «люди революции» не были бы личными
врагами памятника на Тверском бульваре и, следовательно,—контрреволюци­
онерами» [5, 126].
множественность позиций «лирического субъекта» в диалоге
«Я — мир» позволяет обнаружить большое число взаимоиск­
лючающих друг друга (с точки зрения одной позиции) связей:
при «сотворении» «Петербурга» происходит нейтрализация оп­
позиций автора/наблюдателя/героя и субъекта/объекта твор­
чества. Это «со-творение» представлено через смену точек
зрения «сновидения Я». Заметим, что сам создатель Петербур­
га—Петр I —ни разу не назван своим именем в качестве син­
таксического субъекта в первой части «Петербурга», как и в по­
эме «Медный всадник» Пушкина, где о Петре напоминают
лишь местоимение Он и словосочетания Петра творенье; град
Петров; вечный сон Петра; на площади Петровой; Кумир с про­
стертою рукою; строитель чудотворный; Всадник Медный. У Па­
стернака Петр сначала появляется в творительном падеже
деятеля (Как в пулю сажают вторую пулю/Или бьют на пари по
свечке,/Так этот раскат берегов и улиц/Петром разряжен без
осечки), затем —в прилагательном, создавая метонимическое
отношение «Петр —его глаза» (Когда на Петровы глаза навернулись,/Слезя их, заливы в осоке), далее в виде местоимения 3-го
лица Он, переходящего в следующей строфе в Я в косвенном
падеже (Мне сновиденье явилось, и счеты/Сведу с ним сейчас же),
затем опять коммуникативный переход к 3-му лицу: Он тучами
был, как делами, завален Неопределенность субъекта-творца
усиливается в третьей части стихотворения, где собственно
и рождается неопределенно-личная формула Здесь скачут на
практике/Поверх барьеров, относящаяся как к Петру (его имя
здесь единственный раз появляется в номинативе) и «Медному
всаднику», прочно соединенному в литературе с именем Пуш­
кина, так и самому автору текста, пытающемуся преодолеть
«барьеры» пушкинского, классического способа поэтического
выражения.
Поэтому обращенный к согражданам вопрос «кто это?», на
который в финале третьей части мы получаем ответ с местоиме­
нием Он, в четвертой части стихотворения превращается в вопрос
невидимого Я к неопределенному собеседнику-творцу (Кто ты?
О, кто ты? Кто бы ты ни был,/Город — вымысел твой), на кото­
рый отвечают лишь «волны наводнения»: Это ведь бредишь ты,
невменяемый,/Быстро бормочешь вслух. Причем последнее Ты об­
ращено к тому же Я, к которому «сновиденье явилось» в первой
части стихотворения, т. е. к автору всего текста — новому творцу
«Петербурга». Это «бормотание вслух», «унаследованное ветром
1
морей», затем превратится в вариацию на тему «Медного всадни­
ка» в «Теме с вариациями», где снова нивелируется граница
между субъектом и объектом творчества, но уже в сторону не
отталкивания, а подражания. Это в полную силу обнаружится
затем в стихотворении «Столетье с лишним —не вчера» книги
«Второе рождение», где пастернаковское следование великому
«образцу» станет наиболее очевидным за счет упрощения его
собственного стиля (см. [Смирнов 1995, 76—81]). Так стирается
граница между отдельными текстами, текстом и его метаописанием, а лирический субъект «Я» и создаваемый им мир становят­
ся интертекстуальными.
Подражание-отталкивание в интертекстуальных связях свя­
зывается также с понятиями «декомпозиции» и «рекомпозиции». Прежде всего эти явления связаны со звуковой памятью
слова . Именно звуковая «рекомпозиция» обнаруживает верти­
кальный контекст и «параграмматизм» интертекста. Под «параграмматизмом» Ю. Кристева [Kristeva 1969, 255] понимает «вхож­
дение множественности текстов и смыслов в поэтическое сооб­
щение, которое иначе представляется сконцентрированным
вокруг единого смысла». «Термин «параграмма» указывает, что
каждый элемент функционирует как движущаяся «грамма», ко­
торая скорее порождает, чем выражает смысл» [Ducrot, Todorov
1979, 446].
Показательно в этом отношении явление паронимической
аттракции (В. П. Григорьев), которое благодаря особой звуковой
организации создает рекомпозицию текстов и смыслов в структу­
ре нового текста.
Подобная звуковая рекомпозиция в текстах авторов Сереб­
ряного века часто сравнивалась с «появлением ткани»: эта
«ткань» порождается сетью ассоциаций, изоморфных процессу
«плетения» из отдельных «нитей», «вязанию» и «вышиванию»,
а языковая игра строится на параллелизации ситуаций создания
«текста» и «ткани» на звуковой основе. Так, например, в стихо­
творении «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917)
Мандельштама при переплетении звуковых основ слов Помнишь-Не Елена-полотно-полный восстанавливается имя неназываемой в тексте рукодельницы «греческого дома» — Пенелопы (см.
об этом 1.2).
7
7
Под звуковой памятью слова понимается его способность вызывать в памя­
ти и притягивать к себе в тексте близкозвучные слова. Подробно о звуковой
памяти слова см. 1.3.
У Пастернака же в книге «Сестра моя —жизнь» («СМЖ»)
звуковая рекомпозиция соотносит вышиванье ангела («Как усыпи­
тельна жизнь!..») на измученной сорочке уже с самой Еленой (ср.
паронимию ангел — (г) Елена), которой поэт адресует свое произ­
ведение («Елене»). С одной стороны, это реальная Елена (Вино­
град), с другой — мифологическая царица Спарты, похищенная
Парисом. Две паронимические аттракции создают системы анаграммирования имен лирических героев книги, соотнося царицу
Спарты и потенциально Париса с Борисом Пастернаком: СПИ,
цАРИца СПАРТы, РАНо Еще, СыРо Еще (см. 1.4).
Метатекстовое переосмысление возвращает «понятию «текст»
его исходное значение. Таким образом, само понятие текста подвер­
гается некоторому уточнению. Представление о тексте как о едино­
образно организованном смысловом пространстве дополняется
ссылкой на вторжение разнообразных «случайных» элементов из
других текстов. Они вступают в непредсказуемую игру с основными
структурами и резко увеличивают резерв возможностей непредска­
зуемости дальнейшего развития» [Лотман 1992, 121].
Создание текста из отдельных частиц аналогизируется в эпоху
авангарда и со склеиванием «листов», которые в метатекстовом
измерении приобретают расщепленное значение «листовлистьев» . «Склеивание» осуществляется путем собственно
«склеивания», а также «плавления воска». Со «склеиванием ли­
стов», аналогичным «плавлению свечи», мы встречаемся в стихо­
творении «Весна» Пастернака 1914 года, где дается определение
«поэзии как губки» и при этом ведется игра на потенциальной
паронимии «губы-губка»: Что почек, что клейких заплывших ога­
рков/Налеплено к веткам! Затеплен/Апрель. <...>/И реплики леса
окрепли./<...>/Поэзия!
Греческой губкой в присосках/Будь
ты,
и меж зелени клейкой.../<...>/Расти
себе пышные брыжи и фиж­
мы,/Вбирай облака и овраги,/А ночью, поэзия, я тебя выжму/Во
здравие жадной бумаги. Е. Фарыно [1988] обнаруживает интертек­
стуальную связь между этим текстом Пастернака и стихотворени­
ем Пушкина «Еще дуют холодные ветры...» , также возвещающем
о приходе весны.
8
9
8
Такое соединение в единую материю особенно значимо для Пастернака
в связи с игрой на «соприродности» с растительным миром (см. [Фатеева 19956]).
Ср. пушкинский текст в сокращении. Как из чудного царства воскового,/Из
душистой келейки медовой/Вылетела первая пчелка,/Полетела <...>/О красной
весне проведать,/<...>/Скоро
ль у кудрявой у березы/Распустятся клейкие листо­
чки,/Зацветет черемуха душиста. См. также [Бочаров 1985; Смирнов 1985, 152 —
154].
9
С этими двумя текстами оказываются связаны и поздние
тексты Мандельштама, воспроизводящие пастернаковский па­
раллелизм «губ-губки»: «Я к губам подношу эту зелень —Эту
клейкую клятву листов...», «Клейкой клятвой липнут почки»...—
и провозглашающие верность поэзии даже в самой безнадежной
ситуации. Сравнение с исходным текстом показывает, как каж­
дый из поэтов XX века «перевел непереводимое» текста Пушкина
1828 года и создал свой новый текст. Оказывается, что пуш­
кинская версия «клейких листов» в стихотворениях Мандельш­
тама 1937 года заимствует идею «губ» Пастернака (ср. в «СМЖ»:
К губам поднесу и прислушаюсь...)™, но «подносимые к губам»
«листы» и «клейкие клятвы» соотносятся Мандельштамом
и с «вспоминающим топотом губ» «греческой флейты...» (из
стихотворения того же года), также подносимой к губам. «Грече­
ская флейта» —флейта пана, которая по-русски называется «цев­
ница», по кругу возвращает нас к Пушкину. Эту цевницу, много­
ствольную флейту, которая позволяет игру сразу на многих уров­
нях текста, находим в статье «Слово и культура» [2, 172], где
раскрывается понятие «поющего смысла» у Мандельштама:
«Синтетический поэт современности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верденом культуры. Для него вся сложность
старого мира —та же пушкинская цевница».
Флейта пана, в связи с упоминанием Пана [3, 301], почти
одновременно появляется и в тексте «Дара» (1937) Набокова, где
ее «движущаяся грамма» обусловлена вписыванием автора в текст
в разных интертекстуальных и интермедиальных измерениях.
Пан, как считает Г. Шапиро [1999, 30], благодаря билингвистической паронимической аттракции syrinx —Сирин (syrinx, или
Pan-pipe, —свирель), вызывает в памяти псевдоним Набокова».
Однако это не единственное «вписывание» автора в текст —упо­
минание Пана связано и с одноименным полотном Врубеля,
созданным в 1899 году, —это год рождения автора текста. Вру­
бель (один из самых любимых художников Набокова-Сирина),
замечает Шапиро, появляется в романе, когда главный герой
Федор Годунов-Чердынцев — alter ego автора, поэт и писатель —
11
10
Соприкосновение «губ» с «клейкой клятвой листов» у Мандельштама так­
же, видимо, связано с и «приклеиванием-склеиванием» «Египетской марки»
(см. 1.2).
" Парадоксальным образом смежность интертекстуальных сближений высве­
чивает топоним Чердынь —место ссылки поэта Мандельштама в 1934 году. О по­
этической этимологии фамилии героя «Дара» см. 2.6.
вспоминает «прелестный гибрид» — «трогательное упоминание»
Яшей Чернышевским о «фресках Врублева» [Шапиро 1999, 31].
Таким образом, в тексте создается многоуровневое синтезирова­
ние некоторой единой идеи «нового искусства», истоком которой
является музыка, поэзия, иконопись и «писания» древних. Эта же
идея содержится и в статье «Слово и культура» Мандельштама:
«Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза
воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин,
Овидий, Гомер» [2, 170].
Совершенно иную технику «параграмматизма» наблюдаем
в конце XX века — например, в произведениях 1990-х гг. А. Воз­
несенского. Ткань его насыщенных интертекстами произведе­
ний, наоборот, не сшивается, не склеивается, не синтезируется,
а как бы распадается на отдельные фрагменты, что получает
свою визуальную интерпретацию. Поэтому один из последних
циклов стихов и прозы Вознесенского и носит название «Раз­
бейте иллюзии» (1996). Наиболее показательной является стихопрозаическая композиция «Темная фигура», которая сущест­
вует как в линеарном текстовом варианте, так и видеоматическом —на шахматной доске, где также происходит борьба
«черного» и «белого». Сам фрейм «шахматной игры» как способ
композиционной организации отнюдь не нов в поэзии и прозе —
ср. хотя бы «Марбург» и «Определение творчества» Пастернака,
«Защита Лужина» и «Дар» Набокова. Однако у Вознесенского
он становится способом визуального движения «интертекста»
в двумерном пространстве; при этом стихотворные фрагменты
пишутся по горизонтали шахматной доски, а прозаические — по
вертикали, как бы наглядно обретая вертикальный контекст,
свойственный в первую очередь стихам. Нарушается и после­
довательность фрагментов (по отношению к линеарному пред­
ставлению текста), которая, вероятно, задается ходом «темной
фигуры», и текст становится «гипертекстом». Так, например,
под прямым углом оказываются соотносимый с поэзией и жиз­
нью А. Блока прозаический фрагмент
Мы с тобой играли в Шахматове. Ты проиграла плащ,
сняла шелка и туманы. Но опять проиграла.
и фрагмент, написанный стихами, где, благодаря паронимической аттракции и рифме, можно увидеть параллельное горизон­
тально-вертикальное проведение нескольких поэтических проек­
ций (к поэтическим реалиям — Блока, Ахматовой, Пастернака),
что далее получит эксплицитное выражение в следующих фраг­
ментах текста:
*
АХМАТОВА, ПРОИГРЫВАЯ, ВЫИГРЫВАЕТ.
I 2
§ ^
g
|
А-5, Шопен не ищет выгод — удлиняя клавиши,
Шопен проигрывает этюд Чигорина.
ill?
8§о
о
з
4
| а |
2 ^з
sg
lis
§ 1
г
Понятно, что здесь «игра» идет не только на уровне звуковых
соответствий, не только на разных прочтениях одного слова
(проигрывает 'остается побежденным', 'быстро исполняет мело­
дию') в разных воображаемых ситуациях, но и на расщеплении
звуко-смысла (как, например, играли в Шахматове — где сам про­
цесс «игры в шахматы» и название блоковской усадьбы паронимичны; ср. также ряд Шахматове—махою — Ахматова, где
«маха», видимо, отражает «испанизированный» облик Ахматовой,
заданный посвящением Блока «Красота страшна» —Вам ска­
жут...» ), вплоть до введения ребуса , делающего пастернаков12
12
13
Видимо, данный фрагмент текста Вознесенского соотносим и со следу­
ющими строками Ахматовой о Блоке: И ветер с залива./Л там, между строк,/
Минуя и ахи, и охи,/Тебе улыбнется презрительно Блок—/Трагический тенор эпохи.
Р. Д. Тименчик [1972] считает, что здесь анаграммирована фамилия Ахматовой —
то же можно сказать и о строках Вознесенского о «махе».
В связи с «Шахматовым» и «ребусом» всплывает еще один «параграмматический» сюжет из «Дара» Набокова. Помимо того, что в «Даре» много
говорится о шахматной игре и устанавливается ее подобие с поэтической игрой,
в романе появляется и третьестепенный герой, некто Шахматов. Г. Шапиро [1999,
31] считает, что «именами Шахматова и его приятеля Ширина Набоков указывает
на юношескую эпиграмму Пушкина, начинающуюся строчками: Угрюмых тройка
есть певцов: Ширинский, Шаховской, Шишков». В этой эпиграмме предметом
насмешки оказываются старшие современники-литераторы Сергей ШиринскийШихматов, Александр Шаховской и Александр Шишков. Шапиро, указывая на
то, что эпиграмма впервые была опубликована в 1899 году (год рождения Набо13
скую строку Опять Шопен не ищет выгод... менее узнаваемой.
Значит, интертекстуальность здесь существует как форма «взры­
ва» линеарности текста и как механизм нового прочтения в тексте
смыслов, структурированных до него. В случае Вознесенского
интертекстуальность подобна «новой координате в стерео» из
знаменитых строк А. Парщикова: Как монокино проламывается
в стерео,/в трепете аппарата/новая
координата/нашаривала
утерянное .
В связи с последним встает вопрос, который актуален не
только для русской литературы: «Насколько постмодернистской
является интертекстуальность?» Зарубежные исследователи, на­
пример, М. Пфистер [1991] пишет, что интертекстуальность от­
нюдь не ограничивается постмодернистской литературой, хотя
постмодернистская интертекстуальность имеет свою специфику:
ранее интертекстуальность являлась лишь одним из приемов
наряду с другими, а сейчас это самый выдвинутый прием и не­
отъемлемая часть постмодернистского дискурса. Проведенный
нами анализ подтверждает этот вывод, однако следует скорее
говорить не о «приеме» интертекстуализации текста, а о том, что
в литературе последних лет каждый новый текст просто иначе не
рождается, как из фрагментов или с ориентацией на «атомы»
старых, причем соотнесение с другими текстами становится не
точечным, а общекомпозиционным, архитектоническим принци­
пом. С позиции же читателя новые тексты иначе и не прочитыва­
ются (не понимаются), как в металитературном ключе. Литерату­
ра все больше становится не литературой о жизни, а литературой
о литературе.
Если ранее, в начале XX века, авторы стремились ассимили­
ровать интертекст в своем тексте, вплавить его в себя вплоть до
полного растворения в нем, ввести мотивировку интертексту­
ализации, то конец века отличает стремление к диссимиляции ,
14
15
кова), считает, что Набоков провидчески связывает себя с Пушкиным, родив­
шимся в 1799 году. Однако Шахматов оказывается связанным и с Александром
Блоком через «инженера Керна» [3, 286], носящего фамилию пушкинского «окру­
жения», что также отмечено в работе [Shapiro 1998].
Ср., к примеру, строки из эссе «О» Вознесенского (1984, 158], которые
аналогичны «фрескам Врублева» Набокова: «О взгляде Вечности, уставившемся
на нас одинаково с фресок Рублева, Эль Греко и Врубеля».
Однако, конечно, не все представители русской современной словесности
работают на «диссоциации» текста. К примеру, О. Седакова. наоборот, вновь
собирает все «микроэлементы» текстов своих предшественников в единую стихо­
вую конструкцию. Так, в стихотворении «Бабочка или две их» (Памяти Хлебни­
кова) в двух строках в свернутом виде сконцентрированы три мира — Хлебникова,
14
15
к введению формальных маркеров межтекстовой связи, к метатекстовой игре с «чужим» текстом. Например, в романе В. Нарби­
ковой «План первого лица. И второго» знаменитая фраза
Ф. М. Достоевского «красота спасет мир» обыгрывается так: Она
указала туда, где была красота. «Да, —сказал Додостоевский,—
красиво, то есть уровень есть. <...> В том месте, где все было для
красоты, красоты не было». Любое ранее существовавшее поэти­
ческое
сообщение
может
быть
«избавле­
но» от красоты, а эстетика слов выводится из физиологии. «Сло­
ва—это только физиологическая потребность <...> слово имеет
скелет, плоть», —говорит писательница в предисловии повести
«...и путешествие». Поэтому у Нарбиковой примитивно ощути­
мой становится и мифологическая символика мужского и жен­
ского начала, неба и земной поверхности: А где у неба детород­
ный орган, в каком месте? Скорее всего на горизонте, там где небо
соприкасается с морем. Воображаемая линия, горизонт, она же —
уд , все, что за ней не видно, а все, что перед ней, видно («Равно­
весие света дневных и ночных звезд»).
«Снижению» подвергаются и классические литературные об­
разы. Так, в повести Нарбиковой «...и путешествие» интертек­
стуальная игра раздваивает не только образы «поэта» и «мужа»
Пушкина, но и знаменитой пушкинской Татьяны. У Нарбиковой
Таня, или даже Танька, то фигурирует как русская девушка,
похожая «на маленькую издерганную француженку, какими их
изображают немцы», то как собака Александра Сергеевича, и оба
они «очень похожи —оба: Таня и Александр Сергеевич. У них
были одинаковые глаза, с такой тоской в глазах. Глаз даже не
было, вместо них была одна тоска» *. Травестированию подвер­
гаются и знаменитые слова Пушкина о Татьяне: «а знаете, Татья­
на моя собирается замуж»: И один только вечер она была Татьяной
Лариной, когда сидела с Александром Сергеевичем под луной при
звездах и слушала, как Александр Сергеевич читает ей стихи. А так
она убегала к деревенским кобелям. А потом она привела одного
16
11
1
Набокова и Ахматовой: ср. Бабочкою, Велимир, или еще короче/мы расцвечивали
сор. Ахматовскис слова вписаны «короче», то есть заданы семантическим стяже­
нием слов: стихи, как цве-ты, рас-тут (рас-цве-чивали) из сора.
Хотя ср. еще у В. Маяковского: Не потому ли, что небо голубо,/а земля мне
любовница в этой праздничной чистке («Кофта фата», 1914).
Заметим, что уд в словаре В. Даля определяется как 'член, часть тела,
всякое отдельное по наружности .
«Тоска» в «Евгении Онегине» сопровождает не только автора и Татьяну, но
и Онегина.
16
17
1
18
кобеля показать Александру Сергеевичу, и Александр Сергеевич гнал
его до самого горизонта. В связи с этим Александр Сергеевич
называет ее «сукой», что восстанавливает другие строчки Пуш­
кина о себе: «Ай-да Пушкин! Ай-да сукин сын!» .
Причем у Нарбиковой часто реконструируется сам интертек­
стуальный генезис и под него подводится наукообразная теория
«подтекста» — ср. в «Равновесии света дневных и ночных звезд»:
Рядом валялась околевшая пальма, но ее некому было воспеть,
потому что ее поэт умер. А так бы поэт написал, вот, мол, пальма,
ты оторвалась от своих родных сестер, и тебя занесло в далекий
холодный край, и теперь ты одна лежишь на чужбине. Вместо того
умершего поэта был другой, живой, но был еще хуже. За его
текстом чувствовался подтекст того. Нет, не какой-нибудь там
второй смысл, а в буквальном смысле под текст, то есть то, что
находится под текстом, а под этим новым текстом находился
определенный текст того умершего поэта. Речь здесь, конечно же,
идет о вольном переводе стихотворения Гейне «Сосна стоит
одиноко» Лермонтовым; однако восстанавливается именно ис­
ходный немецкий вариант, потому что в лермонтовском стихо­
творении родовые различия «сосны» и «пальмы», свойственные
немецкому языку, как раз сняты.
В постмодернистских текстах каждый контраст с претекстом
оборачивается связью* в результате которой интертекстуальная
связь приобретает характер каламбура, гиперболы или их вза­
имоналожения. Так соединяются «высокий» и «низкий» регист­
ры, причем как бы повышенная физическая «телесность» интертекстуального фрагмента по сравнению с другими компонентами
текста часто заставляет современных авторов находить его пе­
реосмысление в сфере физиологии. Порой становится невоз­
можным не только провести границу между «высоким» и «низ­
ким», но и решить, является ли данное произведение художест­
венным или его скорее можно отнести к разряду литературнокритической литературы. В какой-то мере такой тип литера­
турного произведения задан зарубежными «образцами», среди
которых особенно показателен роман американского писателя
Р. Федермана «На Ваше усмотрение» (1976). Заглавие романа
определяет способ его прочтения— читатель волен прочитывать
текст так, как он считает нужным, поскольку его страницы
19
19
Эти строки Пушкина в 1990-е годы оказались в центре «вариаций» на его
темы. Так, у В. Друка находим: я сукин сын/и Пушкин сукин сын нет, пушкин
это/ай-да сукин сын/<...>
пушкин это айда! («Иосиф Виссарионович Пушкин»).
не имеют нумерации, а части текста —рубрикации. При этом сам
текст представляет «жизнь в цитатах» из Деррида, Барта, Борхеса
и из собственных романов Федермана, графически же текст часто
«сочленяется» по принципу коллажа с философским подтекстом
(см. подробнее [Ильин 1989, 191]).
Что касается русских «постмодернистских» текстов, то
определенным пределом погружения в «цитатную» форму можно
считать эссе М. Безродного «Конец Цитаты» [19951. В нем автор,
следуя принципу коллажного метаосмысления «чужих» художест­
венных и научно-филологических текстов, одновременно порож­
дает «свои», причем порядок размещения корреспондирующих
друг с другом текстов остается неопределенным. Так, М. Безрод­
ный, завороженный паронимичностью терминов интертекстуаль­
ность/интерсексуальность, сначала пишет, как бы продолжая
Пушкина, свои «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы
и не вошедшие в основное собрание», выбирая для них
«эротический» эпиграф, затем, пройдясь взад и вперед по русской
и зарубежной литературе и истории (тут и Ленин, и Набоков,
и Карамзин, и Пушкин, и филологи Тартуского университета
и др.), а также литературе, посвященной вопросам физиологии
и пола, вдруг начинает интертекстуальный анализ «Марбурга»
Пастернака: «Как грамматику, бессонницу знал и Пастернак, но
штудировал ее, похоже не по Пушкину, а по «новейшим
изданиям» [там же, 286] —имеются в виду стихотворения
И. Анненского «Стальная цикада» и «Моя тоска», где образ тоски
персонифицируется, и блоковское «Над озером». Ср. И я, и все
союзники мои:/Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны.../'<...>/И
в комнате моей белеет утро у Блока и эту же картину сквозь
шахматную символику у Пастернака: Ведь я, как грамматику,/
Бессонницу знаю. У нас с ней союз./'<...>/И
тополь — король.
Я играю с бессонницей./И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью./И
ночь побеждает, фигуры сторонятся,/Я белое утро в лицо узнаю.
Через несколько же страниц мы находим «Конспект лекции
о Пастернаке».
Становится очевидным, что те авторы постмодернизма, кото­
рых никак нельзя отнести к «сильным», скорее штудируют
и аранжируют «новейшие» литературно-критические, психоана­
литические и медицинские издания, чем занимаются художест­
венным творчеством.
Однако нельзя не заметить, что и у талантливых писателей
круг авторов, которые становятся как бы центрами интертексту-
ального «излучения», не так уж широк. У Нарбиковой он вообще
почти сводится к «школьной программе», у Толстой он несом­
ненно неимоверно шире, но тоже не безграничен (Так
А. К. Жолковский [1995) обнаруживает в ее рассказе «Река Оккервиль» следующие источники интертекстуальной «иррадиа­
ции»: Евангелие, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Флобер, Набо­
ков, Платонов, Ахматова, Ахмадулина; причем Ахматова в этом
ряду выделяется тем, что становится как бы «интеробразом»
романа, поскольку Толстая транспонирует в свой рассказ не
только ахматовские тексты, но и биографическую канву ее жиз­
ни). Необычно широкую и разнообразную «упоминательную кла­
виатуру» обнаруживает Ю. И. Левин [1992] в повести «Москва —
Петушки» В. Ерофеева, однако и она сводима, по мысли ис­
следователя, к «школьной программе» по литературе и истории,
штампам социальной и политической жизни 1960-х гг., Святому
писанию и бессистемному «внепрограммному» чтению — причем
все эти фоновые знания часто контаминируются.
Круг авторов, попадающий в центр внимания поэтов и про­
заиков Серебряного века, безусловно гораздо шире (конечно,
с учетом временных рамок), однако и в его центре все чаще
оказываются одни и те же художники слова, особенно если
распределять произведения по годам их написания. Это объясня­
ется диалогической ориентацией авторской интертекстуализации, когда автор вступает в воображаемый диалог не только со
своими предшественниками, но и современниками, что превра­
щает интертекстуальный диалог из внутреннего во внешний.
Художник понимает, что адекватность восприятия порождаемых
им текстов зависит от «объема общей памяти» между ним и его
читателями; общностью «диалекта памяти» определяется и сте­
пень «эллиптичности» [Лотман 1985, 5] текста и выбор автором
собеседника-адресата.
Так, одним из доминирующих образов в русской литературе
начала XX века стала «флейта-позвоночник». Этот образ развер­
тывался различными художниками слова как в чисто текстуаль­
ном, так и метатекстуальном плане, так что между текстами
устанавливался своеобразный «квазидиалог» (И. П. Смирнов).
Исходной же точкой этих интертекстуальных параллелей, по
мысли Р. Д. Тименчика [1988], явилась статья К.Бальмонта
«Флейты из человеческих костей» (1906).
Сначала «позвоночник» становится композиционной метафо­
рой романа «Петербург» (1913 — 14, 1922) А. Белого, который как
бы «собирается» из отдельных частей-позвонков, и в связи
со значимой фамилией Александра «Дудкина» создает у Белого
своеобразную параллель к «Флейте-позвоночнику»
(1915)
В. Маяковского (Я сегодня буду играть на флейте./На собственном позвоночнике). Эта параллель устанавливается на основании
внутренней формы фамилии Дудкин (от дудка —'инструмент
певца-поэта', от которого произошла флейта). Своим именем
Александр «Дудкин» генетически соединен с поэтикой Пушкина
и, синтезируя в себе одновременно и Евгения, и Медного
Всадника, символизирует раздвоение сознания поэта (см. 2.4).
У Маяковского же, по мнению Е. Эткинда [1992, 71], «флейтапозвоночник» представляет собой «развернутую метафору са­
моубийства».
Двойственный характер «флейты» предопределяет различные
пути развертывания этого символа у Пастернака и Мандельш­
тама. У Пастернака «флейта» оказывается в центре его «Опреде­
ления поэзии», и строкой о ней заканчивается вертикальный
анафорический ряд с «Это — », который зрительно похож на
позвоночник и клапаны флейты. Ср.
Это — круто налившийся свист,
Это— щелканье сдавленных льдинок,
Это—ночь, леденящая лист,
Это—двух соловьев поединок.
Это —сладкий заглохший горох,
Это —слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и флейт — Фигаро
Низвергается градом на грядку.
И хотя Пастернак в комментариях к «Сестре моей — жизни»
пишет, что «лопатки» — это стручки гороха, связь с «Флейтойпозвоночником» Маяковского здесь очевидна. По Пастернаку,
подобная «флейта» создает «глухоту вселенной», которую он
и пытается преодолеть звуками природы (восстанавливая рас­
тительное происхождение флейты) и музыки Моцарта .
У Мандельштама образ «флейты-позвоночника» впрямую свя­
зывается с идеей времени, которое надо заново «склеить» —
Узловатых дней колена/Нужно
флейтою связать («Век»). Но
«время» не «склеивается» (о чем свидетельствует «Египетская
марка» —см. 1.2), «бег поэзии» замедляется, «позвоночник» века
«разбит», пропорции жизни и смерти смещены — И свои-то мне
20
Ср. также у Хлебникова: Л небо синее, моцарть! (1915).
губы не любы —/И убийство на том же корню—/И
невольно
на убыль, на убыль/Равноденствие флейты клоню. И «греческая
флейта» Мандельштама, подобно «свирели» Хлебникова [Гервер
1992, 20], становясь «инструментом рока», сближается с миром
мертвых.
Как мы видим, «сильные» произведения и авторы действи­
тельно существуют, и они выполняют роль центрирующих при
установлении интертекстуальных связей. Благодаря им могут
быть установлены интертекстуальные отношения между текста­
ми, расходящимися от центрирующего в разные стороны; сравни:
«Определение
поэзии»
Пастернака«— «Флейта-позвоночник»
Маяковского
«Петербург» Белого
«Век», «Конец романа»,
«Египетская марка», «Флейты греческой тэта и йота...» Мандель­
штама через идею «слома позвоночника» собственного произ­
ведения. Видимо, в этом контексте можно говорить и о «сломе
позвоночника» всей русской литературной традиции XX века,
который был предсказан «сильными» художниками слова.
Подводя итог всему сказанному, определим, каковы функции
интертекста в художественном дискурсе, считая, что литература
XX века, несмотря на «слом традиции», представляет собой все
же некоторое единое пространство культурной памяти. Итак,
в первую очередь, интертекст позволяет ввести в свой текст
некоторую мысль или конкретную форму представления мысли,
объективированную до существования данного текста как целого.
Таким образом, «каждое произведение, выстраивая свое интер­
текстуальное поле, создает собственную историю культуры, пе­
реструктурирует весь предшествующий культурный фонд» [Ямпольский 1993, 408]. При этом имеется в виду, что в лите­
ратурный текст можно ввести и фрагменты «текстов» других
искусств: так, например, в визуальное представление «Темной
фигуры» Вознесенского вписывается 1/32 черного квадрата Ма­
левича. Значит, благодаря интертексту, данный текст вводится
в более широкий культурно-литературный контекст. Межтекстовые
связи создают вертикальный контекст произведения, в связи
с чем он приобретает неодномерность смысла. Следовательно,
мы можем говорить о том, что интертекст, порождая конструкции
«текст в тексте» и «текст о тексте», создает подобие тропеических
отношений на уровне текста. Теория интертекстуальности по­
зволяет видеть «метафору» там, где происходит сближение яв­
ленного в тексте фрагмента и фрагмента другого текста, не
представленного читателю физически (ср. фрагмент о «пальме»
у Нарбиковой). Смыслопорождение разворачивается между син­
тагматически данным и тем цельным текстовым фрагментом, что
присутствует у читателя в памяти. Так два текста становятся
семантически смежными. Это порождает эффект метатекетовой
метонимии, предельным проявлением которой является звуковой
параграмматизм, когда по звуковым частям собирается анаграммированное целое (ср. Пенелопу в тексте Мандельштама). По
контрасту с «серебряным веком» у современных авторов целое
чаще разлагается на части, и современные «Пенелопы», вроде
В. Нарбиковой, скорее «распускают» свои материи; так что, как
верно сказано в повести «Лимпопо» Толстой, мы имеем дело
с «бегом» Одиссея по замкнутому кругу литературы. Ср. у Нарби­
ковой: Женщины вяжут<...>. Как много ты связала, было столько,
а теперь уж столько; а можно сказать и так: было утро, а теперь
уж вечер; если все это распустить —опять будет утро («Равнове­
сие света ночных и дневных звезд»). Однако и в том и другом
случае можно говорить о конструктивной, текстопорождающей
функции интертекстуализации.
Тенденция разворачивания вокруг данного текста целого
«пучка» соотносимых с ним текстов других авторов позволяет
художнику слова определить свое отличие от других авторов,
утвердить собственное творческое «Я» среди других и по от­
ношению к другим. По существу, интертекстуальность становит­
ся механизмом метаязыковой рефлексии. Однако интертекстуализация и авторефлексия, доведенные до абсурда и пропущенные
через теорию «деконструкции» Ж. Дерриды, как раз приводят
к обратному эффекту — полному растворению, рассеиванию
авторского «Я» в семиотическом пространстве «чужих» слов и об­
разов «третьего лица»: «... кто это третье лицо? автор? но автор
в этот момент ничего не видит, потому что его самого приперли
к стенке по этому же самому поводу, и автор тоже ищет третье
лицо, которое скажет, что нет, но и у автора этого третьего
лица —нет» (В. Нарбикова. «Равновесие света ночных и дневных
звезд»). Так стремление автора посредством семиотической
и языковой игры достичь принципиальное отличие от других
и самого себя на деле оборачивается «децентрированием субъек­
та» (Ж. Деррида), «смертью автора» (Р. Барт). «Субъективность
обычно расценивается как полнота, с которой «Я» насыщает
тексты, —пишет Р. Барт [Barthes 1970, 17], —но на самом деле —
это лжеполнота, это всего лишь следы тех кодов, которые состав­
ляют данное «Я». Таким образом, моя субъективность в конечном
счете представляет из себя лишь банальность стереотипов». Зна­
чит, функции интертекста в каждом тексте определяются и с ­
ключительно через «Я» его автора, поскольку введение интертек­
стуального отношения — это прежде всего попытка метатекстового переосмысления претекста с целью извлечения нового смысла
«своего» текста. Степень приращения смысла в этом случае и я в ­
ляется показателем художественности интертекстуальной фигу­
ры. Образцом может служить строчка из «Дара» В. Набокова
о Пушкине: Гений—это негр, который во сне видит снег.
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ
ПРИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ
Время — сухой скелет, обросший их ин­
дивидуальностями (т. е. вневремен­
ным или, еще вернее, безвременным,—
потому что индивидуальность — Платоновая идея).
Б. Пастернак
«Петербург», 1917-1918
Несмотря на то, что проблема интертекста в настоящее время
находится в центре внимания лингвопоэтики, вопрос о смещении
и совмещении временных отношений при построении конструк­
ций «текст в тексте» и «текст о тексте» до сих пор всерьез не
обсуждался. Безусловно, в других терминах этот вопрос стано­
вился предметом исследования самих художников слова при об­
суждении ими природы творческого процесса. В частности,
в «Разговоре о Данте» О. Мандельштам говорит об изменении
«структуры времени» при «соединении несоединимого»: Дант
«вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм
разорванных веками событий, имен и преданий именно потому,
что слышал обертона времени» [2, 251]. Эти слова не с меньшей
правомерностью можно отнести к поэзии и прозе Серебряного
века, особенно с учетом ее осознанной проекции на «золотой
век» русской литературы, ее пушкинскую эпоху.
Соотнесенность начала XX и начала XIX вв. представляла
собой одно из «колец возврата» символистской идеи «вечного
возвращения». При этом сама пушкинская эпоха соотносилась
в сознании символизма и постсимволизма, во-первых, с Древней
Грецией и Римом, во-вторых, в связи с генеалогическими кор­
нями Пушкина —с античной Александрией и Египтом. Кроме
того, люди Серебряного века жили в атмосфере постоянного
«соприсутствия» в их жизни других веков и культур, что получило
отражение как в их творчестве, так и жизнетворчестве, которые
часто скрещивались и проецировались друг на друга. Причем
временная соотнесенность (возвратность) материализовалась
прежде всего в пространственных символах «культурной топо­
графии».
Так, Петербург начала XX века проецируется, с одной сторо­
ны, на «пушкинский Петербург» с доминантной идеей топоса
«смерти поэта», с другой — приобретает «египетские черты»,
и в связи с идеей «умирания» русской культуры возникает образ
Петербурга как египетского города мертвых — некрополя (см.
[Минц 1984; Топоров 1984]). Обе эти проекции обнаруживаются
в «Египетской марке» (1927) Мандельштама, поэта, который
в своем жизне-, а точнее, смерте-творчестве повторил печаль­
ный опыт Пушкина (см. [Фрейдин 1991]). Одним из основных
«адресов» «петербургского текста» становится Медный всадник ,
благодаря поэме Пушкина оказавшийся символом роковой судь­
бы как поэта, так и России и соотносимый со всадником Откро­
вения, «имя которому смерть» (Откр. 6, 8).
«Медный всадник» является и скрепляющим лейтмотивом
романа А. Белого «Петербург» (1916, 1922), главный герой кото­
рого Николай Аполлонович Аблеухов в эпилоге попадает из
Петербурга в Египет, и, читая «Книгу Мертвых», «в двадцатом
столетии он провидит Египет; культура, — трухлявая голова: в ней
все умерло; ничего не осталося; будет взрыв: все сметется» [Белый
1978, 326]. В «Египетской марке» Медный всадник, наряду
с Александровской колонной, станут главным местом встречи
сумасшедших, у которых на всем остается «привкус меди во рту»
(Только сумасшедшие набивались на рандеву у Медного всадника или
у Александровской колонны [2, 64]). А «Страшная каменная дама
в ботинках Петра Великого ходит по улицам и говорит: — Мусор на
площади... Самум... Арабы.., «Просеменил Семен в просеминарий»...
Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!» [2, 78]. Так,
«пушкинские цитатные реалии» [Паперно 1992, 19—51] через век
оживают, определяя «синхронизм», точнее, «анахронизм» «разо­
рванных ... событий».
Все эти «кольца возврата» особым образом реализуются
и в определенных явлениях поэтического языка, которые по1
2
1
См. о «поэтике смерти» (танатопоэтике) Мандельштама [Hansen-Love 1993].
Р. Д. Тименчик [1983] пишет об этом так: «...с какого-то времени символ
Медного Всадника в петербургском поэтическом языке стал сам по себе нести
тему «возвращения» и поэтому оказался удобным средством подключения к тра­
диции».
2
Солнце (Sun) Александра
Рис
з
зволяют нейтрализовать семантические аномалии при смещении
и совмещении временных пластов. Остановимся на четырех
из них:
1. Использование семантической емкости языковых симво­
лов, которые уходят корнями в древнюю мифологию и библей­
ские тексты (например, солнце, море, корабль (лодка), конь и всад­
ник) и приобретают приращения смысла в новой литературной
эпохе (ср. у А. Белого: Время —конь без упряжи— оно бежит,
бежит, бежит вперед)', одновременно все эти слова являются
иносказательными символами поэтического творчества.
У Мандельштама данное явление получило название «эллини­
зма слова», свертывающего и развертывающего во времени свои
«пучки смыслов»: «Эллинизм — это система в бергсоновском
смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя как веер
явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчи­
ненных внутренней связи через человеческое «Я» [2, 182]. Так,
согласно иносказательному коду Мандельштама, само «слово»
уподобляется «египетской ладье мертвых», в которой — «припасено
все для жизни» («О природе слова» [2, 187]). Видимо, и заглавие
«Египетская марка» также отражает исповедуемую Мандельшта­
мом «эллинистическую природу слова»: «Наконец, эллинизм —
это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется
все нужное для продолжения земного странствия человека» [2,
182]. И такой «хрупкая ладья человеческого слова» попадает «в море
грядущего» [2, 186], когда «отшумит век» и «уснет культура».
Символ «слово-ладья мертвых» коррелирует с обшей мандельш-
тамовской идеей «жизни», источником и целью которой является
«смерть». Мандельштам [2, 318] писал, что «ткани нашего мира
обновляются смертью» и «если сорвать покров смерти с этой
творческой жизни [имеется в виду Пушкин.—Я. Ф.\, она будет
свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг
нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет». Следовательно,
символы-концепты «солнца» и «похоронного обряда» образуют
у поэта постоянную функциональную зависимость точно так же,
как древние «мертвые» цивилизации Греции, Рима и Египта, т. е.
всего «Средиземноморья», были как-то своеобразно переплетены
с миром Пушкина.
2. Расширение функций и области действия имен собствен­
ных, что дает возможность проецировать различные культурноисторические срезы и разные жизненные и литературно-тексто­
вые ситуации друг на друга и на «вечные тексты», тем самым
выходя за рамки единого временного пространства.
Так, комбинацию 1 и 2 мы видим в случае наложения друг на
друга символического образа солнца и имени Александр, что ведет
и к наложению трех временных срезов. Первый срез —эпоха
Александра Македонского, который осознавался в Египте как
«сын Ра», бога солнца; второй — эпоха Александра I и одновре­
менно Александра Пушкина (последний в некрологе В. Одоев­
ского был назван «солнцем русской поэзии»', сам же Пушкин
называл поэта «жрецом Аполлона» («Поэт»), знаком которого
в поздней греческой мифологии также было солнце). Соотноше­
ние этих двух срезов порождает образ мандельштамовского солн­
ца Александра, ставшего ночным солнцем , которое положили в гроб
и похоронили в Петербурге {«Ночью положили солнце в гроб, и в ян­
варскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпевания
прах поэта» [2, 157]). Поэтому в известной строке И вчерашнее
3
3
Ночное солнце стихотворения «В Петербурге мы сойдемся снова, Словно
солнце мы похоронили в нем...» (Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи/В черном
бархате всемирной пустоты/Все поют блаженных жен крутые плечи,/Л ночного
солнца не заметишь ты) дает соотношение «черного» и «желтого» цветов, которое
связывается в сознании поэта как с гибелью Ерусалима, так и Российской
Империи (см. [Волгин 1992]) и символизирует гибель памяти культуры вообще.
Это соотношение, которое дается отчасти через цветовые прилагательные, от­
части метонимически через сущности, имеющие черный или желтый цвет, у Ман­
дельштама прежде всего связано с Пушкиным и Петербургом, где к «зловещему
дегтю подмешан желток». Само сочетание черного и желтого цветов, видимо,
инициировано у поэта «черно-желтым шелковым платком» его дедушки, который
тот «накидывает ему на плечи» и «заставляет повторять за собой слова, состав­
ленные из незнаковых шумов» [«Шум времени», 2, 21).
солнце на черных носилках несут (1920) прилагательное вчерашнее
и настоящее время глагола несут не вступают в семантическое
противоречие, а вполне вписываются в «древнеегипетский» похо­
ронный обряд .
Третий временной срез «солнца Александра» обнаруживается
у Ахматовой в стихотворении, посвященном смерти поэта Сереб­
ряного века — Александра Блока: Принесли пресвятой Богороди­
це/На руках во гробе серебряном / Наше солнце, в муке погасшее,/
Александра, лебедя чистого (1921) (см. также [Паперно 1992]).
3. Вынесение формообразований 1 и 2 в позицию обращения,
когда непосредственная адресация при воображаемой диалогиче­
ской ситуации сближает друг с другом разорванные во времени
и культурном пространстве реалии. Ср. в стихотворении Манде­
льштама «Я не искал в цветущие мгновенья...» (1917), обращен­
ном к Ахматовой: Больная, тихая Кассандра,/Я больше не могу —
зачем/Сияло солнце Александра,/Сто лет назад сияло всем? Как
мы знаем, Кассандра — вещая дочь Приама, царя Трои; она была
обречена предсказывать одни беды и не находить веры своим
предсказаниям. Обращение к ней в стихотворении Мандельш­
тама помещено в контекст пушкинского «Пира во время чумы»
(в одном из вариантов: Но, если жизнь — необходимость бреда,/И
корабельный лес —высокие дома,—/Лети, безрукая победа— /Ги­
перборейская чума!) и не содержит надежды на «выздоровление»,
как и более позднее стихотворение «Фаэтонщик» (1931), име­
ющее ту же пушкинскую проекцию. По контрасту с этими стихо­
творениями «Лето» (1930) Пастернака книги с символическим
названием «Второе рождение» обращено к Диотиме, женщинепророчице, которая на 10 лет отсрочила приход чумы в Афины.
Сам же пушкинский «Пир во время чумы» скрещен во «времени»
с Платоновским «Пиром», где Сократ ведет диалог с Диотимой
и речь идет о любви и творчестве, дарующих исцеление и бес­
смертие. Ср. у Пастернака: И осень, дотоле вопившая выпью,/
Прочистила горло; и поняли мы,/ Что мы на пиру в вековом прото­
типе —/На пире Платона во время чумы.//Откуда же эта печаль,
Диотима?/Каким увереньем прервать забытье?/По улицам сердца
из тьмы нелюдимой!/Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!
4
4
Ср. в варианте «Разговора о Данте»: «Когда мы произносим, например,
«солнце», мы не выбрасываем из себя готового смысла —это был бы семан­
тический выкидыш, —но переживаем своеобразный цикл... Поэзия тем и отлича­
ется от автоматической речи, что будит и встряхивает нас на середине слова» (цит.
по [Силард 1977, 821).
И хотя далее в книге следует стихотворение «Смерть поэта»,
своим заглавием соотносящее через век смерть поэта Пушкина
и поэта Маяковского (ранее в «Охранной грамоте» смерть Пуш­
кина была определена Пастернаком как своеобразное «само­
убийство»), Пастернаку ближе пушкинский «Пророк», дарующий
поэту «второе рождение» в «аравийской пустыне». И это неслу­
чайно: день рождения Пастернака совпадает с днем смерти Пуш­
кина (29 января по старому стилю), а одним из первых прозаи­
ческих героев Пастернака был поэт и музыкант с «говорящей»
фамилией Шести(о)крылов, соотносимый с шестикрылым сера­
фимом «Пророка». Обращение к пушкинской «свободной сти­
хии» моря и есть залог бессмертия Пастернака: И это ли происки
Мэри-арфистки,/ Что рока игрою ей под руки лег/И арфой шумит
ураган аравийский,/Бессмертья, быть может, последний залог. Тут
вспоминается и «Осень» (1833) самого Пушкина, отмечающая
«время» отплытия его «корабля» в море поэзии: Громада двинулась
и рассекает волны.//Плывет. Куда.ж нам плыть?...
4. Использование паронимической аттракции, которая благо­
даря звуковым возвратам наряду с новой ритмической компози­
цией создает и временную перекомпозицию. Так, например,
в поэтической системе Мандельштама снимается оппозиция
между понятием «эллинизма слова» и воскрешением мира мифов
древней Эллады: ср. Помнишь, в греческом доме: любимая всеми
жена—/Не Елена — другая — как долго она
вышивала?/Золотое
руно, где же ты, золотое руно?/Всю дорогу шумели морские тяже­
лые волны,/И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,/
Одиссей возвратился, пространством и временем полный. Здесь на
переразложении и смешении различных древнегреческих мифов
рождается новая языковая модель мира, где неназываемый субъ­
ект-адресат— Пенелопа — складывается, как в «вышивании», из
пересечений звуковых нитей слов: Помнишь —Не Елена —полот­
но—полный. Словесные построения, вписанные в текст и дешиф­
рующие имя рукодельницы, которая на самом деле не вышивала,
а вязала и ткала, распуская ночью свои полотна, вплетаются
в структурную основу других мифов «греческого дома», в резуль5
5
В свете диалога поэтов и писателей XX века интересно замечание Пастерна­
ка о Маяковском в «Охранной грамоте» [4, 217], где осмысляется то же сочетание
«желтого» и «черного»: «Таким же обманчивым был и механизм его желтой
кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем
черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого
стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными»
[курсив мой — Н. Ф].
тате чего образуется словесная ткань, возвращающая в мир поэта
XX века «пространством и временем полное» слово.
В связи с последним отметим, что общим для поэтов XX века,
чьи имена связываются с течениями модернизма и авангарда,
является сначала «квантование» поэтической материи до «мель­
чайших делений слов», получающих статус определенных «поэти­
ческих признаков», а затем скрепление этих «делений-призна­
ков» специфической композиционной техникой, отражающей
концепцию строения мира у данного автора. Причем сам выбор
признаков и принцип их скрепления в тексте имеют у одного
и того же автора единую концептуальную установку. В основе
любой такой установки лежит общее стремление схватить все
неисчислимое множество связей и отношений (в какой-то мере
освобожденных от временной зависимости), существующих меж­
ду понятиями, явлениями и предметами в мире.
Типологически можно выделить две полярных тенденции по­
добного «преломления» и «скрепления» поэтических признаков.
Первая тенденция ориентируется на футуристическую поэтику,
где на первый план выступает звуковая игра и игра с квазимор­
фемами, ведущая к стиранию границ между отдельными формо­
образованиями: звуками, морфемами, словами, строками, перио­
дами. Эту тенденцию в «ранней» своей форме мы и наблюдали
в стихотворении «Золотистого меда струя из бутылки текла...»
(1917) Мандельштама.
Вторая тенденция ориентируется на поэтику акмеизма, где
в сильную позицию попадают «кванты» предшествующих текстов
(«своих» и «чужих») и при этом происходит, с одной стороны,
напряжение всех детерминант памяти этих «цитатных атомов»
[Oraic 1988, 124], с другой — монтаж этих квантованных претекстов осуществляется так, что отдаленные претексты, не связанные
друг с другом до этого момента, вступают друг с другом в связь,
в свою очередь порождая все новые ряды молниеносно множа­
щихся связей. Именно так создается манделыытамовская На языке
цикад пленительная смесь/Из грусти пушкинской и средиземной
спеси («Ариост» 1933), где «цитата есть цикада» [2, 218]. Причем
эта «смесь» создается и в поэзии, и в прозе, и постепенно в ней все
сильнее будет доминировать идея «разрыва», проходящая через
все явления жизни, но прежде всего разрыва «века» и «времени».
«Провал», образовавшийся между поэтом и «веком», по сло­
вам Мандельштама, напоминает «ров, наполненный шумящим
временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива» [2,
41]. Он же для него знак «цезуры» между двумя этапами его
стихотворческой деятельности: на месте этой «цезуры» как раз
оказывается его проза —«Шум времени» и «Египетская марка»,
где поэт хочет найти свое «новое начало» — «второе Я», которого
не хватает в поэзии. Сама структура «Египетской марки», расска­
зывающая историю «бедного», «больного сына» XX века как бы
манифестирует собой распадение времени: текст членится на
мелкие абзацы, доходящие до одной строки, средняя длина абза­
ца—3,4 прозаические строки. И Мандельштам подчеркивает на­
рочитую фрагментарность «ткани» своего произведения, обра­
зующуюся методом «склеивания» «текстовых квантов» разного
стиля и происхождения, при котором остаются «следы» клея
и ножниц. В «Египетской марке» он иконически представлен
в виде текста, разделенного на отдельные строки [2, 75]:
Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой. <...>
Марать —лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея.
Портняжу, бездельничаю.
6
Одновременно идея «кройки и шитья» и «сшивания белыми
нитками» эксплуатируется на композиционном уровне, где шью­
щаяся Парноку «визитка» все более «сбивается» на «сюртук»
Евгения из «Медного всадника» и «шинель» гоголевского героя
из одноименной повести. «Швы памяти» автора и героя образуют
и несколько внешних «перегородок», «оклеенных картинками».
Эти «перегородки» как бы обнажают метод создания «текста
в тексте»: «текстовые атомы» вводятся в новую структуру текста
«в нарочито фрагментарном виде. <...> Предполагается, что чита­
тель развернет эти зерна других структурных конструкций в тек­
сты. Подобные включения могут читаться и как однородные
с окружающим их текстом, и как разнородные с ним» [Лотман
1992, 113]. Ср. в «Египетской марке» [2, 62]:
6
Марать имеет в тексте повести интертекстуальное значение, связанное
с пушкинским «старинной нет охоты марать летучие листы*, и паронимически
также соотносимо с (египетской) маркой— Парноком и убитым Маратом (ср.
Рисую Марата в чулке). «Марка» же, как известно, приклеивается «языком».
В этом контексте «склеивания» можно воспринять как метатекстуальные и позд­
ние строки Мандельштама (Я к губам подношу эту зелень — Эту клейкую клятву
листов), переосмысляющие «клейкие листочки» Пушкина. В пользу этого говорит
и прием «наклеенных картинок» в «Египетской марке», параллельный пушкин­
скому.
«Парнок стоял один, забытый портным Мервисом и его
семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудело
тягучим еврейским медом женское контральто. Эта перегородка,
оклеенная картинками, представляла собой довольно странный
иконостас.
Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого
какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как
караульная будка, кареты и, не обращая внимание на удивленного
кучера в митрополичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд.
Рядом старомодный пилот девятнадцатого века Сантос Дюмон
в двубортном пиджаке с брелоками, — выброшенный игрой стихий из
корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на парящего
кондора. Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавли­
ным маршем пробегающие свою маленькую страну».
Все эти «наклеенные» на перегородку «картинки» склеива­
ются «тягучим еврейским медом женского контральто», которое,
согласно метонимии «еврейка» — «время, память» («Время — <...>
молодая еврейка...», «Память —это больная девушка-еврейка, убе­
гающая ночью тайком от родителей...»), становится для Мандель­
штама «голосом времени». Так в отрывке о «перегородках» соеди­
няются прошлые и будущие произведения поэта: «господа, похо­
жие на факельщиков» и «кучер в метрополичьей шапке»
соединяют тексты стихотворений «На розвальнях, уложенных
соломой...» (1916) и «Фаэтонщик» (1931), пронизанные пушкин­
скими реминисценциями «самозванцев», которых «везут без шап­
ки», и «Пира во время чумы». «Тяжелая шапка Мономаха», по
аналогии с «визиткой» Парнока, доставшейся ротмистру Кржи­
жановскому, попадает на голову кучера, везущего умирающего
поэта. При этом птица-кондор, питающаяся падалью, вызывает
в памяти и притчу Пугачева. «Пилот», «выброшенный игрой
стихий», ведет к «Стихам о неизвестном солдате» (1937), где поэт
не знает, «Как мне с этой воздушной могилою/Без руля и крыла
совладать». Глагол висеть (на веревке) у Мандельштама скорее
всего связан с «висельницей» (в том числе и на полях пуш­
кинских черновиков, где изображены повешенные декабристы),
и в стихотворении 1931 г. он недаром памятью рифмы свяжется
с глаголом умереть: Нам с музыкой-голубою/Не
страшно уме­
реть,/ Там хоть вороньей шубою/На вешалке висеть.
Сам же композиционный прием «наклеенных картинок» (по­
хожих на иконостас) заимствован Мандельштамом из «Станци­
онного смотрителя» Пушкина: там «картинки» рассказывают ис-
торию «блудного сына» (последнее первым заметил М. Гершензон). В «Египетской марке» поэт XX века рассказывает нам ис­
торию «бедного сына» Петербурга, который «был жертвой зара­
нее созданных концепций о том, как должен протекать роман» [2,
66]. И как и его герой Парнок, Мандельштам в реальной истории
XX века оказался «жертвой» более 100 лет назад созданной кон­
цепции «смерти поэта».
1.3. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРОПЫ
Система тропов — это система конс­
труирования бытия.
Ж. Деррида
Проблема «интертекст и троп», «интертекст как риторическая
фигура» постоянно встает перед исследователями, стремящимися
определить сущность межтекстового взаимодействия. Но посколь­
ку межтекстовые отношения и связывающие их формальные
элементы столь разнообразны по своей природе и проявлению,
по-видимому, не существует однозначного ответа на вопрос,
с каким именно тропом может быть сопоставлено интертекстуальное преобразование. В нем обнаруживаются и признаки метафоры
(М. Ямпольский), и метонимии (3. Г. Минц), в частности, синек­
дохи (О. Ронен), а в определенных контекстах гиперболы и иро­
нии (Л. Женни) (см. также [Смирнов 1995,14 — 151). При этом
обнаруживается, что и декодирование тропов и расшифровка
интертекстуальных отношений основаны на «расщепленной рефе­
ренции» (Р. Якобсон) языковых знаков, или «силлепсисе» в терми­
нах М. Риффатерра [RifTaterre 1979]. Однако и в том и другом
случае для адекватного понимания смещенной по своей синтагма­
тике конструкции необходимо обращение к пространству языко­
вой памяти: либо к целостной системе переносов, узаконенной
в поэтическом языке (так называемым «поэтическим парадигмам»
[Павлович 1995] ), либо к целостной парадигме текстов, создаю­
щей культурный контекст для данного. «Репрезентативность цита­
ты оказывается <...> знаком того, что в данной риторической
фигуре отпечатался некий процесс, требующий реконструкции,
оживления. Репрезентативность метафоры <...> является одновре­
менно и результатом кристаллизации предшествующих смысловых
]
1
Формулы и модели, лежащие в основе тропеических преобразований, также
называют метафорическими архетипами [Панченко, Смирнов 1971), базисными
метафорами [Лакофф, Джонсон 1990]. образами-схемами [Лакофф 1988].
процессов и генератором нового активного смыслопорождения»
|Ямпольский 1993, 412].
В то же время оказывается, что интертекст, как и метафора
и метонимия, не знают границ какого-либо одного языка (ср.
например, игру на прямых и обратных переводах у В. Набокова ),
какого-либо одного способа и средства художественного выраже­
ния как собственно внутри языка (межтекстовые параллели не
акцентируют разделение на стих и прозу —см. [Фатеева 1995а]),
так и при смене медиальных средств выражения разных искусств
(см. [Hansen-Love 1983]. Формальные же показатели интертексту­
альных связей сами могут входить в состав тропов и стилистиче­
ских фигур (наиболее интересны случаи, когда сама конструкция
сравнения намекает на более глубинный интертекст, к примеру,
в «Псаломе 57» Г. Сапгира: Это все глубоко наболевшее/и простое
как Доктор Живаго фоном служит «Простое, как мычание» Мая­
ковского ), а также получать выражение как в орфографии (ср.
у В. Пелевина [1998, 328] в рассказе «Девятый сон Веры Павлов­
ны»: «ВЬра Павловна на другой день вышла изъ своей комнаты,
мужъ и Маша уже набивали вещами два чемодана») и воспроиз­
ведении архаичных форм, отражающих временной разрыв тек­
стов («Перуне, Перуне...» Н. Асеева (1914): Чтоб мчались кони,/
чтоб целились они,—/похвалим
Перуне/владетеля мони), так
и пунктуации: ср. ряды обыкновенных точек, которые «вспыхну­
ли искрами», когда в тексте «Петербурга» А. Белого перед Дудкиным появляется Шишнарфнэ-Енфраншиш («Появился я... из
2
3
2
Так, например, в английском варианте романа «Отчаяние» («Despair*, 1966)
многократно обыгрывается фамилия Достоевский, которая каламбурно соотно­
сится автором с сочетанием Dusty-and-Dusky (букв. 'грязный и темный^), назва­
ние романа «Преступление и наказание» воспроизводится как «Crime and pun»
(букв, 'преступление и каламбур') и числится в вариантах заглавия криминаль­
ного романа Германа, фамилия же Раскольников передается как Rascalnikov
и таким образом связывается с английским словом rascal 'мошенник, сброд,
чернь*.
Прекрасный пример межъязыковой интертекстуализации приводит П. Вайль
[1995, 189], демонстрирующий, что у И. Бродского образ времени материализу­
ется, приобретая пространственные характеристики: «На каламбурном уровне это
эффектно сделано в цикле «В Англии»: Шорох «Ирландского Времени», гонимого
ветром по/железнодорожным путям к брошенному дело...—где шелест страниц
•Irish Times* простым дословным переводом превращается в мандельштамовский
«шум времени»...».
В самом романе «Доктор Живаго» всплывает конструкция «без всякого
ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием» [3, 47], которые от­
носятся к Комаровскому, гуляющему с бульдогом, и Сатаниди. При этом в струк­
туре романа образ Комаровского проецируется на Маяковского (см. также [Смир­
нов 1996, 40]).
3
точки вашей гортани...») на фоне многоточий и разрывающих
текст, как два крыла, тире в его же стихотворении «Дух» (1914):
И видел духа... Искрой он возник...
Как молния, неуловимый лик
И два крыла — сверлящие спирали —
Кровавым блеском разрывали дали... .
4
Еще одно необычное проявление интертекстуальности обна­
руживается при обращении к «поэтике даты» (см. [Минц 1989;
Тамми 1999а ]). Так, например, оказывается, что «Отчаяние»
(1932) В. Набокова заканчивается датой 1 апреля, проставленной
в дневнике Германа, роман же «Дар» (1937) этой датой открыва­
ется (первого апреля 192... года) (см. 2.5). 1 апреля также день
рождения Н. Гоголя по новому стилю, и в своей числовой «шиф­
ровке» Набоков отчасти следует гоголевской расстановке дат,
прежде всего в «Записках сумасшедшего» (о датах в этой повести
см. [Лукин 1999, 137-143]).
Все эти примеры показывают, что интертекстуальная актив­
ность мобилизуется именно тогда, когда читатель оказывается не
в состоянии разрешить языковую и дискурсивную аномалию на
уровне системы метафорических и метонимических переносов
языка, либо просто на уровне его орфографических, согласова­
тельных, пунктуационных правил и словообразовательных моде­
лей. В этом случае и происходит «взрыв линеарности» (Л. Женни) текста: воспринимающий пытается найти источник семан5
4
Когда же Шишнарфнэ исчез, Дудкин начинает «трещащий» диалог с самим
собой: «Петербург: четвертое измерение, не отмеченное на картах, отмеченное
лишь точкою; точка же — место касания плоскости бытия к шаровой поверхности
громадного астрального космоса...» [1978, 239]. Эти звуки как бы самопроизволь­
но появляются из его «гортани»:
Из аппарата гортани ответило:
«Ты позвал меня... Вот и я...»
Пришло Енфраншиш за душой» [1978, 240].
Следом у Белого идет абзац, выделенный с двух сторон «вспыхнувшими
искрами точек», которые переносят в «иное измерение»:
Александр Иванович выскочил из собственной комнаты: и — щелкнул ключ.
«Да, да... Это —я... Я—гублю без возврата...» [там же] (снова два тире).
Такие точки разрывают текст романа не только в главке «Петербург», но
и в других, однако отделяют там более крупные фрагменты. Позднее текст эссе
«Пленный дух» М. Цветаевой, посвященный А. Белому, будет все время раз­
рываться на отдельные фрагменты тремя звездочками.
П. Тамми [1999а, 21] выделяет три уровня текста, на которых у Набокова
функционируют даты: 1) интратекстуальный; 2) интертекстуальный; 3) мифоло­
гический (публичный миф о себе самом). Однако безусловно имеются и полиге­
нетические даты, работающие на всех трех уровнях.
5
н
о
X
S
Межъязыковая
Интермедиальные связи
Формальная (стих- проза)
^ В составе тропов и фигур
^ На уровне орфографии и
пунктуации
•• Математических
знаков и дат
Рис 4
тического преобразования данного «выбивающегося из правил»
языкового выражения не в системе языка, а в сфере «ин­
дивидуально сотворенного смысла», уже отлитого в форму
претекста.
Однако это не означает, что образования, включающие в себя
интертекст, имеют «нетропную», одномерную структуру. И в слу­
чае собственно «тропных» переносов, и в случае, когда мы осу­
ществляем некоторую «текстуальную интер-акцию» (Ю. Кристева), поскольку глубинные процессы смыслообразования связаны
с проникновением в саму структуру аналогий, сдвигов, взаимо­
наложений, происходит выход из собственно языковой системы
в систему метаязыка. Как утверждает Ж. Деррида [Denida 1980,
91], вся система бытия может быть выражена только через мно­
жество тропов. И если понимание тропов и фигур, или способов
«переиначивания» исходного положения вещей в действительном
мире, всегда опосредовано текстами, то значит, что и любая
основа такого преобразования лежит в интертекстуальной и метатекстовой области.
Однако верно и обратное. В основе интертекстуализации ле­
жит не тропное, а метатропное отношение. Иными словами, при
интертекстуальном взаимодействии (если, конечно, в нем об­
наруживается некая эстетическая функция) происходит заим­
ствование не одного элемента, а целого «комплекса поэтической
мысли» [Гинзбург 1974, 383] или самого «кода иносказания».
Этот «код иносказания» включает в себя семантические комплек­
сы, которые обладают неодномерной структурой (буквально
«пучки смыслов, которые торчат во все стороны», если перефра­
зировать О. Мандельштама) и непосредственно коррелируют
с эпизодической, семантической и вербальной памятью творчес­
кого индивида. Данные семантические комплексы были названы
нами в работах [Фатеева 1995а, 19956] метатропами (точнее, метатекстовыми тропами) . Метатропы — это стоящие за конкрет­
ными языковыми образованиями (на всех уровнях текста) глу­
бинные функциональные зависимости, структурирующие модель
мира определенного автора. В типологическом аспекте нами
были выделены ситуативные, концептуальные, композиционные
и собственно операциональные метатропы, которые в совокуп­
ности образуют некоторую иерархическую, но замкнутую в круг
систему зависимостей, организующую движение от смысла к тек­
сту, от сознания к речи, от недискретных единиц мышления
к дискретно-словесным и обратно.
В прежних работах мы говорили о существовании таких се­
мантических комплексов в применении к явлению автоинтертекстуальности, однако понятно, что они работают и в общих случа­
ях интертекстуального взаимодействия. К тому, что данные глу­
бинные семантические «пучки» зависимостей существуют
и обладают неодномерной структурой, совершенно независимо
приходят и другие исследователи. Например, В. Н. Топоров
6
6
Современная когнитивная лингвистика, ищущая новые «стратегии понима­
ния связного текста», также выделяет особые структуры семантического представ­
ления, непосредственно связанные с памятью. Ученые дают им различные назва­
ния: «фрейм», «схема», «сценарий», «глобальная модель», «когнитивная модель»,
«псевдотекст», «сцена» и т. п. [Филлмор 1988, 54]. Различные названия этих
структур уже указывают на то, что они типологически различны и тяготеют
к разным аспектам организации семантического представления текста: так
«фрейм» опирается на «модель ситуации»; «сценарий», «сцена», «семантический
план» связаны с композицией и перекомпозицией следов эпизодической и семан­
тической памяти; «когнитивная» или «глобальная модель» — с концептуализацией
и структурированием семантических элементов, а также с формированием основы
локальной и глобальной связности дискурса. Однако все выше названные струк­
туры используются при анализе прозаического, нарративного текста, запомина­
ние которого связано прежде всего с эпизодической и семантической памятью.
Стратегия же понимания и запоминания стихотворного текста требует обращения
к структурам вербальной памяти, непосредственно связанным с актуализирован­
ным текстовым представлением. При этом все структуры, объединяемые под
общим термином «фрейм», понимаются исследователями как базисные, унифи­
цированные элементы знания, особым образом схематизирующие познаватель­
ный и языковой опыт. Нас же будут интересовать индивидуально преобразован­
ные семантические структуры. Исследуемые нами «метатропы» отличаются от
«фреймов» тем, что заключают в себе не структурированные «готовые знания»,
а особые «пучки» векторов трансформации одной структуры, хранящейся в памя­
ти, в некоторое множество новых структур. Ориентируясь прежде всего на
«память текста», метатропы фактически служат основой «перевода» одного тек­
стового представления в другое.
[1998, 115] при исследовании так называемого «морского комп­
лекса» у И. Тургенева приходит к необходимости нарисовать его
общую схему, которую условно представляет «в виде пятичленной конструкции, пространство которой определяется как
«внешними» связями ее членов, так и связями членов «внутри»
этого пространства»:
Море
Смерть - рождение
Рис 5
Топоров также находит отдельные радиальные связи этого
«комплекса» у других художников слова: к примеру, связь эроти­
ческого и моря (мотивы волнения, покачивания) — у Пушкина,
сна и моря — у Тютчева.
Однако сходный «морской комплекс» целиком, т. е. такую же
структуру функциональных зависимостей, можно обнаружить
и у Б. Пастернака, причем она присутствует и в самых ранних
и самых поздних (роман «Доктор Живаго» — «ДЖ») его произ­
ведениях. Так, например, у молодого Пастернака в стихотворе­
нии «Piazza S. Магсо» (1909) находим строки о «морском дне»:
Я лежу с моей жизнью неслышною,/С облаками, которых не
смять./Море встало и вышло, как мать,/Колыбельная
чья—уже
лишняя./<...>/Говор
дна —это скрип половиц/Под его похоронною
поступью. При соотнесении этих стихотворных строк с описани­
ем, которое дается низу дома Громеко в Москве («Благодаря
фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля,
аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим
на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно
колышущегося морского дна» [3, 56]), становится очевидным тра­
гический поворот в семье Громеко: смерть матери Тони Анны
Ивановны, а в дальнейшем и самого Живаго, лишившегося после
революции и этого дома.
Первые эротические переживания Живаго по отношению
к Тоне как раз обостряются в связи со смертью ее матери.
Рождение первого сына Живаго также связано с морем («Тоня
возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы
через море смерти к материку жизни с новыми душами, пересе­
ляющимися сюда неведомо откуда» [3, 106]).
Поэма же «Смятение», которую Живаго пишет, вновь воскре­
сая после смертельной болезни к жизни, содержит в себе пересе­
чение тем смерти, любви, возрождения и все под собой хороня­
щих волн морского прибоя; Лара же в романе «волной судьбы со
дна/Была к нему прибита». «Волна» становится и метафорой
любви доктора к Ларе («И обещание ее близости, сдержанной,
холодной, как светлая ночь севера, <...> подкатит навстречу, как
первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку
берега» [3, 302]). Образ «волны» всплывает и когда Живаго,
навеки простившись с Ларой, воспроизводит ее черты на бумаге
(«Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури,
взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей,
дальше всего доплескавшейся волны» [3, 446]), а потом получает
«зеркальное» отражение в сцене у гроба, когда Лара, оплакивая
Живаго, сравнивает его с реченькой, в холодные воды ей теперь
не придется бросаться.
На определенные глубинные параллели Тургенева и Пастер­
нака обращает внимание и сам Топоров, говоря, к примеру,
о пересечении «морской» и «лесной» тем, а также соединении
идеи «сверхъестественного», «видения» и «стука» при свете «све­
чи» у обоих [Топоров 1998, 50, 108]. В книге «Странный Турге­
нев» говорится и об особой «пронизанности» Тургенева «жен­
ским началом», его особой «женственности», как бы заданной
«феминизацией-филиазацией» писателя в детстве: «мать обраща­
лась к нему как к девочке — Jeanne, его одевали в платье девочки»
[там же, 19]. Все эти факты при сопоставлении с высказываниями
Пастернака (например, о том, что в прежней жизни он мыслил
себя «девочкой», или о своей «пронизанности» женским началом)
и его произведениями (в которых особое внимание поэта уделя­
ется «платью девочки» —см. [Иванов 1998]) поражают; удиви7
7
Частота обращения к прилагательному «странный» также объединяет Тур­
генева и Пастернака, представителя «странного авангарда». Даже сама фамилия
поэта, по мнению Вяч. Вс. Иванова [1992, 345], в «Теме с вариациями» Пастерна­
ка составляет с этим прилагательным анаграмму:... СКРыТый ото всех НеСКРомНых—самый СТРАННый, самый тихий, ИгРАющий с эпохи ПСаммеТиха Углами
СКул ПуСТыНи деТСКий смех... В целом тема «Пастернак и Тургенев» ждет еще
своего полного раскрытия.
тельным при этом оказывается, что имя девочки повести «Дет­
ство Люверс» Пастернака —Женя (ср. Jeanne). Думается, что
можно предположить у обоих художников слова наличие некоего
так называемого «тропа женственности», который А. К. Жолков­
ский [1997, 209], взяв за основу заглавие книги стихов Пастернака
«Сестра моя —жизнь» («СМЖ»), назвал «сестринским тропом» .
Все эти межтекстовые соответствия, вскрывающие более глу­
бинный пласт подобий, ставят проблему взаимоотношения
интертекстуальности и архетипов (тем более что часто эти «пуч­
ки» семантических подобий «всплывают» при описании сно­
видений и пограничных состояний героев), которая уже обсуж­
далась в работах С. Моравски [Morawski 1970], Л. Женни [Jenny
1976] и других ученых. Так, например, в суммирующей книге
И. П. Смирнова [1995, 45] о «порождении интертекста» разли­
чаются понятия «некой глубинной семантической схемы
(competence)*, которая оказывается в равной мере присущей
множеству текстов, и манифестаций некоего «архетипического
смысла (perfomance)», которые «образуют независимые друг от
друга преемственные линии». Однако, видимо, между этими
двумя сущностями нет уж такого глубинного противоречия, по­
скольку заимствующиеся из текста в текст элементы смысла,
получающие воплощение в определенных формальных элементах
языка, определяются именно неким «генетическим кодом» ис­
точника. Например, подобие семантических фигур, которые об­
наруживаются на композиционном и концептуальном уровнях
в текстах Б. Пастернака и В. Набокова, о котором мы будем
говорить ниже, нельзя объяснить только поверхностным вза­
имодействием их текстов, при 'этом остается и неизвестным
«кто кому подражает».
Все это снова обращает нас к понятию метатропов. Попробуем
показать, как эти комплексы семантических зависимостей непо­
средственно работают в случае интертекстуального взаимодейст­
вия. Разберем последовательно все типы метатропов ( М Т Р ) .
8
9
8
Это соотношение мужского-женского начал у Пастернака, заданное стро­
кой «Сестра моя —жизнь» изучалось нами как метатропное в работах [Фатеева
1995а, б]. См. об этой строке, задающей заглавную метафору как книги, так
и определенного отношения в идиостиле Пастернака, в работе [Дёринг-Смирнова, Смирнов 1982, 139-140).
Быть может, само название этих комплексов не очень удачно, однако мы
выбрали его, чтобы показать, что реальное взаимодействие между текстами,
какую бы степень формальной выраженности оно ни имело, происходит на
уровне более глубинном, чем поверхностные семантические преобразования.
9
Ситуативные МТР
Ко н це пту ал ьн ые
МТР
ь
Композиционные
|
МТР
кий
Операциональные МТР
Рис 6
Ситуативные метатропы — это определенные референтивномыслительные комплексы, продиктованные «внутренней смыс­
ловой необходимостью» и служащие моделью для «внутренних
речевых ситуаций» [Senderovich 1987, 318]. Они имеют соответст­
вия в реальной жизненной, реально претекстовой (предшествую­
щего текста) и воображаемой ситуациях. Воспоминание и вооб­
ражение оказываются взаимосвязанными, и на пересечении «па­
мяти зрения» и «памяти смысла» образуются «небывалые
комбинации бывалых впечатлений» [Кругликов 1987, 26]. «КниТермин «метатроп» используется и в статье Ю. М. Лотмана «Риторика —ме­
ханизм смыслопорождения», однако там он отнесен к сфере «минус-риторики».
«В культуре, для которой риторическая насыщенность сделалась традицией и во­
шла в инерцию читательского ожидания, —пишет Лотман [1996, 59] —троп вхо­
дит в нейтральный фонд языка и перестает восприниматься как риторически
активная единица. На этом фоне «антириторический» текст, составленный из
элементов прямой, а не переносной семантики, начинает восприниматься как
метатроп, риторическая фигура, подвергшаяся вторичному упрощению».
На первый взгляд кажется, что наше определение метатропа вступает в про­
тиворечие с тем, что дает Ю. М. Лотман, однако это противоречие только ка­
жущееся. Поэтический язык на каждой стадии своего развития представляет
собой «риторически насыщенную» систему, поэтому каждый новый художник
слова, чтобы найти свой неповторимый язык, создает свою индивидуальную
«антириторическую» систему (точнее, систему, противоположную по своей рито­
рике исходной), которая фиксирует его уникальную модель мира. Система семан­
тических зависимостей, которую вокруг себя «развертывает» поэт (или писатель),
для него является первичной, так для него не существует никакого другого языка
выражения, кроме системы созданных им преобразованных семантических струк­
тур. Так, в языке Б. Пастернака, где нормой является «одушевление вещи», любое
олицетворение (к примеру, Весна, я с улицы, где тополь удивлен,/Где даль пугается,
где дом упасть боится) не будет восприниматься как троп, а как единственно
возможный способ представления действительности. И любое интертекстуальное
представление этой особенности стиля Пастернака, включая метаописательное,
будет акцентировать эту его «врожденную» особенность. Ср. как об этом пишет
М. Цветаева в эссе «Эпос и лирика современной России»: «Иносказание (Пастер­
нак). Прямосказание, причем, если не понял, повторит и будет повторять до
бесчувствия, пока не добьется» [Цветаева 1986, 416].
га —живое существо, —пишет Б. Пастернак [4, 367] в «Несколь­
ких положениях», обсуждая вопросы порождения поэтических
и прозаических текстов. —Она в памяти и в полном рассудке:
картины и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запом­
нила и не согласна забыть».
В порождаемых писателем или поэтом текстах некая инвариант­
ная модель «бывалой» ситуации трансформируется во взаимодопол­
нительные по отношению к друг другу «небывалые» ситуации-вари­
анты. При этом в реальном текстовом воплощении, особенно в сти­
хотворной форме, увеличивается разрыв между внутренней моделью
и реальной ситуацией. Стихотворная модель всегда оказывается
сложней прозаической, так как в нее «входит не только непосред­
ственное содержание стихотворения, в какой-то мере поддающееся
прозаическому пересказу, но и модель структуры стихотворения»
[Иванов 1961, 370]. Эффект разрыва наблюдается потому, что, «с
одной стороны, тот или иной смысл не может реально существовать
без одновременного отложения в виде известной структуры. С дру­
гой стороны, сама структура, представляющая собой морфологиче­
скую сторону смысла, является поводом для смысловой расшифров­
ки и порождает снова смысл» [Фрейденберг 1936, 118—119].
Наиболее явно заимствование на уровне ситуативных метатропов дает себя знать, когда мы имеем дело с явно «вторичны­
ми» текстами или с эксплицитной ситуацией « Н о т о legens»,
когда эффект разрыва минимален . Таковы, например, воспоми­
нания А. Вознесенского о поездке в Марбург, которые составля­
ют часть его статьи «Небом единым» (посвященной книге пере­
водов Пастернака «Звездное небо»). Текст воспоминаний Возне­
сенского вербально повторяет поэтические и прозаические
воспоминания о Марбурге Пастернака — его стихотворение
«Марбург» (1916, 1928) и «Охранную грамоту» (1928—30): «Со­
знание инстинктивно расставляло шахматную ситуацию, где марбургские колокольни, где ночи садятся играть в шахматы. <...>
«Охранная грамота», была библией моего детства. Я страницами
шпарил текст наизусть без перерыва» [Вознесенский 1984, 410].
И далее: «Я искал его адрес. Старый город был инсценировкой по
«Охранной грамоте». Дома срепетированно повторяли позы и же­
стикуляцию текста. <...> Вот здесь жил Мартин Лютер. Здесь —
братья Гримм. Когтистые плиты. Мы думали, Пастернак — фан10
10
«Ното legens в русской литературе XIX века» —так называется интересная
работа Д. Чавдаровой [1997], в которой проблемы интертекстуальности рассмат­
риваются с точки зрения «читающих» героев произведений.
тает, Клее, а он —нате вам!— скрупулезнейший документалист»
[там же, 410—411]. Ср. у Пастернака: Тут жил Мартин Лютер.
Там —братья Гримм./Когтистые крыши. Деревья. Надгробья./
<...>/Ведь ночи играть садятся в шахматы... («Марбург») и Когда
он Фауст, когда —фантаст... («Темы и вариации»). Как ранее
Пастернак описывал в «Охранной грамоте» Италию по картинам
венецианских мастеров (ср. «изображенье Венеции и есть Вене­
ция» [4, 199] у Пастернака), так и Вознесенский описывает
«когтистую готику» Марбурга «наизусть» по текстам Пастернака:
в его текстах все «отрепетировано», как некогда в стихотворении
«Марбурп> Пастернак «репетировал» свою возлюбленную «от гре­
бенок до ног» по драмам Шекспира. С одной стороны, Воз­
несенский описывает свои собственные впечатления от города,
с другой — он не в состоянии описать Марбург вне иносказатель­
ного кода Пастернака — своего поэтического предшественника.
Таким образом, текст Вознесенского становится отчасти перево­
дом, переводом ситуации претекста, или «тройного языка»
(А. К. Жолковский) Пастернака на свой язык иносказания.
И этот язык нового иносказания становится метатекстовым, по­
скольку порождает конструкцию «текст в тексте».
«Переводил других — себя, свой дар переводил», — каламбурит
в этой же статье Вознесенский, имея в виду книгу переводов
Пастернака «Звездное небо». Однако неоднозначность слова «пе­
ревод» позволяет и более глубоко истолковать слова автора стихо­
творения «Кроны и корни», написанного на смерть Пастернака.
«Сердцевина книги, ее центр—два мощно сросшихся ствола, два
рильковских реквиема, их разметавшиеся кроны и корни выходят
за пределы книжного формата, лишь угадываются и шумят в иных
измерениях. <...> Впрочем, и вся книга —в чем-то праздничный
реквием по тому, что могло быть на месте этих переводов»
[имеются в виду произведения Шекспира и Гете. —Я. Ф.], —пи­
шет Вознесенский [там же, 409]. Мы помним, что именно памяти
Рильке посвятил Пастернак свою «Охранную грамоту», поэтому
поэтический и прозаический тексты-переводы Вознесенского как
бы заимствуют и сам пастернаковский принцип посвящения.
Совершенно иную интертекстуальную обработку, теперь уже
картины Венеции, воспроизведенной Пастернаком в двух редак­
циях одноименного стихотворения (1913, 1928) и «Охранной
11
12
11
Ср. у самого Б. Пастернака в стихотворении «Эхо» (1915): Но чем его песня
полней,/Тем полночь над песнью просторней./Тем глубже отдача корней,/Когда она
бьется об корни.
грамоте» (все готово стать осязаемым, и даже отзвучавшее, от­
четливо взятое арпеджио на канапе перед рассветом повисает
каким-то членистотелым знаком одиноких в утреннем безлюдье
звуков), находим в «Венецианских строфах» (I) И. Бродского: Так
смолкают оркестры. Город сродни попытке/воздуха удержать но­
ту от тишины,/и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,/плохо
освещены./ Только фальцет звезды меж телеграфных линий — /там,
где глубоким сном спит гражданин Перми./Но вода аплодирует,
и набережная — как иней,/осевший на до-ре-ми .
В отличие от текста Вознесенского, стихотворные строки
Бродского почти нигде не повторяют тексты Пастернака на
формальном уровне (лишь название стихотворения, указываю­
щее на референциальную соотнесенность с одним и тем же
городом, да слова вода, звезды, набережная, сон намечают контур
источника), однако безусловно воспроизводят их затекстовую
ситуацию. Здесь, как и у Пастернака, в воздухе Венеции, пе­
реходящей ото дня к ночи, висят одинокие «звуки музыки»,
отражательным лабиринтом которых в акустической сфере
оказываются набережные и большой канал, в визуальной — звез­
ды (ср. в «Охранной грамоте» Пастернака строки о воображаемом
«созвездии Гитары» над Венецией). Общим у обоих поэтов
оказывается и то, что колебание между сном и явью, реальностью
и воображением обнаруживается прежде всего в зарождении
музыкальных звуков и знаков, а также в появлении на небе
новой звезды (или целого созвездия). Интересно то, что «оди­
нокий аккорд», или арпеджио (гитары или мандолины), в небе
Венеции Пастернака у Бродского превращается в смолкающие
звуки целого оркестра, зато картина созвездия заменена оди­
ноким «фальцетом звезды» на фоне нотных линеек —телеграф­
ных линий . Знаменательно при этом, что фальцет — это самый
13
14
12
Само стихотворение «Венеция» Пастернака, особенно во второй своей
редакции, восходит к стихотворению «Venezianischer Morgen» Р.-М. Рильке (см.
[Бушман 1962; Смирнов 1995, 33]).
Ср. в прозе —эссе «Набережная неисцелимых»: В сущности, весь город,
особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами
палаццо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе [Бродский
1992а, 239—240]. И далее: Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопом­
рачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака... [там же, 252].
Введение темы «телеграфных линий» создает пересечение ситуации данной
строфы Бродского с другими строками Пастернака из цикла «Болезнь» (1918),
который связан с темой Москвы: Будто эта тишь, будто эта высь,/Элегизм
телеграфной волны—/Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»/Или эхо другой ти­
шины.
15
14
верхний регистр мужского голоса, у Пастернака же «звуки
музыки» в окончательной редакции «Венеции» связаны с женщи­
ной и феминизированным пространством города. И хотя Брод­
ский и меняет ракурс виденья пастернаковской ситуации, образ
женщины в этих строфах присутствует по-пастернаковски мето­
нимично: поэт предваряет свою 7-ю строфу строками, которые
проецируются на его стихотворение «Марбург»: Так подбирает
гребни, выпавшие из женских/взбитых
причесок, для дочерей
Нерей...
И если у Пастернака речь идет о сне, из которого люди
пробуждаются , то у Бродского это вечный сон гражданина
Перми С. Дягилева (что явствует из комментариев автора). Таким
же «глубоким сном» теперь спит в Венеции и сам И. Бродский,—
т. е. созданная поэтом образная текстовая ситуация стала ре­
альной.
Сочетание нескольких литературных ситуаций находим в центонном сонете А. Крестовиковского из книги «Сад сходящихся
тропок» (1996). В нем сходятся не только стихотворные строки,
но и два города — Венеция и Петербург (см. также 1.5). На
взаимопроникновении петербургской и венецианской тем и стро­
ки В. Маяковского, написанные в Петербурге, начинают про­
читываться в ключе «нежности» «Венецианских строф» И. Брод­
ского, а те, в свою очередь, служат отражением строк О. Ман­
дельштама о «Веницейской жизни» и «Сестрах тяжести
и нежности...». Ср.:
15
15
Однако, если мы посмотрим на развертывание темы «Венеции» в творчест­
ве Пастернака, то обнаружим, что она также оказывается связанной с темой
смерти, как и в большинстве текстов Серебряного века русской литературы.
Сравнивая начальные строки «Венеции» (Я был разбужен спозаранку/Щелчком
оконного стекла) с прозаическими строками романа «Доктор Живаго», переда­
ющими осознание поэтом Живаго «выстрела» Стрельникова в себя (...висевшая во
сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол
и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича [3, 458]), обнаруживаем,
что «картина Италии» как бы разбивается, а «щелчок стекла» оказывается «вы­
стрелом», подобным тому, которым была прострелена картина в «Выстреле»
Пушкина (см. 2.3). Упоминая в своей книге тот же контекст Пастернака,
И. П. Смирнов [1995, 146— 147] пишет о том, что благодаря такому соотнесению
двух ситуаций женщина-самоубийца из стихотворения «Венеция» Пастернака
трансформируется в романе (при отсутствии женщины—Лары) в мужчину-само­
убийцу Стрельникова. Здесь же Смирнов упоминает и ранее проанализированное
нами в связи с «морским комплексом» стихотворение Пастернака «Piazza
S. Магсо», которое также связывает темы Венеции, смерти и места жизни героев.
Как ни странно, все дома «смерти» оказываются взаимосвязанными темой волн
и моря: в доме Громеко умирает Анна Ивановна, около Варыкинского дома
стреляется Стрельников, в комнате по Камергерскому оплакивают Живаго.
Трапеции парусов
Ветер вздувает плакатом,
Как тоги.
Тонет в тумане
«Петербург» Б. Пастернака
Венеция —
Каменная баранка.
О муза,
Дай выстелить нежностью
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.
«Венеция» Б. Пастернака
Дай хоть
последней нежностью выстелить
Твой уходящий шаг...
«Лиличка!» В. Маяковского
прижаться, к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.
«Венецианские строфы» И. Бродского
Твой уходящий шаг... <...>
И время пьет
Помутившийся воздух —
Сырую резеду горизонта.
Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
«Сестры тяжесть и нежность...» О. Мандельштама
И пахнет сырой резедой горизонт.
«Сестра моя —жизнь...» Б. Пастернака
Заметим при этом, что И. Бродский и в стихах, и в прозе при
описании Венеции заимствует у Мандельштама не только его
доминантную идею «тяжести-нежности» и «зеркального отраже­
ния», но и ситуацию живописных полотен эпохи Возрождения (И
Сусанна старцев ждать должна), которая, по приниципу Венеция=венецианка Пастернака, трансформируется у Бродского
в Венецию-Сусанну, переходящую вброд «холодные, крашенные
закатом плещущие воды» («Набережная неисцелимых»), так что
«Голый, холодный мрамор/бедер новой Сусанны сопровождаем при/
погружении под воду стрекотом кинокамер/новых старцев» («Ве­
нецианские строфы» (II). Таким образом, ситуативные метатропы связывают не только интертекстуальные «картины», но
позволяют и интермедиальные переводы, которые обратимы.
Так, И. Бродский сам комментирует свою метафору «ВенецияСусанна»: «История о Сусанне и старцах (Книга Даниила, гл. 13)
была частым сюжетом для живописцев эпохи Возрождения»
[Бродский 1992а, 227]. Таким образом, тексты Пастернака, Ман­
дельштама и Бродского впитывают в себя картинные ситуации
мастеров Возрождения, однако источником этих живописных
картин были «вечные тексты».
Сопоставление данных связанных между собой ситуаций «Вене­
ции» показывает, что в каждой из них возникает переплетение
16
16
И. Бродский имеет в виду, что путешествовать по Италии могут по преиму­
ществу уже пожилые люди, так как молодым это не по карману.
реально бывших и воображаемых претекстовых ситуаций, но
различные концептуальные признаки, положенные в основу со­
здания релевантного денотативного пространства каждого текста,
по-разному структурируют сходную внутреннюю модель ситуа­
ции. Это говорит о том, что любое интертекстуальное заимствова­
ние для младшего автора всегда оказывается внутренне мотивиро­
ванным, подчиненным глубинной системе зависимостей его идиостиля.
Итак, мы закономерно вступаем в область концептуальных
метатропов — устойчивых мыслительно-функциональных зависи­
мостей, образующих и синтезирующих обратимые цепочки «ситуа­
ция — образ — слово», а также создающих из отдельных референциально-мыслительных комплексов целостную картину мира. Кон­
цептуальные метатропы образуют область, где пересекаются все
нити памяти и создается «креативная память», которая обеспечива­
ет перевод из одного «возможного мира» мысли и языка в другой и,
следовательно, генерирует механизм рождения все новых «возмож­
ных миров» из одних и тех же мировоззрительных источников.
Ранее мы рассматривали эти типы интегрирующих и организую­
щих функциональных зависимостей только в применении к отдель­
ному иди о стилю, однако мы хотим показать, что такие основопола­
гающие структурные принципы могут либо заимствоваться, либо
параллельно возникать (из архетипов?) у различных авторов.
Известно, что в системе авангарда органы восприятия и хра­
нения информации, выступая как метонимии творческого про­
цесса, оцениваются самими поэтами как креативные и текстопорождающие. Это прежде всего, согласно Фарыно [19896, 36],
«глаза», «уши», «губы», «грудь», «душа», «память». Они стоят на
границе внешнего и внутреннего мира и обеспечивают их взаим­
ную проницаемость: мир и «Я» удостоверяются друг в друге
посредством слияния органов чувств.
Особенно выделяются художниками слова именно «глаза»,
и по тому, «куда глаза глядят» у определенного автора, можно
сделать вывод о его фокусах эмпатии. «Глаз», уподобляемый
человеческому «зеркалу» (ср. у Пастернака «Зеркало»=«Я сам»),
становится одним из доминирующих механизмов смысло- и текстопорождения: механизмом семантизации дискурса — наполне­
ния знаков связью с внетекстовой действительностью, и семиотизации — характеризующейся своеобразной игрой со знаками, хра­
нящимися в памяти (см. [Лотман 19836]). Возникает новый
принцип отражения, создающийся на пересечении метафориче-
ских (подобие отражаемого и отраженного) и метонимических
трансформаций (отраженное как часть или замена целого).
Особым вниманием к «зеркалу-глазу» как проводнику идеи
«отражения» мира отличаются Пастернак и Набоков, сопоставле­
ние текстов которых приводит к неожиданным интертекстуаль­
ным приращениям смысла.
У Пастернака «глаз» становится как бы самой основной
частью (органом) поэта-творца, который сам является частью
природы и растворен в ней (см. [Фатеева 19956]). Подобное
восприятие мира поэтом обнажается в метаописаниях М. Цвета­
евой (1932): «Пастернаковы глаза остаются не только в нашем
сознании, они физически остаются на всем, на что он когда-то
глядел, в виде знака, меты, патента, так что мы с точностью
можем установить, пастернаковскый это лист или просто. Вобрав
лист глазом — возвращает с глазом (глазком)* [Цветаева 1986, 413].
Концептуальный перенос «человек-зеркало-глаз» создает
в сюжетных построениях Пастернака определенный тип лириче­
ских героев, который назван исследователями «метонимическим»
[Aucouturier 1978]. «Метонимическими» оказываются не только
мужские, но и женские образы поэта, которые становятся не­
отъемлемой частью мужских. В этом М. Цветаева видит некото­
рую «генетическую» интермедиальную проекцию: сквозь пре­
лестную пастель Л. О. Пастернака «Глазок» она видит «девочку»
книги «Сестра моя —жизнь» и повести «Детство Люверс»: Огром­
ная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющего —
детский огромный глаз: глазок... [Цветаева 1986, 413]. Этот ви­
зуально-концептуальный образ получил отражение и в текстах
самого поэта: как мы помним, в книге стихов «СМЖ» «девочканеженка», чей наряд «щебечет» , уподобляется ветке с поющей на
ней птичкой, а затем в повести «Воздушные пути» мы встречаем
уже описание реальной «птички», «щебет» которой уподобляется
расплескиванию «блюдца с огромным удивляющимся глазом» .
17
|8
19
17
Ср. у самого Б. Пастернака в письме к О. М. Фрейденберг: «Главное мое
потрясенье, —папа... его фанатическое владение формой, его глаз, как почти ни
у кого у современников ..» [Переписка 1990, 252).
Сами строки Пастернака О неженка, во имя прежних/И в этот раз твой/
Наряд щебечет, как подснежник/Апрелю: «Здравствуй!» и по ситуации (только
с заменой рода), и концептуально, и чисто текстуально (по памяти слов) соот­
носятся с первыми строками стихотворения М Кузмина (1916): Еще нежней, еще
прелестней/Пропел Апрель: проснись, воскресни/От сонной, косной суеты!
Ср. в «Воздушных путях»: И вдруг, прорвав ее (птички] сопротивление
и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажигался холодной
18
19
Такой тип «метонимического» героя-героини на определен­
ном этапе пастернаковского творчества функционально отобра­
зился в заглавной фамилии героя — Спекторский (лат. specto
'созерцать, наблюдать'). У центрального же героя романа Пастер­
нака—доктора Живаго (который выступает как alter ego автора)
обнаруживается особенное внимание к «глазу-зеркалу»: «В этом
интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы —его творческие задатки и его размышления о су­
ществе художественного образа и строении логической идеи» [3,
80 — 81]. В тексте романа Живаго становится неотличимым, необнаружимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапкуневидимку как раз в тот момент, когда он хочет понять само
существо творчества: «Что такое субъект? Что такое объект?
Как дать определение их тождества?» [3, 341—342]. Подобная
творческая позиция героя уподобляется природной «мимикрии»
бабочки, за которой он следит «сонными глазами».
Сходные же концептуальные установки находим ранее в ро­
мане В. Набокова «Дар» (1937), где пишущий герой также оказы­
вается растворенным в летнем лесе . Подобно «человеческому
глазу» (причем «точка зрения» должна быть в произведении
«всюду и нигде»), Федор стремится впитать в себя как можно
больше красок жизни, а по свойству «мимикрии» приблизиться
к «бабочкам». «Шапка-невидимка» же появляется в романе На­
бокова, когда упоминаются «легенды» о гибели отца Федора:
в ней старший Годунов-Чердынцев якобы незаметно проходит
через «бурю крестьянской войны», уклоняясь от красных: «—да
и какая шапка-невидимка могла прийтись ему впору— ему, кото­
рый и такую бы носил бы набекрень» [3, 123].
Это слово набекрень, столь редкое у поэтов, обращает нас
снова к Пастернаку, его стихотворению «Наша гроза» книги
«СМЖ» (Звон ведер сшиблен набекрень./О, что за жадность: неба
мало?!/В канаве бьется сто сердец). Сама же ситуация стихотво­
рения Пастернака «Наша гроза», благодаря этому редкому слову,
в контексте всей книги «СМЖ» (лиловым глазам, сирени и грозе)
оказывается своеобразным интертекстуальным
отражением
20
звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, брызги
звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдце с огромным удивляющимся
глазом [4, 92]. Это зажигание «звездой» Пастернака затем слышится в «фальцете
звезды» над Венецией у Бродского.
Ср. у Набокова: «...мое я, которое писало книги, любило слова, цвета, игру
мысли, Россию, шоколад, Зину, — как-то разошлось и растворилось, силой света
сначала опрозраченное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса* [3, 299].
20
«Интермеццо» (1910) И. Северянина: Сирень моей весны фимьямною лиловью/Изнежила кусты в каскетках набекрень./Я утопал
в траве, сзывая к изголовью/Весны моей сирень./<...>/Сирень
моей
весны грузила в грезы разум,/Пила мои глаза, вплетала в брови
сны.... Тем более что в «СМЖ» сам поэт, следуя внутренней
форме своей фамилии, почти отождествляет себя с травой, анаграммируя в строках о ней свою фамилию (И ползала, как ПАСыНоК ТРАва, в ногах у нЕй).
Однако неожиданным при сопоставлении текстов Набокова
и Пастернака оказывается то, что строки о «шапке-невидимке»
(которая, как мы помним, в «Даре» была у погибшего отца
Годунова-Чердынцева «набекрень») появляются в романе «ДЖ»
тогда, когда Живаго находится почти в плену у красных партизан.
При сопоставлении же других возможных ситуаций гибели отца
в романе Набокова («Долго ли отстреливался он, припас ли для
себя последнюю пулю, взят ли живым? Привели ли его в штабной
салон-вагон какого-нибудь карательного отряда (вижу страшный
паровоз...), приняв его за белого шпиона <...>. Расстреляли ли
его...» [3, 124]) с ситуативными скрещениями романа Пастернака,
описывающими гражданскую войну в России (Живаго также
принимают за белого шпиона и ведут в штабной вагон к Стрель­
никову, который известен как «Расстрельников», последний
в конце концов приберегает пулю для себя; причем о смерти
Антипова и воскрешении его как Стрельникова также существу­
ют «легенды»), приходишь к выводу, что эти концептуальноситуативные переплетения двух текстов неслучайны (конечно,
это совпадение во многом объясняется самой ситуацией «граж­
данской войны» в России).
Причем становятся очевидными как перспективные интертек­
стуальные влияния стихов Пастернака на Набокова, так и ретро­
спективные—романа «Дар» на роман «Доктор Живаго».
Можно констатировать, что сначала в «Даре» мы, конечно,
имеем дело с идиостилевыми заимствованиями Набокова, уловив­
шего в эмиграции «длинный животворный луч любимого своего
поэта» [3, 134] . Так, в «Даре», как и в стихотворении «Бабочкабуря» , распускающая крылья бабочка (инициированная поэзией
21
22
21
Ср. высказывание Г. Адамовича о В. Набокове: «Он, несомненно, един­
ственный в эмиграции подлинный поэт, который учился и чему-то научился
у Пастернака* [Адамович 1989].
Ср. в «Бабочке-буре» (1923): Сейчас ты выпорхнешь,
инфанта,/'<...>/Рас­
правишь водяные банты/Над топотом промокших толп. Интересно, что затем
22
А. Фета) становится символом поэтического творчества, прошед­
шего «все искусы модернизма» и пришедшего к «обновленной,—
интересной, холодноватой фабульности». Про мимикрию же На­
боков пишет, вкладывая свои мысли в уста отца Федора: «Он
рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии,
которая необъяснима борьбой за жизнь <...>, излишне изыскан­
на для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих
<...>, и словно придумана забавником -живописцем как раз для
умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко увести
эволюциониста,
наблюдавшего питающихся бабочками обе­
зьян)...» [3, 100].
Затем много лет спустя Пастернак оживляет в памяти Живаго
ассоциации, вызываемые «бабочкой», как раз в тот момент, когда
тот одел «шапку-невидимку» и следил за ней «глазами»: «В
размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а проле­
тевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистиче­
ским искусством» [3, 342]. И как у отца Годунова-Чердынцева,
у Живаго осознание природы как живого организма, как бес­
сознательно-духовного творческого начала сочетается со взгляда­
ми «эволюциониста». И хотя затем в «ДЖ» же мы не увидим ни
одной прямой адресации к своему в это время уже «заокеан­
скому» оппоненту, «следы подражания» «Дару» трудно считать
случайностью (и прежде всего это образ центрального пишущего
героя —см. 2.6), особенно учитывая стремление Пастернака
опубликовать свой роман за рубежом и такую сильную реакцию
Набокова на роман «ДЖ» и «Нобелевскую премию».
Итак, у Пастернака и Набокова поражает то, что размыш­
ления о сути «поэзии» органично сливаются с их «аналитиче­
скими» наблюдениями над животным и растительным миром,
и оба они находят «метафору в природе». При этом оба писателя
в прозе «Охранной грамоты» синкретический образ Девочки-Бабочки дан не
метафорически, как в стихах, а расщеплен на две смежные сущности ('девочка
в белом' и 'бабочка') в одном денотативном пространстве: Бабочки мгновеньями
складывались, растворяясь в жаре, вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправиль­
ными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась
в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочкой скакалки
[4, 218].
Вяч. Вс. Иванов [1989, 59) считает, что центральный женский символ Пастер­
нака Инфанта-Девочка-Бабочка-Буря ассоциативно связан с картиной Веласкеса,
так как «копия одного из веласкесовых портретов Инфанты, сделанная Пастерна­
ком-отцом, была знакома поэту с детства». В другой своей работе Иванов [1992,
340] соотносит данный пастернаковский символ со стихотворением А. Фета
«Превращения», одна из строк которого (Постой, постой, порвется пелена) была
первоначальным эпиграфом стихотворения «Бабочка-буря».
уделяют большее внимание «углу зрения», и человеческий «глаз»
(«отверстые зеницы» «Пророка») оказывается в центре их по­
этических миров . Если внимательно читать «Дар» и «ДЖ», то
можно найти еще массу общих ситуативных («сад», «окно»,
«луг»), концептуальных («глаз», «шапка-невидимка» = «значи­
мый ноль», «оживление всего вокруг»), а затем и композицион­
ных («смерть поэта») метатропов, что говорит о взаимном идиостилевом отражении. Показательней всего это «отражение» вы­
ступает в том месте «Дара», где Федор от лица «Я» наблюдает
перевернутый мир «травы», которая с точки «перевернутого зре­
ния» «казалась растущей куда-то вниз, в пустой прозрачный
свет, и была верхом мира». Эта картина оказывается подобной
пастернаковской «Вдоль облаков шла лодка. Вдоль/Лугами коше­
ных кормов», переворачивающей ситуацию стихотворения «Сло­
жа весла».
Пытаясь найти «корень» (ср. «корень» —«пастернак») явления
подобного отражения, Набоков в «Даре» апеллирует к «знахарям»
(ср. доктор Живаго), которые «с хитрым видом конкурентов
собирали для своих нужд китайский ревень, корень которого
необыкновенно напоминает гусеницу, вплоть до ее ножек и дыха­
лец,—я, между тем, переворачивая каменья, любовался гусеницей
неизвестной ночницы, являющейся уже не в идее, а с полной кон­
кретностью копией этого корня, так что было не совсем ясно, кто
кому подражает и зачем» [3, 111].
Все это говорит о том, что «интертекстуальный подход не
сводится к поискам непосредственных заимствований и аллюзий,
но открывает новый круг литературных возможностей, дает воз­
можность выявления глубинной подоплеки анализируемых тек­
стов, изучения сдвигов художественных систем и описание твор­
ческой эволюции автора (его диалог с самим собой) и культур­
ным контекстом» [Жолковский 1994, 10].
23
24
23
Продолжает же исследования Пастернака и Набокова о «глазе» художника
еще один русский «нобелевский» лауреат — И. Бродский. «Глаз» — организующий
концептуальный и композиционный принцип его «Венецианских строф» и эссе
о Венеции. Бродский лишь дополняет своих предшественников тем, что неспо­
собность «сетчатки» вместить всю красоту мира, а мозга все это впитать, заставля­
ет (если ты не какой-нибудь Каналетто, Карпаччо или Гварди — ведь речь идет
о Венеции) хвататься за «камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга»
[Бродский 1992, 232). В стихах же тема «несметности» мира, «ломящегося» в глаз,
дана в ином ракурсе: Плещет лагуна, сотней /мелких бликов тусклый зрачок
казня/за стремленье запомнить пейзаж, способный/обойтись без меня.
Ср. в «Бабочке-буре» Пастернака: Червяк спокойно и дремотно/По зако­
улкам трет кокон.
24
Обращает на себя внимание и то, что авторы, у которых идея
«глаза-зеркала» становится доминирующей, нередко прибегают
к теме двойника, заданной семиотикой «зеркала» (см. [Лотман
1983а, б; Золян 1988; Левин 1988]. Особо интересны случаи, когда
центральный герой произведения — человек пишущий, и текст
произведения, согласно замыслу его автора, создается самим
героем как бы по ходу чтения читателя. Уникален в этом отноше­
нии роман В. Набокова «Отчаяние» (см. о нем подробно 2.5), где
главный герой Герман по ходу повествования создает себе двой­
ника Феликса, которого убивает, желая его труп выдать за свой.
Кроме самого Германа, никто не видит его сходства с Феликсом,
но и сам герой замечает, что лицо Феликса отличается от его лица
именно выражением «глаз». Эту разницу Герман старался не
замечать, считая, что глаза у «мертвого», или «трупа», все равно
будут закрыты. Однако Герман не видит «глаз» и в отражении
своего лица, художник же Ардалион, рисующий портрет Германа,
оставляет его «без глаз». Единственный, кто в романе смотрит
«прямо в глаза» Герману, —это идущий ему навстречу Феликс
с тростью «с глазком» в пророческом сне героя [3, 362].
В то же время в романе «Отчаяние», как заметил Ю. И. Левин
[1988], особое внимание уделяется отражениям, прежде всего
зеркальным. «Зеркало» даже палиндромически переворачивается
в «Олакрез» в поисках своего буквенного «двойника». Интересны
в связи с этим замечания самого Набокова о том, как он видит
себя в зеркале: «Глядя себе в глаза, я испытал резкое ощущение,
найдя там только остаток моего обычного «я», осадок выпарив­
шейся личности, и моему разуму пришлось сделать немалое
усилие, чтобы снова собрать ее в зеркале» [Набоков 1996а, 54].
Внутренняя структура текста Набокова, как и «точка зрения»
его «взгляда» на себя со стороны, получают неожиданное концеп­
туальное продолжение в тексте письма А. Платонова к жене, где
тот описывает ужас, который пережил ночью: «Проснувшись
ночью <...> — ночь слабо светилась поздней луной, —я увидел за
столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас,
Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за
столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то,
которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него
своих глаз. Когда я хотел вскочить и вскрикнуть, то ничего во мне
не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное
смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не
заметил» (цит. по (Топоров 1998, 48]). Это письмо приводит
В. Н. Топоров, исследуя мотив двойничества у Тургенева, Дос­
тоевского и Блока, но выделяет принцип организации мира
текста, очень важный именно для «Отчаяния» Набокова: «глаза —
как бы одни на двоих: лежащий видит все, кроме глаз того,
кого он видит» [там же]. У Набокова в романе происходит
точно наоборот.
Особый эффект «глаз» обнаруживается и в «Докторе Живаго»
Пастернака. Оказывается, что соотношение разных «домов»
в «ДЖ» интересно не только с точки зрения «моря», но и с точки
зрения «глаз». Когда Живаго узнает, что у него есть брат Евграф,
ему кажется, что дом, где сводный брат живет со своей матерью,
«своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит» на
него «через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от
Сибири, и рано или поздно меня [Живаго] сглазит» [3, 71]. Перед
этим Анна Ивановна, с которой Живаго разговаривает о смерти
и воскресении, рассказывает Юрию и Тоне о доме в Варыкине,
около которого впоследствии выстрелит в себя Стрельников (сю­
жетный двойник Живаго).
Вскоре после этого Живаго едет по Камергерскому переулку,
где видит в окне «черный глазок» от свечи, «проникавший на
улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало
за едущими и кого-то поджидало» [3, 82]. В комнате по Камергер­
скому при свече в это время сидят Лара и Антипов-Стрельников.
Когда Юрий Андреевич заболевает, то Евграф мерещится ему
как дух смерти, при этом его имя Евграф в переводе с древнег­
реческого означает «хорошо пишущий». Важной частью облика
Евграфа являются «киргизские глаза» (см. [А. Эткинд 1999]).
В бреду Живаго видит, что Тоня как бы поставила на его пись­
менный стол «улицы» (две Садовые, слева Садовую-Каретную,
справа Садовую-Триумфальную) и «справа придвинула близко
к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую»
[3, 206]. И Юрий в своем бредовом сне начинает «с жаром»
писать, «только иногда мешает один мальчик с узкими кир­
гизскими глазами». Но затем оказывается, что Юрий действитель­
но сочиняет поэму «Смятение» о смерти и воскресении.
На самом деле видение доктора было неслучайно: когда
«болезнь» стала наваливаться на Юрия Андреевича, «направо
легла Садовая-Триумфальная, налево Садовая-Каретная. В чер­
ной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном
смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге
тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала
или Сибири» | 3 , 204]. Вспомним, что на Урале расположено
Варыкино, в Сибири—дом Евграфа и княгини СтолбуновойЭнрици, который должен «сглазить» Живаго.
В конце же романа, когда Живаго возвращается в Москву,
Евграф снимает Юрию ту же комнату по Камергерскому, где тот
видел «глазок свечи». Юрий пишет там свои последние произве­
дения и умирает. Эта «жилая комната доктора была пиршествен­
ным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений» [3, 480].
Таким образом, через концепт «глаз» можно проследить не
только строение художественного образа или развертывание ло­
гической идеи (как считает Пастернак-Живаго), но и композици­
онно-сюжетные сцепления произведения. В то же время парал­
лелизм концептуальных установок различных авторов заставляет
думать, что, видимо, «мы имеем дело с близостью типологиче­
ского характера, основанной на более общих системных фор­
мулах (Gestalt patterns), а не с сознательным заимствованием»
[Бетеа 1991, 168].
Описывая концептуальный метатроп «глаза-зеркала», хочется
привести истинное доказательство того, что мы имеем дело с се­
мантическим комплексом, который действительно присутствует
в сознании художников слова. Так, в работе [Фатеева 19956] мы
писали, что наравне с «зеркалом-глазом» в мире Пастернака
большое значение имеет концептуальный метатроп «мельницы».
Причем в обоих случаях имеется в виду прежде всего не предмет­
но-ситуативное значение слов, называющих эти смысловые
комплексы, а их концептуально-признаковое значение: в первом
случае —это 'отражение', во втором 'измельчение', а затем 'при­
готовление новой смеси'. Оба этих концептуальных метатропа
связаны и с идеей 'преломления' в широком значении, в первом
случае — света, во втором — зерна, хлеба; при этом и свет, и зерно,
и хлеб в библейской символике означают 'слово Божие'. Обе эти
сущности зафиксированы в «звездном языке» Хлебникова [1986,
481]: «Зэ — отражение луча от зеркала. Угол падения равен углу
отражения (зрение)»; «Эм— распыление объема на бесконечно
малые части» («Зангези») *. Это означает, что мы имеем дело
с такими «плоскостями слова», которые уходят в глубины твор­
ческого сознания, однако в метаописаниях выходят на поверх­
ность, обнажая корни иносказания.
2
25
Этот концепт стал основой вариации О. Седаковой на тему Хлебникова:
В малой мельничке лазурного, оранжевого хлеба/мелко, мелко смелются чьи-нибудь
черты («Бабочка или две их»).
Понятно, что концептуальные метатропы при интертекстуаль­
ном взаимодействии прежде всего обнаруживают себя в ком­
позиционном строении сополагаемых произведений, а также
в формально-семантических средствах языка —то есть конкрет­
ных вербальных реализациях. Так, один и тот же концептуальный
метатроп «жизни, противостоящей смерти», связывает тексты
«Легкого дыхания» (1916) И. Бунина и начало романа «Доктор
Живаго» Пастернака.
Как мы помним, «ДЖ» открывается «Вечной памятью», кото­
рую поют на могиле матери Живаго и слова которой противосто­
ят образующемуся в тексте оксюморону «хоронят Живаго». Бу­
нин также строит в своем тексте своеобразный семантический
«оксюморон»: на фоне кладбищенского пейзажа автор вдруг об­
ращает наше внимание на «тяжелый крест» с вделанным в него
фотографическим портретом «гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами», а рядом «ветер звенит и звенит фарфо­
ровым венком». И оказывается, что не только самое начало, но
и начальные главы романа «ДЖ» в композиционном плане по­
строены аналогично рассказу Бунина, который также начинается
описанием кладбища. Как заметил А.Жолковский [1994, 116],
хотя в рассказе сначала сообщается о «смерти» девушки, олице­
творяющей «легкое дыхание», затем в текст вводится большое
количество слов с корнем «жизни» (живые глаза, жить, живо,
в жизни, оживлен, пережить, полжизни, бессмертно, живущая,
жизнь), которые безусловно преобладают над «смертными» (са­
моубийство, убийство, мертвого, убили, смерть). Это постепенно
снимает «телесность» факта смерти и воскрешает живой облик
героини, которая уподобляется Жолковским «бабочке», выпархи­
вающей из «рамок норм поведения, возраста, жизни, смерти».
Подобный же прием введения корня «жизни» используется в пер­
вой части «ДЖ»: начинается ряд повторов с основой жив- с биб­
лейской по происхождению фамилии Живаго, затем идут слова
«Вечной памяти» вселенная и ecu живущие на ней; а далее: Пока
жива была мать; Живаго (5); дворянское чувство равенства со всем
живущим; живы; живописность места; человек живет не в приро­
де, а истории (в понимании Пастернака «основанной Христом»)
и т. д. Таким образом, композиция и словесное наполнение
текста противостоят реальным фактам «фабулы», нарушая по­
вествовательной логику и смещая временные пласты.
В связи с «фабулой», вырастающей из «звукообразов», вновь
обратимся к текстам Бунина и Пастернака. Так, в рассказе
«Легкое дыхание» Оля Мещерская с Малютиным оказывается
в ситуации «Фауста с Маргаритой», как и позднее Лара с Комаровским в романе «ДЖ». При этом подобна и тематическая линия
«дыхания-воздуха», сопутствующая обеим героиням. Оля, как
и Лара, все делала «с разбегу»: она с разбегу остановилась, сделала
только глубокий вздох [Бунин 1986, 35], и поэтому они обе как бы
«шагали по воздуху», словно какая-то «воодушевляющая сила» несла
их — обе были «бесподобны прелестью одухотворения» («ДЖ»). Зву­
ки «воздуха», «дыхания» и «ветра» составляют мотив «Легкого
дыхания» (ср. кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни
теплом блестящей голландки и свежестью ландышей; свежо дует
полевой воздух; звон ветра), они же аккомпанируют Ларе: «она
втягивала в себя путано — пахучий воздух окрестной шири. Он был
роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На
одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе.
Она тут, — постигала она, —для того, чтобы разобраться в сума­
сшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет
ей не по силам, то из любви к жизни родить преемников, которые
это сделают вместо нее» [3, 77]. И все вокруг нее «дышало»:
Ларина подруга Надя была «свежая, обворожительная и вся как бы
благоухала дуплянскими ландышами» [3, 101].
Анализируя вслед за Л. С. Выготским «Легкое дыхание» Буни­
на, Жолковский замечает, что в романе «Жизнь Арсеньева» Бу­
нин также отстаивает «фетовскую» поэтику (ее символом и явля­
ется «бабочка», столь дорогая и Пастернаку, и Набокову ), гово26
26
Тема «бабочки» в русской литературе впрямую связана как с поэтической
парадигмой «воздуха-творчества», так и с концептом «второго рождения». С этой
точки зрения интересна работа Д. М. Бетеа «Изгнание как уход в кокон: образ
бабочки у Набокова и Бродского» [1991]. В своей статье Бетеа разбирает ранний
рассказ Набокова «Рождество», где отец, только что лишившийся сына, замечает,
как из кокона, оставленного сыном в коробке из-под печенья,появляется огром­
ная бабочка, как «крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы» [1, 324]. Бабочка
постепенно расправляет свои крылья. В этом рассказе и в контексте всего
творчества Набокова Бетеа выделяет тройную функциональную зависимость
«отец-сын-бабочка», развертывающуюся на фоне темы «смерти-воскресения».
В этом смысле вновь продуктивным оказывается типологическое сравнение ми­
ров Набокова и Пастернака. В структуре романа «ДЖ» благодаря «тесноте и един­
ству ряда» оказываются параллельными две строки: одна прозаическая (Он думал
о творении, твари, творчестве и притворстве) и стихотворная (Прощай, размах
крыла расправленный, <...> И творчество, и чудотворство). Первая из них как раз
связана с размышлениями Живаго о бабочке, вторая — из стихотворения «Август»
о смерти и Преображении героя. Таким образом, мы вновь имеем дело с некото­
рым внутренне единым концептуальным метатропом, в котором в едином пучке
скрещиваются бабочка, Творец (в самом обобщенном смысле Бог-отец) и идея
воскресения и преображения через состояние «смерти».
ря «устами» Арсеньева, «что нет никакой отдельной от нас при­
роды, что каждое малейшее движение воздуха есть движение
нашей собственной жизни» [Жолковский 1994, 119]. Таким об­
разом, концептуальный метатроп «жизни-воздуха-дыхания» со­
единяет миры Бунина и Пастернака, делая заглавными все ком­
поненты триады (ср. также «Воздушные пути» Пастернака), а лю­
бое словоупотребление, любой троп, любой стилистический
прием концептуализируются.
Итак, мы закономерно входим в область чисто операциональ­
ных метатропов, которые организуют внешнюю сторону смысла
текста. Операциональные метатропы реализуют все остальные ти­
пы метатропов в языковом пространстве и проявляют преоб­
разования смысла в вербальной структуре речи. Именно они
и представляют «слово» в понимании О. Мандельштама: «Любое
слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны,
а не устремляется в одну официальную точку»[2, 223]. Операци­
ональные метатропы имеют вид определенных детерминант, ко­
торые непосредственно коррелируют с субъектом сознания и ре­
чи: 1) референциальная память слова (РПС); 2) комбинаторная
память слова (КПС); 3) звуковая память слова (ЗПС); 4) ритмико-синтаксическая память слова, включающая память рифмы
(РСПС). В определенном смысле понятие памяти слова может
быть соотнесено с понятием гипограммы М. Риффатерра
[Riffaterre 1978]. «Гипограмма, — пишет Риффатерр [там же, 23],
не находится в самом тексте —это продукт литературной практи­
ки, и ее сущность состоит в постижении отношения знака к претекстовому (ранее существовавшему) выражению или комплексу
(preexisting phrase or complex), который помогает идентифициро­
вать данный знак как поэтический» .
Эти характеристики, относящиеся к сфере вербальной
памяти, названы нами детерминантами, поскольку они опре­
деляют процесс материализации текста. Понятие памяти в их
27
27
Поль де Ман, анализируя в своей статье [1993] терминологическую систему
Риффатерра замечает, что в ней не всегда удается разграничить термины гипо­
грамма, параграмма и матрица. «Судя по всему,—пишет де Ман [1993, 62],—
параграмма обозначает процесс вытеснения гипограммы при помощи интертек­
ста, но, поскольку текст и образуется этим вытеснением, мы вправе заключить,
что различие между гипограммой и параграммой не столь важно. <...> Что
касается понятия матрицы, обозначающего семантическую основу гипограммы,
предшествующую специфической лексикализации, то его отличия ясны; в от­
личие от гипограммы или параграммы матрица может быть не актуализирована
в тексте».
наименовании позволяет нейтрализовать оппозиции линейностинелинейности, континуальности-дисконтинуальности в худо­
жественных текстах, а также стереть границы между действием
этих метатекстовых единиц в рамках одного идиостиля и в пре­
делах поэтического языка в целом.
Операциональные метатропы — это выход определенного пи­
сателя во внешний мир и одновременно сфера пересечений семан­
тической и креативной памяти разных индивидов (ср. понятие
«экспрессемы
как
культурно-исторической
парадигмы»
у В. П. Григорьева [1979,146]). При этом только та мысль, которая
нашла выражение в слове, входит в «общую память». Поэтому
смысловая ситуативная и концептуальная субстанция ищет звуко­
вое, знаковое воплощение. «Связующим звеном между словом как
звуковой системой и его смыслом — является физиологический
процесс, связывающий слово с его смыслом. Этот физиологиче­
ский процесс существует и тогда, когда слова не произносятся, а,
например, только читаются и вспоминаются» [Аскольдов 1928,43].
Под референциальной памятью слова понимается его способ­
ность как знака, с одной стороны, фиксировать узаконенные
общим языком прямые референциальные соответствия, с другой,
входить в сеть парадигм, обычно называемых «поэтическими»
(термин введен Н. В. Павлович [1988, 1995]), в которых регла­
ментируется перенос прямого переносного значения по аналогии
и смежности, и, с третьей, создавать индивидуально-авторские
соответствия и «расщепления» референции (или «пучки смыс­
лов»),.фиксируя их в поэтической памяти .
РПС организует движение «внутренней речи». Так, «внутрен­
нее слово, по аналогии с известной метафорой, применяемой
к электрону, можно назвать кентавром; электрон проявляет себя
то как волна, то как частица, а внутреннее слово выступает,
с одной стороны, как носитель определенного значения (будучи
словом), а с другой стороны, «как бы вбирает в себя смысл
предыдущих слов, расширяя безгранично рамки своего значения»
[Ротенберг 1991, 163; внутри цит. из Л. С. Выготского]. Слово во
внутренней речи, обрастая полифоническими связями, «обра­
щенными не только к другим словам, но и к предметному миру»
[Ротенберг 1991, 163], становится «внутренним образом», следом
семантической и языковой памяти.
28
28
Ср., например, слова Ю. Н.Тынянова (1977, 478) о Пастернаке: «Изоб­
ретение и воспоминание— стихии, которыми движется поэзия Б. Пастернака».
Понятно, что РПС находится в прямой зависимости от ком­
бинаторной памяти слова, т. е. уже зафиксированной сочетаемо­
сти для данного слова в системе поэтического языка. В поэти­
ческом слове, как пишет Р. Барт [1983, 330] в работе «Нулевая
степень письма», «сияет безграничная свобода, готовая озарить
все множество зыбких потенциальных семантических связей
<...>. Слово превращается в акт, лишенный ближайшего прошло­
го и окружающего контекста, но зато в нем сгущена память обо
всех породивших его корнях».
Так, например, благодаря комбинаторной памяти слова бе­
жать восстанавливается интертекстуальный генезис «губящего
без возврата» начала «Петербурга» А. Белого:
Александр Иванович вспомнил: по лестнице он вчера пробежал,
напрягая последние силы, без всякой надежды осилить — что именно? А какое-то очертание — бежало за ним.
И губило его без возврата. («Лестница»)
Далее следует главка под названием «И, вырвавшись, побежал».
Этот глагол отсылает к знаменитым контекстам Пушкина, где
герои бегут от «погони»: ср. в сне Татьяны из «Евгения Онеги­
на» — Она бежит, он все вослед,/И сил уже бежать ей нет; а затем
в «Медном всаднике» — И вдруг стремглав/Бежать
пустился./
<...>/Бежит и слышит за собой—/<...>/—
Тяжело-звонкое ска­
канье/По потрясенной мостовой. Помогают найти «корни» этого
бега у Белого надтекстовые элементы — например, эпиграф к гла­
ве шестой (За ним повсюду Всадник Медный/С тяжелым топотом
скакал), в которую входят главки «Лестница» и «И, вырвавшись,
побежал». Так, лейтмотив «тяжело-звонкого скаканья» всадника,
наряду с тем, что переносит читателя из одного столетия в другое,
создает интертекстуальный образ Александра Ивановича Дудкина — концептуального двойника пушкинского «бедного Евгения»,
у которого «длилось бредное бегство».
В случае подобных отношений «текст в тексте» читателю
каждый раз предлагается разрешить «цепь уравнений в образах,
попарно связывающих очередное неизвестное с известным» [Па­
стернак, 4, 208], и это разрешение неимоверно ускоряется, когда
вступают в действие звуковая и ритмико-синтаксическая память
слова.
Под звуковой памятью слова понимается его способность
притягивать к себе близкозвучные слова, образуя звуковые пара­
дигмы (ср. [Григорьев и др. 1992]) и своеобразную «периодиче­
скую систему слова», в которой одна звуковая формула вызывает
в памяти другую. Отношение паронимической аттракции, уста­
новленное между близкозвучными словами, становится осмыс­
ленным. Происходит взаимная проекция сходства и смежности
из звукового в семантический план и из семантического в звуко­
вой, и слова становятся не только полисемантичными, но и полифоносемантичными. Звуковая память слова поэтому коррели­
рует с такими понятиями, как «звук темы», «звуко-образ»
у А. Белого, «звуковая аллюзия» у И. Бродского. Формируется
синкретизм памяти «звука», «смысла» и «зрения», который в метаописаниях Пастернака [4, 405] определяется так: «Всегда перед
глазами души (а это и есть слух) какая-то модель, к которой надо
приблизиться, вслушиваясь, совершенствуя и отбирая».
«Смысл, который поет» становится областью развертывания
смысловых превращений, выразимых только звуковой аллюзией.
Например, строчка Пастернака О МОЙ ЛИСТ, ТЫ ПУГЛИВЕЙ
ЩЕГЛА из стихотворения «Определение души» «СМЖ» становит­
ся для Мандельштама как бы маркером Пастернака, поэзия
которого для него вся «посвист, щелканье, шелестение, свер­
кание, плеск, полнота звука» [2, 209]. По подобию звукового
состава можно предположить, что строчка Мандельштама
И ГАМЛЕТ, МЫСЛИВШИЙ ПУГЛИВЫМИ ШАГАМИ (из восьмистишья «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...» (1934)),
свертывающаяся в звуковую формулу ГМЛТМСЛВШПГЛВШГМ
обращена именно к Пастернаку: она аналогична по консонант­
ной наполненности с пастернаковской (МЛСТТПГЛВЩГЛ).
Связь строки Мандельштама о Гамлете с Пастернаком под­
крепляется второй редакцией стихотворения «Марбург» (1928)
(«Шагни, и еще раз», —твердил мне инстинкт,/И вел меня мудро,
как старый схоластик,/<...>/ «Научишься шагом, а после хоть
в бег»...), а также впоследствии стихотворением «Гамлет» (1946),
открывающим цикл «Стихотворений Юрия Живаго», в котором
звучит мольба об отсрочке роковой судьбы поэта на несколько
шагов-действий. Эта «шекспирова драма» Гамлета, которую «ре­
петировал» лирический герой «Марбурга», интересовала Пастер­
нака с самых ранних произведений . И в той же книге «СМЖ»
29
У
30
29
Еще большее подобие достигается в варианте строки: И ГАМЛЕТ, МЫСЛЯ­
ЩИЙ ПУГЛИВЫМИ ШАГАМИ (ГМЛТМСЛЩПГЛВМШГМ).
О «родстве» Шекспира и Пастернака как представителя «нового искусства»
пишет (11.04.1954) О. М. Фрейденберг в письме к последнему: «Никогда ни
у каких двух писателей не было столько умственного родства, как у Шекспира
и у тебя. Все, за что тебя так нещадно гнали и хотели вытравить, это «шекспиризмы». Когда читаешь Шекспира, поражаешься, сколько в нем «пастерначьего»,
) 0
находим в стихотворении «Елене»: Луг дружил с замашкой/Фаус­
та что ли, Гамлета ли, где луг 'пространство земли, покрытое
травянистой pacтитeлbнocтbЮ связан своей референциальной па­
мятью с травой «пастернаком». Далее в стихотворении появляется
и дождь, еще одна ипостась автора (как пишет М. Цветаева
в «Световом ливне»), который кутал/Ниву тихой переступью/
Осторожных капель. Лейтмотивом же стихотворения «Елене» ста­
новится «колеблющийся» квазикорень ли-ли (Век в душе качаясь,/
Лйлиею, праведница!), который становится ударным в «пугливых»
шагах Гамлета Мандельштама.
Таким образом, звуковая память текста вызывает к порогу
сознания такие более глубинные семантические зависимости си­
туативного и концептуального уровня, которые без звуковой
подсказки оставались бы скрытыми.
Еще один показательный пример «обнажения» звуковым по­
добием аналогий ситуативно-содержательного уровня находим
в «Даре» В. Набокова. Там поэт Федор (как мы помним, alter ego
автора) «старался везде и всегда ВООБРАЗИТЬ ВНУТРЕННЕ ПРО­
ЗРАЧНОЕ движение другого человека, осторожно САДЯСЬ В СОБЕ­
СЕДНИКА, как в кресло, так, чтобы ЛОКТИ того служили ПОД­
ЛОКОТНИКАМИ, и ДУША БЫ ВЛЕГЛА В ЧУЖУЮ ДУШУ, и то­
гда МЕНЯЛОСЬ ОСВЕЩЕНИЕ МИРА» [3, 33]. Вспомним, что уже
один раз мы видели это «внутренне прозрачное движение»: про­
заическая строка душа бы влегла в чужую душу по своей концеп­
ции параллельна поэтической Лодка колотится в сонной груди
стихотворения «Сложа весла» Пастернака, только Пастернак
«вкладывает свою душу» в водную стихию. Эта параллель поддер­
живается звуковой памятью слов лодка/локти, а также ключицы/
уключины у Пастернака , и референтной памятью, устанавливаю­
щей параллелизм с локти/подлокотники и по звуку, и по ситуации
(см. [Фатеева 1995а, 215]).
,
31
32
того, что твои критики называли футуризмом, хлебниковщиной и т. п. Шекспи­
ровские образы, метафористика, многоплановость мысли, спрягаемость событий
во всех временах и видах одновременно, доведение частностей до универсализма,
величайший поэтический ум» [Переписка 1990, 282].
Интересно, что когда А. К. Жолковский [1986, 253] исследует «ключевой
троп» Пастернака, связанный с лодкой-душой, он вторым текстом (вслед за
«Сложа весла») берет начало стихотворения •Волны» книги «Второе рождение»,
где содержится «ключ» творческой концептуальной установки Пастернака: Пере­
городок тонкоребрость/Пройду насквозь, пройду, как свет/Пройду,
как образ
входит в образ/И как предмет сечет предмет.
Ср. Лодка колотится в сонной груди,/Ивы нависли, целуют в ключицы,/В
локти, в уключины —о погоди,/Это ведь может со всяким случиться!
31
32
В тексте же Набокова тема «локтя» развивается еще в одном,
а именно, пушкинском измерении. Упоминание о «локте» встречаем,
когда речь идет о «хилых» стихах Яши Чернышевского, аналогичных
«темной и вялой» поэзии Ленского: Он в стихах, полных модных
банальностей, воспевал «горчайшую» любовь к России, — есенинскую осень,
голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский
гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя [3, 36].
Однако «след локтя Пушкина» обнаруживается и в раннем стихотворе­
нии самого Набокова «Санкт-Петербург» (Орлымерцают вдоль опуш­
ки./Нева лениво шелестя, как Лета льется./След локтя оставил на
граните Пушкин), что позволяет в оценке стихов Яши видеть самооцен­
ку автора «Дара» — современника Блока, Есенина, акмеистов.
Однако на этом развитие поэтической ситуации, заданной
«корнем» иносказания локоть-подлокотники, не заканчивается.
Она обнаруживается в стихотворении А. Кушнера «Проплывшим
вдвоем», посвященном памяти И. Бродского:
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише, тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, — и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!
Здесь А. Кушнер на фоне многочисленных аллюзий к текстам
самого Бродского (прежде всего стихотворению «Осенний крик
ястреба»), а также Маяковского, Пастернака и Мандельштама (о
ласточках и ножницах, к которым мы еще вернемся) вновь
говорит о кресле с подлокотниками, теперь уже оценивая свою
собственную поэзию на фоне поэзии Бродского. Знаменательно
здесь то, что на этой обратимой фазе иносказания, связанного
с ситуацией «вкладывания души», благодаря заглавию «Проплы­
вшие вдвоем» вновь всплывает пастернаковский пласт поэти­
ческих соответствий: достаточно вспомнить строку «СМЖ» Вдоль
облаков шла лодка, где ситуация стихотворения «Сложа весла» за
33
33
Ср. в раннем стихотворении «Piazza S. Магсо», посвященном Венеции: О,
какой он рослый в споре/С облаками. Как —он рослый ?/Вскоре ты услышишь:
море/ Перевесят его весла.
счет водной глади становится отраженной, а также строчку Губы
и губы на звезды выменивать!, развивающую слой иносказания
Маяковского.
Иногда звуковая память слова может создавать интертексту­
альные цепочки, основанные на потенциальной паронимической
аттракции, в связи с чем активизируются не прямые, а смежные
концептуальные схождения, которые затем становятся исходной
креативной точкой для новых концептуально-метонимических
импровизаций.
Мы уже писали о ситуативных схождениях текстов Пастерна­
ка и Бродского о Венеции. Теперь покажем, как звуковая инст­
рументовка этих текстов вызывает к жизни новые концептуаль­
ные схождения. Так, в стихотворении «Венеция» (редакция
1928 года) Пастернака звук крика дублируется щипковым инст­
рументом, сливающимся с гладью воды, создавая метонимиче­
скую метафору глади мандолин. Благодаря ей в звуковой структуре
текста иконизируется процесс отражения -лад -/-дал' (в фонети­
ческой записи) и зарождается тема гондолы. Сама плывущая
в воде каменная «баранка» Венеции здесь служит «отражатель­
ным» лабиринтом звука, распространяя его «вдаль» по воздуху до
«лодочной стоянки», пока не стихнет его лад.
Эта звуковая перспектива текста Пастернака, соединяясь
с «умопомрачительно высоким «си» луны», перечеркнутым нот­
ной линейкой облака, вызывает в поэзии и прозе Бродского
иррадиацию других концептуальных метатропов поэта-предшест­
венника: в частности, феминизацию сущностей, попадающих
в поэтическое пространство, что зарождает в нем эротический
контекст; затем на вершине «эротизма» этим сущностям при­
сваиваются стихийные признаки «брата и сестры».
Так, в «Охранной грамоте» «лунное безлюдье» разбегается
у Пастернака водной мостовой Венеции, которая «по-женски
огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизме­
римо с местом, занимаемым телом в пространстве» [4, 200].
Отражением этой мостовой становится бегущий «по звездам си­
луэт гондольера». У Бродского же в «Набережной неисцелимых»
звуковая цепочка водная гладь -> гондола развивается в метафору
скольжения руки по «гладкой коже того, кого любишь» [Бродский
9
34
34
Д. М. Бетеа (1991, 171) находит, что Бродскому свойственно метафизиче­
ское сопряжение или «стремление преодолеть абстрактность метафоры — порой
интеллектуально выспренно и схоластично, —стягивая ее элементы нитями проч­
ными, но натянутыми как струны».
1992, 252). Здесь в прозе Бродского телесной становится именно
гондола, и ее скольжение вызывало «ощущение среднего рода,
<...> словно при нас брат ласкал сестру и наоборот» [там же] .
И если «гладь» здесь из текстов Пастернака, то тонкий воздух
кожи из «Веницейской жизни» Мандельштама.
Феминизация пространства Венеции у Пастернака безусловно
связана с картинами мастеров Возрождения, эта же живописная
перспектива свойственна и Бродскому: в Венеции «вместо об­
лаков женская плоть в драпировках Беллини/Тьеполо/Тициана»
|там же, 218]. Поэтому в «Венецианских строфах» (II) перед нами
уже вся Венеция-венецианка, которая как богиня (или Сусанна)
выходит из воды, ошеломляя гладью/кожи
бугристый берег,
с цветком в руке,/забывая
про платье, предоставляя платью/
всплескивать вдалеке. В этих строках гладь кожи, образуя дуэт
с «далью», уже трансформируется в плещущееся «платье». И это
снятие с себя «платья» вновь находит концептуальные истоки
у Пастернака, в частности в «платье девочки», которое является
овеществлением души. При этом мы знаем, сколь близки были
Пастернаку этот плеск, эти прелести* , а черты Лары Живаго
хотел положить на бумагу, как «ложатся на песок следы сильней­
шей, дальше всего доплескавшейся волны».
35
6
Поиски свободы перевоплощения «лирического субъекта»
с самых ранних произведений связаны у Пастернака с «обнаже­
нием» и «переодеванием в платья» (которые чаще всего оказыва­
ются «одного покроя»). Сначала в «Полярной швее» он отделяет
«милую» и ее «платье» (Я любил оттого, что в платье милой/Я
милую видел без платья), одевая на себя «белую обувь девочки».
Затем в первом варианте цикла «Болезнь» книги «Темы и вариа­
ции», в стихотворении «Голос души», изъятом из окончательного
текста цикла как и все случаи чистого «обнажения приема»,
«душа без платья», как ранее «милая девочка без платья» (Я—
душа./<...>/Мне
ли прок в тесьме,/Мне ли в платьице), вступает
в необычный диалог с «Я».
Далее «платье» получает новую интерпретацию в связи с боле­
знью «любви» в письме к 3. Н. Нейгауз (июль 1931 г.): «Ты права,
35
Ср. в ранних фрагментах о Реликвимини Пастернака: Да, излишня была
любовь. Ведь они стали братом и сестрой, и продолжали любить без любви и быть
предсердиями друг друга. Братом и сестрой стали они. Или двумя сестрами [4,
731 - 7 3 2 ) .
Ср. Боже, кем это мелются,/Языком ли, душой ли,/Этот плеск, эти преле­
Хь
9
сти
что-то свихнулось у меня в душе по приезде сюда, но если бы ты
знала, до какой степени это вертелось вокруг одной тебя, и как
вновь и вновь тебя одевало в платье из моей муки, нервов,
размышлений и пр. пр. Я болел тобой и недавно выздоровел...»
[Письма 1993, 75] . Здесь образ любимой как бы «заворачивается» в «платье» из чувств и мыслей поэта, т. е. в «платье его
души», что впоследствии в «ДЖ» преобразилось в зрительную
композицию, когда Лара в «божественном очертании» с облаков
«сдана на руки душе» Живаго, «как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка» [3, 363]. И этот последний
образ почти совпадает с более поздним образом «облаков Вене­
ции» Бродского в виде женской плоти с картин мастеров Возрож­
дения.
Интересно, при этом, что «Венецианские строфы» (II) откры­
ваются виденьем «облаков» (Смятое за ночь облако расправляет
мучнистый парус), которое структурно «расправляет» ранний пастернаковский образ из стихотворения «Piazza S. Магсо»: Я лежу
с моей жизнью неслышною,/С облаками, которых не смять.
Тот круг, по которому мы прошли, подтверждает мысль
Пастернака о том, что в основании системы уравнений искусства
лежит «известное» — легенда, заложенная в основание традиции,
неизвестное, каждый раз новое — актуальный момент культуры
[4, 208].
Все эти факты свидетельствуют о цикличности и обратимости
поэтических единиц внутри поэтического языка как целостной
системы, обладающей поэтической памятью. Это позволяет гово­
рить о его «собственно языковом существовании», направленном
на познание «неязыкового образа, соответствующего этому су­
ществованию» [Ревзина 1990, 30]. Осмысленность слов в поэти­
ческом языке преломляется в разных изменениях целостности
РПС, КПС, ЗПС, РСПС, что собственно и создает различные по
форме, жанру и композиции произведения. По Мандельштаму [2,
229], «это закон обратимой и обращающейся поэтической мате­
рии, существующей только в исполнительском порыве».
С особой силой этот «исполнительский порыв» дает знать себя
в ритмико-синтаксической памяти слов, которая одинаково дей­
ственна и в прозе, и в поэзии. Ритмико-синтаксическая память
37
37
Метатекстовое обнажение приема «вложения души в одежду» находим
в позднем письме Пастернака [1992, 152) к Ж. Пруайр: «Оно [письмо) написано
так, как если бы моя собственная душа, отделившись от меня, стала францужен­
кой, оделась и села писать мне это письмо».
38
слов, в первую очередь, включает в себя «память рифмы» , что
связывает ее с комбинаторной и звуковой памятью слов (ср.
у А. Вознесенского рифму Пастернака из «Зимней ночи» : В ны­
нешнем августе крестообразно/встанут
планеты в ряд./Про­
стишь, когда сами рабы соблазна/Апокалипсис
сотворят?), во
вторую —устойчивые ритмико-синтаксические формулы, создан­
ные на основе звуковых, синтаксических, ритмических и метри­
ческих соответствий. РСПС коррелирует с понятиями ритмикосинтаксического клише и «семантического ореола метра»
М. Л. Гаспарова , однако включает в себя память не только
о ритмико-синтаксических, но и ритмико-семантических и мор­
фологических построениях в поэтическом языке . Например,
многие строки А. Ахматовой (И чем могла б тебе помочь?/От
счастья я не исцеляю; В кругу кровавом день и
ночь/<...>/Никто
нам не хотел помочь; Ничем не мог ты мне помочь и др.) переклика­
ются по структуре со строками А. Блока (О, я не мог тебе
помочь!/Я пел мой стих.../И снова сон, и снова ночь (1904); Над
мировою чепухою;/Над всем, чему нельзя помочь/Звонят над шуб­
кой меховою,/В которой ты была в ту ночь (1909)), причем
замыкая одну и ту же рифму (ночь — помочь), за исключением
И время прочь, и пространство прочь.../Но и ты мне не можешь
помочь.
С точки зрения РСПС интересно проследить, как ведут себя
стихотворные тексты при их воспроизведении в прозаическом
тексте. Обсуждая проблему ритмической рефлексии вторичного
прозаического текста по отношению к первичному стихотворно­
му, Ю. Б. Орлицкий [1999] говорит «об особой структуропорождающей функции стиха в прозе, особенно повествующей о стихо39
40
41
38
Причем, видимо, рифма может быть и межъязыковой: ср. у А. Вознесен­
ского— Хватит играть комедь./Сад мой вишневый спилят/Into Thy Hands,
I commend/ту spirit.
Ср. в «Зимней ночи» Пастернака: На свечку дуло из угла,/ И жар соблазна/
Вздымал, как ангел, два крыла/Крестообразно. Безусловно все четверостишье
Вознесенского интертекстуально обращено к целостному циклу стихотворений
Живаго (тем более что оно входит в цикл «Последние семь слов Христа»), прежде
всего к «Августу» Преображения, однако под «августом» у Вознесенского, как мы
предполагаем, понимается кризис 17 августа 1998 года. Начальные же строки
«Зимней ночи» (Мело, мело по всей земле) Пастернака переформатированы Воз­
несенским под девизом «Жуткий Крайзис Супер Стар»: Новый мелос, мелосмелос,/
все смело, смелосмело,/в магазине, что имелось,— /в одни руки по кило.
Ср. также замечание С. Боброва [ 1928, 75] о том, что легче всего запомина­
ются «фигуры метрико-ритмические».
См. также |Ронен 1997).
39
40
41
творной поэзии и, соответственно, стихи цитирующей». Показа­
тельным в этом отношении является рассказ «Река Оккервиль»
Т. Толстой.
Мы уже писали о том, что в современной литературе ясно
прослеживается тенденция сплошного «отрицания». Так проис­
ходит и в «Реке Оккервиль», где судьбы центральных героев не
складываются. Толстая строит сюжетную канву из обрывков ро­
мансов, исполняемые героиней-певицей: они призваны обозна­
чать этапы композиционного развития отношений героев. При
этом выбираются те, в которых или присутствует отрицание, или
отрицательное значение признака в глаголах и прилагательных:
Нет, не тебя! Так пылко! я! люблю! — подскакивая, потрескивая
и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна <...> нет, не
его так пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности,
только его одного, и это у них было взаимно. <... > и Симеонов купит
<...> редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует, что не для
нее придет весна, — романс мужской, романс одиночества, и бес­
плотная Вера Васильевна будет петь его, сливаясь с Симеоновым
в один тоскующий, надрывный голос. <...> слышен был дивный,
нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляю­
щий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, <...> над всем, чему нельзя помочь...
По мере того, как Толстая выбирает строки с «не», романсный
репертуар постепенно переходит в ранг поэтического, о чем
говорит последняя строка Блока — «трагического тенора эпохи»
(над всем, чему нельзя помочь), отраженная потом в сходных по
структуре строках А. Ахматовой (ср. также И в зеркале двойник не
хочет мне помочь). Все это позволяет А. К. Жолковскому [1995]
сделать предположение, что Ахматова становится как бы «ин­
теробразом» рассказа, хотя Толстая и транспонирует в текст не
столько ахматовские тексты, сколько биографическую канву жиз­
ни поэтессы.
Говоря об интертекстуальных параллелях, нельзя не отметить
особую направленность современных женщин-писательниц
«подстраиваться» под знаменитых русских поэтесс. Большинство
выбирает «образцом для подражания» Ахматову (реже Цветаеву),
и часто «примером» именно служит не их творчество, а биогра­
фическая канва жизни. Так, героиня Л. Петрушевской, тоже
пишущая женщина, проецирует свою неустроенность на «не­
устроенность» великих поэтесс: Я поэт. Некоторые любят слово
«поэтесса», но смотрите, что нам говорит Марина или та же
Анна, с которой мы почти мистические тезки, несколько букв
разницы: она Анна Андреевна, а я тоже, но Андриановна. При этом
кажется не случайным, что для своей повести Петрушевская
выбирает заглавие, образующее рифму к чему нельзя помочь, —- а
именно —«Время ночь».
Итак, мы замечаем, что в композиционной сфере при по­
строении конструкций «текст в тексте» обнаруживается функцио­
нальное сходство между стихом и сюжетом эпического произ­
ведения. «Главной функцией, общей для стиха и сюжета, явля­
ется выделение и акцентировка — в первом случае слов, во
втором — событий» [Щеглов 1988, 117]. Поэтому наиболее силь­
ная позиция рифмы в стихе позволяет обнаружить наиболее
сильные, кульминационные ситуации сюжета текста, в который
они вписаны. Соотнесение стиховой рифмы и «семантической
рифмы» (системы повторов) дает возможность раскрыть концеп­
туальные метатропы, которые становятся изоморфными в струк­
туре двух соотнесенных текстов . Таким образом, рифма приоб­
ретает свою изначальную этимологию «ритма», а функции эле­
ментов текста определяются не только «динамикой сцеплений
в пространственно-временном аспекте, не только смежностью,
но и смысловыми пересечениями в разных плоскостях» [Вино­
градов 1980, 94].
Итак, мы закономерно вступаем в область композиционных
метатропов. Композиционные метатропы организуют ритм тек­
ста как целого, операциональные — направляют конкретные звуко-семантические преобразования, но в их основе лежит одна
и та же концептуальная структура. Так, у Мандельштама в «Раз­
говоре о Данте» читаем о едином смысловом потоке, именуемом
«то композицией — как целое, то в частности своей — метафорой»[2, 218]. И действительно, в его «Египетской марке» частная
метафора беспозвоночная подруга Парнока ('визитка', которая
«шьется» в ходе развертывания повести, подобно «Шинели» Го­
голя) становится отражением отсутствия композиционного «по­
звоночника» этой «петербургской повести» XX в., и как реальное
следствие этого текст графически распадается на мелкие строфы42
4 2
Прекрасный пример вычисления по рифме интертекстуальных связей при­
водит А. Долинин [1999а, 44—45]. Он обнаружил в романе И. Эренбурга «Лето
1925 года» смысловую рифму (Когда я говорю «отчаяние», я не лгу, но невольная
ассоциация не звуков — чувств подсказывает мне другое слово — «отчалить»), кото­
рая затем станет стихотворной параллелью в романе В. Набокова «Отчаяние»:
отчаяние/отчалила (см. 2.5).
абзацы. Композиционная мета-метафора 'отсутствие позвоноч­
ника' ранее заявлена в романе Белого «Петербург», и в своей
статье «Конец романа» Мандельштам пишет, что Белый был
последним из русских прозаиков, который, стремясь придать
некий «позвоночник» роману, находит его в «смещении планов»
[2, 204].
В «Петербурге» позвоночник выступает как метафора ор­
ганизации целостной ткани романа из отдельных частей-позво­
нков и, в связи со значимой фамилией Александра «Дудкина»,
создает у Белого образную параллель к «Флейте-позвоночнику»
Маяковского. Скрепление отдельных «позвонков» оказывается
затрудненным и «болезненным», и в романе возникает концепт
«болезни спинного мозга», которая получает различные ситуа­
тивно-композиционные воплощения: сна, бреда, сумасшествия.
В центре романа два героя —отец и сын Аблеуховы, сим­
волизирующие две разные поэтико-философские системы. Сама
асимметрия их имен и отчеств (Аполлон Аполлонович и Николай
Аполлонович) говорит об их родственной связи и различии двух
поколений, представляющих два века, при этом Аполлон — это
имя бога искусств и поэзии, которому поклонялся Пушкин.
Первый раз о «позвоночнике» говорится в конце третьей
главы, в главке «Второе пространство сенатора», где это про­
странство оказывается «свержением в бездну». В своем «втором
пространстве», или «двойном сне», Аполлон Аполлонович
в «хлопнувшей двери» слышит «цоканье» Медного Всадника,
в реальном же первом — хлопнувшая дверь означает возвращение
домой Николая Аполлоновича. Одновременно в безличном
плане развивается идея: «Только неладно в спине; боязнь прикосновения к позвоночнику... Развивается: tabes dorsalis». Название
главы 4-й как скрепляющее звено от третьей к четвертой
переводит мотив «позвоночника» в метатекстовый план — «Глава
четвертая, в которой ломается линия повествования»; откры­
вается же она эпиграфом из Пушкина «Не дай мне бог
сойти с ума...». А затем в главке с аллюзивным заглавием
«Невский проспект» уже конкретно Николай Аполлонович
ощущает «вырывание» позвоночника. Происходит «разрыв на
части» двух «Я» Николая Аполлоновича, заданный также ком­
позиционной метафорой «бомбы» (состоящей из «взрывных»
звуков и взрывающейся в кабинете Аполлона-отца), и Дудкин
называет Аблеухова-младшего Дионисом терзаемым. А именно
Николай Аполлонович почувствовал, что его «как будто терзают
на части, растаскивают в противоположные стороны: спереди
вырывается сердце; а из спины вырывают <...> твой собственный
позвоночник». Так «разрыв позвоночника» проецируется на раз­
рыв между эпохой Аполлона (строгой гармонии) и Диониса
(экстаза), а в метатекстовом плане —на «разрыв» символизма
с классической традицией XIX в., начинающей отсчет от
Пушкина.
Именно этот «разрыв» и будут пытаться «склеить» постсим­
волисты, и прежде всего Мандельштам, обращаясь к памяти
слова. В стихотворении «Век» на пересечении поэтической памя­
ти слов, связывающих «позвонки», «флейту» (как инструмент
творчества) и «время», рождается строка: Узловатых дней колена/
Нужно флейтою связать. Заглавие же его повести — «Египетская
марка» концептуально также соотносимо с романом Белого,
в эпилоге которого Николай Аполлонович попадает из Петербур­
га в Египет, и, читая «Книгу Мертвых», «в двадцатом столетии
он провидит Египет; культура — трухлявая голова: в ней все умерло;
ничего не осталося; будет взрыв: все сметется». И чтобы уберечься
от размыкания с «памятью культуры», Мандельштам в своей
повести склеивает и сшивает «цитатные атомы» текстов клас­
сической прозы, как бы разрезанные им «ножницами» (Я не
боюсь бессвязности и разрывов <...> Не боюсь швов и желтизны
клея [2, 75]). Так «визитка» — «земная оболочка» Я-Парнока ока­
зывается «беспозвоночной подругой молодых людей».
Членение же текста «Египетской марки» Мандельштама на
мелкие абзацы выносит на поверхность концептуальный мета­
троп 'сшивания воздушных д ы р \ который проецируется в ком­
позиционную область 'склеивания текста': Они [глухонемые —
иносказательно 'поэты, теряющие голос и слух'] говорили на языке
ласточек <...> и, непрерывно заметывая крупными стежками воз­
дух, шили из него рубашку [2, 73]. Если восстановить всю систему
метатропов, или иносказания Мандельштама, то «язык ласточек»
совпадет с понятием поэтического языка, а «воздух» —это не­
обходимое пространство для творчества, пространство для поэти­
ческого «резонанса» , которое необходимо «сшить». Ведь в боль43
44
4 3
В этом смысле «ножницы» становятся интертекстуальной деталью. Как мы
помним, Дудкин в «Петербурге» уподобляется не только «бедному Евгению», но
и медному Петру: он сам становится «медным» — «металлы» проливаются в его
жилы, и он хватается за «ножницы», которыми убивает Липпанченко, поющего
«Лебединую песню», не понимая извлекаемых им «нежных звуков».
Пастернак в письме 1926 г., например, писал об обшей тенденции време­
ни—«стихи не заражают больше воздуха» (Материалы 392], указывая причины
44
шинстве текстов авангарда, представимых как построения «текст
в тексте» и «текст о тексте», основная нагрузка падает на «память
слова» как след памяти о претексте, и именно интертекстуаль­
ность сохраняет механизм восстановления целостной предшест­
вующей системы по референциальным, комбинаторным, звуко­
вым и ритмико-синтаксическим характеристикам.
Так, например, на основании «чужеязычной» анаграммы (или
звуковой памяти слова, дешифрующей его референтный смысл),
В. Н.Топоров [19816, 119—121, 179] восстанавливает, что хилая
ласточка (от др. — гр. xe^Scov) Мандельштама связана «мировым
поэтическим текстом» с образом «безъязыкой Филомелы», у ко­
торой ее насильник Терей, боясь раскрытия своего преступления,
вырезает язык, а затем Зевс превращает ее в ласточку. Так,
в переводе на метатропный язык Мандельштама «Слово-Ласточ­
ка» становится «лишенной языка» или «на родном языке лишен­
ной речи», что равно его формуле «беспамятствует слово» (ср.
Я слово позабыл, что я хотел сказать./Слепая ласточка в чертог
теней вернется/На крыльях срезанных, с прозрачными играть./В
беспамятстве ночная песнь поется).
Следовательно, память слова является не текстовой, а метатекстовой характеристикой и образует интертекстуальную связь
(включая автоинтертекстуальную). Она открывает путь как во
внутреннюю систему метатропов, лежащую одновременно
и «внутри» и «над» текстом, так и систему всего поэтического
языка и общей поэтической памяти.
Данная система позволяет на современном этапе восстановить
смысл строчек А. Кушнера, посвященных И. Бродскому. Он ока­
зывается аналогичным мандельштамовскому «сшиванию воздуш­
ных (стриженных) дыр»: Мне-то нравятся ласточки с голубою/
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний/Край небес.
Весь проведенный нами анализ показывает, что в случае
влияния одной творческой системы на другую следует говорить
не о каком-нибудь единичном интертекстуальном заимствова­
нии, а об усвоении и адаптации целого «пучка» как содер­
жательных, так и операциональных метатропов автора-предшест­
венника. В этом аспекте интересны идиостили Пастернака и На­
бокова. Так, например, устанавливается подобие между «СМЖ»
Пастернака, где «книгу» пишет собеседник поэта —дождь, к коэтого: «Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разруши­
лась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима» [там же].
торому он обращается Топи, теки эпиграфом... («Дождь». Надпись
на «Книге степи»), и «Даром» Набокова, где «книга, написанная
им, говорила с ним полным голосом <...> как поток за стеною»
[3, 190].
Обсуждаемые нами явления говорят о том, что «игра» на
интертекстуальных связях создает тот «третий мир» по К. Попперу, о котором пишет Вяч. Вс. Иванов [1992]. Писатель/поэт дей­
ствительно располагает не только «корпусом всех прочитанных
им письменных текстов его предшественников, но и всеми воз­
можными продолжениями этих текстов в виде вариаций и подра­
жаний, а также текстов, построенных сознательно по иным или
прямо противоположным принципам» [там же, 331]. При этом
в случае интертекстуальной связи происходит заимствование
и перекомбинирование не только языковых операциональных
единиц, но и ситуативных, концептуальных и композиционных
инвариантов автора-предшественника, что позволяет создавать
все новые «возможные миры».
В то же время, очевидно, что механизм литературных влия­
ний, как считают сами художники слова, это туманная и неясная
вещь. «Случается, —пишет В. Набоков, —что передатчиком воз­
действия одного писателя на другого оказывается третий, или
образуется целая амальгама воздействий. Это дело совершенно
непредсказуемое» (цит. по [Александров 1996, 216]).
1.4. АВТОИНТЕРТЕКСГУАЛЬНОСТЬ: ЗА И ПРОТИВ
Можно ли говорить об автоинтертекстуальности
При анализе творчества Б. Пастернака, О. Мандельштама,
М. Цветаевой исследователи (П.-А. Бодин, Б. Гаспаров, А. Жол­
ковский, К. Поморска, Д. Сегал, И. Смирнов, К. Тарановский,
Е. Фарыно, А. Юнггрен и др.) не раз обращали внимание на то,
что можно выделить определенную группу текстов, как имеющих
различное выражение по оси поэзия-проза, так и внутри этих
видов словесности, между которыми можно установить отноше­
ние семантической эквивалентности по разным текстовым пара­
метрам: структуре ситуации, единству концепции, композицион­
ных принципов, подобию тропеической, звуковой и ритмикосинтаксической организации. Назовем такие тексты «близнечными текстами» [Юнггрен 1984], а отношение, которое возникает
между ними, по аналогии с тем, которое возникает между текста­
ми разных авторов, интертекстуальным или, точнее, автоинтертекстуальным. Обычно среди разных в дискурсивном отношении
текстов находится один, который выступает в роли метатекста
(сопрягающего, разъясняющего текста) — или автоинтертекста —
по отношению к остальным, или же эти тексты составляют
текстово-метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя смысл друг
друга и эксплицируя поверхностные семантические преобразова­
ния каждого из них (ср. постановку этой проблемы как проблемы
автоперевода в работе [Иванов 1982]). Например, такую цепочку
выстраивают тексты о Венеции Б. Пастернака и И. Бродского,
которые мы анализировали в предыдущем разделе «Интертексту­
альные отношения и тропы».
В разделе 1.1 мы определили автоинтертекстуальность как
одно из проявлений авторской интертекстуальности. Однако,
безусловно, может быть поставлен вопрос, можно ли говорить
об «интертекстуальности» внутри одного и того же идиостиля,
поскольку порождение текстов у определенного автора задано его
собственной системой инвариантов (А.К.Жолковский [1994,
209] называет это «инвариантной подоплекой»). Автоинтертекстуальность в этом случае выступает как интертекстуальность
в квадрате, поскольку совпадение ситуативных, концептуальных,
композиционных и операциональных метатропов в разных тек­
стах одного автора будет максимальным.
Условия «интертекстуальности» для этого самые благоприят­
ные. Ведь автор выступает как лицо, которое в процессе порожде­
ния соединяет свой текст со своими и чужими предшествующими
текстами, т. е. «подменяя интратекстуальную связь интертексту­
альной, раскрывает себя как читателя» [Смирнов 1985, 75]. Рас­
крытие себя как читателя происходит и при чтении «своих»
текстов, которые сразу после процесса «письма» как бы «отчужда­
ются» от автора. Так, Б. Пастернак в письме М. Цветаевой от
25 марта 1926 года замечает: «Субъективно то, что только написано
тобой. Объективно то, что (из твоего) читается тобою и правится
в гранках, как написанное чем-то большим, чем ты» [5, 175] .
В этом смысле субъект текстопорождения как бы одновременно
становится и адресатом, и адресантом сообщения и «строит свое
высказывание по правилам получателя» [Фарыно 1989, 19]. Таким
образом, коммуникативный акт творчества всегда симметричен
и обратим (как в случае автоинтертекстуальности, так и чистой
интертекстуальности). Метатропы, ответственные за «сверхтек­
стовую организацию значений» [Барт 1994, 455—456], в этом
обратимом процессе выполняют функцию «межмировых линий»
между прошлым и будущим состоянием творческой системы,
обеспечивая как интертекстуальную, так и автоинтертекстуальную связь и образуя зависимость между ними.
Однако отношения прошлого и будущего в системе текстопо­
рождения идиолекта не симметричны. Как пишет Ю. М. Лотман
[1992, 27], «прошедшее дается в двух его проявлениях: внутрен­
не — непосредственная память текста, воплощенная в его внут­
ренней структуре <...> и внешне —как соотношение с внетек­
стовой памятью». Будущее —это «пучок возможностей», в кото!
1
Данные строки Пастернака родились в процессе размышления над словами
Пушкина «а знаете, Татьяна моя собирается замуж». Пастернак считает, что эти
слова в пушкинские времена были новы и парадоксальны. В XX веке они уже не
так парадоксальны: «Для выражения того чувства, о котором я говорю, Пушкин
должен был сказать не о Татьяне, а о поэме: знаете, я читал Онегина, как читал
когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал» (5, 175].
ром не совершен еще потенциальный выбор. Но именно на
пересечении прошедшего и будущего, старого и нового, своего
и чужого и происходит «смысловой взрыв» [там же]. Дифферен­
циация и чередование стиха и прозы как в пределах одного
идиолекта, так и всего поэтического языка, создает наиболее
благоприятные позиции такого пересечения. Таким образом,
в самом литературном «билингвизме» заложен огромный семан­
тический потенциал языкового творчества.
При диалоге «стих — проза» у художника слова создается ил­
люзия игры «свой —чужой» как в рамках одного произведения
(«Доктор Живаго»Пастернака, «Дар» Набокова), так и разных (ср.
«Повести покойного И. П. Белкина», где Пушкин хотел умереть
как поэт, отрекаясь от своей творческой манеры стихотворца),
и проза выступает на какое-то время «воображаемым чужим».
В этом смысле неслучайно, что многие современники в авторе
«Повестей Белкина» не узнали Пушкина-поэта. Хотя поэтиче­
ское начало и присутствует в организации повестей (см. [Вино­
градов 1941; Эйхенбаум 1962; Григорьева 1981; Davydov 1983;
Busch 1988; Шмид 1998]), источником тем, сюжетных ходов
и схем становятся не собственные стихотворные тексты Пуш­
кина, а тексты его литературных предшественников. Еще
В. В. Виноградов [1941, 540] заметил, что эпиграфы каждой из
«Повестей Белкина» проецируют заглавие и композицию своей
повести на экран другого литературного стиля, полемизируя
с ним и пародируя его. В какой-то мере можно даже сказать,
перефразируя В. Набокова, что единственным новым элементом
этих повестей является сам язык Пушкина [Набоков 1998, 36],
который рождается из «сопряжения поэтического и нарративного
начал» [Шмид 1998, 39] .
2
3
2
Стремление художника сразу к двум формам словесного выражения —
стихам и прозе — было названо Р. Якобсоном литературным «билингвизмом» (в
работе «Заметки о прозе поэта Пастернака» (1935) —см. [Якобсон 1987]). Этому
явлению посвящена работа [Фатеева 1996].
Интересно в связи с автоинтертекстуальностью рассмотреть гипотезу
Д. М. Бетеа и С. Давыдова [1981] о метапоэтической игре в «Гробовщике» Пуш­
кина, которую упоминает в своей книге В. Шмид [1998, 41]. Согласно версии
американских ученых, переезжающий в новый дом гробовщик А. П[рохоров]
отождествляется с поэтом А. П(ушкиным), покинувшим дом поэзии, «где в тече­
ние осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком», и нашедшим
«в новом своем жилище суматоху». Пушкин-прозаик же выступает как «литера­
турный гробовщик», похоронивший традицию, ее авторов и героев, и в этой своей
роли «чинит старые гробы (сентиментальные, романтические, нравоучительные
сюжеты)» [там же].
3
От автоинтертекстуальности к интертекстуальности
О том, как автоинтертекстуальность становится интертексту­
альностью, можно наблюдать и по текстам авторов XX века. Мы
уже сравнивали идиостили Пастернака и Бунина, отмечая анало­
гическое композиционное строение и концептуальное наполне­
ние их текстов (см. 1.3). Сейчас же мы рассмотрим, как у обоих
художников слова представлена одна и та же ситуация
«вальса» и какое развитие получают ее основные содержательные
компоненты в их поэзии и прозе.
Параллельный анализ «близнечных текстов» Бунина и Пасте­
рнака показывает, что, несмотря на разность идиостилей поэтов,
отношения, возникающие между прозаическими и стихотворны­
ми текстами, подчиняются одной и той же закономерности:
в строении прозаического текста четко виден принцип поэтиче­
ского моделирования, при котором звуковые и семантико-комбинаторные характеристики слов доминируют над референциальными и создается особая система повторов и параллелизмов,
исчисляемая при соотнесении со стихотворными текстами. Мир
текста «прозы поэта» создается при помощи внутренних ресурсов
самих языковых единиц, значение которых подчиняется исходно
заложенной континуально-циклической модели.
Сначала в поле нашего исследования у Бунина попадут опи­
сание бала в романе «Жизнь Арсеньева» и стихотворение «Вальс»
(1906), между которыми более чем двадцатилетний промежуток.
«Бал» в романе [1986, 390—392] сразу появляется в звуке,
очерчивающем тему, и переносится с белого, заливавшего каленым
светом блиставшего снежного входа — входа бального собрания
в залу, где все играет в быстроту и в лад, и блестящие сапоги,
и руки в белых вязаных перчатках. «Бал» заливается «белым»
звуком и далее с волшебными, умножающимися в зеркалах толпами
перемещается в сферу «вальса» с чередованием звуковых основ
-бл-/-вл-(бал, белый, вальс) в комбинации с другими гласными
и согласными, которые нанизываются и на квазиосновы -зл-/-лс(зал, алмаз).
Ср.: А потом великолепная пустота залы, предшествующая
балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющей
алмазным сияньем, огромные нагие окна, лоск и еще вольная про­
сторность паркета, запах <...> бальной белой лайки —и все это
волнение при виде прибывающего бального люда, ожидание звучности
первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще
девственной залы, пары всегда уверенной в себе, самой ловкой
[там же].
«Ритм художественных образов» создается звуковыми ря­
дами, образующими паронимические рифмы параллельно друг
другу, и эти рифмы очерчивают контур всей «бальной» си­
туации: великолепная/вольная/вылетающей/ловкой;
балу/баль­
ной белой лайки/бального люда;
залы/алмазным/лоск/люстры.
Плавная картина бала затем как бы озвучивается звуками
«оркестра» (ряд гроздь/играющей/грома
с хор), который за­
полняет собой пустое «бальное» пространство (просторность
паркета).
Если мы сравним это описание бала со стихотворением
«Вальс», то заметим, что последнее является как бы этюдом
к целостному полотну. Но в этом этюде уже заложены все исход­
ные темы и их пересечения, и в целом стихотворение оказывается
метонимичным по отношению к образной перспективе прозаиче­
ского описания. Так начало стихотворения Похолодели лепестки/
Раскрытых губ, по-детски влажных соотносится с темой девствен­
ной залы и непорочно-праздничного платья героини романа,
юность, тонкость и стан которой поражали всех присутствующих
в зале, а похолодевшие лепестки губ со свежим холодом —то есть
героиня и зала слиты в одном образном потоке. Холодная зала
с алмазной люстрой одинакова по тональности и с героем-рас­
сказчиком, который «был чем-то вроде ледяного зеркала». Зала/
алмаз/бал/холод
также объединены в одном смысловом ключе
с огромными нагими окнами, которые получают дополнение в об­
наженных от перчаток до плечей и озябших, ставших отроческими,
сиреневых руках героини «Жизни Арсеньева».
«Воздух» же стихов как раз «теплеет» (В. Набоков): И веет,
веет, ветер бальный/Теплом душистых опахал. Он создается зву­
ковой инструментовкой стиха, вычленяющей в сочетании веет
ветер тепло следующей строки. Во второй строфе анаграммирован вальс, правда, в обратной перспективе: ветер бальный послед­
него двустишия переходит в конечные звуки вальса первого:
Сиянье люстр и зыбь зеркал/Слились в один мираж хрустальный.
Интересно, что данная парадигма «вальса» слышна и у Пасте­
рнака в стихотворении «Заместительница» «СМЖ», которое об­
наруживает ситуативное, концептуальное и композиционное по­
добие с прозаическим описанием «вальса» в главе «Елка у Свентицких» романа «ДЖ». Но хотя у Пастернака одни и те же
звуковые ряды, что и в «Вальсе» Бунина, сочетания их даны
в других словесных символах-носителях этих звуков, что несколь­
ко меняет весь ракурс виденья бала:
В опоясанный люстрой: позади за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.
Похолодевшие лепестки губ заменены в «Заместительнице»
мандарина холодящими дольками как бы по смежности — тем са­
мым тема холода делается наружной по отношению к героине,
а тепла (испарина) — внутренней. Сами лепестки губ еще не рас­
цветшей до конца женщины замещены у Пастернака бутоном,
заколотым за кушак, —та же тема юности звучит в других оттен­
ках смысла. Теплые звуки бунинского стихотворения поэтому
контрастируют одновременно и с его прозаическим описанием
бала в «Жизни Арсеньева», и с пастернаковским стихотворением,
в которых «гремит музыка»: у Пастернака
корку/рукой/гардиной,
в «Жизни Арсеньева» — парадигма грома с хор.
Если мы теперь обратимся к описанию «елки» в романе «ДЖ»,
то заметим, что динамическая линия «вальса», во-первых, во
многом создается за счет «шипящих», которые образуются «кру­
гом» причастий и деепричастий, передающих оттенки движения
танцующих вокруг жарко дышащей елки наравне с предикатами
основных движений — кружить и дирижировать танцами (шурша
платьями, прогуливающиеся, разговаривающие, танцующие, замед­
ляя и суживая, замирающий, движущаяся, шаркающая, галдящая,
веселящий — недаром у Юры от всего этого стоял «шум в ушах»; —
то же скопление шипящих и в «Заместительнице»: шалый,/Зано­
женный бутон заколов за кушак,/Провальсировать к славе, шутя,
полушалок/'Закусивши как муку, и еле дыша)', во-вторых, сам темп
и ритм описания вальса задается выкриками дирижера (в перево­
де, с французского — На три счета, на два счета!), которые затем
зададут и варьирующийся p w m сзджтеюдоздя «Зимняя ночь»
Живаго: строки Свеча горела на столе./Свеча горела... как раз
рождаются у него в эту знаменательную рождественскую ночь.
Так в прозе Пастернак неотступно следует своей установке «обя­
зательно оживлять все изображения на слух и на глаз» [3, 623].
Что касается сравнения атрибутов ситуации «танцев»
в «СМЖ» и «ДЖ», то мы вновь обнаружим множество соответст­
вий, правда, в романе главной «танцующей» героиней оказыва­
ется не Лара, а Тоня. Именно она «была очень разгорячена»
и «утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала
от пахучей, легко отделявшейся кожуры» [3, 86]. Эта «кожура»
создает паронимическую рифму с «кушаком», но тема «расцвета»
уже будет заложена не в «бутоне», а вынутом из рукавчика батисто­
вом платке, «крошечном, как цветы фруктового дерева», что создает
соответствие «мандарину», оказавшемуся в «губах» и «липких
пальчиках» Тони. Тональность «шуршащего» звука в зале поддер­
живается и тем, что девушка «машинально совала платок назад за
кушак», а запах «мандариновой кожуры» и «разгоряченной» Тониной
ладони был одинаково «чарующий» (ср. по звуку рукавчик, крошеч­
ный). Этот запах можно описать только в сложных оттенках:
Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово,
сказанное шепотом в темноте [3, 86]. Но именно это внутреннее
Юрино переживание «запаха как шепота» и прерывается Лариным
«выстрелом». Этот грянувший в «ДЖ» «выстрел», вносящий «дро­
жащий [р]» в звуки «вальса», оказывается знамением смерти Анны
Ивановны — матери Тони. Прототипом Тони в романе, видимо,
является первая жена Пастернака — Е. Лурье-Пастернак, которую
он в одном из своих писем называет «изумительным, туго скручен­
ным бутоном», говоря при этом, что одна из его книг должна
раскрыть его «лепестки» (ср. Тоня —бутон). История же смерти
Анны Ивановны (см. 2.2) имеет ситуативное подобие со смертью
матери первой жены Пастернака [Материалы 1989, 456].
Но именно звуки этого «выстрела» выводят нас за рамки
текстов Пастернака и ретроспективно обращают к интертексту:
такой «прерывистый» ритм «вальса» прозы XX века во многом
уже был заложен в романе А. Белого «Петербург», в частности,
в знаменательной четвертой главе, «где ломается линия повест­
вования» . Именно у Белого «ломается» круглая линия «вальса»
4
4
Ситуация «вальса XX века» обращает нас и к пьесе В. Набокова «Изоб­
ретение Вальса» (1937), где прием звуковой инструментовки «вальса» использован
совсем в других художественных целях. В. Ходасевич писал, что одна из главных
задач Набокова «показать, как живут и работают приемы» — «жизнь художника
и жизнь приема ь согнанш художника—ъогт тема Смръна ъ той vu\w т о й мерс
вскрываемая едва ли не во всех его писаниях» (цит. по [Набоков 19906, 31]).
«Изобретение Вальса» — пьеса, которая описывает «жизнь приема» паронимической аттракции (точнее, звукописи). Именно сливая слова Сальватор Вальс,
главный герой пьесы и, как сказано в перечислении действующих лиц, соавтор
писателя, приходит к «неслыханной метаморфозе» мысли: при помощи слов
можно прийти и к власти и к вальсу, причем слова власть и вальс имеют один
и тот же набор согласных звуков, что и имя героя. Правда, Сальватор ближе
к власти, Вальс —к вальсу. В этом и состоит изобретение Вальса, благодаря
которому он хотел завоевать весь мир. Парадоксально и символично, что доктри­
на, излагаемая Вальсом на пути к власти, вложена Набоковым в форму белого
ямба, хотя и записана прозой. Вторичные стихообразующие признаки замыкают
каламбурный круг и речи Вальса, и всей пьесы: Привыкнув к мысли, простой, как
5
XIX века (представленная у «опоздавшего гения» Бунина), и все
танцующие фигуры становятся пародийными «масками» в «лабири­
нте зеркал». Одним из отражений «зеркал» Белого становится
в «ДЖ» Кока Корнаков (от слова кокнуть с добавленным р),
который «дирижирует» вальсом на «Елке у Свентицких» и в отца
которого ошибочно попадает «выстрел» Лары. Его прототип в рома­
не «Петербург» — Николай Петрович Цукатов по прозвищу Коко,
который «протанцевал» всю свою жизнь и теперь «дотанцовывал».
К слову сказать, сам Белый в сознании современников был
запечатлен как «летящий» и «танцующий», а предикат «танце­
вать» как бы раскрывает внутреннюю форму «стопного» ритма
его романа. Ср. у Мандельштама (1922): «Основной нерв прозы
Белого —своеобразное стремление к танцу, пируэту, стремление,
танцуя, объять необъятное» [2, 293]; у Гиппиус (1922): «Боря
Бугаев—весь легкий, как пух собственных волос в юности, —он
танцуя перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназ­
начено их перелететь, над ними танцевать, — туда, сюда... напра­
во, налево... вверх, вниз...» [Гиппиус 1991, 2, 14]. Отсюда и у Цве­
таевой в эссе «Пленный дух» (1934) появляется «летящий» и «тан­
цующий» Белый, рисующий «полулинии и зигзаги ритмических
схем» «в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов,
сюртучных ласточкиных фалд, ног, —о, не ног! — всего тела, всей
второй души, еще — души своего тела, с отдельной жизнью своей
дирижерской спины, за которой — в два крыла, в две восходящих
лестницы оркестр бесплотных духов...» [Цветаева 1986, 278].
И этот танец Цветаева характеризует уже не как «вальс», а ско­
рее—«фокстрот», по идее же он представляет собой «христопляску» (по типу «свистопляска»).
Анализируя этот текст М. Цветаевой, А. Эткинд и К. Грельц
[1996] приходят к выводу, что в «Пленном духе» (как ранее мы
азбука, что я могу строптивый мир в шесть суток изничтожить, всяк волен жить,
как хочет, — ибо круг описан, вы — внутри, и там просторно, там можете свободно
предаваться труду, игре, поэзии, науке. Этот круг описан мыслью, что все состоит
из азбуки: и игра, и поэзия, и наука, и политика, и даже разные люди, благодаря
азбуке, создаются лишь переменой мест согласных и гласных —ср. действующих
лиц пьесы: Герб, Горб, Гриб, Граб, Брег, Бриг, Гарб, Гроб и т. п. (их имена имеют
источником поэзию Маяковского— Били копыта. Пели будто: —Гриб. Грабь. Гроб.
Груб («Хорошее отношение к лошадям»)— автора строк о «вальсе»: Эй! Человек!
землю самое зови на вальс). Так, по Набокову, возникает следующий параллелизм:
точно так же, как поэт Турвальский и молодой Вальс пишут стихи в ритме вальса,
а затем приходят к власти, так и история вписывается в кругообразные движения
вальса, один тур которого — стихи, другой —пытки и казни (и соответственно
взрывы и выстрелы).
Так характеризует Бунина устами своего героя А. Битов в романе «Пуш­
кинский дом».
s
наблюдали и в «Докторе Живаго») неявным образом сюжет сво­
его текста продолжается в чужом тексте, явное указание на
который отсутствует. Главным «подтекстом» они считают «Се­
ребряного голубя» Белого, и заглавие этого романа порождает
интертекстуальный образ его автора: «Серебряный голубь», до
которого он, к сорока годам, физически дотанцевался» [Цветаева
1986, 313]. Однако образ Белого-поэта у Цветаевой одинаково
выводим и из ее собственных концептуальных и операциональ­
ных метатропов, в частности «Поэмы воздуха» (см. [Фатеева
1995а]). Именно в Германии Цветаева увидела Белого в его
«основной стихии»: полете, в родной и страшной его стихии —
пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на
земле. Рядом со мной сидел пленный дух [1986, 313]. В конце эссе
дается описание «последнего портрета» А. Белого, где «дух», как
у Белого Шишнарфнэ (см. 1.3), оказывается между «точек»: в за­
стывшей позе полета —идет человек. Человек? А... не-чистый дух?
Да, дух в пальто... (в журнальной публикации). В книге же дается
раздельное написание «Не чистый дух?» с добавлением перед
этим фразы «А не та последняя форма человека, которая остается
после сожжения: дохнешь—рассыпется» [1986, 316], которая явля­
ется камертоном цветаевского эпиграфа к «Пленному духу»:
Легкий огнь, над кудрями пляшущий,
Дуновение—вдохновения!
Последнее сопоставление также делает Белого подобным ог­
ненному духу «Петербурга» Шишнарфнэ.
Таким образом, каждый новый текст автора рождается как из
внутренних источников, так и внешних, создавая их полифони­
ческое переплетение. Поэтому именно к явлению автоинтертекстуальности лучше всего приложимо понятие «контрапункта» как
мелодии, присочиняемой к исходно-авторской, инвариантной.
В результате такого «присочинения» образуются конструкции
«текст в тексте», которые по своей сути становятся мета- и автометаописаниями. Создается транстекстуальность — сосущество­
вание нескольких текстов (своих и чужих) в одном.
Текст и метатекст в процессе творчества
В XX веке, благодаря выведению внутренних автокоммуника­
тивных механизмов текстопорождения на поверхность текста,
становится возможным проследить, как внутренняя творческая
установка постепенно экстеризуется, обнажая «код иносказания»
языковой личности. Проблема подсознательного, «как в свое
время очень тонко заметил Н. Бор, не есть проблема измерения
человеком глубин своего подсознания, а есть проблема создания
условий для нового сознательного опыта, или сам этот опыт»
[Мамардашвили, Пятигорский 1971, 347]. В новом по отношению
к предшествующей литературе «сознательном опыте» и состоит
авангардность словесного искусства XX века. В самом акте худо­
жественной коммуникации оказываются слитыми акт порожде­
ния и воспроизведения текста, то есть собственно текст и его
внутренний метатекст-комментарий. Запрограммированный код
восприятия основного поэтического сообщения оказывается впи­
санным в сам текст. Текст превращается в воображаемый диалог
с автометаописанием, с чего собственно и начинается «сознатель­
ный опыт» и расподобление его с непосредственной фиксацией
«бессознательного».
Так, анализируя строение «Египетской марки» Мандельшта­
ма, Д. Сегал [1983, 341—342] отмечает, что по мере ее развер­
тывания текст все больше превращается в «текст о тексте» (автометаописание), при этом «кульминация темы 'текста' наступает
в конце повести, когда ее метаописание переходит, вернее, слива­
ется с самоописанием личности автора, и оказывается, что пра­
вила построения новой прозы —суть парадигма личности худож­
ника...». При этом автор «сливается» на «определенном семан­
тическом уровне» со своим героем Парноком (нейтрализуется
оппозиция «Я-Он»), и «процесс творения текста сближается
с описанием самоощущения его создателя, а это самоощущение,
в свою очередь, подается как черта, внутренне присущая городу
[Петербургу] и истории» [там же, 348].
Интересна в этом отношении и «Проза о поэме» А. Ахмато­
вой, состоящая из отрывков, имеющих контур дейксиса «Я-Она»,
где «Она» —«Поэма без героя» —ср. начала отрывков: «Опреде­
лить, когда она начала звучать во мне, невозможно...», «...Я сразу
услышала и увидела ее всю...», «Попытка заземлить ее кончилась
неудачей. Она категорически отказалась идти в предместья», «Ря­
дом с этой идет «Другая»...» и др. Подобная организация текстов
говорит о том, что происходит нейтрализация не только оп­
позиции «Я-Он-Она», но и оппозиции
«Я-Текст-Метатекст»,
что порождает иллюзию, что пишет произведение не только
автор, но и все, что составляет действительность текста, напри­
мер, сам Петербург и русская литература в «Египетской марке»
6
и далее в «Поэме без героя» или сама «жизнь» в «Докторе
Живаго» Пастернака. Перевод строк Т. Табидзе, сделанный Па­
стернаком, так формулирует это отношение: Не я пишу стихи.
Они, как повесть пишут/Меня, и жизни ход сопровождает их
(1927). В дальнейшем подобные «стихи» и превращаются в соб­
ственно «повесть», что раскрывает метатекстовое название повес­
ти «Повесть» (1929) Пастернака.
Особый тип метаописаний представляют собой «портреты»
поэтов друг друга (см. [Жолковский 1974, 30; Фарыно 1976]). Эти
поэтические изображения в стихотворной форме воспроизводят
как мировоззренческие константы изображаемого поэта, так
и основные формальные признаки его идиостиля. В какой-то
мере происходит «межмировой» и «межъязыковой» перевод мета­
тропов портретируемой личности на свой «тропный» язык. Одно­
временно происходит и процесс переименования вещей и сущно­
стей отражаемого мира. Так, портреты-посвящения объединяют
и противопоставляют поэтические «взгляды» и миры Ахматовой
(Какой-то город, явный с первых строк,/Растет
и отдается
в каждом слоге./<...>/Бывает
глаз по-разному остер,/По-разному
бывает образ точен./Но самой страшной крепости раствор—/
Ночная даль под взглядом белой ночи («Анне Ахматовой»)) и Пасте­
рнака: Он сам себя сравнивший с конским глазом,/Косится, смо­
трит, видит, узнает./И вот уже расплавленным
алмазом/Сияют
лужи, изнывает лед («Поэт»). Постоянный поэтический диалог
связывал Ахматову и Мандельштама, Мандельштама и Пастерна­
ка, Пастернака и Цветаеву, Ахматову и Пастернака, Цветаеву
и Ахматову, что получило отражение в последнем из всех откро­
вений Ахматовой «Нас четверо...» (1961), посвященном памяти
поэтических миров всех ушедших.
Конечно, все эти поэты выбирали себе в собеседники и по­
этов предшествующих поколений, из русских прежде всего Пуш­
кина. «Обнажение приема» обнаруживаем в «Теме с вариациями»
Пастернака, которая превратилась в вариации на темы Пасте­
рнака в «Даре» Набокова и в эссе «Мой Пушкин» Цветаевой.
По существу, «текстами о текстах» являются и циклы «Стихи
6
Р. Д. Тименчик [1989, 3—4] в «Заметках о «Поэме без героя» пишет о самой
ахматовской поэме: «это «поэма в поэме» и «поэма о поэме», произведение,
рассказывающее о своем собственном происхождении. Можно даже сказать, что
сюжетом его является история художнической неудачи, история о том, как не
удавалось написать или дописать «Поэму без героя» <...> Поэма, изучая затруд­
нения, встающие перед ней самой, познает самое себя».
о русской поэзии» (1932—1933) Мандельштама и «Тайны ремес­
ла» (1936—1960) Ахматовой, в которых звучат «голоса» их языко­
вой памяти. Эти циклы одинаково спроецированы и на поэзию
XIX (и более ранних периодов), и на поэзию XX века. Так,
стихотворение Ахматовой «Про стихи» (Это — выжимки бессон­
ниц,/<...>/Это—пчелы,
это —донник,/Это —пыль, и мрак,
и зной) по структуре текста повторяет «Определение поэзии», а по
структуре заглавия «Про эти стихи» Пастернака из книги
«СМЖ»; сама же семантико-синтаксическая структура пастернаковского «Определения поэзии» во многом опирается на сти­
хотворение А. Фета: Это утро, радость эта,/<...>/Эти
капли,
эти слезы,/Этот пух —не лист,/<...>/Эти
мошки, эти пчелы,/
Этот зык и свист,/<...>/Эта
ночь без сна,/'<...>/Это
все —
весна (см. [Jensen 1987]).
К числу собственно метатекстовых описаний можно отнести
статьи М. Цветаевой о Пастернаке и других поэтах («Световой
ливень» (1922), «Эпос и лирика современной России. В. Маяков­
ский и Б. Пастернак» (1932), «Поэты с историей и поэты без
истории» (1933)); статьи О. Мандельштама «О природе слова»,
«Заметки о поэзии» (прежде всего Фета и Пастернака) (1923,
1927), «Конец романа» (1922), «Разговор о Данте» (1933) и др.;
размышления о поэтах-современниках (Анненский, Пастернак,
Мандельштам, Цветаева) А. Ахматовой и ее статьи о Пушкине.
Однако во всех этих метаязыковых исследованиях одинаково
вырисовывается и подобие прошлого или будущего автометатекста. Так, Д. Сегал [1983] считает, что статья «Конец романа»
Мандельштама оказала влияние на будущее строение повести
«Египетская марка», которая как бы разделяет «пополам» его
поэтическое творчество (по подсчетам Н. Струве [1992, 138],
количество стихов написанных до стихотворной паузы 1926—
1930 гг. —230, после —202); в статьях же Мандельштама созрева­
ла та концепция поэтического слова, которая объединит все его
творчество. Промежуточным звеном между метаописаниями
и автометаописаниями можно считать переписку двух поэтов
(например, Цветаевой и Пастернака), а также поэта и ученого
(Пастернака и О. М. Фрейденберг ), которая оказала организую­
щее воздействие на формирование творческой личности обоих ее
7
7
М. Дрозда [1990, 12), анализируя в своей работе эту переписку, отмечает
«непрерывную авторефлексию собственной эпистолярной речи» в письмах Пасте­
рнака. Об эпистолярном общении Б. Пастернака и О. Фрейденберг см. также
[Б. Гаспаров 1992).
участников. Все эти метаязыковые описания позволяют языковой
личности отбросить те элементы своей системы, которые с точки
зрения метаописания (при взгляде на себя со стороны или други­
ми глазами) не должны существовать, и ориентироваться на то,
что в данном описании является положительным. Система идиостиля может доорганизовываться: «в момент метаописания это
желательное существует как будущее, но в дальнейшем в эволю­
ционном развитии превращается в реальность, становясь нормой
для данного семиотического комплекса» [Лотман 1978а, 10]. Та­
ким образом, каждое состояние такой системы представляет со­
бой «контрапункт прошлого и будущего, спроецированный в на­
стоящее» [Жолковский 1993, 391].
Саморазвитие языкового сознания постоянно доводит худож­
ника слова до той точки, когда резерв неосознанного, неописан­
ного не в состоянии уже укладываться в имеющиеся языковые
структуры. Требуется введение новой кодирующей системы, в ка­
кой-то мере противоположной уже сложившейся. Период авто­
коммуникации и интериоризации сменяется периодом «диалоги­
ческой коммуникации», что необходимо как для внутреннего
развития языковой личности, так и для ее внешнего признания.
Развитие в направлении упрощения и понятности возможно
лишь при обогащении текстами, несущими другую точку зре­
ния—при обращении к альтернативной поэтике.
На этом пути возможны два направления:
1) ориентация на чужую поэтику как лучшую, которая пред­
ставляется как исполнение своего будущего замысла, —это пер­
вый шаг к преодолению замкнутости своего мира (ср. высказы­
вание Пастернака о Пушкине: «Как поэт он выше меня» [5, 175]);
2) представление «своего» стиля как «чужого» по отношению
к себе, взгляд на себя с позиции третьих лиц — период объектива­
ции своей поэтики, знаменующий для поэта переход к прозе.
Установка «свой как чужой» в этом случае подразумевает
внутреннюю оппозицию: композиционное и концептуальное раз­
витие по линии «Я —ДРУГОЙ». Желаемой целью преобразо­
вания «свой как чужой» становится возможность выйти за пре­
делы своего единого языкового сознания и породить различные
типы диалогических ситуаций, имеющих как внутренний, так
и внешний характер. К примеру, период работы Пастернака
над «СМЖ» А.К.Жолковский [1996, 236] характеризует так:
«В интертекстуальном плане это период создания глубоко ин­
дивидуального стиля —путем максимального отталкивания от
«других» (особенно Маяковского) и оригинального совмещения
стилей, в частности футуристической усложненности и демокра­
тичности — с прямыми северянизмами, а учебы у классиков (Лер­
монтова и Пушкина) с их модернистким переписыванием».
«свой,
д
р
у
Г
(
)
й
как «чужой»
Особенно показательна в отношении «свой как чужой» проза
В. Набокова. Один из своих последних романов «Смотри на
арлекинов» (1974) Набоков пишет от лица своеобразного двойни­
ка— Вадима Вадимовича (сокращенно-быстрое произношение от
Владимира Владимировича). Этот «двойник» является автором
двойников-романов Набокова, которым в тексте романа дается
своеобразная автоаннотация. Причем изложение своих романов
Вадим Вадимович «сопровождает комментариями из своей соб­
ственной жизни, выводящими нас из этой двойной fiction обрат­
но в жизнь самого Набокова <...> и одновременно подсказыва­
ющими читателю, как следует читать данный роман (и вообще
романы) Набокова» (Левин 1990] .
Играя на своем не только литературном, но и реальном би­
лингвизме, Набоков сливает несколько своих романов в одном,
давая им пародийное толкование. Так, роман Вадима Вадимовича
«The Dare» по звуковой «русскоязычной» памяти отсылает к «Да­
ру» самого Набокова, однако перевод заглавия связывает роман
с «Подвигом» . Подобному же переплетению подвергаются
и композиционные схемы обоих романов, однако в середину
романа вставляется не книга о Чернышевском, а краткая биогра­
фия и критический разбор сочинений Федора Достоевского; при
этом рождается и парадоксальная смесь биографий «Чернолюбова и Доброшевского» [Набоков 1999, 186—188]. Такая игра на
фамилиях тем более интересна, что она заменяет расстановку
акцентов «Дара» на противоположную. Фактически, в романе
«Смотри на арлекинов» Набоков использует игровые приемы
8
9
8
Подобное «остранение» есть и в стихах Набокова. Ср. Но как я сяду в поезд
данный/в таком пальто, в таких очках/(и, в сущности, совсем прозрачный,/с
романом Сирина в руках?). Эти строки парадоксально напоминают заключительное
описание А. Белого в «Пленном духе» Цветаевой, где он представлен как «дух
в пальто». Как мы помним, русский псевдоним Набокова совпадает с названием
альманаха, в котором впервые увидел свет «Петербург» Белого (см. подробно 2.6).
С. Ильин переводит это составное заглавие как «Подарок Отчизне» [Набо­
ков 1999, 186|.
9
типа «сложи картинку», приоритет использования которых при­
надлежит Ф. Достоевскому [Злочевская 1995, 5]. По контрасту
с романом о литературном «арлекине», в «Даре» Набокова имя
главного героя-сочинителя совпадает с именем Достоевского —
Федор, вторая же часть его фамилии Чер-ды-н-цев соотносится
с «чернотой» Чернышевского. В «Даре» также имеется несколько
аллюзий и даже прямых упоминаний о Достоевском. Так, здесь,
как и у Белого в «Петербурге», появляется «скрещенное» имя
Ипполит Мышкин, а намечаемая коллизия «Лолиты» характери­
зуется как «сюжет» из Достоевского. Сам Достоевский явно про­
тивопоставлен по своему «дару» Чернышевскому как «сердцу
черноты»: к последнему бежит Федор Михайлович в «Духов
день», умоляя «приостановить все это» [3, 239, 242]—то, что
затем превратится в «треугольник» с тремя вершинами Ч, К, П,
и символическими для России сторонами-сокращениями ЧК,
КП и гипотенузой ЧП.
Сам же роман «Дар» Набокова представляет собой такую же
матрешечную структуру (С. Давыдов), как и поздний роман
«Смотри на арлекинов»: это целая система стихотворных и про­
заических мета- и автометаописаний внутри целостной структуры
романа, которая превращает эту структуру в круг «текстов о тек­
стах». Причем эти «тексты в тексте» образуют как горизонталь­
ные, так и вертикальные ряды, в итоге свертываясь в «кольцо»
(см. 2.6).
«The Dare»
«Дар»
«Подвиг»
Рис.7
Межъязыковая автоинтертскстуальность
Еще один уникальный «текст в тексте» и «текст о тексте»
представляет собой комментарий Набокова к «Евгению Онегину»
Пушкина (1966). В статье «Онегин на чужбине» К. Чуковский
[1988, 254] замечает (правда, критически), что «в своих коммен­
тариях к Пушкину Набоков видит комментарий к себе самому,
что для него это род автобиографии, литературного автопортре­
та», «одно из средств самовыражения, самораскрытия»; Набоков
«стремится запечатлеть в них свое «я», свою личность с той же
отчетливостью, с какой он запечатлевает ее в своих стихах й ро­
манах». Писатель придает своей работе столь личный характер,
что даже, наряду с собственно лингвострановедческим коммен­
тарием, рассказывает, как сам дрался на дуэли, а также о двою­
родных братьях бабушки и т. п. Видимо, Пушкин и его творчест­
во всю жизнь были для Набокова определенным «образцом»,
который позволял ему работать над «очищением» негармониче­
ского начала своего стиля. В то же время трагическая смерть
отца, В. Д. Набокова, который погиб от пистолетного выстрела,
впрямую связалась у сына-писателя со смертью Пушкина. И как
смерть Грибоедова инициирует у Пушкина написание «Путеше­
ствия в Арзрум», так и смерть реального и воображаемого отца
Годунова-Чердынцева заставляет Набокова в лице Федора писать
свою «прозу», в которой Пушкин выступает как бы в роли отца:
А как звала, как подсказывала строка о Тереке <...>. Так он
вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона —и уже
знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две
после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что
замыслить ему помог прозрачный ритм «Арзрума» [3, 87]. Так,
в записках об отце автора-героя Федора Годунова-Чердынцева «с
голосом Пушкина сливался голос отца», а его фамилия Годунов
и имя Федор героя вызывают в памяти другого «отца» — Бориса
Годунова. Подобное же пушкинское «отеческое начало» вычитывается, правда, совсем по-другому, затем в «ДЖ», начало же ему
положено в «Теме с вариациями» самого Пастернака (см. 2.2).
В связи же с параллелью Пастернак — Набоков интересно то,
что строка о Тереке также вызывала у Пастернака вариации, но
уже на темы Лермонтова. Как мы помним, стихотворение «Де­
вочка» «СМЖ» имеет эпиграф из Лермонтова (Ночевала тучка
золотая/На груди утеса великана), в повести же «Детство Лю­
верс» (1918) девочка читает книгу: На этот раз был Лермонтов.
<...> Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на
спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать
сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли
все совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака
из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже
встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке
[4, 54—55]. Границы между Лермонтовым, Демоном, Тереком
и домом и садом в повести такие же зыбкие, как и в книге стихов
«СМЖ», где в саду стихотворения «Зеркало» книгу читает Тень.
Поэтому золотые облака из южных стран из только что прочитан­
ной книги Лермонтова («Демона») сразу попадают в сад, где
ночевала тучка золотая из эпиграфа «Девочки».
Все это происходит потому, что «литература уравнивает между
собой акт непосредственного восприятия и акт воспоминания»
[Смирнов 1987, 24]. По мнению Смирнова, «воспоминание уста­
навливает субъектно-субъектные (S-S) отношения», тогда как
«восприятие соотносит субъекта с объектом (S-О)» [там же].
«Литература, следовательно, нейтрализует границу между S-S
и S-О связями» [там же]. В результате такой нейтрализации
и образуются ситуативные метатропы, которые при порождении
текста сополагают различные реально бывшие и возможные си­
туации в едином релевантном для данного текста денотативном
пространстве.
На скрещении своих и чужих текстов порождается «интертек­
стуальный субъект», и процесс генерирования смысла идет в на­
правлении от интерсубъективности («Я другой», или «Я другая»
у Пастернака) к интертекстуальности, что достигается благодаря
коммуникативным переходам Я-Он, на которых Набоков играет
в «Даре» (см. 2.6).
Интересно при этом, что интертекстуальное «Я» Набокова на
стадии «Дара» существует в мужском лице, когда как интертек­
стуальное «Я» Пастернака в «Детстве Люверс» было женского
рода. Эта коллизия потом будет перевернута Набоковым, когда
он напишет свою «Лолиту», которая, по мнению Вяч. Вс. Ивано­
ва [1998, 114], есть «Женя Люверс навыворот». При этом Иванов,
как и мы, считает, что любовь Набокова к бабочкам связана
с «комплексом» Девочки Пастернака (см. 1.3).
С точки зрения же автоинтертекстуальности оказывается важ­
ным то, что и для Пастернака, и для Набокова одинаково был
характерен период «Тем и вариаций» — это период наполнения
«чужого» слова и «чужой» модели «своим» содержанием и «сво­
его» слова «чужим» содержанием, иными словами, построение
конструкций «текст в тексте». Обоими художниками слова раз­
рабатывались новые «точки зрения» в рамках модели «текстметатекст», опробовались различные вариации композиций
«текст в тексте», и сама композиция становилась «темой» на
метатекстовом уровне.
Так, у Пастернака осознание себя в кругу других поэтов
принимает вид «сборного» интертекстуального образа . Извест­
но, например, что образ поэта Живаго в романе (сам Пастернак
,0
об этом неоднократно писал) спроецирован (кроме самого Пасте­
рнака) еще на трех поэтов-современников: Блока, Есенина
и Маяковского. Поэтому стихи Живаго несут в себе стилистиче­
ские, композиционные
и тематические элементы организации
текстов этих поэтов. Прежде всего ощущается близость ЖивагоПастернака с А. Блоком, его «вторым крещением». Именно по­
этому герой считает, что вместо статьи о Ьлокх « ш о написать
русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волка­
ми и темным еловым лесом». И следуя мироощущению Блока,
говоря «притчами из быта, поясняя истину светом повседнев­
ности», Пастернак пишет уже «своего, полевого Христа»
(А. Блок). В частности, сопоставление с Блоком позволяет объяс­
нить, почему в стихотворениях Живаго Магдалина «предсказы­
вать способна Вещим ясновиденьем сивилл». Так, в «Сиенском
соборе» Блока читаем: Скажи, где место венной нони?/Вот
здесь — Сивиллины уста/В безумном трепете пророчат/О воскре­
сении Христа. Не говоря уже о том, что цикл «Снежная маска»
и «Двенадцать» Блока оказали влияние на образную систему
поэма всей прозаической части романа Пастернака.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» спроецирован и на
всю литературно-христианскую образную традицию. Прежде все­
го цикл Пастернака соотносим с «Новыми стихотворениями»
(1907) и «Жизнью Марии» (1908) Р.-М. Рильке, ощущается пе­
рекличка и с «Магдалиной (1—3)» (1923) М. Цветаевой, об­
наруживается параллель с образами и интонациями произве­
дений С. Есенина: «Певущий зов» (1917), «Пришествие» (1917)
(посвящено А. Белому), «Преображение» (1917), «Сельский ча­
сослов» (1918) и другие.
Что касается стихотворения Цветаевой, то сюжетно-функциональная параллель Марины с Марией Магдалиной в «Докторе
Живаго» паронимически и метонимически возникает при соот­
несении с тремя «Магдалинами» «Марины», последняя из кото­
рых написана от имени Христа: В волосах своих мне яму вырой,/
Спеленай меня без льна. —/Мироносица! К чему мне миро?/ Ты меня
омыла/Как волна . В сцене смерти Живаго, таким образом,
оказывается важным, что его как бы оплакивают две «женщины»11
10
В «Даре» Набокова, наоборот, происходит «расщепление» образа поэта,
и в текст вводятся два вымышленных диалога между двумя поэтами: самим
Федором и Кончеевым (см. 2.6)
Эти «волны» воспроизводятся на бумаге, когда ранее Живаго хочет описать
Лару.
11
мироносицы (ср. по звуковой памяти слова: Мария Магдалина —
Лара —Марина —миро —мироносица). Но интересен тот факт, что
с женщиной с говорящим именем «Марина» 'морская' (см. [По­
ливанов 1994]) Живаго связывает его любовь к ее «чистому певу­
чему голосу большой высоты и силы» (как у поэта), а также
«воскресное водоношение» (С этого воскресного водоношения и за­
вязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему
помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась
больше в дворницкую. <...> Юрий Андреевич иногда в шутку говорил,
что их сближение было романом в двадцати ведрах (ср. в «Магда­
лине II» Пастернака «Обмываю миром из ведерка»), как бывают
романы в двадцати главах или двадцати письмах (ч. 15, гл. б ) .
Точно так же когда-то в Юрятине Живаго встретил Лару с ведра­
ми у колодца: Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову
у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах,
с коромыслом на левом плече (ч. 9, гл. 13).
Данная многомерная система межтекстовых отношений пока­
зывает, что интертекстуальные связи выстраивают в романе кру­
ги, в том числе и типологические: реминисценция — воспомина­
ние о событиях из реальной жизни —оборачивается аллюзией,
отношением между текстами.
12
Автоинтертекстуальность, интермедиальность
и мифологическое мышление
Относительность границы между миром и текстом, а также
между самими текстами и способами их представления ставит
вопрос о том, как связана автоинтертекстуальность с интермедиальностью и как глубоко уходит эта связь (конечно, мы сможем
рассмотреть лишь некоторые аспекты этой проблемы).
А именно, мы хотим поговорить о визуальной памяти Пастер­
нака-сына, который в своем поэтическом творчестве унаследовал
многие композиционные и концептуальные установки художни­
ка Л. О. Пастернака. В связи с «СМЖ» и открывающим ее стихо­
творением «Памяти Демона» интересно замечание Пастернакаотца в его воспоминаниях [1975, 65]: «Добрые демоны —помоему, обыкновенные и необходимые спутники творчества. У ху­
дожника-живописца они глядят через глаза его на внешний мир,
на природу, на красоту форм и красок, разлитую в созданиях
12
Ср. эпистолярный роман Б. Пастернака и М. Цветаевой.
13
божьих, начиная с крохотного цветка» . Эти демоны, по мнению
художника, не унимаются, пока он сам —художник не создаст
произведения искусства.
Влияние отца на сына Ди Симпличио видит и в том, что
давние детские игры в «выставки» выработали в сознании Па­
стернака-поэта композиционный принцип построения из отдель­
ных соположенных картин, которые, однако, никак не связаны
логикой здравого смысла [Ди Симпличио 1989, 206]. Творческий
метод отца-художника отразится, как в зеркале, и в словесных
рисунках сына, у которого «настоящий образец платья, костюма,
какая-нибудь цветная тряпка <...> могут вызвать неожиданное
сопоставление красок, стать исходной точкой живой и убеди­
тельной композиции» [Л. Пастернак 1975, 174].
В этом отношении показательны книги «Сестра моя —жизнь»
и «Темы и вариации» Пастернака, в которых метод живописного
импрессионизма, сочетаясь с техникой кубизма, воспроизводит,
как ни странно, наиболее архаичные рисунки и рукодельные
«образцы». И в этом Пастернак оказывается не одинок.
Так, например, сад «СМЖ» имеет ситуативную реализацию,
которая связывает миф и узоры вышивки, с которыми не мог
быть не знаком Пастернак. Эта реализация дает зрительную
расшифровку девочки-ветки
и веток кудрявого девичника
в «СМЖ», а также курчавых всадников, которые бьются в курчавом
порядке в саду у Мандельштама в стихотворении «Золотистого
меда струя из бутылки текла...», написанном в том же 1917 году
(Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,/Где курчавые
всадники бьются в кудрявом порядке...).
14
13
«Цветок» стоит в центре мира и поэта Пастернака, и человек с говорящей
фамилией Цветков (аналог «растительной» фамилии и заместитель «Я» Пастерна­
ка) станет главным переживанием Девочки из повести «Детство Люверс». Цвет­
ков, подобно «цветку», погибает с наступлением зимы, тем самым обнажая
определенные природные циклы в созревании Девочки. В этом смысле становит­
ся референциально двойственным понятие «завязывающейся души» Девочки:
«завязи» новых дум образуются в «саду души» самого Пастернака, а Цветков
становится своеобразной композиционной метонимией этого «сада». Интересно,
что в статье Е. Глазов [Glazov 1991] при этом манифестируется и параллель
Цветков — Лермонтов; таким образом именно Лермонтов связывается самим Па­
стернаком с природным голосом поэзии. Ср. в «Демоне» Лермонтова: И блеск,
и жизнь, и шум листов,/Стозвучный говор голосов,/Дыханье тысячи растений!
«Память зрения» Мандельштама в этом стихотворении, видимо, восстанав­
ливает гравюры, «немного на античный лад», на книгах в книжном шкафу его
отца, о которых сам поэт вспоминает в «Шуме времени» [2, 14 — 15]: «женщины
с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник,
всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти».
14
Известно, что в древности глагол «писать» означал не только
«писать текст, икону, фреску», но и «вышивать цветными нитка­
ми на белом полотняном фоне» [Рыбаков 1981, 37]. Мотивацию
такого видения ситуации, основанного на имплицитной игре на
разных смыслах глагола «писать» , а также на параллелизации
женского рукоделия и поэтического творчества, дают многие
тексты Пастернака, начиная с «Полярной швеи» и кончая «Сти­
хотворениями Юрия Живаго», где сополагаются процессы чте­
ния-письма и вышивания: Я с книгою, ты с вышиваньем. В стихо­
творении же «Ночь» последней книги «Когда разгуляется» («КР»)
уподобленный летчику художник должен исчезнуть в ночном
небе, Став крестиком на ткани/И меткой на белье. В «СМЖ»
образование словесной ткани также уподоблено процессам вы­
шивания, плетения кружев (Мнет ветку в окне, как кружевце),
ткания (Обоим память оботкав), росписи на посуде (Он вашу
сестру, как вакханку с амфор...).
В саду «СМЖ» веток кудрявый девичник сначала рифмуется
с черными вишнями («Мухи мучкапской чайной»), которые глядят
на «девичник» из глазниц и из мисок, а далее в стихотворении
«Как усыпительна жизнь!..» вишни по паронимической аттракции
соотносятся с вышиваньем ангела на измученной сорочке. Далее
Девочка становится Еленой (ср. ангел— (г)Елена), которой ад­
ресует поэт свое произведение. Как мы писали, это и реальная
Елена (Виноград ), и мифологическая царица Спарты, похищен­
ная Парисом. Таким образом, две паронимические аттракции
создают системы анаграммирования имен лирических героев
книги: первая далее обнаруживается в обращениях «Разрыва»
«Тем и вариаций» (О ангел залгавшийся), вторая соотносит царицу
15
16
15
Параллель «писания» картины и «писания» текста у Пастернака подтвер­
ждают следующие фрагменты текста «ДЖ»: Юрий вместо статьи о Блоке решает,
что ему «надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом,
волками и темным еловым лесом» [3, 82] (видимо, под «русским поклонением
волхвов» Пастернак понимал фреску «Волхвы» Дионисия). Затем, когда «волки»
окружают его дом в Варыкино, Живаго начинает писать: ср. Свет лампы спокойной
желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым плавал на поверхности
чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич
<...> посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной
вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередава­
ема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату
и принялся за писание (ч. 14, гл. 8). Заметим, вслед за Е. Фарыно [1992, 41), что
именно «клеевые белила» из «муки» используются для написания икон.
Об игре «растительных» фамилий у Пастернака, прежде всего Е. Виноград,
см. [Жолковский 1997).
16
Спарты и потенциально Париса с Борисом Пастернаком, причем
еще одна криптограмма фамилии Пастернак соотносит поэта
с растением, травой, которая «ползает» в ногах у Елены (И
ползала, как пасынок,/Трава в ногах у ней) в стихотворении «Обра­
зец». В этом же стихотворении с таинственным названием «Обра­
зец» (его расшифровку находим только в стихотворениях Живаго
и романе «ДЖ» ) словесные узоры Пастернака появляются на
«холсте» и «плетне»: ср. Сушился холст. Бросается/Еще сейчас
к груди/ Плетень в ночной красавице,/Хоть год и позади. Здесь
плетень и ночная красавица имеют «расщепленную референцию»:
плетень — 1) 'изгородь из веток'; 2) 'кружевной узор';
ночная красавица—1) 'растение, фиалка'; 2) 'Девочка, Еле­
на'.
Синкретизм последнего наименования обнаруживается путем
актуализации расщепления на два референта в книге «Второе
рождение», где красавица и ночная фиалка оказываются в двух
разных, но следующих друг за другом стихотворениях «Красавица
моя, вся стать...» и «Кругом семенящейся ватой...» (А в комнате
пахнет, как ночью/Болотной фиалкой <...> Ты стала настолько
мне жизнью) (см. [Цветаева 1986, 463J) .
При этом мифологическая Елена уже по имени связана со
«светом» (гр. helenos «свет») и, будучи рукодельницей, вся нахо­
дится в окружении золотых нитей.
Рассматривая «СМЖ» как сплетение нитей различных мифо­
логий—языческой, славянской, древнегреческой и других древ­
них культур, —можно найти мотивацию многих референциальных и концептуальных переносов в ситуации «сада» Пастернака,
которые образуются на пересечении разных зрительно-изобрази­
тельных и словесно-изобразительных картин-ситуаций. Миф
и вышивка, образуя наложение «памяти зрения» и «памяти смыс­
ла», создают у Пастернака центральную огромную обожествля­
емую женскую фигуру, которая служит олицетворением Жизни.
17
18
17
Именно в «Стихотворениях Юрия Живаго» раскрывается «образчик»
«СМЖ», когда в стихотворении «Разлука» лирический герой Укладывает в ящик/
Раскиданные лоскуты / И выкройки образчик./И, наколовшись о шитье/С невынутой
иголкой,/ Внезапно видит всю ее/И плачет втихомолку.
В романе «ДЖ» ночная красавица, появившаяся на плетне вместе с мальвами
в «Образце» «СМЖ», в образе Лары становится дочерью швеи и вышивальщицей
{Я с книгою, ты с вышиваньем): в душную ночь лета 1917 года, когда Лара и Живаго
обнаруживают свои чувства, «ночная красавица» вновь появляется на «плетне»....
к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах
свежего сена (3, 140).
11
У древних славян это Роженица или Мокошь, которая на вышив­
ках вплетена в различные виды растений, а ее «кисти рук превра­
щены в ветки» [Рыбаков 1981, 475]. Ср. Девочку-ветку Пастерна­
ка: Огромная, близкая, с каплей смарагда/На коннике кисти пря­
мой. Такие же «росписи» можно встретить и на посуде (ср.
Л глыбастые цветы/На часах и на посуде?). Зрительная «огром­
ность» женщины, введенная в поэтику Пастернака, далее стано­
вится концептуальной, и поэтому в «Охранной грамоте» водная
мостовая Венеции становится так же «по-женски огромна, как
огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом,
занимаемым телом в пространстве» [4, 200]. На древних вы­
шивках эта «огромная фигура» часто сопровождалась двумя срос­
шимися «конями» или «птицами», образующими «ладью» и слу­
жащими выражением идеи движения солнца, нередко это жен­
ское божество «писалось» в окружении двух всадников [Рыбаков
1981, 475].
Само же женское божество служило в древности олицетворе­
нием «воскресного дня» и «света», которые у Пастернака об­
наруживаются в «полдень мира» на «Воробьевых горах»: Дальше —
воскресенье. Ветки отрывая,/Разбежится просек, по траве скользя.
В главе «Глубина памяти» Б. А. Рыбаков [1981] воспроизводит
древние представления о «свете» и «воскресении» по «Слову
о твари...», где объясняется, что этот божественный свет «воскре­
сения», получивший название «весь белый свет», Творец создал
ранее солнца, так как «солнце» лишь субъект «света». Там же
упоминается о поклонении олицетворению воскресного дня в об­
разе женщины [там же, 36—37]. В «СМЖ» СВЕТ анаграммирован в Сиреневой ВЕТви, а Девочка как символ «белого света»
оказывается в центре книги «СМЖ» Пастернака: За то тебя
любил,/Что пожелтелый белый свет/С тобой —белей белил. <...>
Но на весь одной тобой/Немутимо белый свет. Этот «свет» на мир,
на ситцы пролит с облаков и в стихотворении «Воробьевы горы».
Этот «свет» соединяет и произведения отца и сына Пастернака,
которые в своих живописных и словесных рисунках воспроиз­
водят «образец того величайшего художника, который стоит за
красотой божьего мира» [Л. Пастернак 1975, 102].
Если мы теперь возвратимся к стихотворению Мандельштама,
где «вышивает» не Елена —другая, то там всадники оказываются
звуковым переплетением слов сад и виноград. Тут славянская
и греческая мифология также параллелизированы, как и во мно­
гих других текстах авангарда. У Мандельштама как бы реально
в «ветвях» его текста встречаются смыслы-образы Елена и всад­
ники, которые в стихотворении «Заместительница» «СМЖ»
позволяют Пастернаку ассоциировать Девочку-Елену со скаку­
ном. Напомним, что сама древнегреческая героиня как раз была
похищена во время танца, в котором мы застаем «заместитель­
ницу» «СМЖ»:
Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.
Лишь вышивки и рисунки на посуде позволяют дешифровать
и многие тексты следующей книги Пастернака «Темы и ва­
риации», большая часть которых ранее предназначалась для
книги «СМЖ», первоначально задуманной под названием «Не­
скучный сад» (оно впоследствии стало заглавием раздела).
В «Нескучном саду» как раз идет речь О вакханалиях изнанки/
Нескучного любой души./Он тоже— сад. Так через древнегре­
ческого бога виноделия Вакха реально происходит высвобож­
дение той мифологии, которая тянет поэта К дикой, терпкой
божьей гуще («Мухи мучкапской чайной»). Только впоследствии
христианство Пастернака постепенно освободится от языческого
начала первых книг, и свет и ветвь станут полностью биб­
лейскими.
Вышивки позволяют дешифровать и ситуацию зимнего сада
в «Болезни» книги «Темы и вариации», и взаимные мужскиеженские переходы и слияния формы у Пастернака, в которых
«хаос веков не спилен». Именно на вышивках громадная женская
фигура изображалась с ветвистыми рогами «лося-оленя», кото­
рый в «Болезни» оказывается среди «сада рогатого»: Тогда-то
я/Дикий, скользящий, растущий/Встал среди сада рогатого <...>.
Был он, как лось. До колен ему/Снег доходил, и сквозь ветви/
Виделась взору оленьему/На полночь легшая четверть. В «СМЖ»
этот образ «лося» связан с солнцем: Этот диск одичалый, рога
истесав,/Об ограды, бодаясь, крушил палисад. Ср. также описание
«сада» в «Детстве Люверс»: Кустов в чужом саду не было, и вековые
дерева, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние
сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке,
воздушном и торжественном <...>. Сохатые, лиловые в грозу, по­
крытые седым лишаем, они позволяй хорошо видеть [4, 5 5 ] (об
«оленьем мотиве» см. также [Жолковский 1994]).
В цикле «Разрыв», начинающемся стихотворением «О ангел
залгавшийся, сразу бы, сразу б...», в части «Заплети этот ливень,
как волны холодных локтей...» зрительно как бы воспроизводится
рисунок на посуде трипольской расписной культуры, где в «дож­
де» сливаются женская и мужская фигуры и контаминированы
образы оленя и коня: ср. «У оленей ветвистые рога, передние
ноги, а их туловища обозначены широкой полосой, как обычно
трипольские художники изображали дождевые полосы. Эти дож­
девые олени как бы мчатся по небосводу в каком-то
вихре; под ногами их —земля, но сами они летят над землей»
[Рыбаков 1981, 52]. Эти небесные олени в виде двух дожде­
вых полос и были символами небесной влаги, дождя, которые
в беге и погоне любви обрушились на «Плачущий сад» «СМЖ»
«лиловыми топями угасших язычеств». Как напишет затем Па­
стернак в романе «ДЖ», «искусство первобытное, египетское,
греческое, наше, это, наверное, на протяжении многих тыся­
челетий одно и то же в единственном числе остающееся ис­
кусство» [3, 279].
Таким образом, на уровне ситуативных метатропов и, соот­
ветственно, эпизодической и семантической памяти намечаются
пути нейтрализации между миром, мифом и языком их чтенияописания, которые закрепляются другими типами семантиче­
ских схождений. Но уже на уровне ситуативных метатропов
микрокосм «сада», благодаря мифологизации, разрастается до
макрокосма вселенной. Все «части», компоненты «сада» превра­
щаются в единый мир, соединяющий землю и небо (Гроза,
как жрец, сожгла сирень/И дымом жертвенным
застлала/Глаза
и тучи. Расправляй/Губами
вывих муравья), человека, расте­
ния и все живое, даже такое маленькое, как муравей и комар
в траве «Нашей грозы». Далее мир «СМЖ» выходит за пределы
собственно «сада» в «Степь» (как до грехопаденья), рощи и разрас­
тается до Млечного пути. И тут, в «Степи», Комары и Мураши
становятся тоже «огромными», с большой буквы, и звезды
сливаются с травами (Когда еще звезды так низко росли), а мир
молодого Пастернака сливается в развитии с самим путем
мирозданья.
Может возникнуть вопрос, в какой мере Пастернак создает
свои ситуативные и композиционные метатропы, а в какой
пользуется мифопоэтическими ситуациями и «забытыми к у л ь ­
турными кодами»? Подобный же вопрос задает Е. Фарыно
[19896, 51] по отношению ко всем авторам авангарда: «почему,
собственно, код авангардистов обнаруживает такие сильные
сходства как в рамках парадигмы авангарда (независимо от
резких индивидуальных различий), так и по отношению к древ­
ним мифопоэтическим системам?» Сама статья «Дешифровка»,
видимо, содержит ответ на вопрос ее автора. Фарыно помещает
в ней большую выдержку из статьи Ю. М. Лотмана «О семиосфере» (1984), которая, разрешая на семиотическом уровне
антиномию «свой-чужой», говорит о том, что «любой обломок
семиотической структуры <...> сохраняет механизмы рекон­
струкции всей системы» (цит. по [Фарыно 19896, 13)). Це­
лостность исходной мифопоэтической системы и ее подача
«в кусках» «вызывает ускоренный процесс воспоминания —ре­
конструкцию семиотического целого по его части. Эта рекон­
струкция утраченного уже языка, в системе которого данный
текст приобрел бы осмысленность, всегда практически оказы­
вается созданием нового языка, а не воссозданием старого»
[там же]. Поэтому Лотман делает вывод, что процесс создания
новых кодов часто, по сути, строится как «припоминание»
старых.
«За» автоинтертекстуальность
Подобным же образом, на наш взгляд, происходит развитие
идиостиля. Память, сохраняя «надвременное единство» и тож­
дественность «Я» [Флоренский 1914, 202], в то же время позволя­
ет видеть себя в прошлом как бы со стороны. Такую же возмож­
ность создает и художественный текст, обладающий «поэтиче­
ской памятью» и интертекстуальным «лирическим субъектом».
Следовательно, результатом автокоммуникации и художнической
рефлексии становится порождение сферы метасемантики, в кото­
рой стирается грань между языком-объектом и метаязыком. Точ­
нее, «метасемантика» создает такой язык, на котором художест­
венный мир повествует о своем генезисе. Об этом пишет Пастер­
нак в «Охранной грамоте»: «Самое ясное, запоминающееся
и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произ­
ведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле
рассказывают о своем рожденьи» [4, 186]. Такое положение ве­
щей «позволяет думать, что идиостиль есть особый модус линг­
вистического конструирования миров, некоторая функция, кото­
рая соотносит принимающий разные состояния язык с соответст-
вующим определенному состоянию языка возможным миром»
[Золян 1989, 251].
XX век вывел на поверхность метатекстовый характер ли­
тературы. Выражением этого явилось то, что многие герои
в романах XX века —alter ego их автора (функциональное со­
ответствие Другие поэты — Я — Мой двойник™) писатели и поэты
размышляют над процессом создания самого текста произве­
дения, т. е. над текстом их непосредственного автора. Эта реф­
лексия—«быть другим, оставаясь собой» —находит отражение
в композиции произведения: порождается текст в тексте, стихи
в прозе, стихи в стихах, герой в герое, что позволяет проекцию
различных возможных миров друг на друга («Тема с вариа­
циями», «Повесть» и «ДЖ» Б. Пастернака; «Египетская марка»
О. Мандельштама; «Мастер и Маргарита» М. Булгакова; «Дар»
В. Набокова и др.). «Зодчество из слов» превращается в «зод­
чество из рассказов», как в «Зангези» В. Хлебникова, но при
этом каждое слово хранит в памяти свой рассказ . В этом
новом измерении первоначальная автокоммуникативная уста­
новка пытается найти объективацию во «взгляде со стороны»
(как бы другого «поэта» и, шире, «художника»), автор от первого
лица «лирического субъекта» пытается перейти к третьему лицу
повествования, однако этот коммуникативный переход редко
бывает стабильным. «Внутренняя речь» как бы стремится стать
«внешней» в своем формальном выражении, однако все еще
зависима от функции «Я» «лирического субъекта». Порождается
автометатекст, который стремится осмыслить свой претекст,
и генерируется автоинтертекст (ср. «СМЖ» и «Детство Люверс»
Пастернака; «Tristia», стихотворения 1921 —1925 гг. и «Египет­
ская марка» Мандельштама). В таких цепочках текстов выра­
батывается собственная система индивидуально-авторской па­
мяти слов.
20
21
" Так, Пастернак, работая над романом «ДЖ» неоднократно упоминал, что
Юрий Живаго «составляет некоторую равнодействующую» между им, Блоком,
Маяковским и Есениным, и стихи, которые рождаются одновременно с текстом
романа, он пишет в тетрадь этому «равнодействующему» поэту [5, 453, 460].
О типологических сближениях автора и героя у Пастернака и Булгакова см.
[Чудакова 1991], Булгакова и Мандельштама см. [Волгин 1992].
Н. Букс [1998, 143] считает, что форма «Дара» Набокова «явилась пародий­
ным откликом на разработку «суперформы» в русском авангарде, в частности,
«сверхповести» Хлебникова». Сами же поиски такой синкретической «суперфор­
мы» исследовательница связывает с периодом исследования русскими формалис­
тами поэтики жанров.
20
21
Таким образом, диалогизм или, шире, полифонизм становят­
ся основой развития идиостиля (и языковой личности) в литера­
туре авангарда, и как самоосознанное литературой явление начи­
нает восприниматься и в более ранних произведениях (ср. работы
М. М. Бахтина о Достоевском, статьи Б. Л. Пастернака о Шек­
спире, Ю. М. Лотмана о Шекспире и Достоевском). При этом
«полифонизм» не отрицает единства творческого сознания, ор­
ганизуемого метасознанием. Крайние формы «раздвоения созна­
ния» при едином «организующем центре самосознания» (А. Бе­
лый о А. Блоке) образуются в рамках взаимодействия взрослого
и детского сознания («Детство Люверс» Пастернака, «Котик Летаев» Белого), своего и чужого (ср. в «Египетской марке» Манде­
льштама: Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне
силы отличить себя от него [2, 74]), их пересечения (так, в «Даре»
Набокова незаметно осуществляется переход от «Он» к «Я» и от
«внешней речи» к «внутренней», и рецензия на свои стихи пре­
вращается в детские воспоминания, которые по своей внутренней
художественной форме есть вариации на темы Пастернака
(см. 2.6): Лежа в постели пластом среди синеватых слоев комнатных сумерек, я лелеял в себе невероятную ясность, как случается,
что между сумеречных туч длится дальняя полоса лучезарно-блед­
ного неба, и там видны мыс и мели Бог знает каких далеких
островов, — и кажется, что, если немножко отпустить вдаль свое
легкое око, различишь блестящую лодку <...>. Полагаю, что в эту
минуту я достиг высшего предела человеческого здоровья: мысль моя
омылась , окунувшись недавно в опасную, не по-земному чистую
черноту [3, 22]).
12
22
Исходными здесь можно считать строки «Темы с вариациями» Пастернака,
создающие в первой строфе третьей вариации горизонтальные ряды, рифмую­
щиеся между собой: МЧАЛИСЬ звезды. В море МЫЛИСЬ МЫСЫ./Слепла соль.
И слезы высыхали./Были темны спальни. МЧАЛИСЬ МЫСЛИ.
Эти строки ретроспективно отсылают по памяти рифмы и к «СМЖ»: Как
в неге ПРОЯСНЯЛАСЬ МЫСЛЬ?/Безукоризненно. Как стон./Как пеной, в полночь
с трех сторон/Внезапно ОЗАРЕННЫЙ МЫС.
Одновременно исходной точкой всей набоковской вариации является пере­
числительный ряд Пастернака в «Теме»: В осатаненьи льющееся пиво/С усов
обрывов, МЫСОВ, скал и кос,/МЕЛЕЙ и МИЛЬ. Здесь морская стихия служит
«кодом иносказания», который поэтически воспроизводит «осатаненье восстаю­
щего на себя ритма, одержимость приступом ускоряющегося однообразия, сти­
рающего разность слов и придающего несущейся интонации видимость и харак­
тер слова» (Пастернак — Цветаевой) [Переписка 1990, 364]. Поэтому мыс и мели
пастернаковского стихотворного текста в ходе развертывания текста набоковского
романа превращаются в прозаическую строку мысль моя омылась, имеющую все
свойства стихового ряда не только по форме, но и по способу семантического
Подобное же пересечение наблюдаем и в «Египетской марке»
Мандельштама, где «детская болезнь» автора и его героя по­
степенно становится «болезнью» всего «Петербургского» текста
русской литературы, истоки которого лежат в прозе Пушкина.
По мнению Д. Сегала [1983, 350—351], переход к прозе Ман­
дельштама связан с «личностной самореализацией автора»,
с «преодолением границ собственной личности во внетекстовом
плане». В силу этого автометаописание в повести становится
«парадигмой нового личностного поведения» ее автора. Иссле­
дователи творчества А. Ахматовой также отмечают, что различ­
ные перевоплощения «Я» дают возможность автору «быть со­
причастным всему и всем в разных временных и пространствен­
ных пластах» и отражают «потребность автора через акт
творческого усилия проникнуть в самые глубинные уровни бы­
тия» [Обухова 1991, 403].
Все три типа внутреннего диалога служат формой развития
языковой личности в координатах «сложность-простота». Внут­
ренний диалог служит основой «борений с самим собой» (ср.
«Художник» Пастернака), стремления выйти за рамки «Я» в «сво­
бодную стихию» творчества. Эти поиски свободы и наделяют
функцию «автора идиостиля» игровой природой. По Бахтину
[1972, 315], игровая диалогическая позиция возникает тогда, ко­
гда автор как-то отделяет себя от своего высказывания, говорит
«с внутренней оговоркой», «занимает дистанцию» по отношению
к своему высказыванию, при этом как бы «ограничивая» и «раз­
дваивая» свое авторство. При этом у разных художников слова
XX в. различно осознание ролевой, игровой природы «метафункционального» соотношения «Я
Другой». Общим является од­
но—минимальное «двоемирие» или «метатропность» мира язы­
ковой личности.
преобразования. Набоковская строка фиксирует звуковые и рифменные схожде­
ния (мыс (озаренный) —мысль) и создает новые, построенные на «ловленной
сочетаемости» (А. К. Жолковский), повторяющей пастернаковскую (мылись мы­
сы—мысль омылась). Эта сочетаемость переносит категорию возвратности дей­
ствия, осуществляемого одушевленным субъектом, в сферу неодушевленного, что
позволяет закрепить звукосемантический перенос СТИХИЯ—СТИХИ и референциальную обратимость стихий: МОРЕ— МЫСЛИ— СТИХИ, которая соединяет
поэтические миры Пушкина (ср. его обращение «К морю»: Прощай, свободная
стихия!), Пастернака (Два бога прощались до завтра,/Два моря менялись в лице:
Стихия свободной стихии/С свободной стихией стиха) и Набокова, последние
строки романа которого ритмико-синтаксически вновь обращают нас к Пушкину
(ср. Прощай же, море!): Прощай же, книга! <...> И не кончается строка.
1.5. ТИПОЛОГИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И МЕЖТЕКСТОВЫХ СВЯЗЕЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Только о сумасбродном и совершенно
беспорядочном художнике позволи­
тельно говорить, что все у него свое;
о настоящем — невозможно.
И. В. Гёте
Хотя об интертекстах написано немало, немногие из исследо­
вателей пытались предложить классификацию интертекстуаль­
ных элементов и связывающих их межтекстовых связей. Наи­
более последовательны две попытки систематизировать эти поня­
тия. Одна из них принадлежит П. X. Торопу [1981]. В статье
«Проблема интекста» он вслед за А. Поповичем [1976, 1977]
предлагает считать любой акт соотнесения текстовых элементов
метакоммуникацией. В ее процессе создаются метатексты — пер­
вичный текст выступает в качестве прототекста, на основе кото­
рого создан новый текст. Для интерпретации языкового выраже­
ния, связывающего данный текст (часть текста) с другим текстом
(частью текста), необходимо выявить его функцию в данном
тексте и фиксировать актуальную связь с исходным текстом, т. е.
определить его толкование при помощи исходного текста. «Текст,
представленный какой-либо своей частью в другом тексте, стано­
вится тем самым описывающим текстом, метатекстом» [Тороп
1981, 39]. В целях своей работы Тороп вводит понятие интекста —
семантически насыщенной части текста, смысл и функция кото­
рой определяется по крайней мере двойным описанием. При
классификации интекстов ученый принимает во внимание спо­
соб примыкания метатекста к прототексту (утвердительный или
полемический), уровень примыкания (явный или скрытый),
а также фрагментарность или целостность примыкающего текста.
Вторая, наиболее общая классификация принадлежит Ж. Женетту [Genette 1982]. В его книге «Палимпсесты: литература во
второй степени» предлагается пятичленная классификация раз­
ных типов взаимодействия текстов:
1) интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте
двух или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т. д.);
2) паратекстуальность как отношение текста к своему загла­
вию, послесловию, эпиграфу;
3) метатекстуальность как комментирующая и часто критиче­
ская ссылка на свой предтекст;
4) гипертекстуальность как осмеяние или пародирование од­
ним текстом другого;
5) архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов.
Однако обе классификации носят довольно общий характер
и не покрывают всевозможных комбинаций дифференциальных
признаков межтекстовых взаимодействий. Разумно предполо­
жить, что новая типологическая схема должна включать в себя
признаки, релевантные как для системы П. Торопа, так и для
системы Ж. Женетта, и охватывать ранее не выделенные принци­
пы систематизации. Поэтому в основе предлагаемой нами клас­
сификации лежат основные классы интертекстуальных отноше­
ний, отмеченные Женеттом, а принципы, предложенные Торопом (выделение способов и уровней примыкания), становятся
точкой отсчета для таких категорий, как атрибутированностьнеатрибутированность заимствованного текста или его части,
явный или скрытый характер атрибуции, способ и объем пред­
ставления исходного текста в тексте-реципиенте. Принимается во
внимание и предлагаемое И. П. Смирновым [1995, 20] разграни­
чение конструктивной и реконструктивной интертекстуальности.
Кроме того, опираясь на уже существующие классификации, мы
хотим описать особые случаи межтекстовых взаимодействий
как в рамках ранее существующих систем, так и за их пределами.
Предлагаем следующую дробную классификацию.
23
23
Наряду с терминами интертекст, интертекстуальность в научной литера­
туре для фиксации межтекстовых отношений часто используется понятие «под­
текст» (subtext), терминологизированное К. Тарановским [Taranovsky 1976, 1718]. На наш взгляд, термин «подтекст» в качестве наиболее общего для обозначе­
ния всех типов интертекстуальных взаимодействий (цитаты, аллюзии, реминис­
ценции, мотивы, общие для одного или двух текстов, однородные фабульные
элементы и т. п.) не совсем правомерен. Во-первых, он страдает некоторой
неоднозначностью, так как под «подтекстом» можно понимать широкую область
пресуппозиций и актуальный импликативный контекст действительности, кото­
рый помогает правильно расшифровать текстовое сообщение. Во-вторых, он не
позволяет дискретную типологию межтекстовых связей и связанных с ними
художественных функций.
I. СОБСТВЕННО ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, ОБРАЗУЮЩАЯ
КОНСТРУКЦИИ «ТЕКСТ В ТЕКСТЕ»
1.1. Цитаты
Назовем цитатой воспроизведение двух и более компонентов
текста-донора с собственной предикацией. Цитата активно
нацелена на «выпуклую радость узнаванья», однако эта заданность может быть как эксплицитной, так и имплицитной.
Поэтому цитаты можно типологизировать по степени их
атрибутированности к исходному тексту, а именно по тому,
оказывается ли интертекстуальная связь выявленным фактором
авторского построения и читательского восприятия текста
или нет.
1.1.1. Цитаты с атрибуцией
Наиболее чистой формой такой цитации можно считать цита­
ты с точной атрибуцией и тождественным воспроизведением
образца. Это, например, строки С. Парнок, где однозначно ука­
зан автор воспроизведенных строк, а сам текст-донор заключен
в кавычки:
В земле бесплодной не взойти зерну,
Но кто не верил нуду в нас жестокий?—
Что возвестят мне Пушкинские строки?
Страницы милые я разверну.
Опять, опять «Ненастный день потух»,
Оборванный пронзительным «но если»!
Не вся ль душа моя, мой мир не весь ли
В словах теперь трепещет двух?
Второй тип представлен цитатами с точной атрибуцией, но
нетождественным воспроизведением образца. Так, строки А. Ах­
матовой
Стала б я богане всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный.
точно воспроизводят источник заимствования — поэзия М. Кузмина, но в самом тексте Ахматовой происходит сокращение
исходного текста, изменение порядка слов и категории рода
действующего лица. Ср. в оригинале Кузмина:
Если б я был ловким вором,/обокрал бы я гробницу Менкаура,/
<...>/накупил бы земель и мельниц,/и стал бы богаче всех живущих
в Египте («Если б я был древним полководцем...»).
Следующий тип цитат представляют атрибутированные пе­
реводные цитаты. Нужно отметить, что цитата в переводе
никогда не может быть буквальным повтором оригинального
текста. Подтверждение этому находим также у М. Кузмина,
где цитата-ссылка на Верлена (ср. первую строку его стихо­
творения «Лунный свет»: Votre ame est un paysage choisi...
(«Clair de lune»)) помещена в тексте как раз с целью апел­
лирования к авторитету:
Я не говорю, что эта страна — ваша душа
(еще Верлен сравнивал душу с пейзажем) —...
Переводные цитаты могут раскрываться ссылкой автора в тек­
сте примечаний или комментария, таким образом из собственно
текста они переводятся в ранг метатекста. Так, Пушкин свои
строки из «Евгения Онегина» Привычка свыше нам дана/Замена
счастию она соотносит с французским текстом Шатобриана: Si
j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans
Thabitude. Мотивацию введения переводных строк из Шатобри­
ана можно найти в тексте «Евгения Онегина», где сам Пушкин
в «соавторстве» с поэтом-романтиком Ленским дает несколько
заниженную характеристику французскому романтику: Он иногда
читает Оле/Нравоучительный роман,/В котором автор знает бо­
ле/Природу, чем Шатобриан...
Иногда слово «перевод» специально вводится автором для
подчеркивания того, что русский герой живет в иноязычной
среде; это явление особенно характерно для В. Набокова. В по­
вести «Подвиг» находим: Мартыну такие разговоры [о револю­
ции] претили; небрежно взяв со стола том Пушкина, он начинал
переводить вслух стихи: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса» [2, 193]. Воспоминания, которые наве­
ваются русским автором, как бы заменяют вдали от Родины свои
собственные (в данном случае о Ялте): Мартын начал читать,
выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечесть сто раз
подряд, — «Дама с собачкой». Ах, как она хорошо потеряла лорнетку
в толпе, на ялтинском молу! [2, 217]. В последнем случае мы
имеем дело с цитацией заглавия, что составляет особый пример
паратекстуальной цитации (см. ниже).
24
24
Пушкинские примечания-комментарии вообще часто содержат в себе
интертекстуальные ссылки, функция которых состоит в установлении отношения
контраста с предшественником. Роль их — обозначить общий круг чтения с чита­
телем, установить взаимный контакт, а также создать «хотя бы два различных
высказывания об одном и том же». См. [Лотман 1970].
Возможны также цитаты, атрибуция которых напоминает за­
гадку и предполагает звуковую расшифровку. Классический при­
мер находим у А. Вознесенского в стихотворении с говорящим
заглавием «Догадка»:
Ну почему он столько раз про ос,
сосущих ось земную , произносит ?
Он, не осознавая произнес:
«Ося...».
Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул на тыщу лет назад:
«Ох, Осип...».
25
Знаменательно, что в прозе и поэзии Вознесенский обраща­
ется к одному и тому же интертексту. Так, в эссе «О» в строках
о поэзии Мандельштама огласовка на -ос-/-со- со звонким ва­
риантом -03-, заданная поэтическим вертикальным контекстом,
сохраняется: Меня мучают осы из классических сот исчезнувшего
поэта: «Вооруженный зреньем узких ос...», «осы заползают в розу
в кабине «ролс-ройса», «...осы тяжелую розу сосут...», осы, в которых просвечивает имя поэта. Особенно много ос этой осенью. Имена
проступают, порой неосознанно, сквозь произведения.
Следовательно, интертекстуальность нейтрализует границу
между формальным выражением текстов по оси «стих-проза»,
и любой художественный текст обнаруживает стремление стать
«текстом в тексте» или «текстом о тексте», т. е. рождается на
основе творческого синтеза элементов предшествующих текстов,
как «своих», так и «чужих».
Цитатам с точной атрибуцией противостоят цитаты с рас­
ширенной атрибуцией: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть
означает душу, которая будет любить изящные искусства» (Из
дневников М. Лермонтова). Здесь слова Байрона приобретают
статус общечеловеческих, а сам «метатекстовый оператор»
(А. Вежбицка), вводящий текст, — расширительное значение.
25
Образ «земной оси», через который просвечивает имя поэта, заимствован
самим Мандельштамом у Брюсова и Блока. «Земная ось» — это название сборника
прозы Брюсова 1907 года, Блок же в одном из своих эссе соединяет понятия «оси
земной», сердца поэта и его слуха и зрения: «...художник-дьявол, которому
творческая интуиция дает осязать самое страшное невещественное орудие —ось
земную, и провидит самое темное сердце, которое она пронзает, тот центр, где
в гудящем огне — математическое разрешение всех земных теорем, гармония всех
чисел, сбегающих сюда по радиусам, —такой художник обладает безумно развитым
слухом и зрением» [Блок 1962, 638).
Расширению часто сопутствует неопределенность атрибуции: так,
у Е. Баратынского знаменитая фраза французского философа
Декарта «Мыслю, следовательно, существую / Cogito ergo sum»
присваивается некоему «чудаку»:
Меж мудрецами был чудак:
•Я мыслю, — пишет он, — итак,
Я, несомненно, существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь, — я пойму
Скорее истину такую.
Слово «чудак», видимо, можно считать активным оператором
создания «неопределенности атрибуции», потому что подобный
же пример, в котором за кадром стоит имя Ф. Достоевского,
находим в конце нашего столетия у Т. Толстой: «Один чудак
сказал, что красота, безусловно, спасет мир, заставив все живое
соединяться и размножаться» («90—60—90»). Такой же силой
обладает и слово «один», когда выступает в роли неопределенного
местоимения, например, в стихотворении Б. Кенжеева «Давай за
радость узнаванья, как завещал один поэт...» (1992), где «выпуклая
радость узнаванья» строки Мандельштама заменяется неопреде­
ленной атрибуцией «поэта» вообще.
Введение текста цитаты в новый текст часто вызывает замену
лица, числа или рода. Так происходит и в стихотворении «На
смерть Бориса Пастернака» Л. Губанова, где осуществляется ком­
муникативная замена «Я» —«Ты», а атрибуция задается заглави­
ем: Твои стихи бегом, бегом (у Пастернака: Стихи мои, бегом,
бегом...) ватагой мокрою и шумной...
Иногда цитацией создается псевдобиографическая основа
произведения. Так, в романе Ю. Тынянова «Пушкин» читаем:
«Теперь каждое утро Пушкин просыпался с этой целью: он
должен был быть уверен, что вечером будет видеть ее» (ср.
в «Евгении Онегине»: Я утром должен быть уверен,/ Что с Вами
днем увижусь я) .
Псевдобиографическая основа цитации может задаваться и сти­
хами другого поэта-современника. Так, близость Вяземского и Пуш­
кина как поэтов первой половины XIX века подчеркивает поэт
А. Кушнер в своем стихотворении под названием «Вместо статьи
о Вяземском». Поэт второй половины XX века переиначивает
гь
26
Эти же строки Пушкина специально утрируются в стихотворении «Юби­
лейное» Маяковского: я люблю вас,/будьте обязательно моя,/я сейчас же/утром
должен быть уверен,/что с вами днем увижусь я.
пушкинскую переводную цитату с атрибуцией — Иных уж нет,
а те далече,/Как Сади некогда сказал (см. [Золян 1989а]):
Друзья уснули, он осиротел:
Те умерли вдали, а те погибли.
Бывает, что слова одного поэта, сказанные о другом, также
становятся «биографическими». Например, в «Воспоминаниях
о Блоке» Е. Замятина (опубл. 1988) читаем: «Блок метался: не
хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили:
больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается».
В воспоминаниях Замятина почти буквально повторяется цитата
из речи Блока о Пушкине («О назначении поэта»): поэта убивает
«отсутствие воздуха», поэт умирает, когда «дышать ему уже не­
чем». Так слова Блока воплотились в его реальную жизнь, а затем
в «воспоминания» о нем, и сама «цитата-жизнь» создала легенду.
1.1.2. Цитаты без атрибуции
Большинство цитат, которые мы встречаем в художественных
текстах, не атрибутированы. Наипростейшим способом закоди­
ровать цитату в этом случае оказывается присоединить оператор
«не» к хорошо известным цитатам из школьной программы,
например, из Лермонтова: В доме ужинали. На ужин была ни рыба,
ни мясо. Не выхожу не один не на дорогу, невпереди нетуманный
путь не блестит, ночь не тиха, душа не внемлет богу: и незвезда
с незвездой не говорит (В. Нарбикова). Органичность перехода
задается двойным повторением отрицания в общеязыковом фра­
зеологическом обороте.
Другой сильный оператор межтекстовой связи, построенной
на принципе контраста, —противительный союз «но». Так, ана­
лизируя реинтерпретацию пушкинского стихотворения «Я Вас
любил...» у Бродского, А. К. Жолковский [1994, 208] отмечает,
что Бродский усиливает уступительные оговорки Пушкина (быть
может, не совсем), вводя в свой текст конструкции с отрицатель­
ными частицами «не» и противительным союзом «но» и ставя их
в ключевые позиции текста. Ср. Я вас любил так сильно, безнадеж­
но,/как дай вам Бог другими— но не даст! «Противительность»
у Бродского также усиливается тем, что его признание обращено
к статуе.
И как бы суммируя опыт своих предшественников, Ю. Арабов
в стихотворении «В городе Н.» отмечает: Что там Гертруда,
Гекуба/и прочая мутотень./Были вдвоем [гражданин Н и граж­
данка О. — Я. Ф.\ и составили слово/ «Но» (В переводе с родного на
наш/означает, к несчастью, «Нет»).
Вторичность суждений с «не» и «но» не раз отмечалась
и лингвистами, и логиками. «С психологических позиций
то, что предшествует отрицанию, характеризуется как мен­
тальное соположение представлений, с точки зрения дискурса —
как предтекст, с коммуникативной точки зрения —как ини­
циальное высказывание (реплика собеседника)» [Арутюнова
1990, 183]. Далее Н.Д.Арутюнова замечает, что для «поэти­
ческой речи более важна ориентация на предтекст (говоря
условно), фон, соответствующий тривиальному образу мира,
чем на предполагаемого адресата. Поэзия больше реакция,
чем стимул...» [там же, 188]. Однако чаще всего такая «реакция»
предполагает определенное
коммуникативно-художественное
задание.
Важно отметить, что «перевернутая интерпретация» поэтиче­
ского высказывания так же хорошо акцентирует опознавание, как
и прямая. На этом играют современные поэты-концептуалисты,
поэтика которых строится на переложении знакомых формул
поэтического языка: ср., например, Бессонница. Гомер ушел на
задний план... (А. Еременко «спорит» с Мандельштамом); Он до
сих пор не ищет выгод... (И. Кутик «соглашается» с Пастернаком);
Склоняют своенравные лета.../К поэзии, прости за выраженье,/
Прочь от суровой прозы (С. Гандлевский «не соглашается» с Пуш­
киным). Таким образом актуализируется временная дистанция по
отношению как к поэтам Серебряного , так и Золотого века,
и идет игра на несовпадении. К примеру, пространство А. Блока
(Ночь, улица, фонарь, аптека./Бессмысленный
и тусклый свет)
и «московское время» О. Мандельштама (Еще далёко мне до пат­
риарха,/ Еще на мне полупочтенный возраст), по мысли Гандлевского, при наложении должны контрастировать с его «новым»
пространством (Аптека, очередь, фонарь/Под глазом бабы. Всюду
гарь) и его же «московским временем» (Еще далёко мне до патри­
арха,/ Еще не время, заявляясь в гости...). Однако «переиначивание» прекрасных строк скорее свидетельствует, что авторы еще не
прошли точку своего поэтического самоопределения, несмотря
на то, что в их стихах содержатся прямо противоположные вы­
сказывания: Не жалею, не зову, не плачу,/Не кричу, не требую
суда./Потому что так или иначе/Жизнь сложилась раз и навсегда
(С. Гандлевский).
«Закавычивание» —еще один способ маркирования цитаты.
Таким образом неатрибутированная цитата опознается, а ее зна­
чение расширяется и выходит только за рамки определенного
(здесь лермонтовского) стиля. Так, у Т. Толстой в повести «Пла­
мень небесный» сам текст как бы подстраивается под цитату: Он
[Дмитрий Ильич] говорит: «Нет, я не Байрон, я другой», и как бы
получается, что он все-таки отчасти Байрон —и хромает, и сти­
шки пописывает, и в Греции был полтора дня во время круиза.
Часто повествователь или персонаж пользуется цитатой как
элементом словаря. В этом случае неатрибутированная цитата
используется как первичное средство коммуникации [Левин
1992, 492]. Так, герой повести «Москва —Петушки» Вен. Ерофе­
ева постоянно строит свою речь на основе русских и переводных
цитат. У Баратынского он находит слова для описания состояния
крайнего опьянения: Есть бытие, но именем каким его назвать,—
ни сон оно, ни бденье. Если у Ерофеева цитаты во многом юморис­
тически переосмысливаются, то у Л. Толстого в «Анне Карени­
ной» мы находим чистые цитаты-реплики. Так, Облонский и Ле­
вин за обедом обмениваются пушкинскими строками: Облон­
ский—Левину: «Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам,
юношей влюбленных узнаю по их глазам». Левин — Облонскому:
«...все-таки «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и прокли­
наю, и горько жалуюсь...». Частично искаженные цитаты-реплики
имитируют у Толстого разговорную речь образованных людей
и воспроизводят акт припоминания.
1.2. Аллюзии
Аллюзия — заимствование определенных элементов претекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте,
где и осуществляется их предикация. Возьмем, к примеру, ал­
люзию, ориентированную на «школьные цитаты» у Нарбиковой
в повести «План первого лица. И второго»: «Я говорил, что
в красоте жить нельзя, что ничего не получится», —это слова
героя, который носит знаменательную фамилию Додостоевский.
Из элементов «красота» и части фамилии героя «Достоевский»
складываем классические слова Достоевского «красота спасет
мир», которые в общем хаосе цитат и аллюзий нарбиковской
прозы сразу снижаются на несколько регистров, получая общий
признак «наоборот».
От цитаты аллюзию отличает то, что заимствование элементов
происходит выборочно, а целое высказывание или строка текстадонора, соотносимые с новым текстом, присутствуют в последнем
как бы «за текстом» — только имплицитно. Хотя и в случае цитат
цельная строка может складываться из элементов нескольких строк,
как в повести «Река Оккервиль» Т. Толстой (Он купил хризантем на
рынке — мелких, желтых, обернутых в целлофан. Отцвели уж давно.
[восстановление предикации] <...> Черный ход, помойные ведра,
узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели уж давно.
В моем сердце больном), однако ее прежняя предикация лишь
восстанавливается в новом тексте, а не рождается заново.
Значит, в случае цитации автор преимущественно эксплуати­
рует реконструктивную интертекстуальность, регистрируя об­
щность «своего» и «чужого» текстов, а в случае аллюзии на первое
место выходит конструктивная интертекстуальность, цель кото­
рой организовать заимствованные элементы таким образом, что­
бы они оказывались узлами сцепления семантико-композиционной структуры нового текста. Последнее происходит, например,
тогда, когда поэт(есса) повторяет строки своих предшественни­
ков, как бы создавая иллюзию продолжения их стиля. Так, в сти­
хотворении Б. Ахмадулиной «Я завидую ей — молодой <...> по над
невской водой» вписаны (с коммуникативным переносом и пере­
становками) части строк самой Ахматовой: Где статуи помнят
меня молодой,/Л я их под невскою помню водой («Летний сад»).
Восстановление предикативного отношения в новом тексте
происходит на основании «памяти слова»: референциальной,
комбинаторной, звуковой и ритмико-синтаксической; совокуп­
ность детерминант «памяти слова» работает при воспроизведении
уникальных словообразовательных моделей поэтического языка.
Так, в стихотворении В. Кривулина «Александр Блок едет
в Стрельну» все «активные слова» последних трех четверостиший
оказываются даже выделенными самим автором жирным шриф­
том (по типу гипертекстовых ссылок?):
ясный день, еще не старый...
ветер, облака, дворец
представляю мемуары
изданные наконец
после крепкого забвенья
после честных лагерей
стрельна ветер воскресенье
стайки легких времирей
он шутил — и я смеялась
он казался оживлен...
две недели оставалось
до скончания Времен
Поэт представляет нам стилизацию мемуаров А. Ахматовой,
аллюзивно воспроизводит ее встречу с А. Блоком 15 декабря
1913 года за две недели до начала 1914 года. Строки Ахматовой
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
восстанавливаются благодаря ритмико-синтаксической и комби­
наторной памяти слова «воскресенье», несмотря на то, что в стро­
ке произведены две замены, ключевая из них полдень — ветер
задает новый круг межтекстовых связей. Именно «ветер» Петер­
бурга 1913 года —«последнего года», «не то вспоминая, не то
пророчествуя», вводит тему «скончания Времен» в третьей главе
«Поэмы без героя»: А по набережной легендарной/Приближался не
календарный—/Настоящий
Двадцатый Век. «Ветер» —это поэти­
ческий символ поэта: так назвал Б. Пастернак свои четыре «отры­
вка» о Блоке, где «тот ветер повсюду» . Свободная же форма
связи между членами ряда стрельна ветер воскресенье, которые
выравнены не только интонационно, но и графически, позволяет
воспринять в общем пессимистическом контексте имя собствен­
ное «стрельна» как неологизм, связанный с темой войны и лите­
ратурного «выстрела». Такое «словотворчество» инициируется
трансформированной хлебниковской строкой стайки легких времирей с емким словом «времирей», в котором в данном контексте
реконструируется «блоковский» смысл «детей страшных лет Рос­
сии» — ср. у Хлебникова: В беспорядке диком теней,/Где, как морок
старых дней,/ Закружились, зазвенели/Стая легких времирей.
Конструирование нового смысла происходит и благодаря «ци­
тированию стиля» [Левин 1992], когда «цитатные атомы» исход­
ного текста специально «вынуты» из своего контекста, и в них
затемнена атрибуция. Так в текст В. Ерофеева «Москва — Петуш­
ки» какЪы от лица героя Достоевского из «Сна смешного челове­
ка» (что не атрибутируется) вводятся блоковские фрагменты:
А потом (слушайте), когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал
им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Затем
следует Веничкина интерпретация: Там в центре поэмы, если,
конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неоза27
27
Ср. у Пастернака: Тот ветер повсюду. Он — дома,/В деревне, в дожде,/В
поэзии третьего тома,/В «Двенадцати», в смерти, везде.
репные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре
поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, ...дки
и прогулы.
Самое любопытное, что в данном тексте Ерофеева даны
словосочетания Блока, но отнюдь не из «Соловьиного сада»
(1915): ср.
(1)
И этот вычурный актер
Послал тебе привет нежданный,
И бросил дерзкий, жадный взор
К твоим плечам благоуханным! (1899)
(2)
То бесконечность пронесла
Над падшим духом ураганы.
То Вечно-Юная прошла
В неозаренные туманы. (1900)
Затемнение атрибуции и вызывает ее расширение: цитация
распространяется на весь стиль Блока, и создается сборная (скон­
струированная) цитата как бы из Блока: розовые башни в дымных
ризах, вступающая в звуковую игру с неозаренными туманами.
Таким образом, иносказание всегда проходит путь «дешиф­
ровки» (см. [Фарыно 19896]), в результате которой восстанав­
ливаются проекции на тексты предшественников.
Может возникнуть вопрос о сознательности/бессознатель­
ности заимствований, основанных на звуковой, комбинаторной,
референциальной и ритмико-синтаксической памяти слова. Он
частично разрешается в работе Вяч. Вс. Иванова [1993]. Ученый
анализирует две сходных, по его мнению, строки на кавказскую
тему: одна из них из стихотворения «Колежские асессоры» при­
надлежит Случевскому (Где так долго стонал Прометей), другая —
Где томился и мерк Прометей — Пастернаку («Вечерело. Повсюду
ретиво...»). В пользу «неслучайности» совпадения говорит то,
что в обеих строках повторяется целый комплекс элементов:
«ключевое слово — греческое собственное имя мифологического
героя, видо-временная характеристика (прошедшее время не­
совершенного длительного вида) предшествующего ему глагола,
являющегося предикатом при этом существительном, и началь­
ное где» [там же, 163]. Иванов делает вывод, что все эти аналогии
при совпадении размера стихотворений свидетельствуют о том,
что Пастернак запомнил эту строку Случевского и потом ви­
доизменил ее. Модификации Пастернака во многом связаны
с общей звуковой организацией своего стихотворения, которая
создает ряд заметенных — путей — томился — мерк — Прометей,
т. е. анаграмму имени древнегреческого героя. При этом Пастер­
нак меняет и функцию этой строки в целом своего текста,
звукопись которого рождена импрессионистическими кавказ­
скими зарисовками поэта.
Таким образом, сознательная цитация или аллюзия представ­
ляют собой такое включение элемента «чужого» текста в «свой»,
которое должно модифицировать семантику последнего за счет
ассоциаций, связанных с текстом-источником, если же таких
изменений смысла не обнаруживается, скорее всего мы имеем
дело с бессознательным заимствованием.
Иногда «бессознательные» аллюзии создают парадоксальные,
на первый взгляд, переплетения, которые подтверждают более
глубинные связи контекстов, обусловленные общностью концеп­
туальных установок. Так, в строках стихотворения В. Кривулина
«Первая бабочка» вновь встречаются тексты Набокова и Пастер­
нака (см. 1.3), и на их скрещении рождается метонимическая
метафора «чешуекрылых книжек»:
чешуекрылые книжки взлетали стоймя
прямо в лицо мне летели шурша по траве
тенями своими китайчатыми на подъезде к москве
<...>
и газету без месяца и числа
ветер гонит за поездом ветер библиотек
накрывает ею как типографским сачком
раннюю бабочку первую — помнишь перепечатанный ДАР
где-то в уральском журнале
Конструктивная интертекстуальность в этом случае обнару­
живает связь между тем местом «Дара», где речь идет о «корне
китайского ревеня», похожем на гусеницу неизвестной ночницы
[3, 111], и строкой из книги «Второе рождение» Пастернака:
Стлались цепи китайских теней («Вечерело. Повсюду ретиво...»,
1931), что вновь ставит вопрос об общих постсимволистских
«корнях» этих двух художников слова.
Как и цитаты, аллюзии могут быть атрибутированными или
неатрибутированными. Атрибуция, как в случае «Додостоевского», бывает не прямой, а «зашифрованной»; неатрибутированность же может не ощущаться как таковая при сильной
насыщенности цитат данного автора в тексте, как например,
в «Даре» Набокова по отношению к пушкинским текстам
(см. 2.6).
Построим типологию аллюзий.
1.2.1. Аллюзии с атрибуцией
Подобный тип аллюзий, принимая во внимание внутреннюю
форму этого слова (от фр. allusion — намек), не может быть
распространенным. Атрибутированную аллюзию в чистом виде
встречаем в тексте Л. Губанова «Зеркальные осколки»: Но заказал
мне белые стихи/стукач Есенина — человек черный. Однако и здесь
аллюзия по крайней мере двойная: она отсылает не только к тек
сту Есенина «Черный человек», но и «Моцарту и Сальери» Пуш­
кина; есенинская тема при этом более выразительна, поскольку
«Черный человек» Есенина заканчивается словами Я один.../И
разбитое зеркало.., коррелирующими с заглавием стихотворения
Губанова.
Аллюзии могут организовывать и перечислительный ряд,обоб­
щающим словом в котором будет имя автора всех текстов,
к которым имеется отсылка: Москва и лик Петра победный,/
Деревня, Моцарт и Жуан,/И мрачный Герман, Всадник Медный/И
наше солнце, наш туман!/Романтик, классик, старый, новый?/Он
Пушкин, —и бессмертен он! (М. Кузмин). Надо заметить, что ал­
люзии, которые представляют собой имена собственные — имена
героев произведений, обладают повышенной узнаваемостью даже
без упоминания имени их автора.
Именная аллюзия иногда выступает как реминисценция. Под
реминисценцией мы будем понимать отсылку не к тексту,
а к событию из жизни другого автора, которое безусловно
узнаваемо. Примером реминисценции служит введение имени
Гумилева в стихотворение Л. Губанова «На смерть Бориса Пасте­
рнака»: В награду за подземный бой/он был освистан и оплеван./
Тащилась первая любовь/в кровавой майке Гумилева. Однако
в поэзии «реминисценция» часто оборачивается аллюзией. Так,
у самого Гумилева в «Заблудившемся трамвае» фигурирует аналог
«кровавой майки» — «красная рубаха» палача, и эти два синони­
мичных на глубинном уровне понятия вступают в отношение
конверсии: В красной рубахе, с лицом, как вымя,/Голову срезал
палач и мне.
Аллюзии могут иметь атрибуцию с отсылкой к хорошо извест­
ному стихотворению, адресатом которого был когда-то сам автор
стихов, но поневоле такая атрибуция сама оказывается аллюзивной. Поэты-современники, вступая в прямой диалог друг с дру­
гом, в своих стихотворных посланиях стараются отразить как
внешний облик, так и особенности художественного мира своего
поэта-собеседника: наиболее частые и яркие слова-образы,
встречающиеся в его поэзии, повторяющиеся черты строения
его текстов, а также способы передачи отношения «Я» поэта
к окружающему миру. Интересны в этом смысле «поэтические
портреты», которыми обменялись А. Блок «Красота страшна» —
Вам скажут, — ...» (16 декабря 1913 г.) и А. Ахматова («Я пришла
к поэту в гости...» (январь 1914 г.) (см. также [Лотман 1972;
Жолковский 1974]). Стихотворение Блока, в котором словамикрасками рисуется молодая Ахматова, в равной степени отража­
ет как его собственный мир образов, так и характерные способы
языкового выражения поэтессы. Сначала мы представляем себе
Ахматову в облике Кармен в испанской шали и с «красным
розаном» в волосах — такая ее красота «страшна». О такой
красоте пишет Блок в цикле «Кармен»: Розы —страшен мне
цвет этих роз.., но и сама Ахматова очень любит слово «страш­
ный»: Пусть страшен путь мой, пусть опасен,/Еще страшнее
путь тоски... (1911). Много лет спустя Ахматова в «Поэме без
героя» (1940 — 62), пользуясь тем же словом страшно, вспомнит
обращенные к ней строки Блока: Но мне страшно: войду сама
я,/Шаль воспетую не снимая,/Улыбнусь всем и замолчу (первый
вариант поэмы). Однако у Блока, как и в стихах самой Ах­
матовой (Я научилась просто, мудро жить...), облик поэтессы
двоится: ее красота одинаково проста и страшна, и она не так
проста, чтоб не знать, «как жизнь страшна». В этом случае
трудно провести границу между аллюзией и реминисценцией,
поскольку жизнь получает полное отражение в тексте.
Указание на атрибутированность в тексте нередко строится по
типу грамматической загадки. Так, у Н. Крандиевской в строках
Фаусту прикидывался пуделем,/Женщиной к пустыннику входил,/
Простирал над сумасшедшим Врубелем/ Острый угол демоновских
крыл (1917) (где «интертекстуальный субъект» атрибутируется при
помощи аллюзий, в том числе и интермедиальных) находим
такие же бесподлежащные конструкции, что и впоследствии
в «Памяти Демона» (1919) у Пастернака: Приходил по ночам/В
синеве ледника от Тамары,/ Парой крыл намечал,/Где гудеть, где
кончаться кошмару. И именно сами односоставные синтаксиче­
ские конструкции обладают свойством восстанавливать импли­
цитный затекстовый смысл.
Значит, свойством нести аллюзивный смысл обладают не
только единицы лексического уровня, но и грамматического,
а иногда даже словообразовательного. Особым случаем является
пример, о котором пишет Ю. Н. Тынянов в статье «О пародии»:
«По мелочности речевых знаков пушкинский язык представляет
собой совершенно условную систему, своего рода арго, тайный
язык. Существовало в пушкинском кругу, например, словцо
«кюхельбекерно», образованное от фамилии, словцо, ономатопо­
этически означающее не совсем приятные ощущения. И в одном
письме (к Гнедичу, в 1822 г.) Пушкин пишет: «Здесь у нас
молдаванно и тошно, ах боже мой, что-то с ним делается —
судьба его меня беспокоит до крайности — напишите мне об
нем, если будете отвечать». Таким образом, сам способ слово­
производства стал здесь маркирующим знаком, представителем
всего слова, и повторение подобного словопроизводства в слове
«молдаванно» достаточно для того, чтобы, не называя Кюхель­
бекера, поставить вопрос о нем в форме местоименного субсти­
тута: «он» [Тынянов 1977, 298]. Ср. у Пушкина: И кюхельбекерно
и тошно
Атрибуция может иметь и максимально широкий х а р а к т е р ­
на уровне всего стиля поэта и писателя, когда само его имя и есть
максимально широкая аллюзия. К таким аллюзиям принадлежат
строки Ахматовой из «Северных элегий»: Россия Достоевского.
Луна/Почти на четверть скрыта колокольней. Еще более аллюзивно-иносказательно выразил свою мысль В. Хлебников, создавая
неологизмы, служащие как бы словообразовательным «отпечат­
ком» стиля Достоевского и Пушкина, сходство же с Тютчевым
дано в открытом сравнении:
24
О, достоевскиймо бегущей тучи!
О, пушкиноты млеющего полдня!
Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное зам ирным полня.
Заметим, что мысль Хлебникова шла примерно в том
же направлении, что и при создании слова «кюхельбекерно»
у Пушкина.
1.2.2. Неатрибутированная аллюзия
Чаще всего приходится иметь дело с неатрибутированными
аллюзиями. Они по своей внутренней структуре построения
межтекстового отношения лучше всего выполняют функцию
28
Ср. затем Пусть бенкендорфно здесь и тошно,/но все равно — побойся Бога!—
стихи, обращенные Т. Кибировым С. Гандлевскому.
открытия нового в старом. Открытие требует усилий со стороны
читателя, что порождает дополнительный стилистический эф­
фект. Ведь на глазах читателя новый текст проходит все стадии
своего «онтогенеза». Интересен в этом отношении «мистифици­
рованный перевод» в «Подвиге» Набокова. Герой романа в эми­
грации размышляет об отношении иностранцев к русской лите­
ратуре: Ему IМартыну] льстила влюбленность англичан в Чехова,
влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он
нашел в номере местного журнала шестидесятых годов стихотво­
рение хладнокровно подписанное «А. Джемсон»: «Я иду по дороге
один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и хо­
лоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой» [2, 266].
Слова англичанина, переданные В. Набоковым в прозе по-рус­
ски, воспроизводят стихотворные строки Лермонтова (если их
перевести обратно на английский, то получится рифма: alonestone, far-star). Их узнает всякий, кто знаком с русской поэзией.
И все же при полной их узнаваемости мы видим, насколько
прозаический перевод далек от оригинала. На этом и играет
Набоков: прозаический вариант намеренно «снижает» высокий
смысл поэтического подлинника и делает текст «безликим» —в
нем ничего не остается от собственно «лермонтовского» стиля
поэтического выражения.
Основу генерирования смысла в этом случае составляет пере­
ключение из одного текста в другой. «Такое построение, прежде
всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа
кодирования текст приобретает черты повышенной условности,
подчеркивается его игровой характер» [Лотман 1992, 111]. В ос­
нове этой игры лежит метод «психологического конструктивиз­
ма», когда частицы текстов перестраиваются в соответствии
с концептуальной установкой автора, а читатель должен ее раз­
гадать, чтобы сложить цельную конструкцию. Авторская «уста­
новка» то прячется в выбираемые им «цитатные атомы», то
обнажается на поверхности текстов в «метатекстовых операто­
рах», когда автор специально приоткрывает читателю правила
своей игры: в данном случае это намеки на русскую литературу,
а также инвертированные и трансформированные поэтические
последовательности: по дороге один, тиха ночь, разговор между
звездой и звездой.
29
24
Ранее в романе говорится об обрывках «каких-то анонимных стихов,
приписываемых Лермонтову» [2, 203).
1.3. Центонные тексты
Центонные тексты представляют собой целый комплекс ал­
люзий и цитат (в большинстве своем ^атрибутированных),
и речь идет не о введении отдельных «интекстов», а о создании
некоего сложного языка иносказания, внутри которого семан­
тические связи определяются литературными ассоциациями. Об­
щая аллюзивная нагруженность текста характеризует уже упоми­
навшийся выше текст стихотворения Л. Губанова «На смерть
Бориса Пастернака», который, кроме уже перечисленных интер­
текстуальных элементов, включает и компоненты текста, со­
зданные по методу «сращения» цитатных атомов разных поэтов:
То вбит не камень — вогнан гвоздь [Цветаева] и холодна разлуки
шерсть [Мандельштам]. И пусто после Вас совсем— не соловьи,
одни воробышки. А кто поет, так те в Воронеже [Мандельштам]
иль на нейтральной полосе [Высоцкий]. Наш путь хоть голоден, но
ясен [Мандельштам], и мы еще потреплем мир, как это делал
рыжий Разин и хлебниковский говор лир.
Особый тип центонных текстов представляют собой стихотво­
рения-посвящения, нередко они имеют эпиграф, по которому
устанавливается атрибуция и адресат посвящения. Так, напри­
мер, в стихотворении А. Ахматовой, написанном на смерть Па­
стернака, имеется значимый переиначенный пастернаковский
эпиграф Как птица, мне ответит эхо, коррелирующий с первыми
строками Ахматовой:
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.
Подчеркнутые «цитатные атомы» связывают текст поэтессы
со многими произведениями Пастернака: со строками «Сестры
моей —жизни» (Разбег тех рощ ракитовых,/Куда я письма слал),
которые корреспондируют с пушкинскими о беседах Татьяны
с рощами (С своими рощами, лугами,/Еще беседовать спешит),
с многочисленными строками о дожде, который для Пастернака
был символом поэтического плодородия, со сценой смерти Жи­
ваго, когда «цветы были заменой пения», а также выделяет повто­
ряющуюся у Пастернака паронимию цветы —свет.
Центон пушкиниста Н. О. Лернера составлен из целых поэти­
ческих строк-цитат разных авторов, причем при их выборе учи­
тывались и рифма, и размер, и принцип связности развертываю­
щегося смысла:
Лысый с белой бородою (И. Никитин)
Старый русский великан (М. Лермонтов)
С догарессой молодою (А. Пушкин)
Упадает на диван. (Н. Некрасов)
У концептуалиста Всеволода Некрасова встречаем пародию на
центон, в которой пародируется сам принцип создания «своего»
из «чужого»:
Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье
В центонном тексте В. Нарбиковой «Равновесие света днев­
ных и ночных звезд» раскрывается сама сущность интертексту­
ального заимствования, которое позволяет ввести в свой текст
определенную форму представления мысли, которая уже «освое­
на» языком поэзии: Поэтическая форма дана, чтобы лучше усво­
ить информацию: что жизнь — дар напрасный и случайный, что на
свете счастья нет, а есть покой и воля, что были люди в наше
время, что на берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн,
и чем лучше сказано о том, что было, тем значительнее становится
то, что было, потому что слово больше события.
II. ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, ИЛИ ОТНОШЕНИЕ ТЕКСТА
К СВОЕМУ ЗАГЛАВИЮ, ЭПИГРАФУ, ПОСЛЕСЛОВИЮ
2.1. Цитаты-заглавия
Заглавие содержит в себе программу литературного произ­
ведения и ключ к его пониманию. Формально выделяясь из
основного корпуса текста, заглавие может функционировать как
в составе полного текста, так и независимо—как его представи­
тель и заместитель. В своих внешних проявлениях заглавие пред­
стает как метатекст по отношению к тексту, во внутренних —как
субтекст единого целого текста (см. подробно (Кожина 1986]).
Поэтому, когда заглавие выступает как цитата в «чужом» тексте
(чаще всего выделенная кавычками), оно представляет собой
интертекст, открытый различным толкованиям. Как всякая цита­
та, название может быть или не быть атрибутировано, но степень
узнаваемости ^атрибутированного заглавия всегда выше, чем
просто цитаты, поскольку оно выделено из исходного текста
графически.
Писатель в готовом виде заимствует чужие заглавные фор­
мулы, конденсирующие художественный потенциал стоящего за
ними текста, и наслаивает на них новый образный смысл. К при­
меру, в поэме Н. Асеева «Маяковский начинается» заглавия вы­
полняют «рамочную» функцию по отношению к судьбе Маяков­
ского: в самом начале встречаем заглавие его первой трагедии
«В. Маяковский» (в ней все —
/неожиданность,/вздыбленность,/
боль;/все — /против тупого покроя/Обломови); в конце же поэмы
уже фигурирует монолог Маяковского «О дряни». Хлебников
у Асеева также охарактеризован через заглавие-цитату: Бывало,
его облекут,/как младенца,/в добротную шубу,/калоши,/и
вот/
неделя пройдет и—/куда
это
денется:/опять—Достоевского
«Идиот». Стиль и характер поэта Блока в поэме Асеева уже дан
на скрещении заглавий, сами же заглавия не выделены кавыч­
ками, поэтому выступают как текстовые образы: И
Блок/Незна­
комку уводит во храмы/ Нечаянной радости/вызвенеть звук (сти­
хотворение «Незнакомка» и книга стихов молодого Блока «Не­
чаянная Радость», заглавие которой повторяет название иконы;
мотивы богородичной иконы «Нечаянная Радость» и молитвы
к ней звучат у Блока и в стихотворении «Девушка пела в церков­
ном хоре...», о чем писал Р. Якобсон (см. [Приходько 1996])). На
скрещении разных образов «флейты» показан ранний Маяков­
ский: Он взвил позвоночником/флейту
на споры,/он полон был
самых нежданных затей,/он явно из сказки/из
той был,/что
в горы/уводит—/несчастных
сограждан—/детей.
Последний
образ из немецкой сказки-легенды о бродячем музыканте, кото­
рый, играя на флейте, вывел из Гаммельна всех детей, лег в ос­
нову поэмы Цветаевой «Крысолов» (см. [Е. Эткинд 1992]).
Названия имен собственных-топонимов, выведенных в загла­
вие, также всегда значимы. Так, Евтушенко, откликаясь на
смерть Ахматовой, очень точно играет на противопоставлении
Ленинград/Петербург, заданном в стихотворении «Ленинград»
Мандельштама (в тексте Петербург, я еще не хочу умирать...): Она
ушла, как будто бы навек/Вернулась в Петербург из Ленинграда.
Образный потенциал строк Евтушенко раскрывается через соеди­
нительную функцию заглавий, которая образует «Петербургский
интертекст», проходящий через всю русскую литературу.
В XX веке среди многочисленных «Петербургов» начала века,
в том числе романа А. Белого (1914), выделяется «Последняя
петербургская сказка» (1916) Маяковского. Спецификация «Пе­
тербургский»,—считает Топоров [1984], —задает кросс-жанровое
единство многочисленных текстов русской литературы. Название
же Мандельштама «Ленинград» несет в себе семантику «перерыва
традиции», потерю памяти поэтического слова.
Однозначно «Ленинград(Переименованный город)» уже называет
свое эссе И.Бродский,осмысляя в 1990-х годах образ Петербурга в
Нью-Йорке. Споря с Пушкиным, Бродский называетПетербургне
«окном в Европу», а «зеркалом Европы». Это определение связы­
вает «Петербургский» и «Венецианский» тексты русской литерату­
ры—Пушкин заимствовал свою метафору у уроженца Венеции
графа Ф. Альгаротти, который сказал: «Петербург — окно, через
которое Россия смотрит в Европу». Бродский, описывая Ленин­
град, выносит на поверхность известный параллелизм Серебря­
ного века «Петербург —Северная Венеция», который объединяет
«Венецию» (1909) А. Блока, «Венецию» (1912) Ахматовой, «Вене­
цию» (1913, 1928) Пастернака, «Веницейскую жизнь» (1920) Ман­
дельштама и «Венецианские строфы» (1982) самого Бродского.
В эссе «Ленинград» Бродский пишет: ...дворцы и особняки высятся
над замерзшей рекой <...>. Когда пурпурный шар заходящего январ­
ского солнца окрашивает их высокие венецианские окна жидким
золотом, продрогший пешеход на мосту неожиданно видит то, что
имел в виду Петр, воздвигая эти стены: гигантское зеркало одино­
кой планеты (цит. по [Лосев 1996, 233]). И сразу на «заднем
плане» проступают «петербургские строки» Мандельштама: В Пе­
тербурге мы сойдемся снова,/Словно солнце мы похоронили в нем....
Заметим, что во всех «Петербургских» текстах так же силен мотив
«смерти среди прекрасного», как и в «Венецианских»: неслучайно
Бродский — «классический выразитель неклассического состоя­
ния мира» (О. Седакова) — хотел быть похороненным именно
в Венеции (см. также 1.3).
2.2. Эпиграфы
Эпиграф — следующая после заглавия ступень проникновения
в текст, находящаяся над текстом и соотносимая с ним как
целым. Сама необязательность эпиграфа делает его особо значи-
мым. Как композиционный прием эпиграф выполняет роль экс­
позиции после заглавия, но перед текстом и предлагает разъяс­
нения или загадки для прочтения текста в его отношении к загла­
вию. Через эпиграфы автор открывает внешнюю границу текста
для интертекстуальных связей и литературно-языковых веяний
разных направлений и эпох, тем самым наполняя и раскрывая
внутренний мир своего текста.
Взаимоотношение «заглавие — эпиграф — текст» может быть
задано по методу контраста или пародии (таковы «Повести Бел­
кина» Пушкина); может детерминировать задуманную автором
организацию произведения («Пиковая дама» Пушкина) или рас­
крывать имплицитные отношения «заглавие —текст», как это
происходит в «Вешних водах» Тургенева, где эпиграф из старин­
ного романса «Веселые годы,/Счастливые дни —/Как вешние во­
ды/Промчались они!» раскрывается в тексте лишь через символи­
ку метафорического ряда «течение воды —течение жизни».
Являясь цитатой-импульсом стихотворения, эпиграф может
«оспариваться» автором текста, как например, в контрастной
концовке у И. Савранского (1971), эксплуатирующей эпиграф ...В
темном тереме стихотворения... из Пастернака:
Что ж, любовь — зачарованный бред
и поэтому мы без сомнения,
будем счастливы тысячу лет —
в светлом тереме стихотворения!
Иногда эпиграф может представлять собой возвращенный
собственный текст автора. Такое явление наблюдается в «пере­
кличке двух голосов» великих поэтесс XX века — Ахматовой
и Цветаевой. Так, строки из стихотворения Ахматовой (1914)
Покинув рощи родины священной
И дом, где Муза Плача изнывала,
Я, тихая, веселая, жила...
выступают как атрибутированная аллюзия-обращение в «Стихах
к Ахматовой» (1919) М. Цветаевой:
О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
В заключающем же Ссеребряный век стихотворении Ахмато­
вой «Нас четверо», наряду с эпиграфами-посвящениями из Ман­
дельштама и Пастернака, введен эпиграф из Цветаевой О, Муза
Плача...у который представляет собой возвращенный интер­
текст .
30
У Н. Асеева в поэме «Маяковский начинается» (1937) каждая
глава имеет особо подобранные эпиграфы из Маяковского, Хлеб­
никова (в главе «Хлебников») или Пастернака (глава «Разговор
с неизвестным другом»), коррелирующие с внутренним заглавием
или непосредственно текстом главы. Так, глава «Проба голоса»
имеет эпиграф из стихотворения «Люблю» (Окном слуховым вни­
мательно слушая,/ловили крыши — что брошу в уши я./А после/о
ночи/и о друг друге/трещали,/язык
ворочая — флюгер), который
получает развитие в тексте: а этот — сговаривается с флюгерами/
и дружбу ведет/с водосточной трубой. Таким образом, тема флю­
гера, заданная эпиграфом, скрещивается с темой другого стихо­
творения Маяковского «А вы могли бы?».
Подтверждение эпиграфу (Он говорил:/«Я
бедный воин,
я одинок...») из Хлебникова, который открывает главу «Хлебни­
ков», находим в той же главе (Он был действительно/бедный
воин), заглавие и эпиграф позволяют и атрибутировать внутрен­
нюю цитату из Хлебникова, взятую в кавычки: «Так на холсте/
каких-то
соответствий/вне
протяжения/жило
Лицо» — эта
цитата завершает ряд метафорических описаний внешности
Велимира, данных сквозь призму его же, хлебниковского,
образного рада. Ср., например, Глаза его—/осени
светлой
озера —/беседу с лесною вели тишиной Асеева и контексты
Хлебникова: Глазами великих озер/Будем смотреть на ковер,/
Чтоб большинству не ошибиться!; Мои глаза бредут, как осень,/По
лиц чужим полям; Омоем лица и немвянные омоем волосы в озере
грустин и др.
III. МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ПЕРЕСКАЗ
И КОММЕНТИРУЮЩАЯ ССЫЛКА НА ПРЕТЕКСТ
Метатекстуальность, или создание конструкций «текст о тек­
сте», характеризует любой случай интертекстуальных связей, по­
скольку, будь то цитата, аллюзия, заглавие или эпиграф, все они
выполняют функцию представления собственного текста в «чу­
жом» контексте. Однако в этих четырех случаях мы имеем дело
с имплицитной метатекстуальностью. По контрасту с ними пере­
сказ, вариация, дописывание чужого текста и интертекстуальная
50
В 1991 году вышла целая книга стихотворений, посвященных А. Ахматовой
под названием «О муза плача...» (Составление, подготовка текстов и вступитель­
ная статья И. Н. и Им. H. Баженовых. М. —Педагогика, 1991). Таким образом,
эпиграф поднялся на позицию заглавия.
игра с претекстами представляют собой эксплицитные вы­
сказывания о претексте, или конструкции «текст в тексте
о тексте».
3.1. Интертекст-пересказ
В большинстве случаев «интертекстуального пересказа» мы
имеем дело с трансформацией формы по оси «стих —проза».
Так, в самом начале «Реки Оккервиль» Т. Толстой можно увидеть
своеобразное «толстовское» переложение «Медного всадника»
Пушкина: «Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, стано­
вилось совсем уже ветрено, темно и дождливо» — Над омраченным
Петроградом/Дышал ноябрь осенним хладом... Сам же Пушкин
в «Медном всаднике» «пересказал» стихами отрывок из «Про­
гулки в Академию художеств» Батюшкова. И воображение мое
представило мне Петра... «Здесь будет город, сказал он, седьмое
чудо света», а также, как мы видели, художественно перефра­
зировал высказывание Альгаротти о Петербурге как «окне в Ев­
ропу» (что отметил в своих комментариях): Здесь будет город
заложен/Назло надменному соседу./Природой здесь нам суждено/В
Европу прорубить окно.
Однако «пересказ» может связывать и два стихотворных тек­
ста. Так, Б. Кенжеев перелагает поэтическую строку Мандельш­
тама Не сравнивай: живущий несравним, стараясь говорить скорее
языком мандельштамовской прозы, но при этом создавая свою
новую рифму:
...не ищи сравнений — они мертвы,
говорит прозаик и воду пьет ,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет...
31
Видимо, современному поэту — «ученику воды проточной» —
оказывается нелегко создавать поэзию от «третьего лица». Тем
самым доказывается правота строки Е. Баратынского Не подра­
жай: своеобразен гений..., которую считают исходной для мандель­
штамовской.
В повести-путешествии Вен. Ерофеева «Москва —Петушки»
пересказ вложен уже не в уста автора, а героя, который
31
Ср. в «Египетской марке» Мандельштама: Какое наслажденье для повест­
вователя от третьего лица перейти к первому/ Это все равно что после мелких
и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить
прямо из-под крана холодной сырой воды [2, 86].
откликается на просьбы своих слушателей рассказать о «Первой
любви» «по-тургеневски»: «Про первую любовь расскажи, про Зи­
ночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили —вот
примерно все это расскажи...». «Конечно, —прибавил я,—у Ивана
Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к ка­
мину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете...». Этот пересказ, по
идее автора, должен контрастировать с истинным положением
дел в поезде «Москва —Петушки».
3.2. Вариации на тему претекста
Вариации на тему определенного произведения, когда его
строка или несколько строк становятся импульсом развертыва­
ния нового текста, выносят на поверхность то, что в исходном
тексте, задающем тему, «вскрылись отчетливые формулы, при­
годные для разных тематических измерений» [Тынянов 1977,
293]. Классическим примером подобных вариаций можно счи­
тать «Тему с вариациями» Пастернака, особенно «Подражатель­
ную» вариацию, начало которой совпадает с началом «Медного
всадника» Пушкина: На берегу пустынных волн/Стоял он, дум
великих полн... Затем, в подражание уже Пастернаку, свои «Ва­
риации» на тему «Медного всадника» пишет Брюсов с начальны­
ми строками: Над омраченным Петроградом/Дышал ноябрь осен­
ним хладом.
Ряд вариаций выделяет круг авторов, для которых стих Пуш­
кина оказался созвучным стилю их собственного творчества.
Если при «пересказе» заимствуется главная «мысль» образца,
которая по-новому разрабатывается в собственном тексте, то
в случае вариации эксплуатируется или стиль, или определенный
художественный «макет» (Ю. Н. Тынянов), который служит
удобным фоном для развертывания нового смыслового изме­
рения найденной предшественником темы.
Вариации на темы предшественника параллельно становятся
метатекстом — или «текстом о тексте». С этой точки зрения ин­
тересно стихотворение П. Вяземского «Простоволосая головка»,
где игривая девушка и ее «головка» аллюзивно сравниваются
с поэзией А. Пушкина и ее музой:
Все в ней так молодо, так живо,
Так не похоже на других,
Так поэтически игриво,
Как Пушкина веселый стих. <...>
Она дитя, резвушка, мальчик,
Но мальчик, всем знакомый нам,
Которого лукавый пальчик
Грозит и смертным и богам.
В данных строках очевидно соотнесение с текстом «Евгения
Онегина», где шалун «уж заморозил пальчик». Видимо, это стихо­
творение оказало определенное воздействие на В. Набокова.
А именно, строки Вяземского с перестановкой актанта (ср.
у Пушкина: мать грозит ему в окно) стали для него импульсом
метатекстовых вариаций в романе «Дар»: Можно спорить о том,
что есть ли кровь в жилах нашего славного четырехстопника
(которому еще Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно,
крича, что школьникам отдаст его в забаву), но никак нельзя
отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную
задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил [3, 25]. Причем у На­
бокова обыгрываются одновременно и пушкинские строки о че­
тырехстопном ямбе из «Домика в Коломне» (Мальчикам в забаву/
Пора б его оставить), а сами строки «Дара» повторяют при
воспроизведении ямбическую структуру этой поэмы (она написа­
на пятистопным ямбом).
3.3. Дописывание «чужого» текста
С еще одним проявлением открытой метатекстуальности мы
сталкиваемся, когда речь идет о дописывании «чужого» текста.
Хорошо известно, что В. Брюсов написал продолжение «Египет­
ских ночей» Пушкина, к названию которых приписал два подза­
головка: «Поэма в 6-ти главах (Обработка и окончание поэмы
А. Пушкина)».
Два же других продолжения текста Пушкина «В голубом эфира
поле...» о происшествии в Венеции вступают в «потаенную полеми­
ку». Одно из них под названием «Романс» написано В. Ходасевичем
(1924) и связано с его собственным «романом» в Венеции. Второй
текст Г. Шенгели (1925) намекает на пушкинскую жизненную
ситуацию, последний год его жизни, и соотнесен с драматической
поэмой Байрона «Марино Фальери, дож Венеции». Но несмотря на
полемику, текст Шенгели имеет и явную перекличку с текстом
Ходасевича, где строки предшественника изменены в соответствии
с избранным «сценарием» (см. подробно [Перельмутер 1996]).
Еще одним способом «дописывания» текста можно считать
перенесение героев, композиционной схемы и манеры изложения
известного произведения в контекст нового времени, как это
происходит в рассказе М. Булгакова «Похождения Чичикова»
(Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом). Ср.: Погубил же
Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила
Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто
в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах <...> о том, что Чичиков
снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил
словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял. <...>
А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Л. Женни пред­
лагает называть подобную интертекстуальную «перестройку»
интерверсией [Jenny 1976, 277]
3.4. Языковая игра с претекстами
Особый тип интертекстуальной связи обнаруживается при
языковой игре с претекстами и их представителями-специфика­
торами, по которым эти претексты узнаются. Так, у В. Нарбиковой в повести «Ад как Да аД как дА» в контексте — Попофф как
лидер страны с пеной у рта полез на трою, которая билась из-за
Елены, уже рухнув на пол. Ангел как болгарин, как младший брат
русского стая биться, как и Попофф, против трои, и троя была
побеждена. Эти трое сцепились из-за Лены, из-за ее красоты — на
языковом уровне обыгрывается история Трои, ввязавшейся
в войну из-за Елены, при этом восстанавливаются варианты
церковнославянской (и древнеболгарской) формы числительного
трое: трои, троя.
Оказывается что грамматические архаизмы в современной
поэзии и прозе интертекстуальны по своей сущности. Так,
Л. В. Зубова [1996, 112], анализируя поэзию последних лет,
пишет, что древние формы, воспринятые из Библии, Евангелия,
летописей, «Слова о полку Игореве» становятся «граммати­
ческими символами, знаками подтекста, сами по себе являются
цитатой». Особенно показателен пример из Л. Лосева: Внемлите
же княжеску речь./Ах бех на зелии и на небе я бе,/где
ангел губу прижимает к губе,/и все о твоей там известно
судьбе... Подмены же современных форм на древние, например,
инфинитива на аорист, придают интертекстуальному отно­
шению вневременной характер: ср. Проблемы вечной —быть
или не бысть—/Решенья
мы не знаем и не скажем...
(М. Щербаков).
Интертекстуальная игра может вестись на заглавии и ключевых
словах текста. Так, герой повести Нарбиковой «Ад как Да аД как
дА» Александр Семиодин сочиняет музыку к балету «Преступление
и наказание» , где слышны «два голоса Раскольникова»: «тяжелый
металл— это и есть преступление, а камерная музыка—это и есть
наказание», затем «наказание — это и есть тяжелый металлический
рок, бичующий душу Раскольникова». Ср. далее: Было слышно, как
Семиодин * играет: трели разливались легко и радостно, потом послы­
шался явный ударик топорика: «тюк», и Оля сказала: «вот здесь он
старушку тюкнул». Слова ее относились даже не к самому Раскольникову, сколько к тяжелому металлу — к топору, который Семиодин
в буквальном смысле употребил в своей музыке...». Здесь игра идет на
разных значениях слов металл, топор, топорик, рок, которые долж­
ны осмысляться и звучать в двух измерениях — «голосах»: музыкаль­
ном и интертекстуальном (ср. «двухголосое слово» у М. Бахтина).
Сама же фамилия Семиодин обыгрывается в тексте в кругу посло­
виц типа Один в поле не воин, а Семиодин воин и др.
Существуют и случаи интертекстуальной игры, написанные
в технике «сдвигологии» А. Крученых. Сдвиг — это акустико-фонетическое явление художественной речи, когда рядом стоящие
слова или их части способны соединиться в новое слово, ис­
кажающее смысл авторского высказывания (см. [Крученых
1922]). Типичные примеры:
На ум (Наум) мой налетит и вцепится в него (П. Вяземский).
С свинцом (с винцом) в груди лежал недвижим (М. Лермонтов).
Этим приемом охотно пользуются и современные авторы.
Например:
32
2
Бурям глою, небак, роет,
Вихрись, нежны, екру, тя!
Токаг, зверя, наза, воем,
Тоза, плачет, кагди, тя!
Так представляется стихотворение Пушкина с начальной
строкой «Буря мглою небо кроет...» больному сознанию Алексея
Петровича — героя рассказа Т. Толстой «Ночь».
п
Игра «как у Федора Михайловича», видимо, стала одной из самых любимых
интертекстуальных игр современной литературы. Ее активизирует и В. Пелевин
в рассказе с аллюзивным заглавием «Девятый сон Веры Павловны», где литерату­
ра проецируется на современную жизнь, рождая обшие формулы типа «вспоми­
налось словосочетание «Петербург Достоевского».
Фамилия Семиодин перекликается с фамилией реального композитора
Триодина («Князь Серебряный» А. К. Толстого) от слова 'триодь'.
53
Неординарный пример «искажающего сдвига» находим в «По­
двиге» Набокова, когда сначала воспроизводится реплика Грузинова («Вот пристаючие, — сказал Грузинов, —я все равно мороже­
ного никогда не ем»), а потом дается реакция на них Мартына:
«Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти
слова (как в «Незнакомке» Блока)...» [2, 277]. На первый взгляд
кажется, что вставная конструкция осуществляет ложную атрибу­
цию, но затем опознается «сдвинутое» восприятие строк Блока:
34
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривцтся диск.
IV. ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ОСМЕЯНИЕ
ИЛИ ПАРОДИРОВАНИЕ ОДНИМ ТЕКСТОМ ДРУГОГО
Лучше всего сущность пародии вскрыл Ю. Н. Тынянов
в своей статье «О пародии». Он писал, что произведения клас­
сиков, их «макет —очень удобный знак литературности, знак
прикрепления к литературе вообще; кроме того, оперирование
сразу двумя семантическими системами, даваемыми на одном
знаке, производит эффект, который Гейне называл техническим
термином живописцев—«подмалевка» и считал необходимым
условием юмора» [Тынянов 1977, 290]. Литературный критик
и поэт-сатирик Д. Д. Минаев изложил сюжет романа И. С. Тур­
генева «Отцы и дети» в стихотворной форме. Представление
о пародии целиком можно составить уже по одной только строфе:
Кто ж нам милей: старик Кирсанов,
Любитель фесок и кальянов,
Российский Тогенбург?
Иль ОН, друг черни и базаров,
Переродившийся Инсаров —
Лягушек режущий Базаров,
Неряха и хирург?
Пародия —это такое произведение искусства, в котором су­
ществует соотношение трех языковых планов [Новиков 1989].
Сквозь первый план текста (здесь —текст Минаева) обязательно
просвечивает его второй план —текст произведения, которое из­
лагается особым новым способом так, что серьезное становится
смешным, «высокое» —«низким» («Отцы и дети» Тургенева).
4
• О. Дарк в примечаниях к роману по-другому атрибутирует эту аллюзию на
Блока. Они пишет, что «сцена в светской гостиной пародийно воспроизводит
последовательность действий сцены в уличном кабачке (первое видение)— люби­
мый прием Набокова 'повторение хода'* (см. [Набоков 2, 444]).
Каждый элемент нового текста изображает какую-то черту тек­
ста, который становится объектом пародии. Тем самым создается
третий план пародии, задающий интертекстуальную игру и об­
наруживающий иронико-юмористическое мастерство ее автора.
Заботясь об этом «третьем» плане, Минаев неслучайно застав­
ляет говорить Тургенева стихом . Стихотворная форма наиболее
выпукло обнажает индивидуальный стиль автора: она кратка,
и все специфические элементы композиции объемного романа
в ней как на ладони. Однако эти элементы изображены Мина­
евым так, что их оценка заменена на противоположную, а слож­
ность и красота сюжетной линии романа Тургенева значительно
упрощена.
Становится очевидным, что «гипертекстуальность» использует
как подсобное средство все остальные типы интертекстуальных
элементов и связей: цитату, аллюзию, аллюзивные заглавия
и имена собственные, пересказ, интертекстуальную игру и др.
35
V. АРХИТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, ПОНИМАЕМАЯ
КАК ЖАНРОВАЯ СВЯЗЬ ТЕКСТОВ
Архитекстуальность лучше всего обнаружима не в своих поло­
жительных проявлениях, а тогда, когда происходит ее нарушение.
Так, например, сонет известен в поэзии как наиболее «твердая
форма», однако И. Бродский во втором из «Двадцати сонетов
к Марии Стюарт» позволяет себе ввести в архитектонику сонета
сноску в скобках, сливая жанр поэтического текста с жанром
литературно-критического метаописания. В итоге нарушение
архитекстуальности вносит в текст элемент пародии: ср.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
В двадцатом же сонете мы наблюдаем контрастную стили­
зацию: с одной стороны, создается фон пушкинского стиля
и рифмовки, с другой —в поэтический текст вводится способ
организации строк, присущий научному или официально-дело­
вому стилю:
Пером простым — неправда, что мятежным/
я пел про встречу в некоем саду
35
М. Л. Гаспаров предложил здесь дописать: «стихом лермонтовского «Боро­
дино»».
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучаю чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.
Все эти смещения нарочито нарушают строгость сонета и за­
дают интертекстуальную кросс-жанровую игру. Игра на скреще­
нии жанров выводит на поверхность, что «пародия по своей сути
призвана показывать и доказывать, что литература —не таблица,
а система сложных закономерностей и пересечений, что каждый
из жанров непрерывно эволюционирует, что между жанрами идут
напряженные диалоги, перерастающие порой в неразрешимые
конфликты» [Новиков 1989, 33].
Примером подчеркивания архитекстуальности может служить
подзаголовок «Пиндарический отрывок» у стихотворения «На­
шедший подкову» О. Мандельштама. Поэт XX века нарочно ак­
центирует внимание читателя на организации строфики своего
произведения: Мандельштам использует строфу древнегреческо­
го поэта Пиндара (VI—V вв. до н. э.), свойственную его стилю
резкость переходов от одной строфы к другой, а также его основ­
ные мотивы. Следование образцу может быть подчеркнуто и са­
мим заглавием: так заглавие книги трилистников «Кипарисовый
ларец» соотносимо с заглавием книги Ш. Кро «Сандаловый ла­
рец», из которой Анненский перевел три стихотворения.
VI. ИНЫЕ МОДЕЛИ И СЛУЧАИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
6.1. Интертекст как троп или стилистическая фигура
Интертекстуальная связь становится особенно выразитель­
ной, если ссылка на претекст входит в состав тропа или стилис­
тического оборота. Часто конструкцией, вводящей интертексту­
альную отсылку, оказывается сравнение. Классический пример
из «Евгения Онегина» Пушкина: Он возвратился и попал,/Как
Чацкий с корабля на бал.
В сравнениях чаще всего выступают имена собственные, ко­
торые служат концентрированным «сгустком» сюжета текста,
вошедшего в литературную историю. Лирический герой или упо­
добляется библейскому (классическому) прототипу, как в приме­
ре из А. Блока (Вот я низвержен, истомлен,/Глупец, раздавленный
любовью,/Как
ясновидящий Самсон,/
Истерзан и испачкан
или противопоставляет себя ему, как у Баратынского:
кровью),
Безумству
долг мой заплачен,/ Мне что-то взоры прояснило;/ Но, как
рый Соломон,/Я не скажу: все в мире сон!
премуд­
Иногда аналогия с прототипами задается предикативным от­
ношением {Слыть Пенелопой трудно было) или метафорической
номинацией (Но порой,/Ревнивым
гневом пламенея,/Как
зла в сло­
вах, страшна собой,/Являлась
новая Медея!) — так раскрывается
характер Нины в «Бале» Баратынского.
Это предикативное отношение может задаваться «от про­
тивного», как, например, в варианте стихотворения Б. Пасте­
рнака «Памяти Марины Цветаевой»: Ведь ты не Пиковая
дама,/
Чтобы в хорошие
дома/Врываться
из могильной
ямы,/Пугая
и сводя с ума. Как мы видим, здесь предикация развертывается
в тексте, порождая воображаемый сюжет из пушкинского ис­
ходного.
Интертекстуальные сравнения и тропы могут выстраиваться
в цепочку, определяя развитие нового текста, или становиться
метатекстом по отношению к тексту, в котором исходно было
применено сравнение. Так, Пастернак в поэме «905 год» сравнил
подымающийся дым с Лаокооном (скорее со скульптурной груп­
пой «Лаокоон» родосских мастеров):
Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Это «интермедиальное» сравнение (визуальность его заложена
в самой структуре пастернаковских строк) Ахматова в стихотво­
рении «Поэт», обращенном к Пастернаку, превратила в метатекстуальное, так как сосредоточилась на самом акте сравнения: За
то, что дым сравнил с Лаокооном,/Кладбищенский
воспел чертопо­
лох,/ <...> /Он награжден каким-то вечным детством... Этот при­
ем метатекстуального сравнения у Ахматовой, видимо, ассоци­
ируется с поэзией самого Пастернака, потому что в самом начале
«поэтического портрета» поэтесса вводит подобную же интертек­
стуальную модель: Он, сам себя сравнивший с конским
глазом,/
Косится, смотрит, видит, узнает... (ср. у Пастернака: Как конс­
кий глаз, с подушек, жаркий, искоса/Гляжу,
страшась бессонницы
огромной) (см. также [Фарыно 1976]).
Основа интертекстуальной фигуры может обнаруживаться
в обращении. Так, у Б. Ахмадулиной обращение задает атрибу­
цию цитаты, функция которой создать параллель с пушкинским
описанием осени: Судя по хладу светил,/по багрецу перелеска,/
Пушкин, октябрь наступил./Сколько прохлады и блеска! Позиция
обращения, как мы писали выше, сокращает временной и меж­
личностный разрыв между художниками слова и их текстами,
поэтому ее можно считать сильной для интертекстуальной связи:
ср. навсегда ли Делия на время ль/будешь современницей Катулла?
(В. Кривулин. «К Делии»).
В открытом виде апелляцию к предшественникам находим
в развернутом эпитете у М. Зенкевича, который также попадает
в позицию обращения: О предрассветный, воспетый Бодлэром/И
Брюсовым нас,/Как лиловеют с сумраком серым/Орбиты глаз!
У Хлебникова в «Зверинце» инертекстуальное сравнение
представляет собой перекрестную ссылку на два текста:
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как
вписанное в часослов Слово о полку Игореви во время пожара Москвы.
Так поэту удается задать воображаемую ситуацию с опорой на
стиль и тематику «Часослова» и «Слова о полку Игореве». Слово­
образовательное и открытое сравнение мы уже наблюдали в четверостишьи В. Хлебникова «О, достоевскиймо бегущей тучи!..»,
где Ночь смотрится, как Тютчев. И в этом случае приходится
говорить скорее об «интеридеостилевом», чем интертекстуальном
сравнении. В «Признании» же В. Хлебникова, обращенном
к Маяковскому, содержится характеристика стиля предшествую­
щей поэзии: Старые провопли,/Мережковским усните,/Рыдал он
папашей нежности нашей. Созвучно с ним и стихотворение
А. Мариенгофа, посвященное С. Есенину, где образно представ­
лены стили имажинистского направления:
И будет два пути для поколений:
Как табуны пройдут покорны строфы
По золотым следам Мариенгофа
И там, где оседлав, как жеребенка, месяц,
Со свистом проскакал Есенин.
Следовательно, диалоги поэтов могут быть организованы не
только с помощью цитат и аллюзий, но и более сложных семан­
тических преобразований — интертекстуальных тропов и фигур,
отсылающих к целой совокупности контекстов, что и позволяет
нам ввести понятие метатропа (см. 1.3). Так, интертекстуальнос
сравнение Мариенгофа, посвященное стилю Есенина, как бы
собрано из многих тропеических конструкций самого поэта:
В холмах зеленых табуны коней/Сдувают ноздрями златой налет
со дней./С бугра высокого в синеющий залив/Упала смоль качаю­
щихся грив./Дрожат их головы над тихою водой,/И ловит месяц
их серебряной уздой («Табун»); Месяц, всадник
унылый,/Уронил
повода («Покраснела рябина...»); А за ним по большой траве,/Как
на празднике отчаянных гонок,/Тонкие ноги закидывая к голове,/
Скачет красногривый жеребенок? («Сорокоуст»).
Подобные контексты в новом тексте могут связываться звукосемантическим эхом в единую интертекстуальную конструкцию,
как у Б. Кушнера в стихотворении «Анне Ахматовой» (И будет
вечно осиянно,/Несущее тепло и свет /Твоё простое имя— Анна,/
Твой сор, рождающий сонет), где имя поэтессы, «сладчайшее для
губ людских и слуха», указывает «осиянный путь» ее «печальной
музы» — растить стихи «из сора».
Значит, сравнение, звукопись и сложные комбинации тропов
также образуют конструкции «текст в тексте» и «текст о тексте».
Это позволяет некоторым ученым утверждать, что аллюзии и дру­
гие интертекстуальные фигуры сами порождают особый вид тро­
пеических отношений (см. 1.3).
6.2. Интермедиальные тропы и стилистические фигуры
Не менее распространены в поэзии и прозе и интермедиаль­
ные семантические фигуры, в основе образности которых лежат
семиотические переносы, базой которых служит сравнение изоб­
разительных средств разных искусств. Чаще всего возникают
сравнения с живописным визуальным рядом, как например,
в «Поэме без героя» А. Ахматовой: Вся в цветах, как «Весна»
Боттичелли./Ты друзей принимала в постели. При этом оказыва­
ется, что позиция обращения является сильной и в случае интер­
медиальной связи, так как сопутствующие ей диалогические
формы 2-го лица делают рождение метафоры визуальной: ср. Все
на свете — вдруг,/мимо цели, в цель ли,/в яблочко ли, в круг,/друг
мой Боттичелли./Крепче кистью
вдарь/одеревенелой,/отплеснет­
ся дань/пенною Венерой (Н. Горбаневская). Этот текст Н. Горбаневской ретроспективно обнаруживает, что и в основе текста
Мандельштама «Silentium» также лежит интермедиальный троп,
заставляющий замолчать и прислушаться к музыке: Останься
пеной, Афродита,/И\ слово, в музыку вернись,/И, сердце, сердца
устыдись,/С первоосновой жизни слито! Совсем другие обертоны
у современного поэта Н. Брауна: в его стихах мандельштамовская
метаморфоза «Афродита-пена» переворачивается — Если можешь,
выйди, встань из пены/Афродитой новой надо мной.
Ритм поэзии могут дополнять и непосредственные музыкаль­
ные ассоциации. Неслучайно И. Северянин называет себя «ком­
позитором», ищущим свой ритм на пересечении ритмов Грига,
Верди и Берлиоза:
Якомпозитор:
под шум колес
Железно-дорожных—
То Григ, то Верди, то Берлиоз,
То песня острожных.
Я—композитор: ведь этот шум
Метрично-колесный
Рождает много певучих дум
В душе монстриозной.
У А. Вознесенского есть случаи сравнения визуальных ис­
кусств с изобразительным рядом словесного искусства. Так,
в стихотворении в прозе о знаменитой балерине находим преди­
кативную метафору:
Плисецкая — Цветаева балета.
Ее ритм крут, взрывен.
А далее следует описание стиля балерины, включающее в себя
стихи Цветаевой («Кармен»). Саму Плисецкую Вознесенский
называет «гением чистой красоты» — среди издерганного сума­
тошного мира».
Сложное переплетение аллюзий находим в стихотворении
Г. Айги «Казимир Малевич» (1962), где словами и линиями,
образованными знаками тире, нарисована некоторая общая кар­
тина авангардного искусства XX века:
город — страница — железо — поляна — квадрат:
— прост как огонь под золой утешающий Витебск
— под знаком намека был отдан и взят Велимир
— а Эль он как линия он вдалеке для прощанья
— это как будто концовка для Библии: срез — завершение — Хармс.
Тут и знаменитый «Черный квадрат» Малевича, и Витебск
присутствующий в картинах Шагала, и «намеки слов» Велимира,
и его «Слово об Эль», где Хлебников пытается описать буквы на
языке тригонометрии: Эль —путь точки с высоты,/Остановлен
ный широкой плоскостью. Концовкой же этой эпохи становится
Хармс, абсурдистское творчество которого уподоблено «концу
света», предсказанному Библией. И именно Хармс читает над
могилой Малевича стих, посвященный его памяти («На смерть
Казимира Малевича»).
6.3. Звуко-слоговой и морфемный типы интертекста
Своеобразный звуко-слоговой тип интертекста можно обна­
ружить в технике палиндрома, если сравним, например, такие
тексты, как
ишь, уДЛРИЛЛ ЛИРА души В. Гершуни и
а ЛИРА ДАРИЛА
еще и еще Н. Ладыгина;
или более классические примеры из Г. Державина
Я РАЗуму уму ЗАРя
и В. Хлебникова
и лалы пылали
ЗАРе РАЗ.
В них память слова фиксирует определенные звуко-слоговые
сочетания и их положение в строке, затем эти сочетания повторя­
ются как целое в разных комбинациях.
Нередко палиндромы рождаются из паронимических цепочек,
подобных стихотворным или тем, что встречаются в прозе поэта.
Ср., например, вариации на тему темы и ноты темнот в «Даре»
Набокова:
Из темноты... ноги... тесно... по тонкому канату... теней... темней
и палиндром Н. Ладыгина:
но ты тонка как ноты тон.
Все эти явления говорят о том, что звуковая и ритмикосинтаксическая память слова связана с «двойным течением речи»
и обратимостью единиц поэтического языка.
Оказывается, что поэтическое слово обладает памятью и по
частям, поэтому единичные в литературе словообразовательные
контексты опознаются даже по морфемам (ср. у Бродского: Ниткуда с любовью, надцатого мартобря,/дорогой уважаемый ми­
лая, но не важно/даже кто.., где очевидно следование беспоря­
дочному словообразованию, синтаксису и датированию текстов
36
«сумасшедшего» у Н. В. Гоголя) . Петербургский же поэт А. Ле­
вин, последователь теории «лингвопластики», использует суф­
фиксы и окончания уже в качестве подлежащих, получая языко­
вые объекты, обладающие (как минимум) двойной семантикой:
непосредственным звучанием (и связанными с ним ассоциаци­
ями) и семантикой подразумеваемых слов, в которых они пре­
имущественно используются. Ср.
Блаженны инные и янные, ибо их есть
царствие небесное.
Блаженные авливаемые-овываемые, ибо их есть
не пора еще. <...>
Дважды блаженны айшие и ейшие, ибо их есть
у нас, а нас есть у них!
Однако расшифровка источника возможна даже и тогда, когда
лежащие в основе интертекстуального взаимодействия строки
представлены только первыми буквами. Ср. у В. Друка: Твой дядя
с. ч. п. А мой не в шутку. Твой — ув. А твой? ТЕКСТ может быть
прочитан только ТЕКСТОМ («Дневник прошлого года»). В этом
случае контекст становится «декодирующим устройством»
и одновременно метатекстовой рамкой, внутри которой про­
исходит не только дешифровка пушкинской цитаты, но и воз­
никает новый поворот восприятия, связанный с образованием
аббревиатуры.
6.4. Заимствование приема
Иногда у художников слова обнаруживаются интертекстуаль­
ные соответствия, которые можно назвать «заимствованием при­
ема», так как основа заимствования лежит в технике построения
фразы, строфы или целостной композиции. Нередко такой тип
межтекстового взаимодействия называют структурной цитацией
(И. Смирнов, А. Жолковский), однако «структурность» здесь
слишком общее понятие, поскольку обычно при «заимствовании
приема» происходит иррадиация структур одного уровня в струк­
туры другого.
Так, например, у Г. Шпаликова аллюзия задается конструк­
цией перечисления с предлогом «о» и повтором одного члена —и
сначала работает комбинаторная память слова: Редеет круг дру­
зей, позови,/Давай поговорим, как лицеисты — /О Шиллере, о слаь
• Ср. также у М. Волошина в поэме «Россия»: До Мартобря (его предвидел
Гоголь!)/В России не было ни буржуа,/Ни классового пролетариата...
ее, о любви,/О женщинах — возвышенно и чисто. Однако намерен­
ное расширение атрибуции (как лицеисты) задает поиск межтек­
стовых соответствий на других уровнях: структурная и тематиче­
ская параллель со знаменитым блоковским «О доблестях, о по­
двигах, о славе...» становится фоном, на котором проявляются
пушкинские тексты «19 октября» и строка «Редеет облаков лету­
чая гряда...».
Можно найти аналогию и в конструкциях перечисления,
образующих вертикальный ряд сначала у Пастернака, затем
у Асеева; причем конструктивная схожесть подчеркивает тема­
тическую:
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.
(Пастернак «905 год»)
И вот его
в Строгановское училище
засунула:
в сумрак,
в холсты,
за порог.
(Асеев «Маяковский начинается»)
Заимствование графической или синтаксической конструкции
почти всегда имеет глубинную установку. Так, читаем у А. Ере­
менко в стихотворении «Мы поедем с тобою на «А» и «Б»...»
на фоне общего «убийственного» мандельштамовского контекста
выступает и структурная параллель «Стихов памяти Андрея
Белого» :
37
Часто пишется «мост», а читается — «месть»,
и летит филология к черту с моста.
Однако она, в связи с общей установкой на «московскую
географию», вводит в текст новую оппозитивную паронимическую рифму, которая в конце концов «прерывает» подобие тек­
стов и переводит текст Еременко в ранг «текста о тексте».
Анализ подобной «цитации» обнаруживает повышенную
«структурность» стихотворных конструкций Мандельштама: они
очень часто используются как каркас для новых семантических
наслоений. К Мандельштаму особенно неравнодушен Б. Кенжеев, и в его тексте с эпиграфом из С. Гандлевского «Я жил в одной
стране...» появляются аллюзивные строки:
Неужели хвалиться нечем ? Нитка, пяльцы, канва, игла.
В ненаглядной Европе вечер, а в России и вовсе мгла.
57
Ср. у Мандельштама: Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,/
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?
Безусловно, строки Мандельштама (В Европе холодно. В Ита­
лии темно) подвергаются здесь не только «географической», но
и ритмической трансформации, однако их глубинный семантиче­
ский импульс остается ведущим.
Именно поэтому чаще всего заимствуются не столько фор­
мальная структурная рамка, а «семантический план» некоторого
высказывания. Наглядный пример находим в статье Викт. Ерофе­
ева «Поэта далеко заводит речь...» о поэзии И. Бродского. Вопервых, ее аллюзивное заглавие соединяет текст Ерофеева со
статьей Бродского о Цветаевой, в которой цветаевские слова
о «речи» ключевые, во-вторых, Ерофеев обыгрывает слова самого
Бродского о пяти поэтах, которых он назвал в числе своих
учителей (Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Оден, Фрост): «В
лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой —но всегда
меньшей, чем любая из них в отдельности». Это «аматематическое»
ядро мысли Бродского Ерофеев делает выводом своей статьи: он
пишет, что «сумма двух культур, американской и русской, для
языкового состояния поэта может оказаться меньше каждого из
слагаемых» [Викт. Ерофеев 1996, 230]. Значит, межтекстовые свя­
зи, основанные на заимствовании морфологической стороны
смысла, становятся основой порождения новых смыслов, кото­
рые могут образовывать свою парадигму и уходить все дальше
и дальше от исходного.
VII. ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
Понятие «поэтической парадигмы» разработано Н. В. Павло­
вич. В его основе лежит идея о том, «что каждый поэтический
образ существует не сам по себе, а в ряду других, сходных с ним
образов. Это значит, что он не случаен, не обусловлен только
данным контекстом, а реализует некоторую «общую идею», мо­
дель, образец, или — парадигму» [Павлович 1995]. Может возник­
нуть справедливый вопрос: чем такие поэтические парадигмы
отличаются от интертекстуальных заимствований? В так называ­
емых «поэтических парадигмах» признак «общности» позволяет
понимать высказывание без обращения к какому-либо уникаль­
ному, индивидуальному контексту: ср. Глаза ему тонны туманов
слезят (1917) Пастернака на фоне Слеза туманит взор,/И сумрак
ночи движется туманно... (1898) Блока, Был взор слезой приличной
затуманен (1912) Мандельштама и др. Повторение «модели»,
«идеи» и ее конвертируемость в данном случае не требует обяза-
тельного повторения слов, ее развивающих. Вполне возможно,
что истоком такой «модели» также было индивидуальное «заим­
ствование приема», но затем это «заимствование» освоилось в по­
этическом языке, стало основой определенного образа. В отличие
от формул «парадигмы», цитата или аллюзивная интертекстуаль­
ная отсылка всегда ориентированы на узнавание, «повтор непов­
торимого» контекста». Так, у Н. Асеева в поэме «Маяковский
начинается» высказывание-цитата, вписанная в текст (И мир
раскрывался ему —не жемчужною шуткой Ватто,/<...>,/а
тенью
решетки перевитой (о Маяковском)), может быть расшифрована
только при обращении к тексту-источнику, в данном случае
строкам из «Сестры — моей жизни» Пастернака: Как жизнь, как
жемчужную шутку Ватто,/Умеют обнять табакеркою... Сами
эти строки Пастернака, как считает И. П. Смирнов, — полемиче­
ский ответ на статью Н. Радлова, опубликованную в «Аполлоне»
и посвященную критике футуризма. В частности, у Радлова есть
такие строки: «Но как избежать того, чтобы он не положил ноги
на кресло красного дерева и не заплевал окурками любимого
рисунка Ватто» (цит. по [Смирнов 1995, 49]). Следовательно,
у Асеева создается многомерная игра разными контекстами,
и «опознание» каждого из них способствует углубленному пони­
манию всей поэмы.
Подводя итог, скажем, что интертекстуальность как составная
часть любого художественного творчества подразумевает установ­
ку на «моделирование адресата как носителя общей с адресантом
памяти» [Смирнов 1995, 69]. Адресат — лицо, от которого ожида­
ется восприятие когерентности данного текста путем обращения
к предыдущему языковому опыту. В ходе чтения текста читатель
по объему информации в пределе должен приближаться к автору,
автор же выступает как лицо, которое в процессе порождения
соединяет свой текст со своими и чужими предшествующими
текстами, т. е. «подменяя интратекстуальную связь интертексту­
альной, раскрывает себя как читателя» [там же]. Создается об­
ратимость отношений «адресант —адресат», и возникает ситуа­
ция литературной «транстекстуальности», которая очень точно
описана в книге Т. Кибирова с «говорящим» названием «Парафразис»: И, куда ни поверни,/здесь аллюзии,
цитаты,/символист­
ские закаты,/акмеистские цветы,/баратынские
кусты,/достоевские старушки/да гандлевские чекушки,/падежи и времена!/ Это
Родина. Она/и на самом деле наша.
ЧАСТЬ 2
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И
И Д И О С Т И Л Е В Ы Е ВЛИЯНИЯ
2.1. ИДИОСТИЛЕВЫЕ ВЛИЯНИЯ,
ИЛИ Е Д И Н Ы Й ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Как поэт он выше меня.
Пастернак о Пушкине
«Медный Всадник» — все мы находимся
в вибрациях его меди.
А. Блок
В разделе об автоинтертекстуальности (1.4) мы уже ставили
вопрос об эволюции идиостиля, которая одновременно осуществ­
ляется как за счет внутренних источников, так и за счет взаимо­
действия с индивидуальными стилями других авторов. При этом
период развития творческой языковой личности за счет внутрен­
них источников всегда сменяется периодом «диалогической ком­
муникации», когда необходимо взаимодействие с текстами, несу­
щими другую точку зрения, или обращение к альтернативной
поэтике.
Мы также выделили два возможных направления обновления
своей креативной системы: (1) ориентация на «чужую» поэти­
ческую систему как лучшую, когда художник слова берет за
«образец стиля» как в содержательной, так и чисто операциональ­
ной сфере тексты своего предшественника (причем объект такого
выбора может или обнажаться, или маскироваться); (2) представ­
ление «своего» стиля как «чужого» по отношению к себе, взгляд
на себя с позиции третьих лиц —период объективации своей
поэтики, знаменующий или смену формы выражения (стих/про­
за), или смену жанра. Отношение «свой как чужой» позволяет
писателю «раздвоить свое авторство» (М. Бахтин) и обновить
принцип, согласно которому он осуществляет процесс «ограни­
чения, исключения и выбора» (Р. Барт).
В некоторых случаях «диалогическая коммуникация» даже
может становиться внешней. Так, например, ряд текстов Манде­
льштама и Ахматовой «аранжируется в виде диалога так, что
у исследователя есть право говорить о некоем общем тексте,
построенном как последовательный ряд двойных зеркал, через
которые проводится тема. Существенно то, что в этой системе
сказанное одним поэтом отражено как бы с переменой авторства
в зеркале другого поэта» [Левин, Сегал и др. 1974] .
Когда же такой «диалог» у автора приобретает внутренний
характер, такие композиционные мотивы-функции, как «зерка­
ло», порождающее эффект двойничества, само отношение «двойничества», а также мотив «перерождения личности», который
строится как сюжетная метаморфоза: смерть одного —(воз)рождение другого, становятся текстопорождающими. Часто эти моти­
вы-функции (или в нашей терминологии — композиционные ме­
татропы) комбинируются друг с другом. Выбор уже существую­
щей композиционной схемы для нового художника за исходную
предопределяет развитие одной творческой личности по образцу
другой.
К примеру, тот факт, что Пастернак выбирает для своего
романа «Доктор Живаго» композиционную модель «смерти ав­
тора», подобную той, что была заложена Пушкиным в «Повестях
покойного Ивана Петровича Белкина», связан у поэта XX века,
как и у его гениального предшественника, с тем, что Пастернак
отказывается от своей прежней манеры письма и резко меняет
стиль своего художественного выражения как в прозе, так
и в поэзии.
Конечно, в метатекстуальной организации «Повестей Белки­
на» и романа «ДЖ» много разнящихся моментов. Так, «отказ от
авторства» у Пушкина выражается в том, что он выступает как
издатель (А. П.) текстов умершей литературной личности.
В «ДЖ» автор реально не присутствует в прозаической части
романа, разница состоит и в том, что после смерти поэта Живаго
публикуются его стихотворения, а не прозаические повести, ха­
рактеризующие манеру безликого Белкина (см. 2.2). Однако та­
кую роль автора-публикатора, по мнению некоторых исследова­
телей романа «ДЖ» (см. [А. Эткинд 1999]), выполняет сводный
брат Живаго по имени Евграф. Это имя в переводе с древнегрече­
ского означает «хорошо пишущий», но оно может считаться и как
склеенное из части имени Ев-гений и слова граф (заменяющего
1
1
Ср. хотя бы двустишие Мандельштама, обращенное к Ахматовой, — Целует
мне в гостиной руку/И бабушку на лестнице крутой (1917) — и строки Ахматовой:
Перенеся двухдневную разлуку,/К нам едет гость вдоль нивы золотой,/Целует
бабушке в гостиной руку/ И губы мне на лестнице крутой (1917).
часть «гений»), и таким образом пастернаковский роман по свое­
му строению предстает как «сращение» романа в стихах «Евгений
Онегин» с классическими романами графа Толстого .
В «Евгении Онегине» же заложен символический композици­
онный мотив «смерти поэта» —или иносказательно «конца» того
периода развития личности автора, которую он сам считает «из­
житой», «отошедшей в прошлое». Эта модель также эксплуатиру­
ется в «Докторе Живаго», но еще с большей очевидностью заявля­
ет о себе в «Даре» Набокова. У Набокова мы также имеем дело
с реминисцентной схемой «смерти поэта», аналогичной смерти
Ленского, но далее в романе главный герой-поэт переходит к про­
зе—т. е. рождается прозаик (ср. в конце «Дара»: С колен подни­
мется Евгений, —но удаляется поэт...), который, однако, потерял
«ключи» от «дома» —а именно, от России. При этом в конце
романа и в конце его первой главы даны два сюжетообразующих
диалога Федора (в переводе с древнегреческого его имя означает
«божий дар») с поэтом со значимой фамилией Кончеев (от слова
«конец»), которого тот считал для себя литературным «образцом».
В романе «ДЖ» находим похожий круг трансформаций «рожде­
ние — жизнь — смерть — воскресение» поэта, который ретроспекти­
вно проецируется на эволюцию идиостиля самого Пастернака
и связан с появлением его книги стихов с символическим названием
«Второе рождение», демонстрирующей, что и в сознании Пастерна­
ка идеи «конца» и «второго рождения» тесно взаимосвязаны.
«Дару» по времени написания предшествует роман Набокова
«Отчаяние», где в центре сюжетной интриги убийство пишущим
героем своего воображаемого «счастливого двойника». Два рома­
на связаны одной датой — 1 апреля: в «Отчаянии» ей заканчива­
ются записки сумасшедшего автора, который, видимо, дурачит
читателя, «Дар» же открывается первоапрельским розыгрышем
Федора, в результате которого рецензия на его только что выше­
дшую книгу стихов оказывается не реальной, а воображаемой,
т. е. сочиненной самим Годуновым-Чердынцевым. В «Отчаянии»
при этом фоновым служит интертекстуальный план «Пиковой
дамы» Пушкина и его «Пророка» —стихотворения о «втором
рождении» поэта. И хотя отказ от «германнизма» (имя централь­
ного автора-героя Герман, и он живет в Германии) в пользу
2
2
Как считает П.-А. Бодин [Bodin 1990, 63], еще в «Балладе» книги «Поверх
барьеров» граф Лев Толстой становится для Пастернака символом творчества,
хотя слово «граф», по мнению ученого, также связано с гр. grapho 'пишу' и служит
«олицетворением силы сцепленья в природе и искусстве».
«счастья» и «покоя» (которые заложены во внутренней форме
имени двойника Феликса и его «палке») не срабатывает в «Отчая­
нии», в семантической структуре романа организующим стано­
вится мотив «открытости взгляда» художника, заданный «отвер­
стыми зеницами» «Пророка».
Семантико-композиционная модель отказа от прежней по­
этической системы и переход к новой может задаваться и по типу
отношений «отец —сын», когда «сын» либо «взрывает» установки
отца (чаще всего в роли такого литературного «отца» для худож­
ников Серебряного века выступает А. С. Пушкин) — что мы
наблюдаем в «Петербурге» А. Белого, либо продолжает «отече­
ское начало», преобразуя его, —так построен «Дар» Набокова, где
для героя воскресают и его реальный отец, и Пушкин.
В «Петербурге» Белого «взрываются» и наполняются «медным
оттенком» не только пушкинские тексты, но и тексты Толсто­
го —идеала «письменной литературы» XIX века. В частности,
пародируется «Анна Каренина» (отношения сенатора Аблеухова
с его женой Анной (Петровной)), а также трансформируется
фамилия одного из любимых героев Толстого — графа Безухова:
Без-ух-ов превращается в А-бле-ух-ов, анаграммируя в себе псев­
доним Бел-ый. Благодаря фамилии Аблеухов в «Петербурге» выч­
леняется квазикорень—ух —со значением «слышимый звук», что
знаменует собой переход к звучащей прозе XX века.
Оппозиция проза Пушкина/проза Белого — центральная метапоэтическая тема и в «Даре» Набокова: «прозрачному ритму Арзрума»
Пушкина в романе противостоит голос Белого, «нарвавшийся на
неправильное соединение». В «Арзруме» же Пушкина анаграммированы для Набокова и его героя разум и муза. К слову сказать,
в «Отчаянии» Набокова пародируется почти тот же набор пушкин­
ских текстов, что и в «Петербурге» Белого («Медный всадник»,
«Пиковая дама», «Пора, мой друг, пора...», «Стихи, сочиненные
ночью во время бессонницы» и др.), а звуковая тема «Петербурга»,
на которую указал сам автор (л-к-л, пп-пп-лл) , овеществляется
в центральной детали романа Набокова — палке Феликса, которая
вызывает «отчаяние» пишущего героя, противостоящее его «дару».
Отметим, что во всех анализируемых нами произведениях
XX века (фактически с интертекстуальной точки зрения мы во
3
4
3
Таким образом, мы снова имеем Евгения + графа, однако этот Евгений уже
«бедный, медный сын» XX века.
Эта звуковая тема выступала особенно рельефно при первоначальном загла­
вии романа «Лакированная карета».
4
второй главе анализируем наиболее выдающиеся романы этого
столетия), заглавия и эпиграфы к романам и их частям выполня­
ют не только паратекстуальную (см. 1.5), но и текстообразующую
функцию. Так, смена Белым первоначального заглавия своего
романа («Лакированная карета» -* «Петербург») частично влияет
на его доминантное звуковое наполнение. Согласно нашему ана­
лизу (см. 2.4), звуковая организация романа задается взрывными
звуками п/б, шипящими ж/ш и «главной» гласной у; а доминант­
ным звукообразом романа становится «ужас», который переда­
ется от одного героя петербургского текста другому.
Надо сказать, что и центральный интертекстуальный образ
романа Белого —Медный Всадник, оживающий в новую «ужас­
ную пору», таит в себе еще одну модель «раздвоения»: конь
и всадник в нем не едины, а противопоставлены —в одном
измерении «конь» символизирует «дар», который пытается ук­
ротить «всадник» — «художник слова», в другом — «конь» — это то
природное начало, которое губит «история». Данная оппозиция
«коня» и «всадника» оригинально разрешается в романе «ДЖ»,
где медному, рукотворному, историческому «всаднику» Петер­
бурга противостоит «всадник» с обратными дифференциальными
признаками: природный, вечно оживающий Святой Георгий,
изображенный на гербе Москвы. Так, Петербургский текст рус­
ской литературы в «ДЖ» оказывается противопоставленным
Московскому.
Еще одним пушкинским произведением, которое подверга­
ется многократному оживлению и трансформации в литературе
Серебряного века, являются «Стихи, сочиненные ночью во
время бессонницы» с доминантной для межтекстового взаимо­
действия строкой-темой «жизни мышья беготня» . Сначала сло­
весный символ «мыши» играет в «Петербурге» Белого, где он
соотнесен с «мыслью» (эта «мышь-мысль» объединяет Аполлона
Аполлоновича и Николая Аполлоновича), звуковой же состав
пушкинской строки отдается в «скучном шепоте» Петербурга
и становится «шипящей» основой романа. Затем главный герой
«Отчаяния» Герман (символ «Петербургского текста», перенесен5
6
5
Интересны в этом отношении рисунки Пушкина, изображающие медного
коня без всадника: видимо, сам «всадник» бежит от «коня своего».
Метатекстовое и метаязыковое осмысление этой «строки» содержится
и п стихотворении «Что поют часы-кузнечик...» (1918) Мандельштама (Чтозубами
мыши точат/'Жизни тоненькое дно), и в заглавии «Война в мышеловке» (1915 —
1922) Хлебникова.
6
Рис 8
ный в Германию) понимает, что «у всякой мыши — свой дом, но не
всякая мышь выходит оттуда», когда же он оказывается загнан­
ным в угол (деревню, где он скучал), у себя в углу новой комнаты
он обнаруживает «мышеловку» (см. 2.6). В «Даре» Набокова Фе­
дор и его «отец», образ которого дублируется с пушкинским, на
склонах «снеговых гор» обнаружили «бабочку» —лавру импера­
торского аполлона (которая служит в романе символом поэзии)
и открыли новую змею, питающуюся мышами, причем та мышь,
которую я [Федор] извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным
видом [3, 111].
В романе «Доктор Живаго», где центральный герой проециру­
ется на «князя Христа» Мышкина (см. 2.3), «мышиные» аллюзии
связаны с темой Преображения. Когда Живаго возвращается
с Урала в Москву, на его пути оказывается река , которая почти
сливается с облаками: Текла река. Ей навстречу шла дорога. По ней
шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака [3, 460] .
7
8
7
Как известно, в романе по отношению к Живаго концептуализируется
паронимия речь-реченька, и его имя второй раз соотносится с Христом (в Библии
Христос носит эпитет «Реки Жизни», а голос его сравнивается с «шумом вод
многих»).
Ср. также в стихотворении «Чудо» из библейского цикла Живаго: Он шея
с небольшою толпой облаков/По пыльной дороге...
8
И поскольку Преображение Христа как раз связано с «гласом из
облака глаголющим» (Мф. 17:5), эта «дорога» действительно
оказывается для Юрия символической: все поля вокруг кишели
мышами, все было наполнено их «мелким неугомонным копоше­
нием»—так Пастернак строит аллюзию к пушкинской строке
о «жизни мышьей беготне».
Этот аллюзивный смысл проясняется благодаря статье М. Во­
лошина «Аполлон и мышь», где раскрывается, что «мышь» свя­
зана с Аполлоном (богом поэзии и искусств) и взаимодополнительна по отношению к нему —она знак ускользающего мгнове­
ния и пророческого дара. В этой связи «играет» описываемая
в статье Волошина статуя Аполлона, который пятой наступает на
мышь. Эта статуя Скопаса, по мнению Ницше, «являет то же
архитектурное и символическое расположение частей, что и Рафаэлево «Преображение». <...> Вверху солнечный бог, ниспослатель пророческих снов — внизу под пятой у него «жизни мышья
беготня» [Волошин 1988, 111]. Именно таким поэтом-Аполлоном
среди «мышей» и оказывается Живаго на пути, а затем в самой
Москве, где найдет свою смерть (которая, как он считал, насту­
пит в день Преображения) и бессмертие (см. [Смирнов 1996, 81]).
Эта же статуя Аполлона, пятой наступившего на мышь, ранее
в «Петербурге» Белого, оказывается подобной статуе Медного
Всадника, под пятой которого раздавленная змея: змея у Белого
символически заменена на «бомбу», похожую на «мышиную ку­
чу», которую «сын» подкладывает своему «отцу» Аполлону. Бла­
годаря подобным пересечениям новыми смыслами наполняются
и строки Набокова о новом типе «змеи, питающейся мышами».
Итак, с какой бы точки интертекстуального взаимодействия
мы не начали свое исследование, мы всегда, подобно стрелке
«часового механизма» в романе «Петербург», замыкаем опреде­
ленный круг и начинаем новый, так что почти все произведения
художников слова Серебряного века оказываются связанными
между собой. Они связаны и общей проекцией на «золотой век»
русской литературы, и этот «'принцип возвратности поэтиче­
ского слова, преодолевающего разновременность и разноязычность', соотносим в более общем плане с уже отмечавшейся
архетипической схемой вечного возвращения» [Левин, Сегал
и др. 1974, 485] (см. 1.2).
В этом смысле в связи с межтекстовым взаимодействием
вновь всплывает принцип контрапункта: расходящиеся в автор­
ском и временном отношении интертекстуальные линии, име-
ющие один и тот же текст-источник (либо некоторый «текст»
несловесного искусства в случае интермедиальной связи, как
в примере со статуей Аполлона), в одном из текстов обязательно
сходятся друг с другом, порождая подчас странные и необъясни­
мые амальгамы взаимодействия стилей. Причем более «новые» по
времени написания тексты, впитывая в себя фрагменты и струк­
турные схождения более ранних текстов, подвергают их «синхро­
низации и семантическому преломлению», но не отвергают при
этом и первоначальный смысл претекстов — он «как бы сосу­
ществует с преломленным, диахронически соотнесен с их источ­
никами» [Ронен 1973, 374). Именно поэтому многие исследова­
тели текстов Серебряного века, начиная с К. Ф. Тарановского
и его учеников (например, О. Ронена), используют для наимено­
вания такого типа интертекстуальной связи термин «подтекст»,
который впрямую связан с «возвратностью» поэтического смыс­
ла . Однако, на наш взгляд, межтекстовой связи присуща не
только возвратность, но и смысловая обратимость.
Если, к примеру, после анализов таких текстов, как «Египет­
ская марка» Мандельштама, «Дар», «Отчаяние» Набокова, «Док­
тор Живаго» Пастернака, мы вновь обратимся к «Петербургу»
Белого, то вычитаем совершенно новые интертекстуальные
смыслы, инкорпорированные в нем. Благодаря более поздним
текстам, например, «Отчаянию» и «Дару» В. Набокова, концеп­
туальные и композиционные «узлы» романа «Петербург» обнару­
живают межтекстовые связи с петербургскими текстами
Н. В. Гоголя (в первую очередь с «Портретом»: старик-азиат как
бы перевоплощается в Шишнарфнэ), романами Ф. М. Достоев­
ского «Преступление и наказание» (Аблеухов-младший соотно­
сится то с Германном из «Пиковой дамы» —он даже как бы
мысленно диалогизирует с Германом Германовичем (Я, Герман
Германович, тоже... Мне пора...), то с Раскольниковым над «дро­
жащим муравейником», как впоследствии и Герман «Отчаяния»,
понимающий, что ему «пора...») и «Идиот» (тема «Ипполита
Мышкина» как скрещение двух противоположных героев Досто­
евского затем переосмысляется в «Даре»). Все эти «узлы» у Бе­
лого, «разорванные на части», в результате повторного прочтения
вступают между собой в новые функционально-семантические
связи, которые пополняют единое межтекстовое пространство.
9
9
«С точки зрения возвратности,—пишет О. Ронен |1973. 375) — подтекст,
в понимании К. Ф. Тарановского, можно определить как источник повторяемого
элемента, как текст, диахронически соотнесенный с исследуемым».
Благодаря «Отчаянию» новыми семантическими красками
начинает играть повесть «Портрет» Гоголя, которая, как и впо­
следствии многие романы Набокова, посвящена отношению
художника к своему божьему дару. Как мы уже отмечали,
последняя дата записок Германа—1 апреля. Этой же датой
заканчивается очерк Набокова «Николай Гоголь», и она знамена­
тельна тем, что это дата рождения портретируемого Набоковым
писателя, который был для него (как и для А. Белого) «образ­
цом» стиля (см. 2.6). Неудивительно поэтому, что одним из
вариантов заглавия, наряду с окончательным — «Отчаяние», пи­
шущий роман Герман предлагает—«Портрет автора в зеркале».
При этом в «Отчаянии» все время идет речь о портрете, который
пишет с Германа художник Ардалион, однако на этом «портре­
те», который Герман характеризует как «чудовищный», до по­
следнего момента «нет глаз» —их художник решил оставить
напоследок. Главное же, что различало, по мнению Германа, его
с двойником Феликсом, это было «выражение глаз». Эту разницу
герой не учитывал, так как считал, что у трупа глаза будут
закрыты. Однако Феликс, имеющий роковую «палку» с «глаз­
ком», единственный, кто смотрит Герману «прямо в глаза»
в пророческом сне.
В связи со всем описанным кажется знаменательным, что
в повести «Портрет» Гоголя слова «портрет» и «глаза» являются
наиболее частотными полнозначными словами (93 и 68 соот­
ветственно), и им всегда сопутствуют предикаты зрения (глядеть,
впериться). Когда же речь идет о загадочном портрете, который
перевернул всю жизнь Чарткова и который вызывает у него
«страх» и «ужас», то Гоголь постоянно использует эпитеты «жи­
вые» и «человеческие» (ср. Это было уже не искусство: это
разрушало гармонию самого портрета. Это были живые, это были
человеческие глаза! [3, 105]). В центре повести Гоголя находится
и портрет кисти Леонардо да Винчи, который был для Чарткова
«образцом» портретного искусства. Этот портрет сам Леонардо
считал неоконченным, хотя работал над ним более десяти лет, но
«окончательнее всего» на портрете «были глаза, которым изумля­
лись современники» [3, 105]. Один раз в «Портрете» появляется
высокое слово «очи», когда потерявший свой дар Чартков смо­
трит на картину молодого талантливого художника: С очей его
вдруг слетела повязка [3, 140].
10
10
Имена Леонардо и Ардалион по звуковому составу очень близки.
11
Четыре раза в части о Чарткове звучит мотив «отчаяния» ,
причем три раза на границе «яви» и «сна»: сначала Чартков,
полный отчаяния, старается во сне удержать сверток с червон­
цами, затем, второй раз пытаясь выйти из состояния сна, худож­
ник с воплем отчаяния отскакивает от портрета, который «вперил­
ся» в него «живыми глазами» и хочет «губами» его «высосать»; и,
наконец, просыпаясь третий раз, Чертков обращается к Богу и,
крестясь отчаянно, просыпается окончательно. В последний, чет­
вертый раз «отчаянно» появляется, когда Чартков, рассматривая
свои первые картины понимает, что зря поддался искушению
денег и славы: «Да, — проговорил он отчаянно,—у меня был та­
лант. Везде, на всем видны его признаки и следы...» [3, 141].
И в этот момент он вновь видит необыкновенный портрет,
который до этого времени был для него закрыт с тех пор, как он
нашел сверток с червонцами (Глаза его встретились с неподвижно
вперившимися на него глазами [3, 1 4 2 ] / Так, вероятно, смотрел на
Германа во сне Феликс (смерть которого должна была принести
герою материальное благополучие), когда в романе «Отчаяние»
«Герман нашел себя», и этот знаменательный переход от первого
к третьему лицу является ритмическим отражением фразы «Пи­
ковой дамы» Пушкина: Германн сошел с ума. Как мы помним,
и последний взгляд Чарткова на портрет, который принес ему
богатство, был роковым — после этого тот сходит с ума. И Гоголь
замечает, что в Чарткове (чья фамилия паронимична слову
«черт»), «казалось <...> олицетворялся тот страшный демон, ко­
торого идеально изобразил Пушкин» [3, 143].
Затем мы узнаем, как писался сам «дьявольский» портрет
и что труднее всего художнику, рисовавшему азиата, дались глаза:
«Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько
было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их
точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он
решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка,
постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углуб­
ляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное
отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на
12
11
В последний пятый раз это слово появляется в связи с князем Р., который
преобразился после встречи с ростовщиком, стал истязать свою жену, и в конце
концов «в порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужасней­
ших муках окончил жизнь».
Ср. у Пушкина: [Мое] беспечное незнанье/Лукавый <?> демон возмутил,/И
он мое существованье/С своим на век соединил/Я стал взирать [его глазами]...
12
несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь.
Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти
глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непости­
жимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему
сделалось страшно» [3, 162]. Так страшное, неизъяснимое, непости­
жимое начало входит в произведение искусства, и задано оно
«неизъяснимым» началом «Пиковой дамы».
Все факты вместе заставляют думать, что, в сущности, «Пор­
трет» Гоголя и «Отчаяние» Набокова говорят об одном и том же
(в их основе лежат одни и те же концептуальные метатропы):
и «живая душа», и «дьявольская сила» проявляются прежде всего
в «глазах» и «взгляде» художника; когда же на «портрете», т. е.
в произведении, «нет глаз» или на них «бельмо» или «повязка»,
«одаренного» художника постигает «отчаяние» .
Позже идея гоголевского «Портрета» о том, что граница
между искусством и действительностью зависит от «остроты
зрения» художника, будет «проведена через разное» в романе
«Дар» Набокова. В романе «ДЖ» Пастернак также напишет
о том, что интерес «доктора» Живаго к «физиологии зрения»
связан с размышлениями о существе художественного образа,
но будет, наоборот, настаивать на идее взаимопроникновения
жизни и искусства.
Возвращаясь к вопросу о идиостилях, отметим, что при их
описании часто пользуются такими научными метафорами, как
«портрет языковой личности» и «языковая картина мира». Логич­
но предположить, что интертекстуальное взаимодействие вызы­
вает наложение определенных фрагментов картин различных ху­
дожников слова; причем такое наложение может оказаться и «ис­
кажающим»
(например,
при
пародировании).
Подобное
наложение происходит прежде всего в ситуативной сфере, соб­
ственно воспроизводящей фрагменты языковых картин: напри­
мер, Медный Всадник, бегущий за бедным Евгением, у Пуш­
кина —> Медный Гость, несущийся за Дудкиным, в «Петербурге»
Белого —• «Страшная каменная дама в ботинках Петра Великого
ходит по улицам и говорит: ...Петербург, ты отвечаешь за бедного
твоего сына» — в «Египетской марке» Мандельштама. Сравнение
ситуаций обнаруживает, что у Белого и Мандельштама на основа­
нии общего интертекстуального смысла «оживание неживого»
13
11
В «Отчаянии» в связи с «Портретом автора в зеркале», видимо, играет
и гоголевский эпиграф к «Ревизору»: Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
(памятника и игральной карты) в картину «Медного всадника»
инкорпорируются фрагменты «Каменного гостя» и «Пиковой
дамы» Пушкина.
Очевидно, что любое смещение в структуре ситуации вызывает
и перераспределение концептуальных признаков, положенных
в основу модели этой внутренней ситуации. Сами концептуаль­
ные установки (или метатропы) меняют доминирующие ракурсы
видения внутренних ситуаций и формируют так называемую
«точку зрения» художника. Так, выведение Пастернаком на пер­
вый план метонимического принципа «человек —зеркало —глаз»
позволяет ему отразить на себя метафорическое отношение «чело­
век—конь», которое задано описанием живого Петра и его коня
в «Полтаве», и совместить план «глаз» с планом «бессонницы».
Ср.
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
(«Темы и вариации»)
на фоне пушкинских строк:
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
Тема глаз Петра и его «грозового» темперамента была ранее
развернута Пастернаком в цикле «Петербург», где Петровы «гла­
за»—прямое отражение вод, которые тот покоряет (Когда на
Петровы глаза навернулись,/Слезя их, заливы в осоке!), а «божия
гроза», согласно общему пастернаковскому принципу превраще­
ния внутреннего во внешнее, реально нависает над Петербургом
вместе с «царской яростью» (Он тунами был, как делами, завален./
В ненастья натянутый парус/ Чертежной щетиною ста готова­
лен/Врезалася царская ярость) и «огромной бессонницей», соеди­
няющей разные денотативные пространства (Века пожирая, стоя­
ли/Шпалеры бессонниц в горячечном гаме/Рубанков, снастей и пи­
щалей).
Выявление таких ситуативных и концептуальных наложений
безусловно происходит благодаря референциальной, комбина-
торной, звуковой и ритмико-синтаксической памяти слов, что
мы и наблюдаем во всех разобранных нами примерах (ср. конь
<...> роковой огонь <...> Глазами косо водит у Пушкина и Как
конский глаз <...> жаркий, искоса у Пастернака). Анализ также
показывает, что смещение концептуальных установок обязатель­
но проецируется и в композиционный план: новый текст строи­
тся по законам «своего» идиостиля, хотя и заимствует цитатные
фрагменты-атомы претекстов. Так, например, композиция не­
оконченной прозаической повести Пастернака «Петербург»
(1917) строится на пересечении концептуальных установок «теат­
ральной» (Они будут играть Шекспира!!!) и «музыкально-испол­
нительской» игр (Дирижирующий при этом брал палочку тремя
пальцами, и палочка вибрировала, как и жилка на седом виске)
с «карточной» игрой, которая проецирует повесть на «Пиковую
даму» и весь «Петербургский текст» русской литературы (Лечь
сверху в гран-пасьянсе Пиковой дамы <...> Германн тревожно вы­
бирает карту. Старуха остается лежать, разметывая волосы ту­
мана вдоль проспекта); и все эти три установки «скрещиваются»
в чисто пастернаковской «языковой игре».
Новые концептуальные и композиционные ходы, получаю­
щие выражение в языковых преобразованиях и приращениях
смысла, обнаруживаются при интертекстуальном анализе всех
произведений, которые оказываются в центре второй главы на­
шей книги, —романах «Петербург» Белого, «Отчаяние» и «Дар»
Набокова, «Доктор Живаго» Пастернака. Эти романы выбраны
нами потому, что при всем различии индивидуальных стилей их
авторов, они, образуя ядро «сильных» текстов русской литерату­
ры, выстраивают некоторое единое интертекстуальное поле и ста­
новятся для нового поколения писателей XX века «образцами»
смыслопорождающей метапоэтики.
2.2. ПАСТЕРНАК И ПУШКИН: ПУТЬ К ПРОЗЕ
Жизнь и смерть во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его.
(Притч. 18, 22)
Тема «Пастернак и Пушкин» настолько широка, что здесь мы
можем затронуть лишь один из ее аспектов, а именно, тот,
который ранее не исследовался: какое влияние как в плане
подражания, так и отталкивания оказали «Повести покойного
Ивана Петровича Белкина» Пушкина на замысел и композицию
романа Пастернака «Доктор Живаго». Нас интересует не просто
путь Пастернака к прозе, а его путь к «прозрачной» прозе,
лишенной орнаментальное™ ранних вещей и стремящейся
к «прелести нагой простоты», выражаясь словами Пушкина. На
этом пути нам, несомненно, придется обращаться и к другим
произведениям Пушкина, к которым обращался Пастернак. Это
прежде всего роман в стихах «Евгений Онегин» и последняя
поэма «Медный всадник».
Связь имен двух поэтов в хронологии Вечности знаменатель­
на: день смерти Пушкина —день рождения Пастернака (29 ян­
варя по старому стилю). В разрешении оппозиции «смерть —
жизнь» коренное различие миров двух поэтов, которое, как
оказывается, становится определяющим для развития творческой
личности Пастернака. И о той драме, которая произошла с Пуш­
киным в 1837 году, Пастернак говорит через «столетье с лишним»
в «Гамлете» (1946): Но сейчас идет другая драма,/И на этот раз
меня уволь. «Гамлет» как раз открывает «Стихотворения Юрия
Живаго», и эти слова Пастернака направлены как к Богу-отцу,
так и к Тени-отцу Гамлета, так и к истории .
1
1
Пересечение тем Гамлета, Тени-отца и Пушкина первый раз отмечается
у Пастернака в стихотворении «Брюсову» (1923), где Брюсов признается им за
«отца». Это пересечение символично, так как Брюсов, первый написавший статью
под названием «Мой Пушкин», в сознании поэтов Серебряного века считался
Известно, что со второй половины 1820-х гг. Пушкин настой­
чиво работает над своим стилем, стремясь сначала в теории,
а потом на практике к той «прелести нагой простоты» и «просто­
душной наготе летописи», которую дает лишь прозаический спо­
соб выражения. Но до 1830-х гг. «собственной позиции проза еще
не имеет —она воспринимается и оценивается на фоне стиха»,—
писал Б. М. Эйхенбаум [1986, 30] в статье «Путь Пушкина к про­
зе». Идеал был достигнут Пушкиным только в «Повестях Белки­
на» (1830). Здесь его творческое стремление нашло адекватную
форму преодоления лирического «Я» — «нулевое я» прозы покой­
ного И. П. Белкина. «Я белкинское: это сама олицетворенная
проза, ее собственное лицо» [Бочаров 1974, 111], здесь автор —
только «соглядатай» (П. Вяземский).
Максимальная редукция дистанции между жизнью и твор­
чеством, «зеркальность» лирического «Я» были характерными
признаками идиостиля Пастернака, начиная с первых его произ­
ведений в прозе и стихах. Это было его творческое кредо прежде
всего в стихотворной форме. Так Пастернак пишет «Сестру
мою —жизнь», где автор взят природой «напрокат». В этой книге
стихов «зеркальность» автора поддерживается «циркуляцией ли­
ризма» (Н. Берковский), а через явления внешнего мира отража­
ется внутреннее состояние «Я», как в «добелкинских» вещах
Пушкина. Эта же лирическая стихия захлестывает Пастернака
и «Теме с вариациями» (1918), однако здесь уже выбран ориен­
тир, по которому наметил свой путь поэт. В этом цикле Пушкинориентир еще дан как стихия, не достигшая чувства меры «пре­
зренной прозы», но не достиг чувства меры еще и сам Пастернак.
«Тема с вариациями» Пастернака все еще отчетливо связана
с Пушкиным-стихотворцем, а стихи, по заданному Пушкиным
2
его первым литературно-биографическим «двойником» XX века. Причем на при­
мере Брюсова прояснялась сущность Пушкина, а на примере Пушкина — сущ­
ность Брюсова [Паперно 1992, 25]. В своем стихотворении Пастернак, занятый
проблемой борьбы со «стихией стиха», считает Брюсова образцом «несмертель­
ной» борьбы подобного рода: Что я затем, быть может, не умру,/Что до смерти
устав от гили/Вы сами, было время, поутру/Линейкой нас не умирать учили?
И хотя представление о «сонном гражданском стихе» у Пастернака не совпадало
с брюсовским, оба поэта в своих поэтических вариациях о «дисциплинировании
взмаха взбешенных рифм» обращались к Пушкину (ср. их «вариации» на тему
«Медного всадника»). Интересно также, что стихотворение Пастернака «Шек­
спир», предваряющее в книге «Темы и вариации» «Тему с вариациями», первона­
чально имело эпиграф из Пушкина: Ты царь, живи один.., и этот эпиграф как бы
задает дальнейшую комбинаторику «свободной стихии» поэта.
«Точность, краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей:
блестящие выражения ни к чему не служат; стихи—дело другое» [Пушкин 1949,
7, 15).
2
образцу, сближаются поэтом со стихией. Однако в пастернаковской формуле Два бога прощались до завтра,/Два моря менялись
в лице ./Стихия свободной стихии/С свободной стихией стиха глав­
ной темой является не только тема «прощания» со «стихией», но
и «перемена в лице» моря. М. Цветаева, развивая позднее «темы
и вариации» Пастернака в «Стихах к Пушкину» (1931) и в эссе
«Мой Пушкин», также паронимически сближает две «стихии», но
при этом не выпускает из виду еще одну паронимию море —мера.
Обращаясь назад к миру Пушкина, необходимо отметить, что
разрешение основных концептуальных противоречий этого мира
происходит за счет противопоставления идей «бега» и «покоя».
Это противопоставление, составившее основу иносказательного
кода Пушкина, непосредственно связано с оппозицией «свобода
(воля) —несвобода», получающей отражение во всех сферах бы­
тия [Жолковский 1979, 18]. Конкретным воплощением идеи «бе­
га», символизирующей жизнь и творческую свободу в мире Пуш­
кина, являются пересекающиеся между собой поэтические пара­
дигмы «волн» и «коня». Волне и коню противостоят силы,
сковывающие их бег, —эти силы воплощены в камень, чугун,
медь, они вместе с идеей покоя приносят смерть души и тела
[Якобсон 1987, 145—180]. Эти губительные силы сосредоточены
для Пушкина прежде всего в Петербурге. Пушкинская парадигма,
закрепляющая в поэтическом языке иносказание «конь —твор­
чество — стихия бега», где поэт одновременно выступает и как
«конь» и как «всадник», имеет в мире Пушкина две критические
точки —это «Песнь о вещем Олеге» (1822) и «Медный всадник»
(1833). В обоих текстах мы видим конфликт коня и всадника:
в первом всадник получает смерть от коня своего, во втором —
наблюдаем несовместимость огня коня с «медной» главой всад­
ника. Критическими точками борьбы со стихией волн у Пушкина
становятся стихотворение «К морю» (1824) (Прощай, свободная
стихия!) и снова поэма «Медный всадник», где тема «конявсадника» сливается с темой усмиряемой водной стихии: И тяжело Нева дышала,/Как с битвы прибежавший конь. Оба текста
содержат и тему неудавшегося «поэтического побега» от проти­
воречий внешнего и внутреннего мира к «покою и воле». Поэто­
му эти два текста, наряду с «Пророком», стали основой тем
и вариаций Пастернака на пути к задуманному с ранних лет
роману.
Вариации на пушкинские темы мы находим в стихотворении
«Петербург» (1915), где скачут на практике/Поверх
барьеров,
и в «Теме с вариациями», где Пастернак на свои же вопросы
о «самоубийстве» и «бегстве» отвечает: не в счет!, а далее в поэмах
«Лейтенант Шмидт», «Секторский» (первоначально с эпиграфом
Были здесь ворота из «Медного всадника») и в стихотворении
«Художник» (1936). Во всех этих вариациях поэт XX века ищет
отличный от Пушкина путь разрешения противоречий творчества
и бытия. Этот путь указан Пастернаку Пушкиным (Дорогою сво­
бодной/Иди, куда влечет тебя свободный ум), и Пастернак, ис­
пользуя комбинаторные возможности прилагательного свободный, превращает поэтов в «богов»: Два бога прощались до завтра...
Близость Пастернака и Пушкина была сразу схвачена М. Цве­
таевой. Еще в статье «Световой ливень» (1922) она пишет: «Внеш­
нее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз от
араба и от его коня: настороженность, вслушивание, и вот-вот...
Полнейшая готовность к бегу» [Цветаева 1979, 136]. Такой же
«стихией бега» полны «Стихи к Пушкину», где, как и в эпиграфе
к эссе «Мой Пушкин», поэт XIX века предстает как
На повороте
Русской судьбы —
Гений полета,
Бега,
Борьбы.
Все это говорит о том, что в строчках Пастернака о стихах
и стихии важна не только «перемена в лице», но и число два,
одновременно относящееся и к арапу-Пушкину и к арабу-Пасте­
рнаку . Важно и понятие Евангелья морского дна «Темы с вариа­
циями», где Евангелье по паронимии соотнесено с «Евгением
Онегиным» — «свободным» романом, «встававшим из мглы». Это
Евангелье Пастернак рассматривает вместе с Пушкиным, «лири­
ческое лицо» которого он «взял напрокат». Однако вариации
связаны одновременно и с «Пророком» (1826) Пушкина, к кото­
рому второй раз обратится Пастернак во «Втором рождении».
Пастернаковское Евангелье «Темы с вариациями» читается как
раз тогда, когда еще «не просох черновик «Пророка», то есть
в том состоянии, когда поэт «прощается со стихией», но его еще
не коснулся «шестикрылый серафим». Пастернак писал: Он сел на
камень. Ни одна/ Черта не выдала волненья,/С каким он погрузился
в чтенье/Евангелья морского дна./Последней раковине дорог/Сер3
у
Эта цветаевская ассоциация, видимо, построена на интертекстуальной свя­
зи как с «Песнью араба над могилой коня» (1810) В. Жуковского, так и с «Под­
ражанием арабскому» (1835) самого Пушкина.
денный шелест, капля сна,/Которой мука солона,/Ее сковавшая. Из
створок/Не вызвать и клинком ножа/Того, что боль любви све­
жа/Того счастливейшего всхлипа,/Что хлынул вон и создал риф,/
Кораллам губы обагрив,/И замер на устах полипа. Таким образом,
здесь, в «Теме с вариациями», мы имеем дело с Пушкиным,
который «замер» до «завтра»: В его устах звучало «завтра»,/Как
на устах иных «вчера» (см. 1.1).
Однако вернемся на век назад. В 1830 году отчетливо про­
слеживается тенденция Пушкина перейти от прямой речи «Я»
к эпосу «третьих лиц», то есть совершить переход, который
ему удалось осуществить в романе в стихах «Евгений Онегин»
и который он многократно опробует в 1828—1830 гг. в прозе
и поэзии. Однако в «Евгении Онегине», «на фоне которого
прежде всего определяется пушкинская проза, композиционной
осью является всеобъемлющий образ «Я». <...> речь от «Я»,
речь в первом лице, здесь не отступает от главного в сторону,
но обступает со всех сторон то, что можно назвать романом
героев; роман в стихах открыто не равен роману героев» [Бочаров
1974, 107]. И оказывается, чтобы достигнуть простоты и объек­
тивности стиля, которые необходимы для показа событий как
со-бытия с лирическим «Я», Пушкину надо было стать «по­
койным». «По журнальным разъяснениям того времени, Пушкин
как раз в этот период умер или обмер на время [Шимкевич
1926, 314]. Дата «смерти» Пушкина-стихии—дата, когда Белкин
стал «покойным» — ноябрь 1829 года (по черновым редакциям
повестей). Чтобы стать «неким образным ничто», обрести «ну­
левую величину», Пушкину надо было «обмереть на время».
При этом интересно сравнить этимологию Белкина как «го­
ворящего» имени (от белый) с концепцией поэзии Пастернака
у Цветаевой в «Световом ливне» [1979, 137]: «наичистейшее
разряжение всех жизненных сил, некая раскаленность добела,
которую издалека — можно принять просто за белый лист». Пуш­
кин же назвал Белкина не Белым (ср. псевдоним Б. Н. Бугаева
и концепцию его романа «Петербург»— см. 2.4) по закону, опре­
деленному Цветаевой как «несравненная радость открытия в со­
крытии».
Белкин как «нулевая величина» выступает как аналог «языкапосредника» при переводе с языка поэзии на язык прозы,
именно том переводе, который Пушкин замыслил еще в сти­
хотворении «К морю» и романе «Евгений Онегин» (1823—1831).
Именно в романе в стихах, где хладнокровный Евгений убивает
пламенного поэта Ленского, автор пишет о своем бессилии пере­
вести Татьяны безумный сердца разговор на русский поэтический
язык, а может представить читателю лишь Неполный, слабый
перевод,/С живой картины список бледный. При этом подлин­
ник—письмо, написанное прозой на «чужом» французском язы­
ке. «Подобная оппозиция «своего» и «чужого» в поэтическом
творчестве, при котором все преимущества отдаются «чужому»,
а свое характеризуется скромным образом (в определенном смыс­
ле это противопоставление строится как оппозиция «поэзия —
проза»), в высшей степени свойственно Пушкину» [Бочаров 1974,
73—74]. Чтобы перейти к прозе, Пушкин должен был «чужой»
язык сделать «своим», то есть пройти путь, который редуцирует
дистанцию, разделяющую творчество и реальность. Именно та­
кой внутриязыковой перевод идеи беспризнакового «прозаиче­
ского стиля» в личное имя покойный Белкин совершил Пушкин,
используя «смертный псевдоним». И именно под таким псев­
донимом не советует Пастернак издаваться Цветаевой в 1926 го­
ду, споря через столетье с автором «Пира во время чумы»: Ты все
еще край непочатый,/А смерть это твой псевдоним./Сдаваться
нельзя. Не печатай/И не издавайся под ним [Переписка 1990, 318].
Для Пастернака понятие «перевода» не смыкалось с понятием
«выражения реальности в слове» [Бочаров 1974, 75], а ассоци­
ировалось с самим процессом языкового творчества, то есть
реализацией слова в пространстве памяти искусства и культуры.
При этом творчество и жизнь для него нераздельны и представля­
ют собой отражающиеся друг в друге «тексты», которые «даны от
Бога». Для Пастернака нет дуализма слова и реальности, так как
«поэтическое мышление («образ») тождественно с сущностью
реальности» [Фарыно 1989а, 20]. Поэтому в его поэтике снима­
ется противопоставление своего и чужого языка и текста. В том
же письме 1926 года Пастернак пишет Цветаевой: Послушай,
стихи с того света/Им будем читать только мы,/ Как авторы Вед
и Заветов/Й пира во время чумы.
И вполне естественно поэтому, что творческое развитие Па­
стернака не позволило ему остановиться на Пушкине, который
«замер» под рукой «шестикрылого серафима», и пройдя в поэмах
мучительный для себя период «опускания на землю», заставило
вновь обратиться к «небу лирики» в книге «Второе рождение».
В «Волнах» (1931) «Второго рождения» опять прозвучит тема
«Пророка», но уже «оживленного» после своей «символической
смерти» , а сердечный шелест, скованный мукой в «Теме с вариа4
циями», опять вступит в союз со слухом, зрением и речью поэта:
Опять опавшей сердца мышцей/Услышу и вложу в слова,/Как ты
ползешь и как дымишься,/Встаешь и строишься, Москва. Интерес­
но, что первоначально последняя строка процитированного чет­
веростишья была у Пастернака Как ты кончаешься, Москва. Сле­
довательно, в сознании автора «Волн» идеи «конца» и «второго
рождения» тесно взаимосвязаны.
Объяснение этой связи находим в «Охранной грамоте», где
в один ряд поставлены смерть поэта Пушкина и смерть поэта
Маяковского, связанные с особым возрастом поэта, когда его
сердце «рвется пополам» (как в «Евгении Онегине»), и одна
половина хочет жить, а другая сама идет навстречу смерти:
«Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то
возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще не
названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но
с такой резкой радостью надрывающаяся непрерывность пре­
дыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необхо­
димостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа
на смерть. <...> Что она похожа на смерть, но совсем не
смерть, отнюдь не смерть... и только бы люди не пожелали
полного сходства» [4, 232]. Сам Пастернак в своих риторических
вопросах —- «Так это не второе рождение? Так это смерть ?» — как
раз осознает полное несходство этих двух состояний и навсегда
отказывается от своей «несимволической смерти». И вся книга
«Второе рождение» — это стремление преодолеть «Смерть поэта»,
вернуться к «волнам» стихии поэтического дара и формуле
«Опять бежать...?». Эта формула рождается в стихотворении
«Опять Шопен не ищет выгод...», где идея «бега» проводится
через серию вариаций вопросов и ответов «Телеги жизни»
(1823) (Опять бежать и спотыкаться,/Как жизни тряский ди­
лижанс?) и «Дорожных жалоб» (1829) Пушкина. Имена Шопена
и Пушкина паронимически, символически и хронологически
соединены в сознании Пастернака, и, начиная с «Баллады»
«Поверх барьеров», поэт и музыкант слиты с «топотом ло­
шадиным» в груди. Здесь же, во «Втором рождении», ритм
музыки Шопена подсказывает поэту единственный выход «из
вероятья в правоту» — путь «окрыления на лету», возвращения
к «шестикрылому серафиму» Пушкина. Мы уже писали, что
4
1990).
Эта же интертекстуальная параллель проводится и в работе [Жолковский
в самых первых прозаических набросках у Пастернака как раз
появляется композитор-поэт с фамилией Шестикрылое. А в сти­
хотворении «Опять Шопен...» находится основная формула «Вто­
рого рождения»: Рождать рыданья, но не плакать,/Не умирать, не
умирать?
Именно поэтому во «Втором рождении» происходит «воскре­
шение» всех пушкинских образов, и в «Лете», где речь идет
о «Пире Платона во время чумы», вновь близ пустыни «Пророка»
арфой шумит океан аравийский,/Бессмертья, быть может, послед­
ний залог. Глаза, уши, губы Пастернака опять, как и в «Сестре
моей —жизни», открываются «настежь в Жизнь» [Цветаева 1979,
138], и происходит «выздоровление» от «смертной болезни».
Именно это позволило Пастернаку, подобно Диотиме, пророчице
и постоянной собеседнице Сократа в «Пире» Платона, отсрочить
для себя «нашествие чумы». К ней и обращается поэт в стихотво­
рении «Лето», предваряющем в книге стихотворение «Смерть
поэта» (см. 1.2).
Однако сами «губы» Пастернака (Я с неба, как с губ,
перетянутых сыпью,/Налет недомолвок сорвал рукавом) говорят
уже на том языке, который облек Пушкина в «белые одежды»
Белкина. Этот язык позволил каждому явлению говорить
«своим» голосом: «человек замолкает и заговаривает образ»
(«Охранная грамота»). Именно такая неиерархичность и одно­
временно гармоничность были теми качествами поэтического
языка, которые Пастернак воспринял в XX веке как бы «от
Бога».
Заметим, что пушкинская эволюция в начале XIX века со­
впала с периодом «демифологизации», скрепления поэтического
языка с внешней реальностью. Поэтому поиски «нового языка»
в поэзии начала XX века действительно дали основание тезису
«бросить Пушкина с парохода современности», то есть Пушкина
времени «прозаизации стиха». Интересно, что Г. Адамович [1989,
200] «начинает» Пастернака с до-Пушкина, с Державина (кото­
рый, «в ф о б сходя», благословил Пушкина), говоря о поэзии
раннего Пастернака, что «у него звуки скорее всего державинские» и «в них слышен вызов ясности, стройности, пушкинской
дивной, но оскудевающей, ссыхающейся поэтической почве»,
которую он хочет «по-новому взрыхлить» .
5
5
В соотнесении с концепцией Адамовича «играет» труп в пустыне «коня
араба» Жуковского в переосмыслении Цветаевой вновь пущенный в «бег» Пастер­
наком.
Уже в самых ранних вещах, и в прозе и в поэзии, все окру­
жающее Пастернака говорило на «безумном сердца разговоре»,
а автор хотел остаться незамеченным или суфлером. Но мы также
знаем, что Пастернаку, как и Пушкину, не нравился «свой»
стиль, он работал над его опрощеньем, пытаясь от него «остраниться». Начало полного «остранения» фиксируется также в сти­
хотворении «Волны», где поэт по «опыту больших поэтов» хочет
впасть к концу, как в ересь,/В неслыханную простоту. Причем
«ересь», на наш взгляд, также связана с Пушкиным, так как
первоначально строки об «естественности» больших поэтов, за­
ставляющей «кончить полной немотой», звучали так: Есть в опы­
те больших поэтов/ Черты душевности такой,/Что невозможно,
их изведав,/Не кончить черною тоской. На пути к простоте Пасте­
рнаку также пришлось «обмереть на время», чтобы выработать
«чувство меры», но не навсегда, а только чтобы осуществить до
конца перевод своего «живого содержанья» на адекватный язык.
И он это делает, работая над настоящими переводами, которые,
по мнению Пастернака, «органично примыкают» к остальному
творчеству. Причем его «переводы» — это не «с живой картины
список бледный», а в них поэт ставит своей задачей как можно
«живее и непосредственнее схватить» существо подлинника
и «передать его с наибольшим сходством» [1982, 488].
Переводя Шекспира, Пастернак знакомится с драматической
формой художественного выражения, максимально исключаю­
щей повествователя-автора, но имеющей сюжет и говорящих
«третьих лиц». Правда, и Пушкин интересуется Шекспиром , его
историческими трагедиями: он приходит к «Повестям Белкина»
через трагедию в стихах «Борис Годунов» (1825), где он, по своим
словам, «унизился до презренной прозы» (что доказано прежде
всего с формальной стороны [Руднев 1989, 57]), и маленькие
трагедии в стихах, где использовал пятистопный ямб без рифмы
и цезуры. Неудивительно, что все «маленькие» и «большие»
трагедии Пушкина находятся в центре внимания Пастернака
времени «Тем и вариаций» и «Второго рождения» (ср. «Нас мало.
Нас может быть трое...» и «Моцарт и Сальери» Пушкина; «Лето»
6
6
Позднее в «Заметках о Шекспире» Пастернак поставит Пушкина и Шекспи­
ра в один ряд как художников, у которых форма выражения предельно точно
соответствует содержанию. Ср. одну из заметок: «Египетские ночи».—Встреча
зрелого Пушкина с теми чертами Шекспировского гения, которого нет в ранних
вещах Шекспира. Наивысшая близость возможностей формы запросам содержа­
ния. <...> Форма высшей художественной сгущенности. Драматическая повесть.
Пиршество мысли, концерт, как Гамлет» [4. 693).
Пастернака и «Пир во время чумы», а также «Сцены из Фауста»
Пушкина и «Пять повестей» книги «Темы и вариации»). При
этом трагедию «Моцарт и Сальери» (1830), где в центре стоит
оппозиция «гений— злодейство», видимо, можно рассматривать
и авторефлексивно по отношению к самому Пушкину как один
из вариантов «убийства в себе змея». Ведь Сальери-змей совер­
шил действие, обратное «шестикрылому серафиму»: Звуки умерт­
вив,/Музыку я разьял, как труп. Поверил/Я алгеброй гармонию.
Так в трагедиях, которые сам Пушкин назвал маленькими, борет­
ся стихия жизни и смерти.
Однако вернемся к Пастернаку. К простоте, к прозе «клонят»
Пастернака и лета. Но чтобы прийти к простоте, Пастернак
пускается в литературно-языковую игру, обратную пушкинской,
а в жизни «замышляет побег» в свой «Божий мир». В отличие от
Пушкина он не отказывается от своего лица (И должен ни единой
долькой/Не отступаться от лица), что означало не отрекаться от
«дара жизни» (Но быть живым, живым и только,/Живым и только
до конца). И идя «по живому следу» Пушкина, проходя «за пядью
пядь» по его пути, «пряча в тумане свои шаги», Пастернак
приходит к «Доктору Живаго». У Живаго в характере много
«безличности», она —в его внешности, в его поступках. «Лицо»
же его вырастает в мыслях, любви, творчестве. Поэтому в какойто мере прозаический корпус романа является лишь «коммен­
тарием» к его стихотворному циклу.
Пастернак заменяет пушкинскую форму романа в стихах
с авторским «Я» на роман со «стихами к роману», где «Я»
имплицитного автора сливается с лирическим «Я» Живаго. Па­
стернак берет «человека в категории речи» [4, 369], берет его
«напрокат» и нарекает Живаго —иначе «сын Бога Живаго» (Мф.
16, 16). Живаго и выступает в романе как «язык-посредник»
между прозой и поэзией, переводя «безумный сердца разговор»
Пастернака в «Слово Божие о жизни», или, точнее, Пастернак
говорит «устами» Живаго. Сам же Живаго уподоблен теченью
природного потока, проходящего «волной» сквозь сердце поэта,
и имя этого «потока» — Река Жизни.
Судьба и творчество Пушкина были для Пастернака переход­
ной точкой, нулем, дойдя до которого, он повернул назад. Тут
следует упомянуть, что и сам Пушкин в более поздней прозе
«Капитанской дочки» (1836) «повернул назад». М. Цветаева
[1986, 401] в статье «Пушкин и Пугачев» пишет: «Не думал
Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я (Гринева), что
скоро это я станет действительно я, им, плотью и кровью. <...>
Был Пушкин —поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как
в «классической прозе» «Капитанской дочки»». И Пастернак как
раз пошел «по пути» «Капитанской дочки», о чем есть непосред­
ственные указания в романе: приехав на Урал, Живаго обнаружи­
вает, что «в местности было что-то замкнутое, недосказанное. От
нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина...» [3, 228] (см.
[Смирнов 1991а, 130]). Такими «преломлениями» Пушкина на­
полнен весь роман «Доктор Живаго».
Знаменательно при этом, что дата смерти Живаго в романе
Пастернака повторяет ровно через столетие (1929 год) дату, когда
пушкинский Белкин стал «покойным» . Поэтому ретроспективно
«смерть Живаго» в мире Пастернака как раз и возвещает о «Вто­
ром рождении» самого поэта. Эта «весть» уже была заложена
в строчках «Волн»: Как ты ползешь, как ты дымишься,/Встаешь
и строишься, Москва (или Как ты кончаешься, Москва). Само же
стихотворение «Волны» возвещает о новом большом замысле
Пастернака, где Москва, «родной город автора и половины того,
что с ним случилось», станет «главной героиней длинной повес­
ти» [3, 510]. Поэтому в строках «Волн» о Москве нас будет
интересовать загадочный предикат дымишься, который мы посте­
пенно постараемся расшифровать у Пастернака в комбинации
с предикатом ползешь. Это дымишься связано, на наш взгляд,
с размышлениями самого Пушкина о «смелости» поэтического
искусства, где примером смелости служит строка Жуковского
о Боге: Он в дым Москвы себя облек («Певец в Москве») [7, 66].
В тексте же романа «ДЖ» в сцене смерти Живаго в небе Москвы
также появляется туча, которая «ползет» от Никитских ворот
и все выше поднимается к небу: «Надвигалась гроза», —пишет
Пастернак [3, 483]. И оказывается, что туча, которая «ползет
и дымится» над Москвой, для Пастернака времени «Второго
рождения» (1930—31) — Будущее! Облака встрепанный бок!/Шап­
ка седая! Гроза молодая!/ Райское яблоко года, когда я/Буду, как
Бог. Так символическая смерть Живаго в 1929 году открывает
новый период творчества Пастернака, когда он ждет «своего»
7
8
7
В окончательной версии «Повестей» Пушкин изменил как дату рождения
Белкина, так и его смерти (соответственно 1798—1828) для того, чтобы расподобить дату своего тридцатилетия с «нулевым я» своей прозы.
Цитирующимся далее строчкам предшествуют две строки. Но нежданно по
портьере/Пробежит вторженья дрожь. Последняя из них в своем звуковом
составе кодирует заглавную идею «Второго рождения»: ср. ВТОРЖЕНЬЯ ДРОЖЬ.
8
человека в «белых одеждах»; Тишину шагами меря,/ Ты, как будущ­
ность, войдешь./ Ты появишься у двери,/В нем-то белом, без при­
чуд,/В нем-то впрямь из тех материй,/Из которых хлопья шьют.
Обычно этот образ неопределенного Ты соотносят с женщиной,
новой любовью поэта, однако здесь нет противоречия. Как
объяснил Пастернак в романе, для него триединство Бога, Жен­
щины и Личности неделимо.
Вспомним, что и Преображение Христа как раз связано
с «гласом из облака глаголющим», а его «белые одежды» сравни­
ваются в Евангелии со «снегом», и голос — «с шумом вод многих».
В мире же Пастернака происходит контаминация «гласа Божьего»
с «небесными всадниками», появляющимися в тучах грозы. Во
«Втором рождении» это —Илья Пророк (А вскачь за громом, за
четверкой/Ильи
Пророка под струи...), освобождающий воды
и посылающий плодородный дождь на землю. Благодаря ему
воды освобождаются от снега и превращаются опять в «волны».
Упряжь такого «небесного всадника» и принимает на себя Пасте­
рнак: И я приму тебя, как упряжь,/Тех ради будущих безумств,/
Что ты, как стих меня зазубришь,/Как быль запомнишь наизусть.
А далее в мире поэта XX века «всадник», по контрасту с Медным,
все более отделяется от земли. Так, в стихотворениях с сим­
волическими заглавиями «Художник» и «Безвременно умершему»
(1936) «конь» сначала въезжает на паперть (Въеду на коне на
паперть,/Лошадь осажу к дверям), а затем смотрит на «русскую
судьбу» с высоты вознесения: Лошадь взвил я на дыбы,/ Чтоб тебя,
военный лагерь,/Увидать с высот судьбы; Но конный небосвод/С
пяти несет охрану/Окраин, рощ и вод (ср. заглавие «Охранная
грамота»).
Именно превратив своего «коня» и «всадника» в «конный
небосвод», Пастернак «меняет местность» «Медного всадника»
Пушкина. «Всадник», все более подчиняясь идее «воскресения»
и «оживания», оказывается уже «внутри» церкви —на «Ожившей
фреске» (1944). Тут находится стихотворный alter ego Живаго —
Георгий Победоносец, змееборец с «ликом» святого. Георгий как
раз запечатлен на гербе Москвы, куда переносится сфера обита­
ния пастернаковского «всадника». В то же время (по памяти
слова будущность) Георгий как раз оказывается приблизившейся
будущностью творчества Пастернака: Он перешел земли границы,/
И будущность, как ширь небесная,/Уже бушует, а не снится,/
Приблизившаяся, чудесная. Это —роман «Доктор Живаго». В рома­
не петербургскому «Медному всаднику» находится противопоста-
вление. всадник лесной, московский, Георгий Победоносец, сим­
вол оживания природы после зимнего периода. Вкладывая свою
«живую душу» в Юрия Живаго, Пастернак делает пушкинского
«Гробовщика» и «Пир во время чумы» символами, противосто­
ящими поэту. Хотя в «ДЖ» и оживают мотивы «Повестей Белки­
на» («метель», «выстрел», «гробовщик», «барышня-крестьянка»),
здесь им находится альтернативное решение при переводе на
«иносказательный код» Пастернака.
Всю свою творческую жизнь Пастернак пытался преодолеть
«Смерть поэта», которая сама по себе в русской истории стала
символична как в XIX, так и в XX веках. И роман «Доктор
Живаго» и есть рассказ о преодолении «смерти поэта» и о «вто­
ром рождении» поэзии. И хотя дата оксюморонной «смерти
Живаго» ровно через столетие повторяет дату, когда пушкинский
Белкин стал «покойным» в предварительных набросках Пуш­
кина, в самом романе «ДЖ» (как и в «Даре» Набокова) как бы
оживает тот Пушкин, который не «умер» окончательно в «Повес­
тях Белкина».
Хорошо известно, что хотя Пушкин и выбирает для «Повестей
покойного И. П. Белкина» нарочито примитивные сюжеты,
анекдоты, поэтическая «память слов», которыми они написаны,
«не смогла погасить» в Пушкине поэта. Показательно и то, что
Пастернак, строя свой роман о Живаго как произведение из­
начально противоположное по задаче пушкинскому, берет мно­
гие слова-мотивы повестей Пушкина в качестве исходных и про­
водит их по новому кругу сквозь свое произведение, создавая
свой «авторский миф». Безусловно, композиция романа «Доктор
Живаго» проецируется не только на пушкинскую прозу. В ней
сильны и линии, соединяющие роман Пастернака со всей рус­
ской литературой XIX в., и прежде всего с Достоевским и Тол­
стым. Однако сама проза Толстого, а особенно Достоевского,
связана в сознании Пастернака с их источником — пушкинской
прозой и поэзией. В частности, весь «Петербургский текст» рус­
ской литературы [Топоров 1984] берет свое начало в «Медном
всаднике» и «Пиковой даме» Пушкина. Оба этих текста пред­
вещают «гибель поэта». На противопоставлении «Петербургско­
го» и «Московского» текстов русской литературы и строит свой
роман Пастернак.
Символичность романа Пастернака превращает его в «автор­
ский миф». В этом смысле сюжет и структура романа Пастернака
показательны: они «не просто фиксация некоторых действительно
происшедших событий, а перевод их на язык данного художест­
венного моделирования» [Лотман 19726, 17). Роман отличается
мифологической структурой: он организован по принципу цик­
лических кругов, и в основе его лежит сквозное противопостав­
ление мотивов смерти и воз-рождения параллельно с противопо­
ставлением-отождествлением любви-смерти. В нем наблюдается
отражение поэтических мифологем, свернутых до имени соб­
ственного (например, Живаго или Стрельников), а также «проек­
ция» на мифологические и более ранние литературные тексты.
Причем эти мифологические отражения метафорически сопо­
ставлены с историческими и метонимически замещают целост­
ные ситуации и события —ср., например, бой Георгия со змеем
в стихотворении «Сказка» как инвариант разрешения всех сюжет­
ных противоречий романа.
Мифологически отражены в романе и пушкинские лейтмоти­
вы. Как у Пушкина «по смысловым вехам» (В. В. Виноградов)
двигалась история «выстрела», с которой начинается цикл повес­
тей, точно так же в романе Пастернака «выстрелы» образуют
«заколдованный круг» [3, 49], замыкающийся на Антипове, взяв­
шем себе «смертный псевдоним» Стрельников. Стрельников —
это та альтернатива существования, которую поэт не принял
в стихотворении 1928 года: Рослый стрелок, осторожный охот­
ник,/<...> /Дай мне подняться над смертью позорной... Этот «осто­
рожный охотник» и станет потом Юрием-Георгием. Надо заме­
тить, что мир Пастернака, как и мир его романа, изначально
цикличен: в центре его сюжетно-метафорические двойники Жи­
ваго и его антипод Антипов, которые в обратном сведении
к «единому сюжету» должны «свернуться» в одно лицо конного
в «Сказке». В романе же Живаго говорит о себе и Стрельникове,
цитируя Шекспира: Мы в книге рока на одной строке [3, 395].
И первый раз Паша Антипов появляется в романе на фоне
«серо-свинцового» неба, первая его игра — игра в войну: «Маль­
чики стреляют, — думала Лара. <...> Хорошие, честные мальчики, —
думала она. —Хорошие, оттого и стреляют» [3, 53]. Следующий
«выстрел» связан с Ларой, которая «с особенным увлечением состя­
залась в стрельбе в цель» [3, 77]. Она же задумала «стрелять»
в своего змея-искусителя Комаровского: Задуманный выстрел уже
грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был
направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она
его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в самое
себя, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке
с вырезанной в его стволе стрелковой мишенью [3, 78]. На самом же
деле «выстрел», который прогремел в Рождественскую ночь
у Свентицких и свидетелем которого стал Юра Живаго, прежде
всего по символическому кругу был направлен в Антипова. Его
превращение в Стрельникова-Расстрельникова связано со змеемдраконом. В конце концов Стрельников «застрелил» самого себя
около дома-символа, связанного с историей семьи Живаго и лю­
бовью Юрия к Ларе. Из этого дома увозит Лару Комаровский,
который охарактеризован ею как «чудище заурядности». И только
он один остается «в живых» после смерти Живаго и самоубийства
Антипова. Таким образом, мотив «неосуществленного выстрела»
из пушкинской повести срабатывает в «Докторе Живаго», но
с «промахом»: вместо Комаровского, на которого покушалась
Лара, но промахнулась, он попадает в Стрельникова.
Этот «выстрел» в мире Пастернака впервые появляется в сти­
хотворении «Петербург» (Как в пулю сажают вторую пулю/Или
бьют на пари по свечке,/Так этот раскат берегов и улиц/Петром
разряжен без осечки), а затем в стихотворении «Смерть поэта»,
посвященном Маяковскому (Как выстрел, выстроил бы их). Сама
же лирика Маяковского мыслится Пастернаку как связанная
с городом, «поднявшимся со дна «Медного всадника».
Следующий пушкинский мотив — «метель» — связывает весь
роман и его стихотворный и прозаический тексты «сквозной
тканью существованья»: Мело, мело по всей земле... «Метель»
связывает судьбы всех героев романа, образуя «судьбы скреще­
нья». В то же время метель и снег как символы «мертвой воды»
связаны с «выстрелом» (Метель лепила на стекле/Кружки и стре­
лы) и противопоставлены «воде живой» —грозе, ливню, волнам,
образующим круговорот жизни [Франк 1990].
С «метели», обвивающей землю «погребальными пеленами»,
начинается роман «Доктор Живаго», когда хоронят мать Юрия.
Эта же «ткань» проходит и сквозь жизнь Тони, первой жены
Живаго, которая в ночь Рождества обвивается белой тюлевой
занавеской, похожей на подвенечную фату, а затем в эту же
ночь Лара стреляет в Комаровского и умирает мать Тони — Анна
Ивановна. После революции в ночь отъезда из Москвы Тони
и Живаго также поднимается снежная буря: Ветер взметал вверх
к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым
вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы
и устилали ее снежной пеленою [3, 211]. И Тоне вся жизнь
представляется черно-белой, как те материи, которые она дарит
женщине, оставшейся смотреть за домом в Москве. «Метель» —
тема смерти и расставания — приобретает в романе символиче­
ское значение, и, как в пушкинской «Метели», «над общими,
присущими литературному стилю значениями слова воздвигается
множественность смыслов слова, зависящих от многообразия
контекстов его индивидуального употребления, от разнообразных
субъектных приспособлений слова» [Виноградов 1941, 88—89].
И как в повести Пушкина, в «ДЖ» образуется «многообразие
значений одного клубка образов, которые, как симфоническая
тема, а иногда как лейтмотив, связывают части повествователь­
ной конструкции» [там же, 455]. Становится очевидным, что
и симфонический «Кубок метелей» А. Белого как пример нового
типа произведения на авторской мифологической основе, и цикл
А. Блока «Снежная маска», и его поэма «Двенадцать» берут свое
начало в той же пушкинской «Метели». И все «лексические тона»
(Ю. Тынянов) слова метель Блока и Белого также наполняют
роман Пастернака, наряду с «Метелью» Б. Пильняка, связываю­
щую метельную Россию то с «Бесами» Пушкина, то с Георгием
Победоносцем, мчащимся по ней.
Ьще одна тема романа, его лейтмотив, как «выстрел» и «ме­
тель» появляющийся в композиционно-кульминационных точках
романа, —линия «Гробовщика» Пушкина, разворачивающая об­
ратные связи к «Водопаду» Г. Державина, откуда взят пушкин­
ский эпиграф к повести (Не зрим ли каждый день гробов,/Седин
дряхлеющей вселенной). Эта линия связана с дворником Маркелом, который устанавливает гардероб в спальне Анны Ивановны,
матери Тони, — этот гардероб и служит причиной смерти бывшей
землевладелицы. В конце же романа развертывается и коллизия
оксюморона «Барышня-крестьянка», когда Марина, дочь Маркела, становится женой Живаго вместо барышни Тони. Тут, как
и в случае «скрещения» Живаго —Стрельников, действует обыч­
ный в мифологической литературе мотив двойничества и преоб­
ражения, когда два разных лица (на самом деле одно) становятся
мужем или женой одного героя/героини. Видимо, знание законов
мифологического свертывания и развертывания во многом мож­
но отнести за счет глубокой духовной связи, которая соединяла
творческие пути поэта Пастернака и филолога О.М. Фрейден­
берг. Последняя посвятила много своих работ изучению ми­
фологических инвариантов и законов их преобразований. В част­
ности, наблюдается параллель в представлении боя с драконом
в «Сказке» (стихи к роману) как единого боя со змеем-чудовищем
Комаровским Живаго (Георгия Победоносца) и Стрельникова,
заколдованного драконом, вокруг одной и той же «дочери земли»
Лары (она же и «блоковская Россия», отдавшаяся чародею),
и работами Фрейденберг о «Тристане и Исольде». Там все бои
Тристана предстают как варианты единого боя. В романе Па­
стернака этот «бой» имеет еще одно измерение, когда Юрий
Андреевич пишет в лирической манере свою легенду об Егории
Храбром, «стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе
с многословьем» [3, 435].
Мы еще вернемся к этой легенде-сказке по пастернаковскому
кругу, намеченному темой «Гробовщика», которая указывает
«глубокую перспективу завуалированных семантических ходов
романа» [Виноградов 1941, 404]. Так, восстановленным по кругу
отражением гробовщика Адриана Прохорова (ср. похороны) слу­
жит Маркел, но если через руки первого прошли сотни разных
фобов, то дворник по профессии «столярных дел мастер». У него,
как и у гробовщика, несколько дочерей, младшая Маринка,
он тоже любит «крепкие напитки». Гардероб (ср. по паронимии
гроб), который устанавливает так неудачно Маркел, в конце
концов и служит причиной смерти Анны Ивановны, причем
смерть наступает в тот вечер, когда между Юрой и Тоней за­
рождается первое чувство любви, подогретое сценой выстрела
и воспоминаниями Живаго о «зрелище порабощения» Лары
Комаровским.
При этом еще один интересный композиционный момент
связывает Маркела с гардеробом, похоронами и Юрой Живаго.
В день похорон Анны Ивановны Маркел не может «доискаться
Юры», так как он сам «застрял в спальне, где венки сложены горою,
потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гарде­
роба и не дает Маркелу выйти» [3, 90]. Затем Маркел «одним
ударом расправляется с образовавшимся препятствием». Далее сле­
дует сцена похорон, на могиле поют «Святый Боже», и Юра,
находящийся в «сонном» состоянии, «просыпается». В этот день
он впервые ощущает себя поэтом и понимает, что искусство
«неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим
жизнь» [3, 92]. «Дверь спальни» (ср. ниже усыпальница) и «дверца
гардероба» при этом символизирует и «гробовую дверь»,
и «дверь» веры — Иисуса Христа, а истинное искусство мыслится
Живаго как «то, которое называется Откровением Иоанна, и то,
которое его дописывает» | 3 , 92]. Само имя-фамилия Живаго
также приходит из Откровения Иоанна Богослова (Откр. 7, 2).
Именно с Анной Ивановной (ср. по звучанию Иоанн) говорит
Юра о воскресении перед ее смертью, ссылаясь на Иоанна Бого­
слова («Смерти не будет...») (ч. 3, гл. 3).
Что касается «гардероба», то сама Анна Ивановна, как бы
предвидя свою смерть, не любила его: «Видом и размерами он
походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей
суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище Аскольдовой могилы. Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня,
вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспоря­
дочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия» [3,
65—66]. Эти смежные понятия: конь, приносящий смерть Олегу,
и Аскольд, принявший смерть от самого Олега и существующий
в памяти только в связи с могилой, дают развиться двум смысло­
вым линиям текста.
Линия, связанная с Олегом и его конем, вновь возвращает нас
к Пушкину, к его иносказательной парадигме «бег коня» — «сти­
хия поэтического творчества». На этот раз предметом нашего
внимания будет стихотворение 1827 г.: Кобылица молодая, <...>
Своенравно не скачи./Погоди, тебя заставлю/Я смириться подо
мной:/В мерный круг твой бег направлю/ Укороченной уздой. В свя­
зи с ним вспоминается «смиренная проза» и «конь Белкина»,
рассказ о котором не вошел в окончательный текст предисловия
к «Повестям». В варианте предисловия Белкину для прогулки
дали самую «смирную» лошадь, которой он все же оказался
смирнее и, потеряв равновесие, упал с нее и сломал руку. Извест­
но, что сам Пушкин был прекрасный наездник, как и почти все
остальные его герои. Поэтому по принципу обратимости он
вместе с Белкиным как бы «упал» с самого «смирного» коня,
который оказался Олеговым.
По аналогии, переходящей в контраст, встают в памяти опыты
Живаго о конном: Он заставил себя укоротить строчки еще
больше. Словам стало тесно в трехстопнике, <...> узость строчных
промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы,
едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме
упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности
стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из
баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримо­
му пространству степи, Юрий Андреевич писал с лихорадочной
торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являю­
щиеся сплошь к месту и впопад [3, 435]. Пушкинская метафора
«бега коня» получила в романе конкретную текстовую реализа-
цию, а также метатекстовое развитие: текст и метатекст этих
прозаических строк спроецированы в романе еще и на стихотвор­
ный текст «Сказки» Живаго. В таком понимании и Пушкин,
и Живаго «приняли смерть от коня своего»: первый оттого, что
Душа час от часу немеет;/В ней чувств уж нет.., а второй от
стихии дара, который не удалось «обуздать», «смирить» по конт­
расту с «упряжью» «Второго рождения» Пастернака.
Узда, которой пытался сдержать «коня» пушкинский «всад­
ник», оказалась «железной уздой» Медного Всадника «над самой
бездной», а «волны», которые вышли из «гранитных» берегов
Невы, превратились в остервенелого зверя (ср.: Нева <...>
И вдруг, как зверь остервенясь,/На город кинулась у Пушкина).
И в отличие от бедного Евгения, который у Пушкина оказыва­
ется «верхом» на мраморных львах и смотрит «снизу вверх» на
Медного Всадника «на звонко-скачущем коне», в «ДЖ» Юрий
Андреевич смотрит на Георгия Победоносца «сзади» — «всадник
уменьшался, удаляясь» (и, видимо, «окрыляясь»). В «Медном всад­
нике» уже не Ленский, а Евгений, уменьшившийся в размере
перед «царем», становится «хладным трупом», который «похоро­
нили ради бога». Замкнулся круг «Аскольдовой могилы» —моги­
лы Ленского, пламенного поэта.
При этом не случайно, что Евгений оказался у Пушкина на
мраморном льве. В «Откровении» как смертоносные появляются
кони, у которых головы, «как головы львов, и изо рта их выходил
огонь, дым и сера <...> ибо сила коней заключалась во рту их
и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям» (Откр. 9,
17—20). Не случайно и то, что Пушкин называет героя своей
последней поэмы так же, как героя романа «Евгений Онегин».
В связи с этим в идиостиле Пушкина интересна и паронимия
Онегин —Олег, которая показывает, что и Онегин, прекрасный
наездник, оказывается тоже на «Олеговом коне».
В связи с этим в романе «ДЖ» значимым является то, что
топография местности в Варыкино повторяет рельеф «Евгения
Онегина» [Фарыно 1991]: господский дом и могила Ленского
внизу у воды под горою соответствует в «ДЖ» дому Микулицыных, около которого стреляет в себя Стрельников, а далее нахо­
дится овраг с соловьями, где Живаго мерещится «чудовищедракон». В своем дневнике Живаго как раз вспоминает то место
«Евгения Онегина», где говорится о «гробовом камне» Ленского,
на котором написано «Покойся, юноша поэт». Этот камень рас­
положен там, где ручеек/Виясь бежит зеленым лугом/К реке
сквозь липовый лесок./Там соловей, весны любовник,/Поет всю
ночь; цветет шиповник... Сам же Пушкин в гл. 7 романа жалуется
на весну, так как Все, что ликует и блестит,/Наводит
скуку
и томленье/На душу мертвую давно. Рифма любовник/шиповник
как раз обсуждается в дневнике Живаго (ч. 9, гл. 8), когда в Варыкино вновь наступает весна и начинают щелкать соловьи.
Цитата из «Евгения Онегина» вызывает в памяти Живаго былину
о «соловье-разбойнике», от свиста которого умирает все живое:
А что есть людей, то все мертвы лежат. Далее рифма Пушкина
в трансформированном виде повойник/разбойник
появляется
в стихотворении «Весенняя распутица» Юрия Живаго, где «кон­
ный» на «распутье», а щелканье соловья уподобляется «ружейной
крупной дроби», отмеряющей Размеренные эти доли/Безумья, боли,
счастья, мук. Подобные параллели обращают нас и Е. Фарыно
к «Пунину и Бабурину» И. Тургенева, где обсуждается творчество
Пушкина: Пушкин? Пушкин есть змея, скрытно в зеленых ветвях
сидящая, которой дан глас соловьиный!
Именно поэтому столь важна линия «Гробовщика» в «Докторе
Живаго». Прямым ее развитием является развертывание в романе
аллюзии на «Водопад» Державина и «намагничивание» текста
его «образами, цитатами, отражениями» [Виноградов 1941, 408].
Продолжим строки пушкинского эпиграфа: Не слышим ли в бою
часов /Глас смерти, двери скрып подземной. «Бой часов» как весть
о смерти возникает в первой части пастернаковского романа:
бой давно неходивших часов возвещает смерть пациентке Жи­
ваго, и по чистой случайности (появление «доброго ангела»
брата Евграфа) повторный, предназначенный для Живаго «бой
часов» не останавливает жизнь доктора зимой 1918 года (ср.
цикл «Болезнь» 1918—1919 гг. с «Духом в креслах» в книге
«Темы и вариации»). Этот дух оказывается как бы «шестикрылым
серафимом», возвращающим поэта к жизни и творчеству: Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем,
просто, его смерть. Но как же может он быть смертью, когда
он помогает писать ему поэму, разве может быть польза от
смерти, разве может быть в помощь смерть? [3, 206]. Второй
раз этот «мальчик», или брат Евграф, появляется уже на Урале
(И сваливается, как с облаков, брат Евграф [3, с. 284 — 285]),
и после его визита Живаго сразу идет в библиотеку почитать
«труды по истории Пугачева». Эти «совпадения» позволяют
И. П. Смирнову [1991а, 130—131] параллелизировать линию Пу­
гачев—Гринев в «Капитанской дочке» Пушкина, где судьба
Гринева находится в руках Пугачева, являющегося впервые Гри­
неву во сне сеющим вокруг себя гибель, и линию Евграф —
Живаго, где Евграф впервые является брату в виде духа «жизнисмерти». Если идти дальше, то, по Смирнову, можно предпо­
ложить, что отец обоих братьев Живаго подобен Пушкину (ср.
«отеческое» начало Пушкина в «Даре» Набокова —см. 2.6).
Сам же «Водопад» Державина как природный объект и как
литературный символ-указатель появляется в конце первой книги
«ДЖ», где мощь природного явления, видимого только с «края
обрыва», сравнивается со «сказочным драконом или змеем-по­
лозом» [3, 237]. Это сравнение подсказано державинским, во­
площенным в глагольной метафоре, не раз повторенной Па­
стернаком: ползет и ищет токмо нор. Эта комбинаторная память
слова ползет возвращает нас к «Волнам», где возникает про­
тивопоставление державинской строки Не так ли с неба время
льется и строки Опять повалят с неба взятки Пастернака, которое
выстраивает оппозицию живой воды и времени —и мертвой
воды и замерзания времени. К слову сказать, «Водопад» Дер­
жавина также указан Пушкиным как пример «смелости» поэта
в одном ряду с «дымом Москвы» Жуковского, о котором шла
речь выше.
Само же упоминание о том, что Юрий видит тучу, «пол­
зущую», подобно змею, над Никитскими воротами Москвы (ко­
торая предвещает ему смерть), вновь обращает нас к «Гробов­
щику». У Пушкина Адриан Прохоров в своем сне благополучно
доходит тоже только до Никитских ворот, а затем, попав домой,
он видит комнату, наполненную «ожившими» мертвецами, и уз­
нает в них людей, «погребенных его стараниями». При этом
у Вознесения его окликает будочник, «знакомец наш Юрко»,
и желает ему доброй ночи. В. Шмид считает, что Юрко у Пуш­
кина—символическая фигура, «прозаично-московский Гермес»
[Шмид 1998, 54]. В повести «Гробовщик» он выступает как
«Psychopompos, проводящий людей из сего мира в потусторонний
мир, а в некоторых случаях <...> и в обратном направлении <...>
Юрко расхаживает как московский Hermes Pylaios, защитник
ворот», являясь «посредником между сном и явью» [там же].
Таким же «посредником» между сном-сказкой и реальностью (а
также «поэзией» и «прозой») становится и образ Юрия Живаго.
Итак, все НИТИ державинского «Водопада» сходятся в романе
Пастернака в «Сказке» о конном. У Державина в тексте, посвя­
щенном Потемкину, тоже появляются сказочные атрибуты:
Копье, и мен, щит великой,/Стена отенества всего (ср.: герб
Москвы с Георгием). Поэтому и образ конного, и образ дракона
у Пастернака более сложен, чем кажется на первый взгляд. Он
связан и с «водой», падающей с неба, и с тучей, и со светом, и со
«все пожирающим огнем»: И увидел конный,/И приник к копью,/
Голову дракона,/Хвост и нешую.//Пламенем из зева/Рассевал он
свет,/В три кольца вкруг девы/Обломав хребет. Попробуем рас­
шифровать символические образы «Сказки» — конного, дракона
и девы так, как подсказывает логика развертывания стиха, спро­
ецированного на прозаический корпус романа.
Так, в романе еще одним очевидным объектом сравнения для
змея-дракона служит воинский поезд. Сама собой напрашивается
параллель со стихотворением В. Хлебникова «Змей поезда. Бег­
ство» (1910). Именно «змей поезда» совершает преображение
Антипова в Стрельникова и является «знамением» его бегства от
Лары на фронт: Неожиданное мерцание звезд затмилось, и двор
с домом, лодкою и сидящим в ней Антиповым озарился резким,
мечущимся светом — кто-то бежал с поля к воротам, размахивая
зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем
пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как
они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года.
<...> Желаемый выход нашелся [3, 109—110]. Тут Стрельников
одновременно превращается и в бедного Евгения (Были здесь
вороты—/Снесло
их, видно. Где ж дом?), и Медного всадника
(Кумир с простертою рукой/Сидел на бронзовом
коне./<...>/А
в сем коне какой огонь!). Ср. далее в «ДЖ»: Это преображение
смешного, застенчивого, похожего на девушку, мальчика в нервного,
все на свете знающего, презрительного ипохондрика было столь
поразительным, что не подлежало обычному истолкованию: време­
нами, глядя на него, Галлилулин готов был поклясться, что видит
в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго
<...>. Антипов казался заколдованным, как в сказке [3, 116]. Таким
«околдованным» оказывается и Евгений Пушкина «верхом» на
мраморном льве.
Первая очная встреча Живаго с Антиповым происходит вско­
ре после «видения» доктором водопада, волны которого заставля­
ют Живаго, как и державинского героя, «впасть в сон». Проснув­
шись от «давящей тяжести» в местности под названием «Развилье», Живаго попадает «в вагон к военкому». Два героя романа
противопоставлены друг другу как раз в тот момент, когда пути
их скрестились (ч. 7, гл. 29 — 31) . Один из них был прямым
9
дополнением и противоположностью другого (ср. волна и камень
у Пушкина). Стрельников представлял «законченное явление
воли», у Живаго —«талант и ум, как бы занявшие место начисто
отсутствующей воли». У Живаго живая поэтическая одаренность,
у Стрельникова —«присутствие одаренности <...> чувствующей
себя, как в седле, в любом положении земного существования.
Этот человек должен обладать каким-то даром <...> даром подра­
жания <...> прославленным героям истории» [3, 248]. Однако
Стрельников видит в приведенном к нему для расстрела докторе
скорее собеседника, чем врага, и милует его. Это ведь его «вторая
половина». Интересно, что в знаменательном 1830 г. Пушкин
пишет два стихотворения о Тереке, где «волна» и «камень» всту­
пают в отношения водяного потока и русла. В первом стихотворе­
нии поток воды, как зверь живой, ревет и воет/И вдруг утих
и смирен стал,/Все ниже опускаясь,/Уж он бежит едва живой.
<...>. И вот... обнажилось его кремнистое русло. По этому «крем­
нистому руслу» (ср. «кремнистый путь» у Лермонтова) во втором
стихотворении ...тише Терек злой стремится. По Пастернаку,
в каждом живом человеке заложен и зверь, и человек. Только
одни, как Стрельников, видят на земле лишь «страшный суд»
и «существ из апокалипсиса с мечами» и «крылатых зверей» [3,
251], другие могут преодолеть «ад и распад», «разложение
и смерть», убить в себе змея и «проснуться и воскреснуть» от
«смертной» болезни [3, 206]. Стрельников может убить в себе
зверя только «выстрелом», Живаго —силой поэзии и живого по­
тока жизни. Маленький волчонок Живаго, каким Юра показан
на могиле матери среди завывающей метели, не позволяет ог­
недышащему, бесноватому чудовищу проникнуть в душу: он
становится повелителем волков, святым Юрием-Георгием.
Однако в ночь расставания с Ларой Живаго опять видит
«мечущий огонь» и слышит волчий вой, которые ассоциируются
у него со «следами допотопного страшилища», залегшего в ов­
раге: и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий
докторовой крови и алчущий Лары дракон [3, 434]. Эта враждебная
сила является в облике Комаровского. Когда Лара уезжает с Ко­
маровским, Живаго опять снится и слышится: Вдруг дно оврага
озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного в нем
выстрела [3, 449]. Через какое-то время на пороге дома Живаго
9
П.-А. Йенсен [J997, 98] в связи с этой встречей пишет, что «Антипов не
столько анти-под Живаго, сколько анти-путь к его пути; последний в немалой
степени становится путем благодаря этой контрастной привязанности».
появляется, как ранее на Развилье, Стрельников, которому
и предназначен судьбой последний «выстрел» .
Однако вой волков связан в романе с самого начала с «мете­
лью». Только это не «белкинская» метель, а метель «Бесов»
Пушкина (1830). В такую метель попадает Живаго перед «Болез­
нью» (1918), —это та «метель, которая в открытом поле с визгом
стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как
заблудившаяся» [3, 191]. Эту бесовскую силу метели Пастернак
преодолевает при переделке книги «Поверх барьеров», когда
дописывает вторую часть к стихотворению «Метель» (1914, 1928).
Здесь пушкинским «Бесам» , которые «в овраг» толкают «одича­
лого коня» и которые мчатся, как тучи, Визгом жалобным и воем/
Надрывая сердце..., противопоставлена другая «метель» —с рож­
дественской елкой в доме , а на улице — вьюга дымится, как
факел над нечистью. (Пастернак еще в первой части стихотворе­
ния осознает: Я сбился с дороги:/Не тот этот город, и полночь не
та). Такой новой «метелью» и дымится Москва «Второго рож­
дения» и «Доктора Живаго» . В ней и рождается строка Свеча
горела на столе, и пастернаковская поэзия приобретает совер­
шенные формы: Но уймется метель бесноватая/<...>/Все
в сне­
гу, все из снега изваяно,/Все отлито в предвечные формы [2, 580].
Живаго не оказался заколдованным «змеем поезда», который
также проходил мимо него. Для него оказался страшен не этот
дракон, а та «гробовая змея», которая заставила его «принять
смерть от коня своего». Именно она «обвивает руку» и «оплетает
гортань» Девы, образ которой также символически многозначен.
С одной стороны, он связан с Ларой, «этой удивительной сест­
рою, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений
10
11
12
13
10
Линия Комаровский — Стрельников в «ДЖ» проецируется в XX веке, как
мы уже отмечали, на Маяковского, который сочетает в себе черты обоих. Ср.
у Маяковского в поэме «Человек» гл. «Вознесение Маяковского»: А сердце рвется
к выстрелу,/<...>/В
бессвязный бред о демоне/растет моя тоска./'<...>/Вот так
и буду,/заколдованный,/набережной Невы идти.
Помимо пушкинских «Бесов» роман «ДЖ» содержит прямые интертексту­
альные связи и с «Бесами» Достоевского (в свою очередь, связанными эпиграфом
с пушкинским стихотворением).
В 1929 г. было отменено празднование Нового года с любимой Пастерна­
ком участницей — рождественской елкой [Борисов, Е. Б. Пастернак 1988, 211).
Может быть, поэтому дата смерти Живаго — 1929 год.
Такое понимание предиката «дымится» дешифруется в тексте романа в свя­
зи с парадигмой «воздуха-дыхания»: Скоро задымило так, что стало невозможно
дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной
копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора [3, 188]. И смерть Живаго как
раз связывается с «задыханием».
11
12
13
и стечений» [3, 131]. С другой стороны, Лара —олицетворение
самой жизни — «Сестра — моя жизнь» Пастернака. В третьих, для
Живаго, вслед за Блоком, Дева-Лара смежное с Россией понятие.
Пастернак говорил, что его роман, как и стихи его alter ego
Живаго, написаны «вместо статьи о Блоке» [Материалы 1989,
591]. Как и у Блока, Россия —Лара «мученица, сумасбродка,
шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными
выходками, которых никогда нельзя предвидеть!» [3, 386]. Она
является к нему с неба и как Прекрасная Дама Блока, и как его
«Снежная маска».
Так кто же конный в «Сказке»? Поэт или Стрельников
в седле? Почему сердца конного и дочери земли бьются, но
То она, то он/Силятся проснуться/И впадают в сон? На этот
вопрос может дать ответ только вечное течение времени, кругов
жизни и смерти, которые заданы державинским «Водопадом»
и «рекой времен»:
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
(«Сказка»)
В этой «Сказке» мы сознательно не касались еще одной
инкарнации дракона и бесов — революции с ее грозой и тучами.
Благодаря этому «адскому огню» Россия стала «на глазах всего
мира вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и не­
взгоды человечества» [3, 456]. Следовательно, «Сказка», как лю­
бой миф, предлагает несколько кругов истолкования— от самых
житейских, где змей-искуситель —Комаровский, до самых веч­
ных и еще непредсказуемых: «Область подсознательного у гения
не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его
читателями и чего он не знает» [4, 159]. Единственное, что знал
сам Пастернак, было то, что за «Сказкой» наступает «Август»
Преображения Господня, как на это указывает последователь­
ность «Стихотворений Юрия Живаго». И в этом его «Сказка»
прямо противостоит «Последней петербургской сказке» (1916)
В. Маяковского, которая заканчивается словами:
Змей. Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.
2.3. ПАСТЕРНАК И ДОСТОЕВСКИЙ:
ОПЫТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
...новый жанр делает старые жанры,
так сказать, более сознательными; он
заставляет их лучше осознать свои
возможности и свои границы...
М. М. Бахтин
«Проблемы поэтики Достоевского»
Работа И. Л. Альми [1991] «Традиции Достоевского в поздней
прозе Пастернака («Доктор Живаго» в сопоставлении с романом
«Идиот»)», а также работы И. П. Смирнова [1985(95), 1996] наве­
ли нас на мысль продолжить исследование темы «Достоевский
и Пастернак» (перевернув ее название) и проанализировать те
особенности индивидуального стиля Достоевского, которые пре­
допределили в XX веке появление нового типа «поэтической
прозы» с установкой на внутренне диалогическую природу чело­
веческого сознания.
Мысль о подражании Пастернака творческому методу Досто­
евского в изображении героев высказывалась и ранее, однако сам
результат подражания оценивался со знаком «минус». Так,
А. Гладков [1990, 453] пишет о романе «ДЖ»: «Заметно влияние
Достоевского. Но у Достоевского его диалоги-споры это серьез­
ные идейные диспуты с диалектическим равенством спорящих
сторон (как это прекрасно показал Бахтин), а в «ДЖ» все дей­
ствующие лица это маленькие Пастернаки, только одни более
густо, другие пожиже замешанные».
И действительно, наиболее характерной чертой Пастернака,
которая продолжает Достоевского, является то, что все герои его
произведений, начиная с Реликвимини-Пурвита (от relinquo лат.
Оставаться' и pour vie фр. 'для жизни') [Юнггрен 1984] и кончая
доктором Живаго, являются персонификацией, стоящей за име­
нем концепции художественного творчества. Эти герои занимают
центральное место в повествовании и заменяют собой сюжет.
Таким образом, «идея», как и у Достоевского, становится «герои­
ней произведения», а сам герой «функцией» авторского самосо­
знания. Однако, в отличие от Достоевского, эта «функция» у Па­
стернака не рефлексивна, а авторефлексивна, и произведение
становится не «диалогом» различных «идей» и «концептов», а ме­
таморфозой одного концепта «жизни» во всех своих проявлениях
Этот концепт по-разному воплощается в отображающихся друг
в друге героях. Иными словами, герои романа «ДЖ» являются
определенной областью значений единой функции «лирического
Я», и между лирическим субъектом повествования и его героями
нет той дистанции, которая есть у Достоевского. При этом, как
и у Достоевского, который строит глубинную структуру повест­
вования на архетипических схемах (см. [Топоров 1973]), в романе
«ДЖ» образуются «двойники» и даже «тройники», по замыслу
свертывающиеся к единому, но конфликтному в своей основе
мифологическому или библейскому инварианту (ср. ЖивагоСтрельников-Комаровский
Св. Георгий versus Дракон; ЛараТоня-Марина -*Дева Мария versus Магдалина).
Прежде чем раскрыть эти свернутые соотношения обратимся
к истокам творчества Пастернака: его книгам «Начальная пора»
(«НП») и «Поверх барьеров» («ПБ»), а также неоконченной по­
вести «Петербург» (1917), где уже обнаруживается определенный
круг текстов Достоевского, особо интересующий молодого поэтапрозаика. Прежде всего это стихотворение «Венеция», которое
имеет две редакции (1913, 1928). Интересно, что зрительное
ощущение музыкального звука и знака в виде «трезубца» перво­
начально не было концептуально и композиционно соединено
с феминизацией пространства города и темой женского страда­
ния, как в редакции 1928 г. (Венеция венецианкой/Бросалась с на­
бережных вплавь). Концептуальное соединение знака «скорпи­
она» с «женщиною оскорбленной» в последней редакции стихо­
творения И. П. Смирнов [1985, 40—47] считает опосредованным
текстовой ситуацией сна Ипполита о скорпионе в романе «Иди­
от» Достоевского [6, 441 ] : «...я заметил одно ужасное животное,
какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион,
а гаже и гораздо ужаснее <...>. Я его очень хорошо разглядел: оно
коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад <...>. На вершок
от головы из туловища выходят, под углом 45 градусов, две лапы,
1
1
Тексты Ф. М. Достоевского цитируются по собр. соч. в 10-ти тт. М., 1957 —
1958; тексты Б. Л. Пастернака по собр. соч. в 5-ти тт. М., 1989— 1991.
<...> так что все животное представляется, если смотреть сверху,
в виде трезубца...» Так образуется концептуальная связка Петер­
бурга Достоевского с «оскорбленными и униженными» женщи­
нами Венеции, и оба образа города возводятся к единой мифоло­
геме «город-женщина», синкретизирующей в себе и «город-деву»,
и «город-блудницу» [Топоров 1981а]. Петербург же в сознании
Серебряного века и был Северной Венецией.
Мотивированность второй редакции «Венеции» закрепляется
цельной структурой книги «Поверх барьеров» (1929), которая
носит «петербургское название» и куда вошли в измененном виде
две первые книги поэта —«Близнец в тучах» (впоследствии
«НП»), включающая стихотворение «Венеция», и сама книга
«ПБ» (1914—1916), где с точки зрения «Петербургского текста»
[Топоров 1984] русской литературы нас прежде всего будут ин­
тересовать тексты-циклы «Весна» и «Петербург». При этом заме­
тим, что прозаическая версия «Петербурга» содержит прямые
отсылки к текстам Достоевского, к его романам «Идиот», «Бесы»
и «Преступление и наказание» —ср.: «Да, очень может быть, что
он попахивал страницей Достоевского, ибо страницы Достоев­
ского хранили его, ибо этим страницам не существовать бы, не
обладай художник вкусом и не измерь он удельный вес дыхания
туманов петроградских болот» [4, 472]. Данный абзац в прозаи­
ческом описании «Петербурга» Пастернака своей смежностью
с абзацем о «клейких весенних листьях» [4, 471] подтверждает
интертекстуальные связи его триптиха «Весна» с романом Досто­
евского «Братья Карамазовы». Тут же скажем, что сами тексты
Достоевского, как и затем стихотворные и прозаические тексты
Пастернака, полны реминисценций к текстам Пушкина, кото­
рый, быть может, первый в русской литературе создал «полифо­
ническую» структуру лиро-эпического текста.
Итак, все по порядку. Именно во второй редакции книги
«ПБ» из разрозненных стихотворений создается триптих «Весна»,
где обнаруживается своеобразное явление литературного «Петер­
бурга в Москве» [5, 126], о котором сам Пастернак пишет в пись­
мах и которое обнаруживается и в других его ранних вещах
в связи с именами Пушкина (стихотворение «Возможность»
(«ПБ»), где соединяются московский памятник Пушкину и тема
знаменитой пушкинской дуэли) и Достоевского («Город» в ре­
дакции 1916 г.: Это черною божбою/Над тобою бьется пригород
Тьмутараканью в падучей./Это «Бесы», «Подросток» и «Бедные
люди»), хотя географическое пространство стихотворений указы-
вает на Москву. В «Весне» же, где Пастернак дает одно из
первых своих определений поэзии (Поэзия! Греческой губкой в при­
сосках/Будь ты, и меж зелени клейкой/Тебя
б положил я на
мокрую доску/Зеленой садовой скамейки), мы тоже как бы на­
ходимся в Москве (Оглянись и ты увидишь/До зари, весь день,
везде,/С головой Москва, как Китеж,/В светло-голубой воде),
однако все литературные аллюзии отсылают нас к Петербургу
и Достоевскому. По наблюдениям Смирнова [1985, 152—154),
здесь в «определении» сущности поэзии Пастернака встречаются
«цитатные мотивы» двух произведений Достоевского: «зелени
клейкой» предвосхищенной «клейкими почками-огарками», в ко­
торых как бы соединены понятия «начала» (почки) и «конца»
(огарки) и «зеленой скамейки». «Зеленая скамейка» отсылает
к роману «Идиот» (это «зеленая скамейка» в Павловске, на
которой Мышкин встречается с Аглаей и Настасьей Филиппов­
ной; причем Аглая при встрече как раз упоминает об «огарке
свечи», которую ранее сюда принес Гаврила Ардалионович (ср.
диалог: Да... свечку. Что же тут невероятного?/Целую или в под­
свечнике?/Ну да... нет половину свечки... огарок... [6, 491]), а сам
князь Мышкин слушает «птичек», сидящих на деревьях парка,
и думает, что «у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью
отходит и с песнью приходит» [6, 481]; «зелень клейкая» отсылает
к исповеди Ивана Карамазова [9, 288 — 289]: «Жить хочется,
и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок
вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки»,
причем «клейкие весенние листочки» упоминаются Иваном два
раза как доказательство «жажды жизни». Ранее С. Г. Бочаров
[1985] соотнес эти «клейкие весенние листочки» со стихотво­
рением Пушкина «Еще дуют холодные ветры» (1828), где, не­
смотря на разочарования в жизни и предпочтение весны осени,
поэт XIX века все еще ждет весны: Скоро ль у кудрявой березы/
Распустятся клейкие листочки . И. П. Смирнов считает, что
2
2
Интерес к Достоевскому в 1927—1928 гг. виден у Пастернака и по письмам,
в частности, в письме 1927 г. к М. Горькому он так характеризует одного из
литераторов, который «очень изломан»: «Ведь весь он из алхимической кухни
Достоевского, легче всего его представить в Павловске на даче у Мышкина» [5,
218]. Интересно, что в том же 1927 г в «Египетской марке» Мандельштама с теми
же «петербургскими» коннотациями упоминается та же дача: «Вечером на даче
в Павловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца Ипполита» [2,
76). Вообще, в Серебряном веке круг «цитации» становится собственно кругом,
и в последних вещах Мандельштама мы обнаруживаем стремление от «алхимиче­
ской кухни Достоевского» вернуться к его понятию «живой жизни»: ср. его
объединяя две реалии из произведений Достоевского, Пастернак
вкладывает в них «один и тот же виталистический смысл и тем
самым намекает на инвариантную для прозы Достоевского тему
невычислимой, непредсказуемой и неподлежащей досрочному
обрыву «живой жизни» [1985, 152—154, примеч. 76]. Таким об­
разом, Пастернаком ставится знак равенства между поэзией,
творчеством и «живой жизнью», что подтверждает исходное на­
звание первой части «Поэзия весной», подчеркивающее возмож­
ность бесконечного обновления как жизни, так и поэзии.
А. Маймескулов [1988], еще раз анализируя этот триптих Па­
стернака, отмечает, что, во-первых, сама хронология «весны»
в нем оказывается перевернутой от апреля в первой части (Что
почек, что клейких заплывших огарков/ Налеплено к веткам! За­
теплен/Апрель <...>/И реплики леса окрепли), к «марту» второй
части, а затем февралю. Во-вторых, март, отличающийся у поэта
ассоциациями с темой «греховности» [как бы предшествующей
«воскресению» апреля и мая с праздниками Св. Георгия и Пас­
хи.—Я. Ф.], и здесь связан с «грехом»: По городу гуляет грех/И
ходят слезы падших. Маймескулов считает, что и в этой части
«Весны» Пастернак говорит на «городском» метаязыке Достоев­
ского, а также А. Блока, город которого также полон «падших
дев». В этом контексте вновь оказывается актуальным сон князя
Мышкина на зеленой садовой скамейке, в котором, «наконец,
пришла к нему женщина; он знал ее, знал до страдания; <...>
В этом лице было столько раскаянья и ужасу, что, казалось, это
была страшная преступница и только что сделала ужасное пре­
ступление. Слеза дрожала на ее бледной щеке» [6, 481] (см.
[Маймескулов 1988, 233]).
Кроме «сострадательного» отношения к женщине, которое
Пастернак как бы «заимствует» прямо из романов Достоевского,
постепенно в текстах Пастернака через тексты Достоевского на­
мечается стремление глубже проникнуть и в тексты Пушкина,
к которым обращены аллюзии великого мыслителя XIX века.
Среди них прежде всего странная фамилия князя, который по
идее представляет Иисуса Христа на земле,—Мышкин, связан­
ная со «Стихами, сочиненными ночью, во время бессонницы»
(1830) Пушкина, где поэт, как бы по контрасту с героями Досто­
евского, которые часто «впадают в сон» , не может заснуть
3
стихотворения «Я к губам подношу эту зелень...» и «Клейкой клятвой липнут
почки...» 1937 г., которые снова обращают нас к «весне» Пушкина, Достоевского
и Пастернака (см. 1.1, 1.2). О «клейких листочках» см. также |Фарыно 1988).
и вслушивается в «жизни мышью беготню». Последние строки
этого стихотворения, реставрированные в первоначальном виде,
звучат так: Что ты значишь, скучный шепот?/<...> Ты зовешь или
пророчишь?/Я понять тебя хочу,/Темный твой язык учу... Изу­
чению этого «темного языка» как раз посвящено творчество
Достоевского, и в связи с ним обратимся вновь к сну и Исповеди
Ипполита из романа «Идиот», в котором собственно и обнаружи­
вается зародыш романа Достоевского «Бесы».
Этот сон нам важен в отношении его проекции на тексты
Евангелия и Откровения (Апокалипсиса), что затем станет и кон­
структивным принципом построения пастернаковского романа
«Доктор Живаго», в центре которого также окажется «сын Бога
Живаго» (Мф. 16, 16), правда, с чисто «библейской» фамилией.
В том сне, о котором шла речь в связи со стихотворением
«Венеция», появляется собака Норма, которая чует в чудовище,
у которого лапы, «как змейки», некую «роковую тайну». Норма
старается проглотить эту «гадину», но та успевает «ужалить ей
язык»: «С визгом и воем она раскрыла рот, и я увидел, что
разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из
своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого
сока, похожего на сок раздавленного черного таракана... Тут я про­
снулся, и вошел князь» [6, 443]. Здесь обнаруживаются сразу две
аллюзии к Пушкину, к его «Пророку» (1826) (стихотворению
о «втором рождении» поэта), где поэту-пророку, лежащему, «как
труп, в пустыне», серафим вкладывает «жало змеи» в «уста за­
мерзшие» , как раз перед тем, как первый услышал «Бога глас».
4
3
Действительно, герои Достоевского очень часто «впадают в сон», прежде
всего «дурной», однако в общей композиции романа сны героев почти всегда
оказываются пророческими. Причем Достоевский если и мотивирует переход ко
«сну», то только «болезненным состоянием» своих героев; «сны» же эти, по
мнению писателя, отличаются чрезвычайным сходством с действительностью:
«Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего
представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожи­
данными, но художественными... подробностями, что их и не выдумать наяву
этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или
Тургенев» |5, 59]. В цитированных строках речь идет о сне Раскольникова,
в котором убивают лошадь, которая не может уже больше идти «вскачь», сон,
иносказание которого раскрывается дальнейшей логикой нашей статьи (далее
у Достоевского Раскольников после убийства старухи сам сравнивается с «загнан­
ной лошадью» |5, 121)). Пастернак заимствует у Достоевского подобный ком­
позиционный прием «сна»: «сны» сопровождают болезни и состояния смертель­
ной усталости Живаго, они выносят на поверхность всю творческую «лаборато­
рию» как автора, так и героя романа «ДЖ», с ними связана проекция
жизнеописания Живаго на евангельские тексты (см. также [Бертнес 1994J).
Вторая аллюзия к «Бесам», почти буквальная: Визгом жалобным
и воем/Надрывая сердце мне... Как мы помним, роман «Бесы» как
раз имеет эпиграф из этого стихотворения Пушкина, а само имя
Ипполита в «Идиоте» в переводе с греческого символизирует
смысл 'распрягающий, спускающий с привязи лошадей', что
коррелирует с «одичалым конем» Пушкина, которого бесы толка­
ют «в овраг».
Помимо этого, в романе в уста другого героя Лебедева вкла­
дывается толкование Апокалипсиса, то его место (Откр. 6, 5—8),
где появляются всадники, несущие смерть («и вот конь бледный ,
и на нем всадник, которому имя Смерть»); далее же следует
главка (Откр. 9) о смертоносной саранче, подобной коням,
о скорпионах и конях с «головой, как у львов» и с «огнем» изо
рта. Подобная же проекция на текст Откровения уже была ис­
пользована Пушкиным в «Медном всаднике», где «конь» и его
«всадник», поднявший «коня» и Россию «на дыбы», оказываются
«губящими без возврата», как потом было прекрасно показано
в романе А. Белого «Петербург». Для романа «Идиот» особенно
5
6
4
Надо отметить, что вопрос о Пушкине как о «живом трупе», или одновре­
менно «живом» и «мертвом» явлении литературы, был очень актуален для поэтов
Серебряного века, во-первых, в связи с заданной ей проекцией на Золотой век,
а во-вторых, в связи с живо обсуждаемой проблемой Богочеловека и Человекобога, поставленной в романах Достоевского, но проецируемой в начале XX века
именно на Пушкина в свете оппозиции «человек» — «поэт» (см. [Паперно 1992])
(последняя оппозиция стала особенно актуальной в связи со смертью Маяков­
ского; она же стала и центральной в романе Пастернака «ДЖ»; см. ниже по
тексту). Само творческое «преображение» зрелого Пушкина (из «живого» в «мерт­
вого») в литературе Серебряного века не раз ассоциировалось с неким «чудови­
щем» и «белым веществом», прежде всего «холодным»; в этом можно видеть не
только переосмысление произведений Пушкина, но и Достоевского. Ср. вариации
на пушкинские темы О. Мандельштама: «Пропала крупиночка: гомеопатическое
драже, крошечная доза холодного белого вещества... <...> Вечером на даче в Пав­
ловске эти господа литераторы отчехвостили бедного юнца Ипполита <...> А бе­
сенок скандала вселился в квартиру на Разъезжей...» («Египетская марка»)
[ул. Разъезжая — неточный адрес квартиры Достоевского]. «Чудовищность» обли­
ка при этом, видимо, связывается с ужасным обликом оживленного пушкинского
«Пророка» с «жалом змеи» в «замерзших устах». Ср. в связи с этим описание
Раскольникова у Достоевского: «тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его
губам» [5, 44], при этом герой все время чувствует «страшный холод» и «озноб»;
сам же роман «Преступление и наказание» спроецирован на «Пиковую даму»,
в которой и появляется первое «чудовише» «Петербургского текста» — Германн (см.
также 2.5).
Видимо, звуковое подобие Лебедев — блед(ный) неслучайно.
Показательно, что именно дочь Лебедева со знаменательным именем «Вера»
продает Епанчиным «семейного, фамильного, нашего Пушкина», ср. «Наш Пуш­
кин. Папаша велел мне вам поднести» [6, 289].
5
6
важным оказывается проекция на стихи Откровения о том, что
люди, которые «не имеют печати Божьей на челах своих», подвер­
гаются мучению, «подобно мучению от скорпиона, когда ужалит
человека» (Откр. 9, 4—5).
Что касается «Исповеди» Ипполита, то далее в ней вдруг речь
заходит о картине Гольбейна «Мертвый Христос», копия которой
оказывается в доме Рогожина. Глядя на эту картину, изображаю­
щую «труп» человека, только что выдержавшего нечеловеческие
муки, Ипполит сомневается, сможет ли этот «мученик» сам «вос­
креснуть», как ранее он воскресил Лазаря. И вся природа мере­
щится Ипполиту «при взгляде на эту картину в виде какого-то
огромного, неумолимого и немого зверя»: «Казалось, я вижу
в какой-то странной и невозможной форме эту бесконечную
силу, это глухое, темное и немое существо...» [6, 464]. И чтобы
уберечься от этой темной силы, принимающей вид тарантула,
Ипполит всегда зажигает на ночь «лампадку». И как раз в эту ночь
к Ипполиту является, как видение, Рогожин, во всем «белом».
И это привидение и невозможность «подчиняться темной силе,
принимающей вид тарантула» [6, 467], приводят его к мысли
о самоубийстве и соответственно «выстреле». Однако «выстрел»
Ипполита оказывается в романе лишь «пародией» на «выстрел».
Здесь мы как раз и вернемся назад к Пастернаку 1929 года,
который только что переделал свою книгу «Поверх барьеров»
и начал работу над «Охранной грамотой» («ОГ»), в которой поэт
вспоминает свою молодость и свои впечатления о Германии
и Италии. Здесь в «ОГ» Петербург Пушкина и Достоевского (а
также А. Белого) будет соотнесен с образом лирики Маяковского
(Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна
«Медного всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга»...
[4, 224]) и противопоставлен идее Возрождения и «второго рож­
дения», заложенной в венецианских иконах с изображением
Богородицы. Более того, сама ночная Венеция и ее водные
отражения в «ОГ» зрительно параллелизированы с иконами и жи­
вописными полотнами итальянских мастеров Возрождения, так
что город становится для поэта местом, где происходит «столкно­
вение веры в воскресенье с веком Возрождения» [4, 208]. Все эти
со- и противопоставления ведут к новым идейным перекомпози­
циям, которые лягут в основу романа «Доктор Живаго» («ДЖ»),
где лирика Маяковского впрямую будет соотнесена с именем
Ипполита (... это какое-то продолжение Достоевского. Или, вер­
нее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих
персонажей, вроде Ипполита [3, 175]), а линия Лара«-+ Виктор
Ипполитович Комаровский «-* Стрельников будет противопостав­
лена линии Лара'-•Живаго. В «Сказке» «Стихотворений Юрия
Живаго» («СЮЖ») и разрешится литературная борьба с «чудови­
щем» из сна Ипполита, что обнажит внутреннюю «конную»
форму имени последнего. А именно Св. Георгий, символ возрож­
дения жизни и непреклонности христианской веры, одержит
победу над драконом-змеей, имеющей разные «чудовищные» ин­
карнации. При этом Св. Георгий неожиданно после победы
в «Сказке» Пастернака хотя и «силится очнуться», но «впадает
в сон».
Здесь, в связи со Св. Георгием и Медным всадником, немного
остановимся на символике «коней» и «всадников», ведущей свою
историю с античности. В мировой и русской культуре существуют
три основные «конные парадигмы»: имперская, религиозно-ми­
фологическая и фольклорная (см. [Bethea 1992]), которые при
наложении порождают еще одну синтезирующую «поэтическую»
парадигму. Символом первой в России явилась статуя Медного
Всадника Фальконе, которая на русской почве парадоксально
«вписалась» в религиозно-мифологическую. Во-первых, начиная
со времен Ивана Грозного всадник в России имеет апокалип­
тические коннотации (ср. флаг Ивана Грозного, где изображен
Иисус Христос на белом коне, окруженный 27 ангелами также на
конях, а впереди Архангел Михаил на крылатом коне), во-вто­
рых, Св. Георгий, также «крылатый всадник», появился на знаках
военного отличия на 13 лет раньше статуи Фальконе. Таким
образом, скульптура Петра, утверждавшая «имперскую иконогра­
фию» и символизирующая Петербург, вошла в противоречие
с религиозно-мифологической «иконографией», которая соеди­
няла Св. Георгия и Москву через ее герб: Москва оказалась
городом христианской традиции, Петербург — Антихриста. При
этом, как пишет Д. М. Бетеа, имела место и некоторая кон­
таминация, несущая зловещее предзнаменование: московский
конный оказался в Петербурге и поменял свое копье на «про­
тянутую руку императора», обращенную в будущее России, а дра­
кон, поверженный копьем, оказался змеей, раздавленной цар­
ским конем. И получилось, что русский всадник, сочетающий
в себе черты Христа и Антихриста, носителя света или тьмы,
7
7
Ипполит же в романе «Идиот» как раз стремится доказать, что для него
«миновала пора сказок» (6, 446).
стал символом России, поднятой на дыбы, между прошлым
и будущим.
Однако Медный Всадник, согласно пушкинской версии, не
представляет единства со своим конем, и его конь, несмотря на
«узду железную», не подчиняется своему всаднику: Куда ты
скачешь, гордый конь?— вопрос Пушкина, аналогичный вопросу
«Стихов, сочиненных ночью, во время бессонницы». Это, в свою
очередь, отсылает нас к античной парадигме «сдерживания в уз­
де» своих страстей, к образу Кентавра, к Ипполиту Еврипида
с уже известной нам символикой имени, а также к диалогу
Платона «Федр», в котором каждая душа — соединенная сила
коней крылатой колесницы и ее возничего. И у Платона лишь
Боги кружатся на «небесном своде», а души бедных смертных
людей «то рвутся выше, достигая занебесной области, а то опу­
скаются вниз, и кони рвут удила, не давая душам подняться на
вершину ...а возничие не могут с ними совладать» (см. [Лосев,
Тахо-Годи 1993, 137—138]). Знаменитое платоновское Учитесь
властвовать собою мы уже слышим в «Евгении Онегине», одно­
временно Пушкиным разрабатывается и «поэтическая» конная
парадигма, где всадник и его конь —это символы поэта и его
творчества, которое он в состоянии или не в состоянии подчи­
нить себе (см. 2.2). Как известно, у Пушкина коллизия коня
и всадника оба раза имела печальный конец («смерть от коня
своего» в «Песне о вещем Олеге» и «Медном всаднике»), хотя
согласно фольклорной традиции конь и является тем живым
существом, которое переносит своего хозяина в «иной мир».
Одновременно Пушкиным была разработана и «рыцарская
традиция» (рыцарь тот, кто мог удержать своего коня и сбросить
с коня своего оппонента), однако снова необычно, о чем говорит
его «Жил на свете рыцарь бедный...» (с «темным», по Досто­
евскому, девизом «Ave, Mater Dei»), стихотворение, которое
в связи с Мышкиным не раз упоминается и цитируется в романе
«Идиот». У Пушкина две редакции этого стихотворения. В одной,
которая цитируется в «Идиоте» (из издания Анненкова), «бедный
рыцарь» (как и, по всей вероятности, впоследствии «князь Хрис­
тос») умирает, «как безумец»; в другой — «бедный рыцарь» умира­
ет без причастия, но, когда «бес» собирается утащить его в свой
«предел», Пречистая Дева Мария, единственная женщина, кото­
рую любил «рыцарь», заступается за него.
Таким образом, бой Св. Георгия, или стихотворной инкар­
нации Юрия Живаго, со змеем за Деву (по Пастернаку, и Деву
Марию) —это бой прежде всего с самим собой за творческое
начало, обращенное к «светлым», «воскрешающим» силам и на­
правленное на то, чтобы «убить в себе змея». В результате этого
боя «всадник» Пастернака оказывается «поверх» всех барьеров и,
отрываясь от земли, устремляется в небо вслед за своей чистой
душой, тем самым возвышаясь над «Медным», стоящим «на
дыбах». Как утверждает Е. Фарыно [1990, 201], в тексте романа
«Доктор Живаго» порождается последовательность Юрий Жива­
го —* Егорий Храбрый -* Георгий Победоносец —> Всадник, кото­
рая «продвигается к инварианту, которым, с одной стороны,
может быть народно-мифологический архетип 'конного', а с дру­
гой, предтеча (архетип) Христа». При этом в христианской ико­
нографии и апокрифах, по мнению ученого, Георгий-змееборец
часто изображается как «рыцарь» и как «сын царицы Софии
Премудрой», которая в русской традиции осмыслялась в триаде
«Земля = Дева Мария = Премудрость Божья» [Топоров 1980, 164—
173]. Мать Юрия Живаго у Пастернака как раз носит имя Мария.
Лара же в романе сочетает в себе одновременно и Деву из
«Сказки», и Деву Марию и Магдалину. Она для Пастернака как
раз будет воплощением представлений о «русской Богородице» «в
почитании обрусевшего европейца», т. е. Прекрасной Дамы, вы­
думанной Блоком как «настой рыцарства на Достоевск <их>
кварталах Петербурга», о чем написал поэт, начиная работу над
романом «ДЖ», в заметках «К характеристике Блока» (1946) [4,
706]. Так возникает новая аллюзия Пастернака на «Идиота»
Достоевского и «бедного рыцаря» Пушкина, а также «Розу
и Крест» самого Блока .
В романе «ДЖ» образ Лары связан прежде всего с Москвой,
местом «второго рождения» самого Пастернака. Образы же Кома­
ровского и Стрельникова, как обнаруживают интер- и интратекстуальные связи романа, концептуально коррелируют с контраст­
ными ситуациями «выстрела» и «смерти поэта», которые в реаль­
ном мире XX века проецируются на Маяковского. В XIX веке
этот «выстрел» безусловно направлен на Пушкина, о дуэли кото­
рого неслучайно говорится в «Идиоте» (Совсем не случайно; была
дуэль на смерть, его и убили [6, 401]); в «ОГ» Пастернак уже
эксплицитно ставит «смерть поэта» Маяковского и поэта Пуш8
8
В свете всего сказанного может быть по-новому интерпретирован и конец
«Двенадцати» Блока, в котором «белый» русский апокалиптический флаг превра­
щается в «кровавый» на фоне «бесовской метели»; здесь же В белом венчике из
роз/Впереди Исуе Христос.
кина в один ряд, считая последнюю своеобразным «самоубийст­
вом». Заключительный же «выстрел» романа «ДЖ» —самоубийст­
во Стрельникова, как бы по принципу круга, вновь обращает нас
к ситуации стихотворения «Венеция». Сравнивая начальные
строки «Венеции» (Я был разбужен спозаранку/Щелчком оконного
стекла) с прозаическими строками, передающими осознание
«выстрела» «разбуженным» поэтом Живаго (... висевшая во сне на
стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась,
упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андре­
евича [3, 458]), обнаруживаем, что «картина Италии» как бы
разбивается, а «щелчок стекла» оказывается «выстрелом». И как
бы согласно парадоксальной «алхимии» Достоевского, «выстрел»
романа «ДЖ» замыкается не на том человеке, которому он был
предназначен, а именно, не на Комаровском с отчеством Ип­
политович, так как Лара, стрелявшая в него, промахивается. Но
все же мотив «неосуществленного выстрела» как пушкинской
повести «Выстрел» (см. 2.2), так и романа «Идиот», хотя и с про­
махом, срабатывает в «ДЖ».
Сама же метафора «города-девы» и «города-блудницы», ко­
торую мы рассматривали в связи с ситуацией стихотворения
«Венеция», получает еще одно неожиданное композиционное
развитие в прозаическом и стихотворном текстах романа «ДЖ».
Вспомним текстовую ситуацию романа, когда Антипов и Лара
сидят в комнате дома по Камергерскому переулку при свете
свечи, которую видит в оттаявшем «глазке» проезжающий мимо
Живаго. При виде этой свечи Живаго начал шептать «про себя
начало чего-то смутного, неоформившегося»: Свеча горела на
столе, Свеча горела — строки, легшие в основу «Зимней ночи»
из «Стихотворений Юрия Живаго». В комнате же происходило
следующее: «Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую
свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось
стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездами и за­
острилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом...» [3,
80]. Эту ситуацию можно соотнести с подобной из «Преступ­
ления и наказания» Достоевского [5, 341]: «Огарок уже давно
погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской
комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением
вечной книги» (а «огарок» и «целую свечу» с диалогом Мышкина
и Аглаи из «Идиота», см. выше). В самом соотнесении этих
ситуаций запрограммировано дальнейшее композиционное раз­
витие «ДЖ»: прошлое Лары-блудницы и будущее Антипова-
Стрельникова, которое заложено в предикатах «пламени свечи» —
постреляло, заострилось стрелкой.
Именно здесь «заостряется» словесная память всех последую­
щих «выстрелов» романа, где субъектная многозначность пастернаковского «выстрела» оказывается параллельной пушкинской.
Интер- и интрапараллелизм с Федором Достоевским подчеркнут
Пастернаком в «Дневнике Живаго»: «Произведения говорят мно­
гим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего
говорят они присутствием содержащегося в них искусства. При­
сутствие искусства на страницах «Преступления и наказания»
потрясает больше, чем преступление Раскольникова» [3,279] .
Знаменательны в этом отношении и отчество Лары в романе
Лариса Федоровна (и ее брат Родион Федорович ), и паронимическое соотнесение фамилий Раскольников и Стрельников, особенно
в варианте Расстрельников. Концептуальная же связь образов
Достоевского с «выстрелом» Пушкина обнаруживается в перепи­
ске Пастернака, где воображение поэта ставит в один ряд про­
странство, «где живут и не дождались еще нового Достоевского»
и где слышен «выстрел, приканчивающий Пушкина» [5, 130] .
При этом у Достоевского Соня (также коррелят Софии Премуд­
рости Божьей) читает Раскольникову стихи из Евангелия, посвя­
щенные воскресению Лазаря. Именно здесь Иисус говорит: «Я
есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет.
И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь
ли сему?» Эти слова Христа определяют основную идею романа
«ДЖ» и основную оппозицию его «героев-концептов» Живаго/
9
10
11
9
Сюжетно-композиционный параллелизм романа «ДЖ» с произведениями
Достоевского подчеркнут Пастернаком и в письме к О. М. Фрейденберг
13.10.1946 г., где он пишет, что в данной работе он хочет «дать исторический
образ России за последнее сорока пятилетие». «И в то же время, —продолжает
Пастернак [5, 453), — всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального
и подробно разработанного, как в идеале, у Диккенса или Достоевского, эта вещь
будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека
в истории и на многое другое».
В этой связи вспоминается, что в «Преступлении и наказании» выстрел
с промахом» в Свидригайлова-раэвратителя принадлежит сестре Родиона —Дуне.
Начало мотиву «выстрела» у Пастернака положено в «Петербурге» книги
«ПБ», где он связан с Петром I, основателем Петербурга, затем мы его встречаем
в поэме «Лейтенант Шмидт», где главный герой, похожий на «интеллегента
Блока» (М. Цветаева), кончает Голгофой (сама же поэма своеобразная вариация
«Медного всадника» Пушкина), далее «выстрел» уже организует целую строку
в стихотворении «Смерть поэта», соотносящем две смерти Пушкина и Маяков­
ского, и в итоге «выстрел» становится одним из сквозных лейтмотивов романа
«ДЖ» (см. 2.2).
10
11
Стрельников. По самой своей евангельской этимологии (ср. стро­
ки из Евангелия от Луки, где находим мотивацию фамилии Юрия
Живаго, уподобляемого Христу: «И, войдя, не нашли тела Госпо­
да Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали
перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были
в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете
живаго между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес...» (Лук. 24,
3—6)) Живаго и есть воплощение «живой жизни» и веры в «вос­
кресение», как раз в тот «страшный промежуток», который не
преодолели ни Стрельников (читай Пушкин, Маяковский), ни
ранее Ипполит . При этом все же Стрельников у Пастернака
в последнем диалоге с Живаго (перед роковым «выстрелом»)
приближается к Раскольникову, который в итоге поверил в «вос­
кресение Лазаря» и этим смог найти путь к своему «воскресению»
(знаменательно, что в первых вариантах романа Раскольников
стреляется, сама возможность «воскресения» преступника позд­
нее обсуждается Достоевским в «Бесах»; в романе же «ДЖ»
одинаковыми для толкования считаются «Бесы» Достоевского
и «Манифест коммунистической партии», которому ошибочно
поверил Стрельников).
Прослеживая историю «свечи» и «огарка» в романе «ДЖ»,
обнаруживаем, что еще раз «фитилек светильни» будет «с трес­
ком» разгораться, когда Комаровский будет стремиться увезти
Лару от Живаго (ч. 14, гл. 1,2). По мысли И. П. Смирнова [1991а,
123], приезд Комаровского в Юрятин описывается так, что текст
романа сближается уже не с Достоевским, а, как и в «Смерти
поэта» Пастернака, с «Облаком в штанах» Маяковского: Вот
и венер/в ночную жуть/ушел от
окон;/хмурый,/декабрый./В
дряхлую спину хохочут и ржут/канделябры.
Ср. в «ДЖ»: «На
столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем
переносная докторская светильня. Комаровский пришел из декабрьской темноты <...>. Было уже поздно. Освобождаемый вре­
менами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко
освещая комнату. Потом все снова погружалось во мрак. <...>
А Комаровский все не уходил. Его присутствие томило <...>
как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном» [3, 413,
417]. Хотя само неожиданное появление Комаровского, на наш
12
12
Ср. в «Идиоте» отрицательный параллелизм «воскресения Лазаря» и «вос­
кресения Христа» в трактовке Ипполита. Кстати, Пастернак описывает преоб­
ражение Антипова в Стрельникова точно так, как Достоевский Ипполита после
«выстрела»: «нервный человек, раздраженный и выведенный из себя» [6, 471].
взгляд, напоминает появление «привидения» Рогожина перед
Ипполитом, несмотря на зажженную пред образом лампадку —
«свет тусклый и ничтожный, но, однакож, ...под лампадкой даже
можно читать. <...> вдруг дверь моей комнаты отворилась, и во­
шел Рогожин» [6, 468]. Рогожин, как мы помним, и становится
в «Идиоте» человеческой инкарнацией темной силы, которая,
согласно Ипполиту, затрудняет поверить в воскресение Христа;
мотивы же увоза Лары от Живаго Комаровским такие же, что
у Рогожина в отношении Настасьи Филипповны и Мышкина
в «Идиоте». В ночь же перед последним появлением Комаров­
ского, Живаго кажется, что «в овраге залег чудовищных размеров
сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дра­
кон» [3, 434]. Чтобы отделаться от этой «темной силы», он
и пишет «Сказку». На следующий же день приезжает Комаров­
ский, который окончательно увозит Лару, и уже непосредственно
перед его появлением Живаго снова оказывается «в темном дре­
мучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе...» [3, 438].
При этом неожиданно «заржала» и лошадь Живаго (ср. «Конь»
Пушкина), которую он так «неумело» перед этим запрягал в по­
возку как бы по контрасту с прекрасным владением конем своего
«сказочного» всадника. Так, в прозаическом измерении романа
Живаго так же не может уберечь свою Прекрасную Даму от
«темной силы», «чудовища», как и князь Мышкин, «рыцарь
бедный».
Последний раз композиция Свеча горела на столе через «гла­
зок в окне» появится в сцене смерти Живаго, когда Лара будет
вспоминать: «Могла ли она думать, что лежавший на столе
умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу
внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, «Свеча
горела на столе, свеча горела» пошло в его жизни его предназ­
начение?» [3, 492]. Причем гроб с телом Живаго будет находиться
в той же московской комнате по Камергерскому переулку, где
первый раз живой Живаго увидел «свечу». В структуре романа
Живаго и его дар слова также отождествляются со свечой (ср.
обращение Лары к Живаго, после того, как им написаны «Рож­
дественская звезда» и «Зимняя ночь»: А ты все горишь и теплишь­
ся, свечечка моя яркая [3, 432)), а весь стихотворный цикл Живаго
постепенно превращается в Вечную книгу и сказку о Деве, спа­
сенной Георгием («Сказка»).
Так возникают прозо-стиховые композиционные параллели
Лара — Магдалина — Дева, Живаго — Иисус — Георгий
13
(св. Юрий) . Поэтому в сцене же смерти Живаго, как и Магда­
лина у гроба Иисуса, у фоба Живаго появляется плачущая Лара,
понимающая его предназначение и предвещающая его воскресе­
ние (Мария Магдалина «стояла у фоба и плакала», а Иисус
«восстал из фоба» (Ин. 20, 11 — 16); параллелизм двух ситуаций
подчеркнут в «Стихах к роману» («Магдалина» I, II). И Живаго,
умирая в прозе, воскресает в поэзии, а цикл его стихов, которым
заключается роман, кончается так: «Я в гроб сойду и в третий день
восстану...».
Со свечой в романе связан и «офомный образ России»,
которая «на глазах у всего мира» поднялась «вдруг запылавшей
свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества» (слова
Стрельникова) [3, 456]. Именно такой представляется и Соня
Раскольн и кову (Я тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился [5, 334]). При этом нельзя не учитывать,
что образ города Москвы и образ России это поверхностные
варианты общего архетипического образа Матери-Земли, сим­
волом которой в романе также выступает Лара, коррелирующая
с Соней-Софией Достоевского. Таким образом, и Москва,
и Петербург, и Россия, как ранее в библейской истории Ие­
русалим (также метафорически осмысляемый как «город-дева»
и «город-блудница»), ждут своего жениха Господа-Спасителя,
метафорой которого является «горячий светильник» (см. [То­
поров 1981а, 54]).
В эту же парадигму вписываются все женские образы «ДЖ».
Вспомним, что прозаический корпус романа «ДЖ» начинается
сценой смерти матери Юрия («Кого хоронят?» Им отвечали:
«Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». «Да не его. Ее». «Все
равно»), где сразу нейтрализуется оппозиция между женским
и мужским началом Живаго в общем круговороте Жизни. В этом
круге превращений «смерть» соседствует с «жизнью» и «воскре­
сением», и поэтому уже в самом начале романа, как считает
Е. Фарыно [1990, 207], в структуру текста вписаны основные
концептуальные начала и концы мира Пастернака, вызываемые
«Вечной памятью», ср. далее: «Царствие небесное. ПОХОРОНЫ
БОГАтые». <...> «ГОСПОДНЯ ЗЕМЛЯ и исполнение ея, все­
ленная и ВСИ ЖИВущие на ней» [3, 7]. Эти строки затем
13
Эту параллель подтверждает интермедиальная связь отрывка из прозаиче­
ского текста романа Пастернака, где Лара обращается к Живаго сразу после того,
как он написал «Рождественскую звезду» и «Зимнюю ночь», с картиной «Магда­
лина со светильником» Жоржа де Латура, хранящейся в Лувре.
коррелируют по «памяти слов» со стихотворением «На Страст­
ной» самого Юрия Живаго: Колеблется ЗЕМЛИ уклад: Они ХОРО­
НЯТ БОГА. Так все в романе несет на себе «печать БОГА
ЖИВаго» (Откр. 7, 2), и в этом, согласно логике текста Открове­
ния, Пастернак видит спасение от мук, причиняемых укусом
«скорпиона».
При этом в композиции романа «ДЖ», как и в мифах, женское
начало Жизни бессмертно и связано с Матерью-Землей, а поня­
тие «воскресения» смыкается с метафорой родов и рождений.
Ведь согласно древней мифологии, «рождая, женщина рождается.
Ее лоно земля, могила, сосуд, яма. Роды и рождение более
древняя метафора воскресения, хотя и означает то же, что и та»
[Фрейденберг 1978,78]. Неслучайно поэтому «второе рождение»
Живаго как поэта также происходит в сцене похорон, но теперь
уже матери Тони (ч. 3, гл. 15, 16), сама же Тоня также ассоцииру­
ется в романе с Богородицей, прежде всего Ботичеллевской [3,
391], и, как у каждой женщины, «ее Бог в ребенке» [3, 279].
Второй ребенок Живаго и Тони это девочка, названная Марией
в память о матери Живаго. Параллельно в романе строится еще
одна композиционная проекция-мотивация, связанная с Софией
(др. —гр. sophia): согласно русским духовным стихам об Егории
Храбром, Егорий, или Св. Георгий оказывается сыном царицы
Софии Премудрой, царствующей «во граде Иерусалиме», «на
Святой Руси». Так еще в одном измерении укрепляется ком­
позиционная проекция Живаго-Иисус: ведь, согласно духовным
стихам, Георгий (читай Пастернак) терпит за веру заточение
в подземной темнице в продолжение 30 лет, а затем чудесно
выходит на свет и идет по русской земле для утверждения в ней
христианства.
2.4. «ПЕТЕРБУРГ» А. БЕЛОГО: КТО АВТОР ПЛАНА?
Хожу — и * ужасе внимаю
Шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук!..
В. Ходасевич
На роман «Петербург» мы хотим посмотреть прежде всего не
как на роман фабульно-исторический, а как филологический, где
основной конфликт —это столкновение «старой» и «новой» гар­
монии на рубеже веков.
Данная тема частично затронута в работе Ц. Ансчуэтса
[Anschuetz 1983] ««Петербург» А. Белого и конец русского
романа». В этом названии Ансчуэтс следует за Мандельштамом,
его статьей «Конец романа» (1922), где говорится, что Белый
фактически был последним из русских прозаиков, который,
стремясь придать некий «позвоночник» роману, находит его
в «смещении планов» [2, 204]. По Мандельштаму, роман, как
«фабула, насыщенная временем», перестает существовать и рас­
падается, так как нарушено единство личности и ее биографии.
Начало такому «герою», по мнению А. Белого, положено «Мед­
ным всадником» Пушкина, и более поздние работы Белогоученого, в центре которых оказывается эта поэма Пушкина,—
его лекция «О Пушкине» (1925, опубл. 1992) и «Ритм как
диалектика» (1929) — помогают раскрыть смысл его романа
«Петербург», который автор вложил в текстовую структуру,
распадающуюся на графически выделенные части, каждая из
которых имеет свой ритм. Эти части, как и поэма Пушкина,
построены «в темпе все учащающегося ритмического сердцеби­
ения», в нарастании контрастных строк, когда «температура
лирического волнения выше 37 » [Белый 1929, 177]. И в этой
пульсации как бы получает выражение нбвая «ужасная пора»
России и «возмущенное сознание» личности нового Евгения,
«сходящего с ума».
е
В центре романа два героя —отец и сын Аблеуховы, и их
фамилия оказывается по-настоящему «говорящей». Разница их
имен при подобии отчеств (Аполлон Аполлонович и Николай
Аполлонович) говорит о различии двух поколений, представля­
ющих два века, две художественные системы. Аполлон —имя
бога искусств и поэзии, символа строгой гармонии. Звуки этого
имени два раза повторяются в имени и отчестве отца, имя
же сына нарушает симметрию и звуковую гармонию называния.
Фамилия героев А-бле-ух-овы (по типу А. П-уш-кин) кодирует
в себе псевдоним Бел-ый и корень ух- (от ухо) со значением
'слышимый звук'. Эта фамилия как бы противопоставлена фа­
милии Без-ух-ов (из романа «Война и мир») и огромным ушам
никого кроме себя не слышащего Каренина из «Анны Каре­
ниной» Толстого —писателя, который для Белого символизиро­
вал письменную форму классического романа. Сам же Белый
создавал прозу, ориентированную на произнесение, и первый
вариант текста романа «Петербург» даже был строго выдержан
в размере анапеста.
Для Белого выбор фамилии Аблеуховы для своих героев сим­
волизировал конец эпохи «письменной» прозы («для чтения гла­
зами») и переход к прозе, в которой каждое слово «звучит»
и несет с собой ритм и звуки нового времени (прозе для «уха»).
В связи с такой установкой глухой согласный «п» имени Аполлон
озвончается в фамилии Аблеухов, создавая контраст сочетаний
апл+он/абл+ухо, в то же время совместное произнесение слов
Аполлон Аблеухов обнаруживает стилевой контраст между строгим
и возвышенным именем и «простонародной» фамилией.
Целостная структура романа построена так, что одни и те же
ключевые слова оказываются на пересечении различных ком­
позиционно-семантических зависимостей текста. Такими же точ­
ками скрещения выступают и имена собственные. С точки зре­
ния целостной композиции прежде всего выделяются слова по­
звоночник,
узел(ок),
ве-ер, бомба с часовым механизмом
и с бегающей по кругу стрелкой и ключиком, конь и всадник,
«тяжело-звонкое скаканье» (Пушкин) которого отбивает ритм
текста и указывает на «адреса» Петербурга, соединяя главы в еди­
ную композицию. Каждое из этих слов образует свой субкод
текста со своим «ключом», получающим выражение в звуке и ор­
ганизующим «звуковую субстанцию» произведения. Среди таких
субкодов выделяется квазиморфема -ух-/-уш- (от ухо, уши) 'слы­
шимый звук', которая, собственно, и выводит, по А. Белому, все
остальные «пучки смыслов» в «четвертое измерение». «Позвоноч­
ник» же становится метафорой организации целостной ткани
романа из отдельных частей-позвонков и в связи со значимой
фамилией Александра «Дудкина», создает у Белого своеобразную
параллель к «Флейте-позвоночнику» (1915) В. Маяковского.
Скрепление отдельных «позвонков» оказывается затрудненным
и «болезненным», и в романе возникает концепт «болезни спин­
ного мозга» (сухотки— болезни, ведущей к его истощению), ко­
торая получает различные композиционные воплощения. Имен­
но поэтому для скрепления разрозненных частей этого «исто­
щающегося позвоночника»
Белым используются
мотивы
болезненного состояния мозга: бред, сумасшествие, сон.
Первый раз упоминание о «позвоночнике» находим в конце
3-й главы в главке «Второе пространство сенатора», где это про­
странство оказывается «свержением в бездну». Здесь впервые
Аполлону Аполлоновичу слышится цоканье Медного всадника,
и он сам как бы оказывается в «броне» с внимающим «бледнозеленым ухом». В своем «втором пространстве», названном «двой­
ным сном», Аполлон Аполлонович в «хлопнувшей двери» слышит
«цоканье», в реальном же первом — хлопнувшая дверь означает
возвращение домой Николая Алоллоновича. И тут в безличном
плане развивается идея: «Только неладно в спине; боязнь прикос­
новения к позвоночнику... Развивается: tabes dorsalis* (122). Назва­
ние главы 4-й как скрепляющее звено от третьей к четвертой
переводит мотив «позвоночника» в метатекстовый план — «Глава
четвертая, в которой ломается линия повествования»; открыва­
ется же она эпиграфом из Пушкина «Не дай мне бог сойти
с ума...». Вновь «нащупывается нить бытия» и повествования
только в главе 6 с эпиграфом «За ним повсюду Всадник Медный/С
тяжелым топотом скакал». Здесь речь идет сначала об Александ­
ре Ивановиче Дудкине — композиционном и сущностном двой­
нике Аблеухова-младшего, а также пушкинского «бедного Ев­
гения», у которого «длилось бредное бегство»; а затем в главке
«Невский проспект» уже конкретно Николай Аполлонович ощу­
щает «вырывание» позвоночника.
1
В диалоге с Дудкиным Николай Аполлонович понимает,
что все дело в узелке с бомбой (который становится «узлом»
переплетения бытия почти всех героев романа), так что даже
1
Цитаты приводятся по изданию. Белый А. Петербург. М., 1978; только
с указанием страницы.
отождествляет себя с ней (Стал бомбой с тиканьем в животе).
И происходит «разрыв на части» двух «Я» Николая Аполлоновича (Давеча, как я был, с узелком, то я спрашивал, почему Я есть
Я). Дудкин же называет Аблеухова младшего Дионисом терза­
емым: Николай Аполлонович почувствовал, что его «как будто
терзают на части, растаскивают в противоположные стороны:
спереди вырывается сердце; а из спины вырывают, как из плетня
хворостину, твой собственный позвоночник» (212—213). Так
«разрыв позвоночника» проецируется во временном плане на
разрыв между эпохой Аполлона (строгой гармонии) и Диониса
(экстаза), и этот разрыв связан с «бомбой», которая получает
несколько названий: 1) сардинницы ужасного содержания, об­
разующей паронимический звуковой ряд с сердцем, 2) рас­
ширяющегося шара, создающего еще один зрительно-звуковой
образ.
Далее «разрыв» в главе «Откровение» (с апокалиптическими
аллюзиями) переводится в координаты летоисчисления, где по­
является «ноль», соотнесенный, благодаря Пушкину, с Напо­
леоном (Мы почитаем всех нулями,/А единицами —себя), а у Бе­
лого—с Николаем Аполлоновичем (Я—бомба; Я —ноль, т . е .
«расширяющийся шар»), имя-отчество которого паронимично
Наполеону. Этот «ноль-нуль» означает, что «Времени уже не
будет» (Откр. 10, 6).
«Разорванный позвоночник» приводит нас далее к «узелку»
Липпанченко (также двойнику и звуковому корреляту Николая
Аполлоновича), к его «Лебединой песне». И перед тем, как он
был убит Дудкиным, вновь идет речь о «разрыве на части»,
о «разорванных ощущениях», но уже в плане «мы» (всего поколе­
ния «медной молодежи»): В позвоночнике слышим: кипение сатурновых масс <...> в центре кипящего сердца мы слышим больные
толчки, — всего солнца; солнечные потоки огня, разлетаясь от солн­
ца, не достигли бы поверхности сердца, коль вдвинулось солнце
в этот огненный, бестолково бьющийся центр (296).
Однако «разрыв позвонков» в романе Белого это не только
«разрыв» двух поколений и столетий, но он также спроецирован
на резкий слом в поэтике позднего Пушкина —родоначальника
«Петербургского текста». Как это доказал Белый, исследуя «пуль­
сации» поэмы «Медный всадник» в работе «Ритм как диалекти­
ка», в «Медном всаднике» «огонь» сердцебиения («солнечного
огня»), воплощенный в коне, приходит в противоречие с «медной
главой» Всадника.
И роман Белого неслучайно начинается пародийной аллюзией
на умирающую графиню из «Пиковой дамы» Пушкина (которая
в «Петербурге» Белого исполняется как «звучащая опера»)
и с «глухого» пушенного выстрела (ср. Пушкин), который «тор­
жественно огласил Петербург» (39). Открывается же «Петербург»
главой первой, «в которой повествуется об одной достойной особе,
ее умственных играх и эфемерности бытия». Затем следует эпиграф
из «Медного всадника», начинающийся строкой Была ужасная
пора... и подписанный А. Пушкин, и далее сразу —главка под
названием «Аполлон Аполлонович Аблеухов».
А. П - У Ш - К И Н
А-БЛЕ-УХ-ОВ
Таким образом, эти два имени собственных оказываются со­
отнесенными по внутренней связи Аполлон —поэт—ухо. «Ужас­
ная пора» объединяет в романе «ужас» , преследующий всех
героев романа, и еще одну пушкинскую цитату «Пора, мой друг,
пора, покоя сердце просит...», содержащую строки об «эфемер­
ности бытия». «Пора» превращается в «шепоте» Липпанченко
в «провокацию», в «обрывок ужасного содержания». Тут и разда­
ется «выстрел пушки». И здесь же первый раз появляется сочета­
ние ве-ер, которое затем обнаружится в кульминационной точке
романа, когда речь будет идти о некоем Шишнарфнэ —бесов­
ском начале, явившемся к Дудкину за д-уш-оп. В слове «веер»
заключены не предлоги и окончания, как это мистифицирует
Белый, а веерное развитие романа, которое приводит к необык­
новенному «расширению» значения каждого его слова. Такое
необыкновенное «расширение», заканчивающееся «взрывом»
(который может «разорвать ушную перепонку»), и закодировано
в «бомбе» с «часовым механизмом». Эта «бомба» неслучайно
взрывается в кабинете Аполлона Аполлоновича («Предприятие
поставлено как носовой механизм» — главка «Наша роль»), кото­
рый «дает ход» бумагам: таким образом как бы взрывается вся
2
3
2
О поэтике «ужаса» в романе Белого см. [Хансен-Лёве 1992]. Ученый приво­
дит в своей работе цитату из статьи «Вдохновение ужаса» В. Иванова, в которой
раскрывается «ужасное содержание» «Петербурга»: «В этой книге есть полное
вдохновение ужаса. <...> Во все эти обличил и знамения спрятался Ужас, перед
тем как окончательно прикинуться тикающим своим заведенным механизмом
бомбой...» (цит. по [Хансен-Лёве 1992, 325)).
Ср. высказывание А. Белого о своем творчестве: «Творчество мое —бомба,
которую я бросаю в жизнь; вне меня лежащая, —бомба, брошенная в меня; удар
бомбы о бомбу, брызги осколков <...> осколки моего творчества — формы искус­
ства...» («Арабески», 1911).
3
«письменно-бумажная» литература. «Бомба» же оказывается
«умственной бомбой, описывающей свой круг»; и, чтобы обозреть
весь «круг», надо распутать ее «узелок», или «узлы гадской коз­
ни». Эти «узлы» ведут к статуе Медного всадника, который
приходит в новую ужасную пору, описав свой вековой круг,
и «губит всех без возврата». В этом смысле автором плана «Пе­
тербурга» оказывается сам А. С. Пушкин.
Именно поэтическая система Пушкина находилась в центре
внимания современников Белого при обсуждении проблемы «жи­
вое» и «мертвое» («губящее») начало творчества [Паперно 1992].
В числе наиболее цитируемых текстов Пушкина, подвергшихся
метаязыковому анализу, оказались его стихотворения «Поэт»,
«Пророк», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»,
«Евгений Онегин», «Медный всадник», «Пиковая дама».
Стихотворение «Поэт» непосредственно связывалось с раздво­
ением личности Пушкина на поэта «священного жреца» Аполло­
на, который бежит от чуждого ему мира «И звуков и смятенья
полн», и простого смертного, «ничтожнейшего» из детей мира.
«Стихи, сочиненные...», которые позже почти полностью цитиру­
ются в лекции о Пушкине, образуют целую сеть звуко-семантических схождений в романе «Петербург»: это и однозвучный
ход часов и жизни мышья беготня, но прежде всего в романе
постигается значение скучного шепота Петербурга, который пре­
вращается у Белого в шепот ужасного содержания.
Своеобразное «скрещение» идей двух стихотворений обсужда­
ется в статье М. Волошина «Аполлон и мышь» (1911): «Мышь, по
Волошину, связана с Аполлоном и комплементарна ему: это
прежде всего знак времени, ускользающего мгновения, ровно как
и пророческого дара» (см. fVenclova 1992, 389 — 391]. Роман же
Белого в «шепоте» «жизни мышьей беготни» обнаруживает начало
«ужасного содержания» «Медного всадника» с заключительной
беспомощной фразой Евгения «Ужо тебе...!». У Белого это ж/ш
создает звуковую основу текста, которая связывается им с квази­
морфемой -ух-/-уш- (озвученный вариант -уж-), заставляющей
все время прислушиваться к «шуму» нового времени. При этом
А
4
Вяч. Иванов [1987, 346|, изучая звуковую структуру пушкинских «Стихов,
сочиненных ночью во время бессонницы», особо выделяет в ней шипящие
и «шопотливые» согласные (уч, ч, шь, чу), прерывающиеся «роковыми, грозящи­
ми» звукосочетаниями с дрожащим «р» (ра, ар, ро, ор). Эти звукообразные
комплексы, по его мнению, возникают из «шопота и чуткого прислушивания
к ходу часов и стуку сердца». Все эти звуко-семантические мотивы повторены
в «Петербурге» А Белого.
мышь по паронимии связана с мыслью и становится как бы ее
«глухим», «неозвученным» коррелятом, превращающим «пульса­
ции» ритма в «себя измышлявшие мысли». С «серой мышью»
в романе прежде всего сравнивается Аполлон Аполлонович, его
мышиный халат и огромные контуры мертвых ушей\ а в итоге,
когда Аблеухов-старший, машинально опуская глаза, обнаружи­
вает бомбу — «сардинницу ужасного содержания», она напоминает
ему мышиную кучу (282).
Причем в квазиморфеме -ух-/-уш- оказываются значимыми
и гласные и согласные, и [у] становится «главной» в романе
«Петербург», где некое начало «губит» всех без возврата (ср.
настоящее имя автора романа — Бугаев). Так [у], на котором
сходятся Узлы гадской козни, которые хочет распУтать ДУдкин,
выносит на поверхность еще один звуковой код романа, заклю­
ченный в звуках [п]/[б]. Тут же вспоминаются АБлеУХов и ПУШкин, а также еще один герой романа ЛиХУтин, ассоциирующийся
по ошибке с неким неизвестным «белым», «печальным и длин­
ным», который, в свою очередь, пародийно соотносим с МыШкиным из «Идиота». Рассмотрим все три звукосемантические пара­
дигмы, которые, накладываясь друг на друга, организуют от­
ношение «отец —сын» (в более общем плане «Я —отеческое
начало во мне») .
Парадигма [у] включает, кроме обозначенных выше, опре­
деления, связанные прежде всего с Николаем Аблеуховым (на­
бухший шар, разбухая до ужаса, очеловеченный ужас; нуль; «Уу...
Урод, уу... ля гушка... Ууу... —красный шут»; убийца —жестами,
интонацией, взглядами, — даже: дрожаньем губ; ублюдок; это и бы­
ло пульсацией: она вспых-нул-а (ср. нуль); в душе его лоп-нул-о;
5
6
5
Подобные же звуковые мотивы выделяет О. Хансен-Лёве [1999] в романе
А. Белого «Серебряный голубь», считая их сектантскими. Так, «сектантский
звуковой мотив «у» и «х» развертывается в мотивный ряд: «муха», «дух», «душа»,
«душный», «сухой», «глухой», «ужас» и т. д.» [там же]. Ученый выделяет также
«мотив «слухи» (из комплекса «ухо», так же как из области революционной мании
преследования в духе «Бесов» Достоевского)», и этот мотив формирует, по его
мнению, истерическую ауру «революционно-политической» атмосферы романа.
«Муха» же воплощает связь «жужжания» с «ужасом» смертельной паники» [там
же]. Нами цитируется полный вариант текста, представленный на конференции
в Варшаве.
У Белого, в отличие, например, от Пастернака (у которого возникает триада
«Я — Он — Она» и как бы происходит «половое расщепление»), доминирует имен­
но отношение «Я — Отеческое начало во мне». Р. Гуль в работе «Пол в творчестве»
(1923), посвященной А. Белому, считает, что в прозе последнего полностью
отсутствует сюжетная интрига (прежде всего между мужчиной и женщиной) — она
как бы компенсируется «музыкой слова», доведенной до «вагнеровской силы».
6
прислушаться к звуку; и др.), а также оЬщие положения, от­
носящиеся к Медному всаднику — «повиснуть в воздухе без узды»,
и Петербургу — ползучая многоножка ужасна. И поэтому в «по­
ющей» речи ДУдкина слышим: «Уверен: узлы гадской козни распутат ь сумею» (210).
Парадигма [ш] с озвученным вариантом [ж] часто включает
сочетания с [у], так как волнения Аполлона Аполлоновича про­
исходят от «потрясения ушной перепонки: звуковые созвучия воспри­
нимал он как скрежетание по стеклу» (150). Кроме того, имеем:
жестяночка из-под жирных сардинок; шепот ужасного содержания
как шелест над раскопанным муравейником; уши дернулись: тошнота точно бомба; ужасная тяжесть в желудке; шар ширился; вихри
мыслей <...> шумели в ушах; копошились мыши; острое помеша­
тельство; болезненный кошмар Дудкина: в нем самом затрещало
уже — Шишнарфнэ; Енфраншиш пришло за душой; Александр Ива­
нович чувствует ужас: угроза в словах страшного собеседника;
тяжело-звонкое скаканье; все время повторяющийся глагол бе­
жать, медная молодежь, ножницы и др. Все эти звуковые сочета­
ния превращают «сплошное бессмыслие» (ср. название главы
«Было сплошное бессмыслие») в осмысленную последовательность.
И в конце романа зловещие желто-лимонные клубы взрыва бомбы
и пожара выбились наружу.
Следующим компонентом этой последовательности является
парадигма «взрывных» согласных [п] с озвученным вариантом
[б]. Основные ее составляющие: Белый, Аблеухов, Аполлон; бледнозеленое ухо; ублюдок; И будет: бред, бездна, бомба; безумие; ослаб­
шая мысль... бессмысленно рисовала какие-то праздные арабески;
бредное бегство; лоб с бьющейся жилой; Абракадабра! Они посходили
с ума: губящее безвозвратно, —действительно. «Губящее без воз­
врата» звуковое «глухое» начало, которое обнаруживалось во снах
и бреду Николая Аполлоновича: Пепп Пеппович Пепп, соотноси­
мый и с Петром, и с Пушкиным, и с Петербургом, и с «партийной
бомбой». Это начало («комочек ужасного содержания», который
«будет шириться, шириться, шириться. И Пепп Пеппович Пепп
лопнет: лопнет все...») образует целую систему двойников Нико­
лая Аполлоновича, которые названы Белым в романе «бедная,
медная молодежь», а в лекции о Пушкине — «бесы XX века».
7
7
Сам А. Белый считал ключевыми в романе «Петербург»: л~к~л, лп-лп-лл
| Белый 1981, 502), первая последовательность при этом связана с первоначальным
заглавием романа «Лакированная карета». При этом мотив «пп» связывался им
с оболочкой бомбы и с давлением стен Желтого дома.
Сам же Коленька в маскарадной песенке именуется Летрушей,
гарцующим на коне, для создания пародии на Медного всадника.
Отчество «Петровна» носят и Софья Лихутина, которая имеет
некоторое сходство и с Лизой из «Пиковой дамы», и Соней из
«Преступления и наказания», в зависимости от того, с кем в это
время соотносится Аблеухов-младший: с Германном или с РасКОЛЬНИКовым над «дрожащим муравейником» (оба мужских
образа возводятся к противопоставлению нуля и Наполеона
у Пушкина, которые вспых-нули и лоп-нули в Николае Аполлоновине); и Анна Аблеухова, жена Аполлона Аполлоновича — пародия
на Анну Каренину —жену обладателя «больших ушей» в романе
Толстого.
В числе «двойников» их сына Николеньки-Петруши оказыва­
ются Дудкин, носящий имя Александр, и Николай Липпанненко,—террористы, желающие взорвать старый классический поря­
док «кубов и параллелепипедов», превращая их в «круг» и «шар»,
которые в итоге лопаются — «нолятся». Им своеобразно проти­
востоит Сергей Сергеевич Лихутин, который сначала пародийно
изображен как «белый как смерть», затем как «недоповесившийся» и «воскресающий из мертвых» с «перевязанным горлом»
(ср. 'Александр Дудкин'х'Сергей Лихутин'='Александр Сергее­
вич'). Однако и Лихутин также связан с «Петром», поскольку
приходится мужем Софье «Петровне» .
Ключ же к роману, который, как и сардинницу, Николаю
Аполлоновичу хотелось «раздавить» под пятой Медного всадни­
ка, чтобы остановить «ход часового механизма», таится в «связке»
Дудкин *-+ Шишнарфнэ (в переводе с перс, шиш 'зеркало, стекло,
окно'+/ш/ш 'огненный; злой дух, демон'). Развязка романа про­
исходит в главке «Петербург», следующей сразу за главкой
«Мертвый луч падал в окошко», где говорится о том, что Дудкин
не может найти «дверного ключа», в то время как Шишнарфнэ
уже находился в комнате.
В этой главке Дудкин и Шишнарфнэ рассматривают карту
Петербурга и речь идет о «ниспровержении культуры», однако
самого Шишнарфнэ не видно: «голос же раздавался посередине
отчетливого комнатного квадрата» (238). Затем из «мира теней»
вошел в комнату человек, имеющий все «три измерения»; при­
слонился к окну и стал контуром и копотью: теперь эта черная
копоть истлела вдруг в блещущую лунную золу; а зола отлетала:
8
9
О именах собственных в романе см. также [Кожевникова 1992, 193 — 200].
и контура не было; вся материя превратилася в звуковую субстан­
цию, трещавшую —только вот где? Александру Ивановичу показалося: в нем самом затрещало уже (239). Шишнарфнэ снова
исчез, и Дудкин начинает «трещащий» диалог с самим собой.
Эти звуки как бы самопроизвольно появляются из его «горта­
ни»: Из аппарата гортани ответило://— «Ты позвал меня... Вот
и я...»//Пришло
Енфраншиш за душой» (240). Следом у Белого
идет абзац, выделенный с двух сторон «вспыхнувшими» ис­
крами точек»: Александр Иванович выскочил из собственной ком­
наты: и —щелкнул ключ.//— «Да, да... Это —я... Я —гублю без
возврата...».
Затем вновь слышится тяжело-звонкое цоканье Медного всад­
ника, который превращается в огнедышащий поезд, символизи­
рующий собой приход железного века. И происходит раздвоение
Дудкина (мотивированное алкогольным опьянением): от него
убегало «самосознающее Я», которое приняло решение убить
Липпанченко.
Тут его и настигает Медный Гость («Каменный гость»+«Медный всадник»), и этот скрещенный пушкинский образ ломает
«позвонки», «ключицы»: В медных впадинах Всадника вспыхнула
медная дума: упала дробящая камни рука,—раскаляяся докрасна;
и сломала ключицу: — «Умри, потерпи...» (247). Так эхом отозвался
«смертельный ушиб» (Мандельштам) позвоночника нового века,
зародившийся еще в «медной думе» Петра. С Дудкиным повторя­
ется история «бедного Евгения», с той лишь разницей, что он сам
становится «медным»: «металлы» проливаются в его жилы, и он
хватается за «ножницы», которыми убивает Липпанченко. В этом
смысле знаменательна развязка конфликта «Медного всадника»,
спроецированная на «Пророк» Пушкина в главке «Тараканы».
Она показывает, что «рассечения груди» «крылатым серафимом»
не происходит, и «угль, пылающий огнем» (закодированный
в Шиш-нар-фнэ) «губит всех без возврата» (и оказывается «шиш»
на «коне» ). А именно, Дудкина находят сидящим «верхом» на
«трупе» Липпанченко: «мужчина на мертвеца сел верхом; он сжи­
мал в руке ножницы; руку простер он, а по лицу —через нос, по
губам уползло пятно таракана» (298). «Огненный конь» стано­
вится «трупом», а всадник в простертой руке держит «ножницы»
(как бы «разрезающие» «Петербургский текст» на «части»).
9
* А. Эткинл [1995, 32) считает, что «Шишнарфнэ читается как знак отсутст­
вия в таинственном месте, шиш на рфне».
Медный всадник и Евгений сливаются в «Петербурге» А. Бе­
лого в едином образе террориста Александра Ивановича Дудкина,
который есть символ «произведения искусства» (ср. значимую
фамилию от дудка — 'инструмент поэта-певца, от которого про­
изошла флейта' и имя Александр), восстающего против своего
творца. Белый в лекции о Пушкине пишет [1992, 470]: «Медный
всадник», окаменевший в Пушкине, «пророк» — разряжается
в русской литературе в галерее «сильных личностей» Достоев­
ского, а обедневший, убегающий от него «Евгений», личность, не
могущая разорвать гранитные оковы, обедневает в «бедных лю­
дях» Достоевского...». Эта мысль А. Белого и воплотилась в его
романе «Петербург», где Шишнарфнэ, появляющийся из «ап­
парата гортани» Дудкина, напоминает «черта», явившегося
в кошмарном сне Ивана Карамазова (ср. отчество Дудкина).
При этом Шишнарфнэ-Енфраншиш объявляется автором как
«символизирующее анаграмму». На самом же деле анаграмму
создают три звуковые парадигмы романа в «глухом» варианте
П-У-Ш- плюс окончание фамилии Дудкина — КИН. Сам же ко­
рень дуд- оказывается лишенным души, и поэтому в романе и не
находится «обладателя голоса» (главка «Журавли»). В то же время
в Шишнарфнэ закодирована идея раздвоения поэта на «лед
и пламень»: под «холодным стеклом» и «медной главой» «пожи­
рающий пламень исканий» Пушкина (ср. в романе Белого вос­
точного дракона, «пожирающего пламенем все», которого в виде
бомбы ощущает в себе Николай Аполлонович — двойник Дудки­
на) . Это раздвоение и кончается «взрывом» с «металлическим,
басовым тяготеющим оттенком» (напоминающим «удары метал­
ла» Медного всадника), после чего «все замерло» (321), и уже сам
Аполлон Аполлонович бежит от своего «сына-ублюдка» (паро­
ним — блудный сын). И озвученный вариант анаграммы звучит как
АБле-УХ-ов, коррелирующий с БЕЛым.
В этой связи также интересна описываемая в статье Волошина
статуя Аполлона, пятой наступившего на мышь, —она оказыва­
ется подобной статуе Медного Всадника, под пятой которого
10
10
Ср. высказывание Белого о Пушкине в «Евгении Онегине» [1992, 466]:
«Пушкин до смерти смотрел на свою заживо погребенную личность, как на
предмет изображения; и она обратилась в нем Евгением Онегиным; Евгений
Онегин— загримированный Пушкин; он сам есть «маска»; его поверхность —
«омертвение», «скука», под которой — молчащий и его пожирающий «пламень
исканий»...». В самом романе «Петербург» столкновение Аполлона Аполлоновича
с Николаем Аполлоновичем происходит в главке под значимым названием «Крас­
ный, как огонь», что изоморфно высказанной в лекции идее.
(подобная дракону) раздавленная змея: «Вверху солнечный бог,
ниспослатель пророческих снов — внизу под пятой у него «жизни
мышья беготня» [Волошин 1988, 111]. Именно бомбу, напоминав­
шую мышиную куну, сыну Аполлона Аполлоновича хотелось «раз­
давить» под пятой Медного всадника, чтобы остановить «ход
часового механизма» и соответственно предотвратить «разрыв
позвоночника» двух поколений и столетий. Именно этот «раз­
рыв» как раз будут пытаться «склеить» постсимволисты, и прежде
всего Мандельштам в стихотворении «Век» (Узловатых дней коле­
на/Нужно флейтою связать, где скрещиваются «узелок», «флей­
та», «позвонки» и «время»).
Вместо «голоса» в «Петербурге» звучит «^££единая песня»
ЛИППанченко (в парадигме [п]), которого затем сразу после
«пения» с «ощущением разрыва» убивает Дудкин: И негодяи, ведь,
имеют потребность пропеть себе лебединую песню... Знал ли он, что
поет? и —что такое играет?.. Почему сжимается горло— до бо­
ли?.. От звуков? Липпанченко этого не понимал, как не понимал он
и нежных им извлекаемых звуков...» (редакция 1913—1914 гг.) .
И оказывается, что недаром А. Белый, говоря, что содержание
«Петербурга» родилось из звуков «лл» и «пп» (прибавляя к ним
«к» —звук духоты), так боялся, что его не поймут всерьез. «По­
звольте же, наконец: я или не я писал «Петербург»?» — восклица­
ет он [Белый 1981, 502]. И предвидит отклик: «Вы, но... вы сами
абстрагируете!»
11
11
В связи с этими строками нельзя не вспомнить группу поэтов, объединив­
шуюся вокруг журнала «Аполлон» (1909— 1917) и называвшую себя «Аполлоновцы». Эта группа выдвинула литературную программу, основанную на поэтике
классической ясности и гармонии (полной «нежных звуков»), которая связыва­
лась с пушкинской традицией и противопоставлялась символической («дионисийской») поэтике.
2.5. ОТ «ОТЧАЯННОГО ПОБЕГА» А. ПУШКИНА
К «ОТЧАЯНИЮ» В. НАБОКОВА
Куда ж бежать ? какой мне выбрать путь ?
А. Пушкин. «Странник»
Л, какое у автора зрение!
В. Набоков. «Дар»
Известно, что именно поэтическая система Пушкина оказа­
лась в центре внимания поэтов и прозаиков первой трети XX века
при обсуждении проблемы «живое» и «мертвое» («губящее») на­
чало жизни и творчества [Паперно 1992]. У самого Пушкина
разрешение этой проблемы связано с идеей «отчаянного побега»
к «покою и воле» от «сумасшествия» (ср. Не дай мне бог сойти
сума...) и «жизни мышьей беготни». Напомним, что все «побеги»
Пушкина не удались как в биографическом, так и творческом
плане: в поисках материального благополучия, «покоя и незави­
симости» сходит с ума Германн в «Пиковой даме»; бедный Евге­
ний в своем стремлении к тихой и размеренной жизни не может
спастись от волн наводнения и Медного всадника. Концепция
достижения «покоя» кроется и в заглавии «Повести покойного
Ивана Петровича Белкина», однако ее преломление очень свое­
образно: старясь перейти от поэзии к «смиренной прозе», Пуш­
кин рядится в одежды «покойного Белкина», облекая свою лите­
ратурную личность в «смертный псевдоним».
Что касается В. Набокова, то И. Бродский [19926] заметил,
что все романы Набокова «как бы о двойнике, о зеркальном
отражении, т. е. об альтернативе существования». Текстовое во­
площение идеи «побега» в романе «Отчаяние» (1931) Набокова
содержит как прямые интертекстуальные пересечения с темой
«отчаянного побега» Пушкина (получившей наиболее закончен­
ное выражение в стихотворении «Странник» 1835 года), так и ее
творческое переосмысление в связи с собственно набоковской
жизненной ситуацией, когда «альтернатива существования» была
впрямую связана с эмиграцией — «побегом» из России и невоз­
можностью возвращения на Родину (ср. «возможный» вариант
возвращения в «Подвиге» (1931, 1932) , который пишется почти
параллельно с «Отчаянием»).
В то же время вариации на пушкинские темы подаются у Набо­
кова в игровой манере самого Пушкина,—поэта, который ввел
в прозу артистическое, «игровое» начало, ставшее доминирующим
измерением художественности в прозе XX века. Г. Адамович [1989,
197] заметил, что, видимо, не существует другого такого писателя,
кроме Набокова, у которого «фабула отчетливее отделялась бы от
содержания, не совпадая с ним, не покрывая его...». Наша ц е л ь при открыть содержание «Отчаяния» Набокова, учитывая при этом,
что «игровой» прием разгадывания является не только доминант­
ным принципом организации художественных текстов писателя,
но и способом выражения его этико-философской концепции.
Герой «Отчаяния» Набокова — Герман (почти одноименный
с героем «Пиковой дамы»; различие лишь в одном -и-, да и в том, что
он, русский немец, живет в Германии, а не в России, точнее
Петербурге, как немец Германн) для того, чтобы осуществить
«побег» и получить денежную страховку, находит себе двойника
Феликса (что означает «счастливый» — ср. у Пушкина: На свете
счастья нет, а есть покой и воля...), которого убивает, чтобы выдать
его «чужой» труп за «свой». В то же время Герман — сочинитель,
который боится попасть в сумасшедший дом, а его судьба складыва­
ется в ходе развертывания повести, которую он сам пишет. Таким
образом, дар сочинительства Германа порождает те жизненные
обстоятельства, в которые он попадает как герой, и одновременно
Герман размышляет над процессом порождения самого «Отчая­
ния», то есть над текстом его непосредственного автора — Набокова.
Между прочим, подобная же возможность для Германна заложена
и в «Пиковой даме» (ср. описания Пушкина: Он [Германн] ...возвра­
тился домой, очень занятый своей интригою; Германн их [письма
Лизавете Ивановне] писал, вдохновенный страстию, и говорил языком,
ему свойственным...) (см. [Кгоб 1991]). Набоковский же Герман все
время сопровождает свой рассказ метатекстовыми отступлениями,
вроде «не я пишу, а моя память, и у нее свой нрав» [3, 363], и как бы
между строк замечает, что в школе ему за русское сочинение всегда
ставили кол, поскольку он по-своему пересказывал действия
1
1
В «Подвиге» главный герой Мартын называется Набоковым то «вольным
странником», то «потерянным странником».
классических героев: «так, в моей передаче «Выстрела» Сильвио
наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним
и —фабулу, которую я впрочем знал отлично» [3, 359].
И в центре повествования Набокова находим прямые интер­
текстуальные отсылки к Пушкину, которые, однако, соединены
в сознании героя самым причудливым образом. Первая параллель
возникает сразу, как только Герман назначает «в письме» свида­
ние своей жертве у «бронзового всадника», и отослав его, по­
чувствовал то, «что чувствует, должно быть, полумертвый лист,
пока медленно падает на поверхность воды. <...> Когда падал
лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотврати­
мый двойник. Встреча их была беззвучна» [3, 369]. Образ полу­
мертвого листа вызывает у Германа и его жены Лиды воспомина­
ния об осени в России и заодно о «погибших осенью листах»
Пушкина, которые подобны мертвой душе поэта . Аллюзия на
пушкинские строки из «Евгения Онегина» (Все, что ликует и бле­
стит,/ Наводит скуку и томленье/ На душу мертвую давно,/И все
ей кажется темно?/Или, не радуясь возврату/Погибших осенью
листов...) атрибутируется согласно комментариям Германа по
поводу реплики его жены Лиды «Как славно сейчас в России»: он
замечает, что «то же самое она говорила ранней весной и в ясные
зимние дни; одна летняя погода никак не действовала на ее
воображение» [3, 369] . И сразу же герою на память приходят
слова: «...а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля.
Давно, усталый раб...», которые после обращения к Герману
жены (Пойдем, усталый раб) разворачиваются далее: «...замыслил
я побег. Я. Побег. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лида, без
Берлина, без пошлостей Ардалиона?» [3, 369]. Продолжение пуш­
кинских слов вплетается Германом в реплику о своем «чудовищ­
ном портрете» без глаз, который написал Ардалион (мужское
отражение Лиды: ср. Лида — Ар-дали-он): «...давно завидная меч­
тается... Ах, его не критикую. Между прочим, что делать с этим
чудовищным портретом, не могу его видеть. Давно, усталый
2
3
2
Ср. также у Пушкина: Свою печать утратил резвый нрав,/Душа час от часу
немеет;/В ней чувств уж нет./ Так легкий лист дубрав/В ключах кавказских
каменеет. Надо сказать, что воспоминания о России у Набокова часто связаны
с осенью. Об этом говорят и следующие строчки из «Подвига»: Мартыну такие
разговоры [о революции] претили; небрежно взяв со стола том Пушкина, он начинал
переводить вслух стихи: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото
одетые леса* [2, 193).
Именно такое отношение к лету прочитывается в отрывке «Осень» Пуш­
кина: Ох, лето красное! <...> Ты, все душевные способности губя,/Нас мучишь...
3
раб...» [3, 369]. И так «с тупым упорством» Герман все в р е ­
мя направлял свой разговор «в сторону обители чистых нег»
[3, 370].
С этого момента Герман ощущает себя только в качестве
отражения («а тело мое—далеко»), и весь смысл его жизни
заключается только в том, что у него «есть живое отражение» —
Феликс . Параллельно Ардалион с Лидой начинают часто «играть
в дураки» и вести разговор то о «картах», то о Германе [3, 371];
а сама Лида за карточной игрой видится перед убийством Герма­
ну «в пестром, как рубашка игральной карты, платье» [3, 398].
Отсчитывая минуты до встречи с Феликсом, в своей рефлек­
сии Герман находит «ядро, вокруг которого все образовалось»,
а именно, «графин с мертвой водой», который по логике «Петер­
бурга» А. Белого (графин-графиня), соотносится с «графиней»
«Пиковой дамы» Пушкина . В «Отчаянии» читаем: «...и вдруг
я посмотрел на графин с мертвой водой [курсив в текстах мой. —
Н. Ф.], и он сказал «тепло», —как в игре, когда прячут предмет,—
и я бы вероятно нашел в конце концов тот пустяк, который
бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход маши­
ну памяти, а может быть и не нашел...» [3, 372—373]. Так герой
Набокова обычно «находил слово, таившее понятный корень, но
обросшее непонятным смыслом» [3, 335]. В это время вид из
гостиницы казался как-то «смутно и уродливо» схожим «с чем-то
уже виденным в России давно-давно» [3, 373]. Позднее Герман,
разговаривая с Феликсом, замечает, что его фантазия «разыгра­
лась, и разыгралась нехорошо, увесисто, как пожилая, но все еще
кокетливая дама, выпившая лишнего» [3, 384].
Эта посылка обращает нас к сну Германа, который по своей
ситуации и концепции, напоминая, расшифровывает сон-виде­
нье пушкинского Германна. Так, у Пушкина Германн, как бы
проснувшись среди ночи, слышит отпирающуюся дверь: «Дверь
отворилась, вошла женщина в белом платье. <...> Но белая
женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, —и Германн
узнал графиню!» Графиня «против своей воли» сообщает Германну три карты: «Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду ...».
4
5
4
Такое восприятие «другого», «отражения-двойника» находит подтверждение
в наблюдениях М. М. Бахтина [1979, 27J о том, что человеческое тело-Я в дей­
ствительном восприятии никогда не встречает своей внешней выраженности «как
внешний же единый предмет рядом с другими предметами», а находится «как бы
на границе видимого мною мира, пластично-живописно не соприродно ему».
Роман А. Белого, как мы писали в 2.4, начинается пародийной аллюзией на
умирающую графиню из «Пиковой дамы» Пушкина.
5
Позднее Германн «записывает» свое видение, которое удаляется
в ночь.
У Набокова же Герман вспоминает преследовавший его «не­
приятнейший сон»: «...будто нахожусь в длинном коридоре, в глу­
бине—дверь,—и страстно хочу, не смею, но наконец, решаюсь
к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался,
ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное,
а именно: совершенно пустая —голая, заново выбеленная комна­
та,— больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно
было выдержать» [3, 360]. Затем сон прерывается воспоминани­
ями о России, и возникает стих, анаграммирующий слово «отчая­
ние» и держащийся на блоковских рифмах (прочъ-ночь) \
ь
Хохоча, отвечая находчиво,
(отлучиться ты очень не прочь!),
от лучей, от отчаянья отчего,
Отчего ты отчалила в ночь?
Продолжение сна заключалось в том, что «однажды... комната
оказалась не пуста,—там встал и пошел навстречу мой двойник.
Тогда оправдалось все: и стремление мое к этой двери, и стран­
ные игры... <...> Герман нашел себя* [3, 361]. Так Герман теряет
свое «первое лицо», от которого ведется повествование, и видит
себя со стороны в качестве двойника. И эта фраза «остранения»
повторяет по всем ритмико-синтаксическим характеристикам
пушкинскую фразу, открывающую заключение «Пиковой дамы»:
Германн сошел с ума.
Когда же в действительности Герман в первый раз встречает
своего двойника, то ему снится сон, что к нему из темноты идет
Феликс: «Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была
длинная пустая дорога...», потом он «опять растворялся, дойдя до
меня, или вернее войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь
тень» [3, 362—363]. Потом Феликс опять уходил, но, «обернув­
шись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось
все яснее, и это было мое лицо» [там же]. Вновь свое лицо Герман
видит в луже, дрожащее и исковеркованное ветровой рябью,
и вдруг от замечает, «что глаз на нем нет». И Набоков снова
переключает читателя на портрет Германа без глаз, «написан­
ный» Ардалионом, о котором неудачливый художник говорит:
«Глаза я всегда оставляю напоследок» [3, 363].
6
Ср., к примеру: И ты, мой юный, венной тайной/Отходишь прочь./Я за
тобою, гость случайный,/Как прежде —в ночь.
Когда Герман ждет реальной встречи с Феликсом, он доходит
до места встречи, где память опять возвращает нас к Пушкину:
«Наконец, в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь,
опираясь на хвост, как дятел, и если бы герцог на нем энергичнее
протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы
сойти за петербургского всадника . <...> Я дважды, трижды обо­
шел памятник, отметив придавленную копытом змею <...>. Змеи
впрочем никакой не было, это мне почудилось» [3, 373].
Кульминации аллюзии достигают в конце повести, когда про­
валились все замыслы Германа и открылось его преступление,
а именно, не замеченная им ранее «деталь рассказа» оказалась
роковой. Здесь, в деревне, «где он скучал» после убийства, вновь
встретились два листа, как пишущий герой со своим двойником,
«всплывающим из глубины», и фабула «разгоралась» опять, тре­
буя от своего творца продолжения и окончания. Герман начинает
искать название для своего творения и перебирает: «Двойник»,
«Зеркало», «Портрет автора в зеркале», «Сходство», «Непри­
знанное сходство», «Оправдание сходства». Но тут всплывает
название «Поэт и чернь», которое сразу отсылает к стихотворе­
нию «Поэт и толпа» Пушкина, где вокруг поэта «толковала чернь
тупая».
Герман вновь начинает перечитывать написанное: «Я стал
читать, и вскоре уже не знал, читаю ли или вспоминаю, даже
более того — преображенная память моя дышала двойной пор­
цией кислорода» [3, 456]. Слова о «кислороде» обращают нас
к написанному позднее «Дару» (1937), ибо там раскрывается
то, чем «дышал» дар Набокова: В течение всей весны <...>
он [Федор] питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, —у пушкинского
читателя увеличиваются легкие в объеме [3, 88]. Благодаря «удво­
енной памяти», Герман находит роковую ошибку в повество­
вании и замысле и выставляет окончательное заглавие — «От­
чаяние». И тут пишущего обуревают сомнения: «Слушайте, слу­
шайте! Я стоял над прахом дивного своего произведения,
и мерзкий голос вопил в ухо , что меня не признавшая чернь
может быть и права...» [3, 457].
1
8
7
«Непременное присутствие Медного всадника» ощущалось и у других пи­
шущих и живущих в эмиграции героев Набокова, ср., например, в «Подвиге»
описание молодых поэтов, у которых «всадник» был атрибутом тоски по родине
и Петербургу [2, 251].
* Ср в «Истории стихотворца» Пушкина: Внимает от привычным ухом/
Свист,/Марает он единым духом/Лист.
Содержательная ошибка Германа состояла в том, что отраже­
ние своего лица в зеркале он видел не таким, каким оно было на
самом деле. Увидев в «лице» Феликса свое «живое отражение»,
Герман ошибался: никто, кроме него, не видел этого сходства.
Когда оба героя спали в одной комнате, недалеко от «двойника
медного всадника», Герман страстно мечтал о доведении своего
«замысла» до конца: «Ведь этот человек, особенно когда он спал,
когда черты его были неподвижны, являл мне мое лицо, мою
маску, безупречную и чистую личину моего трупа, —я говорю
трупа только для того, чтобы с предельной ясностью выразить
мою мысль —какую мысль? —а вот какую: у нас были тождест­
венные черты, и в совершенном покое тождество это достигало
крайней своей очевидности, —а смерть —это покой лица, художественное его совершенство: жизнь только портила мне двойни­
ка...» [3, 341]. После убийства в Феликсе никто не признал
Германа, который стал уже жить под именем Феликса. Само же
воспоминание о Феликсе вдруг по игре памяти высвечивает
«снег» (ср. убийство на дуэли поэта Ленского в «Евгении Онеги­
не» и самого Пушкина): «...снег лежал на земле, в нем чернели
проплешины... Ерунда, — откуда в июне снег? Его следовало вы­
черкнуть. Нет,— грешно. Не я пишу, —пишет моя нетерпеливая
память. Понимайте, как хотите, —я не при чем. И на желтом
столбе мурмолка снега. Так просвечивает будущее» [3, 354].
Роковая деталь, которую обнаружил Герман при перечитыва­
нии, крылась в словах «[Феликс] Указал палкой. Палкой, чита­
тель, палкой» [3, 456—457]. Именно «палка» с выжженным на ней
именем Феликса (т. е. «счастливого») была оставлена Германом
на месте преступления. Воспоминание об этом слове и вызвало
«Отчаяние». Тут всплывает паронимия [покой] — [палкой], так
как у Феликса были свои отношения с буквой «л»: «Тяжело»
значило у него «трудно». Буква «л» была у него как лопата» [3,
358]. Эта «палка» Феликса имеет несколько координат, и Герман
не зря обращается к читателю, знает ли он, что такое «палка» [3,
457] и как она связана с «художественной памятью»? Во-первых,
она отсылает к «двойнику медного всадника», вокруг которого,
если бы не Герман, вечно ходил бы Феликс, «чертя палкой те
земляные радуги слева направо и справа налево, что чертит
всякий, у кого есть трость и досуг, — вечная привычка к окруж­
ности, в которой мы все заключены» [3, 370]. Во-вторых, эта
9
* Июнь —это месяц рождения А. Пушкина (по новому стилю)
«палка» ранее привлекла внимание самого Германа: «это была
толстая, загоревшая палка, липовая, с глазком в одном месте и со
тщательно выжженным именем владельца — Феликс такой-то,—
а под эти именем —год и название деревни» [3, 375]. Затем
надпись расшифровывается: «Феликс такой-то из Цвикау» [3,
456], и название деревни оказывается паронимично немецкому
слову Zweikampf'дуэль, поединок'. И в-третьих, открывая роман
«Подвиг», написанный вскоре после «Отчаяния», читаем, что
«палка», которую Грузинов смастерил для Мартына (задумавшего
возвращение в Россию), была «гладкая, белая, еще свежая на
ощупь». «Тоже пустяк —но эта палка почему-то пахла Россией»
[2, 273]. И, наконец, «палка» была вечным атрибутом «прогулок»
как самого Пушкина, так и литературных «прогулок с Пушки­
ным», прежде всего позже в «Даре» Набокова (Закаляя мускулы
музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми
страницами «Пугачева», выученными наизусть [3, 87]). Когда же
Герману приходят на память строки о «покое и воле» и «листах»,
то он идет, «пронзая тростью палые листья» [3, 369]. Эта фраза,
написанная от лица Германа, служит демонстрацией его любви
«ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадь­
бой каламбура» [3, 360]. Перед этим «трость» пророчески появля­
ется во сне Германа, когда он видит Феликса во сне и тот глядит
ему «прямо в глаза» [3, 362] (ср. ранее палку с глазком).
При этом значимыми кажутся и слова Германа, с которых
начинается его существование как Феликса (Я люблю белок. Фе­
ликс любил белок), и Герман не может понять, «кто убит —я или
он?». Так выжженное на палке имя оказывается соотнесенным со
словами «покой» и «белки» или с «покойным Белкиным» , вла­
дельцем села «Горюхина», которое соседствует с «Ненарадовым».
«Покойный Белкин» — это некоторое «минус Я» Пушкина, точ­
но так же, как Горюхино и Ненарадово —антонимичны по своей
10
11
10
Фамилия «Белкин» всплывает и в «Подвиге», когда идет речь о фамилии
Мартына: «Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки,
волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, от­
носилась к русской сказочной фауне» [2, 157], а далее идет речь о том, что мать
«плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее
побасками, спицами и тоской» [там же]. В «Отчаянии» фраза о белках звучит и из
уст самого Феликса: «Белок тоже люблю (опять подмигнул). Хорошо, когда в лесу
много белок. Я их люблю за то, что они против помещиков» [3, 376].
" Одновременно в Белкине заложено и «классовое» раздвоение Пушкина (ср.
«Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал» (Ф. М. Достоевский «Зимние
заметки о летних путешествиях»)), которое также играет в «Отчаянии».
внутренней форме «счастью», которого «на свете нет, а есть
покой и воля». Неслучайно поэтому в «Отчаянии» заводится
разговор о «подлинных» и «мистифицированных» «покойниках»
[3, 394]. Обдумывание же плана убийства Феликса невольно
связывается в голове Германа с пушкинской строкой «Пора, мой
друг, пора. Покоя сердце просит» , и таким образом его сума­
сшедший план параллелизируется с пушкинской мечтой о побеге
«в обитель дальнюю трудов и чистых нег» (см. также [Dolinin
19996]). После же убийства Герман проверяет, действительно ли
«тело совсем мертвое»: я чутьем знал, что это так, что пуля моя
скользнула как раз по короткой воздушной колее, проложенной
волей и взглядом» [3, 438], и пока Герман не дописал последнюю
главу, покою у него не было [3, 454].
Из слов, которые автор предлагает паронимически составить
из слова «палка» (пал, лак, кал, лампа), обращает внимание
последнее. Оно возвращает нас к началу романа: «Мне стоило
большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое
расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной
птицы. Нет, это не муки творчества, это —совсем другое»
[3, 334]. Здесь речь идет о «втором рождении» художника, стрем­
лении сменить свой стиль и сделать его непохожим на «клюв
хищной птицы»—для этого надо «раздвоить» листы, летящие
друг другу навстречу, то есть «письма» от Германа к Феликсу
и от Феликса к Герману. Второй раз речь о «пере» заходит
на почте, куда Герман пришел за письмом от Феликса: «казенное
12
13
14
15
12
Пушкинская строка «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит,..*, наряду
с Медным всадником, составляет и один из основных лейтмотивов «Петербурга»
А. Белого.
Слово «палка» не случайно состоит из согласных звуков, которые А. Белый
считал ключевыми в романе «Петербург»: Л-К-Л, пп-пп-лл [Белый 1981, 502].
Друг и ученик В. Набокова А. Аппель вспоминал, что однажды Набоков
вдруг прервал одну из своих лекций по русской литературе, выключил в аудито­
рии свет и опустил шторы. Затем он подошел к выключателям. Первую лампу,
которую Набоков вновь зажег, он назвал «Пушкин», вторую — «Гоголь», третью —
«Чехов». Когда же он открыл шторы и первый луч солнца ворвался в аудиторию,
то воскликнул: «А это Толстой!» [Набоков 19966].
Ср. игры с «пером» в «Египетской марке» (1927) Мандельштама: Не повину­
ется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы <...>
разменявшее свой ласточкин росчерк... [Мандельштам 1990, 2, 74]. Вспоминается
и диалог Ахматовой и Мандельштама о «горячем посвисте хищных птиц» («Твое
чудесное произношенье — Горячий посвист хищных птиц» (1918) Мандельштама
как ответ на «Не с тобой ли говорю В остром крике хищных птиц» (1914)
Ахматовой), посвященный смыслу, который «кричит и свистит», начиная с Пуш­
кина.
13
14
15
перо» создавало «иррациональный почерк, минус-почерк, —что
всегда напоминает мне зеркало,—минус на минус дает плюс.
Мне пришло в голову, что и Феликс некий минус л,—изумитель­
ной важности мысль, которую я напрасно, напрасно до конца не
продумал» [3, 403]. Позже, по показаниям Орловиуса (ср. орла
в качестве «хищной птицы») , оказалось, что Герман «сам себе
писал письма» [3, 450].
Когда же полиция обнаружила труп, не заметив никакого
сходства этого трупа с Германом, «вернее исключив априори
возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет
видеть)», она «с блестящей последовательностью удивилась тому,
что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека,
ничуть на меня не похожего» [3, 450]. Далее в романе строится
параллель «полиция —литературный критик», переводящая все
происходящее в метатекстовое измерение: «Вбив себе в голову,
что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик,
который при одном виде книги неприятного ему писателя реша­
ет, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произволь­
ного положения), вбив себе в голову все это, они с жадностью
накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего
с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом
отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в пре­
красной книге не замечается описка, опечатка* [3, 450]. Из этих
«опечаток» главные были «грубость рук» , и «аккуратность ног­
тей на всех четырех конечностях»; причем обратили внимание на
то, что «ногти подрезал не сам человек, а другой» [ср. внимание
Пушкина и Онегина к «красе ногтей», а Германа к маникюрному
прибору. — Н. Ф.]. Еще ранее было отмечено, что непонятно, как
удалось Герману «заставить живого человека» (т. е. Феликса)
надеть не только его костюм, «но даже носки и слишком тесные
для него полуботинки» [3, 450].
16
11
18
19
16
В английском варианте «Отчаяния» — »Despair* (1966) эта связь обнажена.
Ср. Old birds like Orlovius... that purblind eagle.
В романе «Дар» устами критика Чернышевского произносится следующая
фраза: «Если Пушкин был гений, то как истолковать такое количество помарок
в его черновиках?» [3, 229).
В романе «Дар» в связи с «руками» Федор пишет, что его отец (голос
которого «сливался с голосом Пушкина») «не только многому меня научил, но
еще и поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или
рука» [3, 115].
Игра с «ногами» значима для Набокова. В «Даре» вспоминаются знамени­
тые пушкинские «ножки», смерть же Пушкина для России характеризуется Набо­
ковым, как будто ей «отрубили по бедро ногу» (3, 88]. Не раз в романе Набоков
17
18
19
Из «опечаток» самого Германа, по которым можно обнаружить
и посмертные «следы» Пушкина, обращает на себя внимание
«измерение черт» лица Германа, которое затем должно стать
«маской трупа» Феликса, при котором лицо определялось как
«вылепленное на заказ», и это лицо «покрывалось как раз таким же
рыжеватым на свет волосом, как у него» [3,348—349]. В связи с этим
оживает набоковский каламбур «перелицевать по-своему» [3, 381],
который Герман соотносит с «компрометирующими» писатель­
скими заимствованиями. Однако в чем действительно лицо Феликса
отличалось от лица Германа, — это был и «глаза», их выражение. Эту
разницу Герман всегда старался обойти, считая, что глаза у «мертво­
го», или «трупа», все равно будут закрыты. Как мы писали выше, сам
Герман не видит «глаз» в отражении своего лица, а Ардалион же,
рисовавший портрет Германа , оставляет его «без глаз». Единствен­
ный, кто в романе смотрит «прямо в глаза» Герману — это идущий
ему навстречу Феликс «с тростью» в пророческом сне [3, 362].
Все это обращает нас к «Пророку» Пушкина, стихотворению
о «втором рождении» поэта. В «Пророке» как раз и происходит
поэтическая «операция» над «трупом», в результате которой у не­
го Отверзлись вещие зеницы,/Как у испуганной орлицы. В «Отчая­
нии» идет разговор о пере как «клюве хищной птицы», и появля­
ется некто Орловиус (занимающийся финансами семьи Герма­
на), причем первый раз упоминание о нем появляется сразу после
«сна» Германа о Феликсе, в котором «Герман нашел себя». Затем
Орловиус, случайно оказавшийся в гостях у Германа, вместе
с Лидой и Ардалионом «глазеет» на уже готовый портрет Германа
20
пишет о многозначительном следе ноги, а о герое «Дара» Федоре Годунове-Чердынцеве (также живущем в Германии) говорится, что чувство России у него в ногах,
что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладонями [3, 58].
(см. 2.6).
Ср. в «Пиковой даме» словесный портрет Германна и его восприятие
Лиза вето й Ивановной: «Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображе­
нием, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое
лицо пугало и пленяло ее воображение». Позднее Германн кажется Лизавете
Ивановне похожим на портрет Наполеона. Сравнение Германна с Наполеоном
особым образом работает и в «Отчаянии» благодаря интертекстуальной линии
Германн —Раскольников —Герман. Известно, что в черновых рукописях к рома­
ну «Преступление и наказание» Достоевский рисует портрет Раскольникова,
в котором нетрудно узнать Наполеона (см. [Баршт 1996, 70]); однако на них
«псевдо-Наполеон» изображен фактически «без глаз». Впервые эти материалы из
архива Ф. М. Достоевского были опубликованы в России в 1931 году. Конечно,
Набоков мог и не знать об этом рисунке Достоевского, однако художественная
логика вела писателя XX века по тому пути. А именно, когда Ардалион начинает
карандашом рисовать портрет Германа, тот вспоминает лицо Наполеона [3, 357].
20
(с которым сам Герман не обнаруживает никакого сходства:
«Чего стоила, например, эта ярко-красная тонка в носовом углу
глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы» [3, 366];
к тому же на «фасонистом фоне» портрета были намеки «на
виселицы»). Орловиус рассматривает портрет «вплотную» (он «до
глупости близорук»), «подняв на лоб очки», «с полуоткрытым
ртом» и дышит на картину, как будто собирается ею «питаться».
Он (подобно Лизе из «Пиковой дамы») пугается этого изоб­
ражения и в конце концов говорит о нем с отвращением —
«модерновый штиль» (ср. «новейшие романы» у Пушкина) и тут
же переходит к литографии «Остров мертвых» [3, 366]. Герман
же сразу начинает искать «адрес» Феликса и натыкается на
шоколадную коробку (Герман торговал шоколадом), как он гово­
рит, «с лиловой дамой, изменившей мне* [3, 366].
Перед намечаемым Германом преступлением Орловиус сидит
за новогодним столом с Лидой (похожей на игральную карту; ср.
Лиловая дама), Ардалионом (с которым Лида действительно из­
меняет герою) и Германом, «как зверье на гербах» [3, 398],
а в конце романа объявляет Германа «ненормальным». Общий
вид всей этой группы за столом очень напоминает сновидение
Татьяны в «Евгении Онегине»: И нто же видит?., за столом/
Сидят нудовища кругом... В самом же описании Орловиуса фигу­
рируют «блеск очков», черный сюртук, «старческая, с когтями
грифона, рука» [3, 399]. Герман же видит себя «человеком-мол­
нией», озарившей всю картину.
Перед описанием этой картины воспроизводятся отрывки из
ранних сочинений Германа, в которых парадоксальным образом
«обращались в ничто» его остроумнейшие замыслы. И именно
в этих замыслах речь шла о «прозрении», о выборе, видимо,
«музы» между двумя «двойниками» — подлинным и воображае­
мым: ...я открыла глаза, мой покой был облит зарею...
Истинное же лицо Германа обнаруживает Ардалион, написав­
ший его «чудовищный портрет». Он в письме к Герману пишет:
21
21
Название этой литографии и само имя художника Ардалиона вызывают
в памяти произведения Сальвадора Дали —ср. его картину «Настоящая картина
Арнольда Бёклина «Остров мёртвых» в час вечерней молитвы». Художественный
метод Дали отмечен безудержной фантазией и виртуозной техникой исполнения;
в его картинах, как и в произведениях Набокова, самым противоестественным
ситуациям и сочетаниям предметов придана видимая достоверность и убедитель­
ность. Известны и эксперименты Дали с «глазами» и выбором необычной пер­
спективы. Все это невольно заставляет подумать о параллели двух художников.
Дали и Ардалиона как некой изобразительной ипостаси Набокова.
ДАЛИ
ЛИДА
АР-,
АР-ДАЛИ-ОН
РОДИОН
Рис 9
«Но мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще
одна деталь, а именно сходство; но схожих людей нет на свете
[как и счастья на свете нет. — Н. Ф.] и не может быть, как бы Вы
их не наряжали» [3, 458]. В этом же письме оценивается поступок
Германа, который в свои сообщники взял жену Лиду: «Для этого
надо быть действительно незаурядным чудовищем... Нет, —Вы
обязаны снять с нее тень сообщничества» [3, 458]. Как мы
помним, в «Пиковой даме» Лизавета Ивановна , поняв, что была
сообщницей преступления Германна, также говорит ему: «Вы —
чудовище». Самой характерной чертой Германа-чудовища Арда­
лион называет в письме «всех нас угнетавший холод» [3, 459],
который, видимо, и обнаружился в «снеге» на месте убийства.
Однако, по задуманной Набоковым случайности, свое письмо
Ардалион (пишущий вместо Лиды) вынужден направить на имя
«Ардалиона» (Герман «шифром взял его имя»), так что оказыва­
ется, что и этот «художник» пишет письма сам себе. При этом
парадоксальным образом Ардалион живет на средства Германа
и с его женой Лидой —«дамой», которая изменяет пишущему
герою.
Сам же Герман не видит своего преображения, несмотря
на то, что он много рассуждает о «кривых зеркалах», которые
22
22
Параллель Лида —Лизавета Ивановна подкрепляется в «Отчаянии» замеча­
ниями о некой тете Лизе, удачно вышедшей замуж и живущей в городе «Иксе»,
который по общей для Набокова схеме переносится в Европу: «...не в Иксе,
а около Ниццы, вышла замуж за француза-старика, и у них ферма» [3, 362].
Второй раз разговор о Лизе заходит тогда, когда Герман называет Лиде место
«Икс», где он будет после предполагаемого убийства, ей же он предполагает ехать
в Париж (где некогда блистала пушкинская графиня), а затем в Ниццу.
называет «зеркала-чудовища»: «кривое зеркало раздевает че­
ловека и начинает уплотнять его <...> — а не то тянешься,
как тесто, и рвешься пополам» [3, 344]. «Чудовищным» казалось
порою Герману и существование самого Феликса, «по той
простой причине, что сам я выдумал его, что создан он
моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок»
[3, 374].
Встает вопрос: почему же Набоков в своем романе так много
уделяет внимания «отражениям» и почему все они сопровожда­
ются аллюзиями к пушкинским произведениям? Почему также
постоянно идет разговор о разных видах «сходства», как при­
знанного, так и не признанного? Видимо, за поверхностным
ходом интриги скрывается более глубинный уровень набоковского произведения, а именно: выбор своего творческого метода,
который он пытается сделать с помощью «другого» художника,
прежде всего Пушкина.
С высоты Серебряного века сам Пушкин воспринимался как
сочетание противоположностей, как «рвущийся пополам»: как
животворящий и «губящий все без возврата» (подобно Медному
всаднику), как «поэт» и «ничтожнейший» из «детей ничтожных
мира».
Само творческое «преображение» зрелого Пушкина в литера­
туре Серебряного века не раз ассоциировалось с неким холод­
ным «чудовищем». «Чудовищность» облика при этом, видимо,
связывалась с ужасным образом ожившего пушкинского «Проро­
ка» с «жалом змеи» в «замерзших устах» и «вещими зеницами»,
как у «испуганной орлицы» (ср. «чудовищный» портрет Германа
в «Отчаянии» с испуганными глазами и «ощеренной» губой). Как
известно, интертекстуальная линия героя-чудовища Германна из
«Пиковой дамы» (одновременно похожего и на «мертвую» стару­
ху-графиню, и на Наполеона) затем обнаруживается в Раскольникове Достоевского, который все время находится в состоянии
«страшного холода» и «озноба». С Раскольниковым ощущает свое
«карикатурное сходство» [3, 445] и «дрожащий» Герман «Отчая­
ния», что подкрепляется замечаниями Ардалиона о «мрачной
достоевщине» [3, 458] и репликами самого Германа о «пляске
пера», смахивающей «на застеночные беседы в бутафорских ка­
баках имени Достоевского» [3, 386]. Вспомним, что А. Белый
[1992, 470] в лекции о Пушкине пишет: «Медный всадник»,
окаменевший в Пушкине, «пророк» — разряжается в русской ли­
тературе в галерее «сильных личностей» Достоевского...»
23
Таким образом, интертекстуальный портрет (Германн-Раскольников-Герман; ср. также Родион-Ардалион с роковым «л» )
героя «Отчаяния» Набокова ставит вопрос о соотношении автора
и героя, «холодного расчета» и «игры воображения», т. е. о воз­
можности автора не сойти с ума, не убить себя, не совершить
преступления, вложив свои «чудовищные» намерения в «уста»
и «глаза» своего героя . Показательно, что Герман Набокова
мыслит кончить свои дни в сумасшедшем доме, как и пуш­
кинский Германн, обосновывая это так: «стройность того ло­
гического зодчества, которому предавался мой сильно развитый,
но вполне нормальный разум», «интуитивные игры, творчество,
вдохновение, все это возвышенное, что украшало мою жизнь»,
может показаться профану «предисловием к невинному поме­
шательству» [3, 337]. На таком же «полном вдохновенной
страстью» языке были написаны (по-немецки) письма Германна
Лизавете Ивановне, где выражался «беспорядок необузданного
воображения».
И подобно тому, как в «Пиковой даме» возникает тройной
параллелизм героев (Германн, Лизавета Ивановна, старуха), со­
ответствующий трем картам (см. [Кгоб 1991]), так и в «Отчаянии»
три раза заходит разговор о «белках» (2 раза в речи Феликса,
один раз в речи Германа-Феликса), три раза о «графине» (2 раза
24
25
23
Интертекстуальная линия Набоков—Достоевский в «Отчаянии» рассмат­
ривается в работах [Dolinin 1999а,б].
Зарубежные исследователи обычно связывают роман «Отчаяние» с темой
«шоколада» (в частности, с романом А. И. Тарасова-Родионова «Шоколад»
(1922)), но звуковая организация имен в романе скорее сходится на «мармеладе»
и ведет к фамилии Мармеладова: ср. Лиловая дама + Ардалион + Лида (с произ­
ношением е как [и]). Интересно, что в рукописи романа «Преступление и нака­
зание» Достоевского эта фамилия как в форме Мармеладова, так и в форме
Мармела соседствует с записями автора об «ошибке» в замысле, рядом же записа­
но и слово <Огор[чение]>, паронимичное «Отчаянию» (см. [Баршт 1996, 249]).
Само же слово «отчаяние» преследует Раскольникова после совершения им
убийства Лизаветы (см. [Фатеева 2002]).
Так, в «Лекциях по русской литературе» В. Набоков воспроизводит точные,
на его взгляд, слова Кропоткина: «За изображением Раскольникова я чувствую
самого Достоевского, который пытается разрешить вопрос: мог ли бы он сам или
человек вроде него быть доведен до совершения преступления, как Раскольников,
и какие сдерживающие мотивы могли бы помешать ему, Достоевскому, стать
убийцей. Но дело в том, что такие люди не убивают» [Набоков 19996, 192—193].
Однако вспомним при этом, что первоначально Достоевский, как впоследствии
это сделал Набоков, задумывал писать повесть от первого лица под названием
«Исповедь преступника» и в черновой рукописи романа «лицо идеи» Расколь­
никова, как ее рисует сам Федор Михайлович, имеет черты автопортрета (см.
[Баршт 1996]).
24
23
в мужском форме графин и один раз в форме маленькой графини),
три раза появляется памятник-двойник Медного всадника, кото­
рый Герман «дважды, трижды» обходит (место встречи Германа
и Феликса). Три раза говорится о «даме»: один раз в связи
с книгой в «русской библиотеке», которую до Лиды предлагают
«другой даме», второй раз в связи с «изменой», третий раз в связи
с «разыгравшейся фантазией».
Еще одним «лейтмотивом» разговоров Феликса и Германа,
который соседствует с любовью Феликса к «белкам», становится
«мышь»: 2 раза о мыши говорит Феликс, один раз Герман от
имени Феликса (У всякой мыши —свой дом, но не всякая мышь
выходит оттуда [3, 376]). Последний четвертый раз, когда Гер­
ман оказывается загнанным в угол (деревню, где он скучал), у себя
в углу новой комнаты он обнаруживает «мышеловку» [3, 459].
Словесный облик «мыши» обращает нас к «жизни мышьей бегот­
не» Пушкина, а также многочисленным вариациям на темы
«мыши» поэтов и писателей Серебряного века, которые заданы
статьей М. Волошина «Аполлон и мышь» (1911) и «Петербургом»
А. Белого, где «словесный символ» мышь по паронимии и тексто­
вой смежности связан с «мыслью».
Именно в такую словесную игру и пускается Набоков в «От­
чаянии», строя, как и Пушкин, «пестрые литературные пародии
на разных уровнях, сливающиеся в тающем пространстве» [Набо­
ков 1998, 36]. И его действительно настигает «отчаяние» от
невозможности воплощения своего «идеального» замысла о писа­
тельском «даре» — поэтому ему приходится облекать, подобно
Достоевскому, свои размышления в криминальный сюжет .
И вся композиция романа доказывает, что «живой» автор не
может иметь «мертвого двойника», тем более если пишущий не
изучил и самого существа своего двойника: «Но душу Феликса
я изучил весьма поверхностно, — знал только схему его личнрсти,
две-три случайные черты» [3, 440]. Реальное творчество, к каким
бы интертекстуальным заимствованиям художник ни прибегал,
«портит» первоначальное совершенство оригинала: «так входит
ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних
26
26
В связи с «палкой» романа «Отчаяние» можно провести еще одну очень
интересную интертекстуальную параллель. Она оказывается связанной с «палкой
о двух концах», «уликами о двух концах» и «психологией о двух концах» крими­
нальных романов Достоевского. Однако этой теме посвящена наша отдельная
статья (Фатеева 20021. Криминальный сюжет в «Отчаянии» анализируется также
в работе [Мельников 1994).
красок искажает мастером написанный портрет» [3, 341]. В «От­
чаянии» Ардалион не раз говорит Герману о недостатке его
художественного вкуса: «художник видит именно разницу.
Сходство видит профан» [3, 357]. Позднее Набоков напишет
в «Даре», уподобляя литературное творчество шахматной игре,
что «всякое подлинно новое веянье есть ход коня, перемена теней,
сдвиг, смещающий зеркало» [3, 215].
Такого «сдвига» не происходит в «Отчаянии», и остроумней­
ший замысел «обращается в ничто»: ведь, как пишет Герман,
в «русской библиотеке» конечный выбор книги определяется ее
заглавием [3, 346], как не поворачивай ее «вверх ногами» или «на
девяносто градусов». Отчаяние подстерегает как героя романа,
так и его автора: он пока не знает ответа, куда указывает «палка
Феликса». «Подражание переводным романам» и «модерновому
штилю» «путает все приемы» [3, 359] пишущего. В то же время
кому будет понятна эта книга, написанная по-русски? Даже если
ее возьмет с собой «беженский беллетрист» [3, 428], поймут ли ее
в России, в СССР, где люди похожи друг на друга, как «Геликсы
и Ферманы»? В конце романа на автора смотрят «сотни, тысячи,
миллионы» , но эта окружающая толпа «безмолвствует», как
в «Борисе Годунове» (Но полное молчание, только слышно, как
дышат [3, 462]), и в этом «молчании» анаграммировано отчаяние
(ср. также ремарку Народ в ужасе молчит в заключительной сцене
«Бориса Годунова»).
27
ОТ ОТЧАЯНИЯ ОТЧЕГО-ОТЧАЯНИЕ-молЧАНИЕ,
ТОлько слышно
I
ОТЧАЛИЛА в НОЧь
Таким образом, «Отчаяние» — это роман «выбора альтерна­
тивы» как в жизни, так и в творчестве. Это роман «отчаяния*
на пути к «Дару». «Набоков, живущий на Западе, —двойник
ТОГО, который жил в России. Кто из них тело? Кто тень? Кто
ПОДЛИННЫЙ?
Кто пародийный?» [Шаховская 1991, 61J. Мы пом­
ним, что Герман говорит о себе, что он не стал бы писать,
«если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный
дар...» [3, 452]. Так же рассуждал и герой «Дара» Федор Годунов27
В «Даре» герой вспоминает, что в предпоследней сцене «Бориса Годунова»
(под названием «Лобное место»), есть авторская ремарка, вводящая имя автора
в структуру текста: «Пушкин идет, окруженный народом» (3, 229), и именно она
раздражала вкус Н. Г. Чернышевского.
Чердынцев, который «добивался крайней точности выражения,
крайней экономии гармонических сил», «борясь с побочными
решениями» [3, 154]. «Если бы он не был уверен, —читаем далее
в «Даре», —что воплощение замысла уже существует в некоем
другом мире, из которого он переводит в этот, то сложная
и длительная работа на доске была бы обузой для разума, допус­
кающего наряду с возможностью воплощения возможность его
невозможности» [3, 154]. Именно с такой «возможностью невоз­
можности» и борется Набоков в «Отчаянии» в поисках направле­
ния своего «отчаянного побега». Вспомним, что и в «Даре» отец
Федора, проецируемый на Пушкина, не столько него-то искал,
сколько бежал от чего-то (NB «отчаяние отчее» в стихах Герма­
на), а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем,
неизбывное, неисчерпаемое [3, 104].
Такой же выход, как мы помним, находит для себя и «Стран­
ник» Пушкина, «замысливший отчаянный побег», когда юноша,
в ответ на вопрос: «Куда ж бежать?» —указал ему даль «перстом»
(у Набокова «указал палкой»): Я оком стал смотреть болезненноотверстым,/ Как от бельма врачом избавленный слепец./«Я вижу
некий свет», —сказал я наконец .
И на страницах «Дара» мы встречаем уже «живого» Пушкина,
«вступившего в роскошную осень своего гения» «со светлым
блеском в молодых глазах» [3, 91]. Поэтому и «глаза» —«отвер­
стые зеницы» [3, 120] героя —Федора Годунова-Чердынцева
становятся полностью открытыми и стараются впитать в себя как
можно больше солнечного света и красок жизни, ее божествен­
ный смысл.
Однако «Отчаяние» оканчивается по-набоковски парадок­
сально: последние записи Германа датируются «1 апреля» (до
этого были проставлены только даты 30 и 31 марта 1931 года —
вспомним «мартобря» в «Записках сумасшедшего» Гоголя ), что
28
29
30
31
32
33
28
Ср. у Пушкина в «Пророке»: Перстами легкими как сон/Моих зениц кос­
нулся он.
О теме «слепоты» в «Отчаянии» см. (Grayson 1977, 26, 60|.
Однако вопрос о «глазах» художника в «Даре» также решается в сопоставле­
нии с «покойным». В частности говорится, что покончивший с собой Яша был
поэтом «одинаковой духовной природы» с Федором, а сам Федор «смутно похож
на покойного», особенно «темной глубиной глазниц» (3, 31].
Имя героя «Дара», как мы писали, совпадает с именем Достоевского,
которого Набоков считал «зорким писателем».
См. также [Troubetzkoy 1995|.
Ср. также у М. Волошина в поэме «Россия»: До Мартобря (его предвидел
Гоголь!)/В России не было ни буржуа,/Ни классового пролетариата... Эти строчки
2 9
30
31
32
33
34
задает роману измерение «нереальности» . Перекличка с этим
произведением Гоголя обнаруживается и в одном из вариантов
заглавия, который Герман хотел дать роману («Записки...», но чьи
записки, не запомнил» [3, 456]) , а также в том, что Гоголь
родился 1 апреля 1809 года (об этом пишет Набоков, заканчивая
очерк «Николай Гоголь» ). Однако дата «1 апреля» имеет еще
одну важную интертекстуальную функцию —ее начинается ро­
ман «Дар» (см. [Тамми 1999а]), при этом Набоков иронически
замечает, что, по мнению критиков, только немецкие романы
начинаются с даты, а «русские авторы —в силу оригинальной
честности нашей литературы — не договаривают единиц» (3, 5].
Эту «единицу», или «кол», и ставили Герману в «школе» за
русское сочинение.
35
36
актуальны, так как тема принадлежности Германа и Феликса к разным, «резко
отграниченным классам» (с российской точки зрения) также обсуждается в «От­
чаянии». Однако дата «мартобря» закодирована в структуре романа еще одним
способом. С. Давыдов [Davydov 1995а, 91—92] отметил симметричную отмеренность встреч Германа и Феликса. При этом вторая встреча произошла 1 октября,
а третья, последняя, —9 марта. Незадолго до 1 октября, как пишет герой, он
первый раз увидел в воде отражение падающего листа^ тогда и зародилась фабула
его романа-преступления. Второй раз этот образ «листа» всплывает в записи
30 марта {снова в осенний день мы смотрели с женой, как падает лист навстречу
своеш отражению [3, 456]), когда и появляется заглавие романа «Отчаяние».
* Автор «Отчаяния» относит себя к разряду «мистиков», которых жена героя
всегда принимала «за уменьшительное, допуская таким образом существование
каких-то настоящих больших «мистов» [ср. англ. mist 'небольшой туман, дымка'],
в черных тогах, что ли, со звездными лицами» [3, 346].
Это замечает и А.Долинин [1999а], однако он обнаруживает еще одну
параллель с «Записками сумасшедшего». Слова Поприщина «струна звенит в ту­
мане» затем всплывают в романе «Преступление и наказание», из которого
в трансформированной форме попадают в «Отчаяние»: «Дым, туман, струна
дрожит в тумане» [3, 441]. Последняя интертекстуальная параллель упоминается
и в работах [Carroll 1982; Tammi 1990].
То, что очерк «Николай Гоголь» заканчивается датой рождения Гоголя —
1 апреля, замечает и Н. Букс [1998, 173], добавляя, что прием оглашения «рож­
дения после смерти, как условия воскресения при переводе жизни в текст, как
игровая композиционная подмена конца началом — многократно использован
в «Даре», но при сопоставлении романа и эссе он приобретает дополнительное
значение, а именно: он воплощает интертекстуальную связь и принадлежность
произведений единому пространству литературы».
35
36
2.6. ПУШКИН И «ДАР» В. НАБОКОВА
Здравствуй, о, здравствуй,
греза березовой северной рощи!
В. Набоков.
«Бабочка»
Набоков первым из русских романистов поместил в центр
повествования поэта и писателя и назвал свой роман «Дар».
Таким образом, дар сочинительства Федора Годунова-Чердын­
цева становится основной темой произведения и в то же время
объектом размышлений автора над процессом возникновения
самого текста «Дара», который пишется Набоковым в соавторстве
с героем. В этом смысле «Дар» (последний роман писателя на
русском языке) посвящен выбору альтернативы творческого ме­
тода художника слова, который мечтал быть великим поэтом, но
стал великим прозаиком .
Эта «альтернатива существования» Набокова разрешается им
в системе «двойников» и «зеркальных отражений», в которой, по
И. Бродскому [19926], бессознательно срабатывает принцип «риф­
мы», не получивший полного воплощения в стихотворном творчест­
ве. Такая сюжетно-композиционная структура позволяет Набокову
разрешить в романе оппозицию поэт/прозаик, не «убив в себе поэта».
В то же время роман «Дар» — это повествование, по ходу которого
рождается «прозрачная проза» XX века, и ее рождение происходит
по мере разрешения структурно-типологической оппозиции проза
Пушкина/проза Белого, первая из которых звуко-осмысленно форми­
рует прозрачный ритм Арзрума, вторая пародийно-метрически —
капустные гекзаметры автора «Москвы» и «Петербурга».
1
1
С. Давыдов [1982] считает «Дар» «высшей ступенью» Набокова в «ступенча­
том ряде книг», посвященных пишущим героям («Уста к устам», «Отчаяние»,
«Приглашение на казнь»). «На самом деле, —пишет Давыдов [1982, 184], —если
прочитать все эти произведения как одну сплошную книгу, как некий «архиро­
ман», то мы увидим, что он посвяшен одной теме, теме рождения поэта». См.
также [Апресян 1995, 674 и далее].
О таком структурном раздвоении говорят имя и первая фами­
лия Федора Годунова — alter ego автора «Дара», по внутренней
форме которых он оказывается «сыном» «Бориса Годунова»,
а значит, и Пушкина, осуществляющего в этой стихотворной
драме незаметный переход от «стиха» к «прозе». Вторая часть
фамилии героя — Чер-ды-н-цев, контрастно соотносима с «черно­
той» революционера-писателя Н. Г. Чернышевского, о котором
Федор пишет роман-пародию (а может быть, с чертом? и Черной
речкой, где погиб Пушкин). В «Даре» у Набокова к Черной речке
отправлялись в экспедицию члены Русского Энтомологического
Общества, чтобы в березовой роще «еще в проплешинах ноздре­
ватого снега» увидеть редкую бабочку, сидевшую на стволе,
«плашмя прижимаясь к бересте прозрачными слабыми крылья­
ми» [3, 97].
Вспомним параллельно, что псевдоним же самого Набокова —
Сирин (под которым он публиковал свои «русские» произведения)
совпадает с названием альманаха, в котором первый раз увидел
свет «Петербург» Белого; т. е. роман печатался как «Дар» Сирина.
Но Пушкину в романе отдается безусловное предпочтение,
и «бабочка», вид самки «аполлона», имеющая «пояс верности»
«наподобие маленькой лиры», называется его настоящим «от­
цом» героя orpheus Godunov —эта бабочка раскрывает в «Даре»
свои «прозрачные слабые крыльца». Играя на одинаковости на­
званий бабочек и героев мифов и чередуя их русское (Аполлон —
бог искусства) и латинское (orpheus — Орфей — поэт-певец) на­
писание, Набоков делает «бабочку» символом поэтической души,
музы и творчества Федора.
При этом латинское написание парадоксально высвечивает
корень God — 'Бог', и книга Годунова-Чердынцева о Чернышев­
ском кончается последними словами якобы из дневника Черны­
шевского с ремаркой автора: «Странное дело: в этой книге ни
разу не упоминается о Боге». Жаль, что мы не знаем, какую книгу
он про себя читал» [3,268]. Тут Набоков использует пушкинский
способ введения своего имени в текст: в трагедии «Борис Году­
нов» содержится реплика с ремаркой Пушкин (про себя), которую
можно также читать двояко: 'говорит о себе' и 'говорит внутри
себя'. Такой способ введения себя в структуру текста более всего
не нравился Чернышевскому. Противопоставляя манере критики
Чернышевского свою концепцию (а, согласно Набокову, отноше­
ние к Пушкину является «мерой для степени чутья, ума и даро­
витости для русского критика» [3, 228]), Набоков «рукою» Федора
Годунова-Чердынцева пишет строки, важные для организации
структурной композиции «Дара» и имени главного героя: «...мо­
жете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскатель­
ной музе и сохранить при этом и талант свой и честь. Браните же
его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бо­
риса Годунова», за метрическую погрешность в начале «Пира во
время чумы», за пятикратное повторение слова «поминутно»
в нескольких строках «Метели», но ради Бога, бросьте посто­
ронние разговоры» [3, 229].
С такой же мерой «чутья» Набоков как бы просит подходить
к своему роману «Дар»: хотя фамилия героя-писателя в нем
двоится, имя героя Федор в переводе с греческого означает
«божий дар»: этот «дар» можно использовать и во благо, и во
вред. Отношение к дару жизни и дару таланта у Набокова в рома­
не «Дар» такое же, как у Пушкина, и пушкинские строки о благоДАРности из «Евгения Онегина» (О юность легкая моя!/Благода­
рю за наслажденья,/За грусть, за милые мученья,/<...>/За
все, за
все твои дары;/Благодарю тебя...) как бы вписываются в прозаи­
ческие (Куда мне девать все эти поДАРки, которыми летнее утро
нагРАжДает меня —и только меня? <...> И хочется благоДАРить,
а благоДАРить некого) и стихотворные фрагменты романа, кото­
рые возникают на наших глазах: «БлагоДАРю тебя, отчизна, за
чистый и какой-то [Федор по ходу романа находит это слово,
созвучное его имени] ДАР» (ср. [Долинин 1996, 168 — 169]). Так
в романе смысл заглавия раскрывается на всех уровнях текста.
Что же касается разрешения структурно-типологической оп­
позиции «стих —проза», к которой Набоков, как и Белый, все
время подыскивает «ключи» (эти ключи в буквальном и перенос­
ном смысле появляются в «Даре», как и в «Петербурге», в сюжетно-ключевых точках романа, в конце же романа Федор остается
наедине с любимой «без ключей», а сами ключи оказываются
ключами от России), то в «Даре» опробуется целая система средств
введения слогового метра и звуковой организации в структуру
прозы.
Особенно показателен в этом смысле конец романа, который
становится вариацией на тему пушкинского «прощания со стихи­
ей» (вспомним строки: Прощай же, море! Не забуду/Твоей тор­
жественной красы/ И долго, долго слышать буду/Твой гул в вечер­
ние часы). Степень «стихотворности» в заключительных строках
все время колеблется в сторону прозаизации, однако в результате
все же побеждает, по Пастернаку, «стихия стиха»: Прощай же, книга!
Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется
Евгений, — но удаляется поэт, [метр и рифма при установке на прозу
становятся неявными] И все же слух не может сразу расстаться
с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, — и для
ума внимательного нет границы — [метр нормализуется] — там, где
поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой
страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка [в конце
снова работает уже не только метр, но и рифма] [3, 330].
В отличие от Белого, который первый из русских прозаиков
метризовал прозу, у Набокова ритмическое полиструктурное
единство всегда имеет мотивацию, и между стихом и прозой не
образуется разрывов и пауз (часто и стихи записываются в про­
заическую строку), и ясно слышится «голос», в который автор
вместе с поэтом Годуновым «вслушивается», стараясь отделаться
от дисгармонического начала русской прозы, внесенного в нее
Белым. Как мы помним, в романе «Петербург» не находится
иного голоса, чем пульсирующий, трещащий, а затем взрываю­
щийся голос самого автора, закодированный в композиционной
метафоре «бомбы» и «бесовском начале» Шишнарфнэ (см. 2.4).
У Набокова аллюзии на Белого прерывают стихотворчество:
звонит телефон —в трубке отвечает «русский голос», который
«попал не туда, куда хотел» и «нарвавшийся по сходству номера
на неправильное соединение». Федор Константинович «брезгли­
во» повесил трубку и «ринулся обратно в постель». Стихотворче­
ство возобновляется, губы любимой сравниваются с «горячим
ключом», и поэт ставит снова на «туза воображенья», верный
вымыслу. Далее в двери слышится «клюнувший ключ», но прихо­
дит не любимая, а ее мать с «прозаического» рынка. И во всем
этом слышится пародия на Белого (так же одно время жившего
в эмиграции в Берлине) и обращение: Муза Российской прозы,
простись навсегда с капустным гекзаметром автора «Москвы» .
Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось
2
1
2
О символике «телефона» как инструмента трансляции звука и голоса см.
статью Р. Д. Тименчика «К символике телефона в русской поэзии». Что же
касается потери «голоса» в русской литературе, то в прямой связи с «Петербур­
гом» Белого, где не находится обладателя «голоса», оказывается «Египетская
марка» О. Мандельштама, в которой используется символика телефона: Не гово­
рите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится, и голос обесцвечива­
ется... [Мандельштам 1990, 2, 71].
Здесь идет «игра» на понятиях «Петербургского» и «Московского» текстов
русской литературы, в связи с чем «Петербург» Белого контрастирует с его
романом «Москва».
3
ничего. Постель обратилась в пародию постели* [3, 141]. И Набо­
ков остается верным ритму «гармонической» пушкинской прозы,
которая, доводя свою структуру до чистоты ямба, преодолевала
его: так раскрывались ее «прозрачные крылья».
Расподобление с Белым высказано в романе и в более
отчетливой форме, несмотря на то, что сам Набоков был
отличным «систематиком». Хотя Федор даже составил целую
коллекцию ритмических рисунков поэтических фраз, а также
«гнезд рифм, пейзажей рифм» («Летучий» сразу собирал тучи над
кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы [3, 136]), звуковых
соответствий, наподобие коллекции «бабочек», все это плохо
сочеталось с его представлением об истинной поэзии, например,
Фета, которому он мог все простить «за прозвенело в померкшем
лугу, за росу счастья, за дышащую бабочку» [3, 68]. «Не сомнева­
юсь,—читаем в романе, —что даже тогда, в пору той уродливой
и вредоносной школы (которой вряд ли бы я прельстился
вообще, будь я поэтом чистой воды, не поддающимся никогда
соблазну гармонической прозы), я все-таки знал вдохновение» [3,
137]. И тогда «ключ» оказывался «надетым на палец», и Федор
оказывался совершенно «свободным» в мире теней [3, 164].
А «отверстые зеницы» пушкинского «Пророка» начинали видеть
«божественный смысл» лужайки, который выражался в ее «бабоч­
ках» [3, 120].
При этом образование энтомолога и морфолога позволило
Набокову, не теряя «настоящего», соблюсти в своем художествен­
ном творчестве «научную точность». Идеалом Набокова был Го­
голь, гений которого казался ему подобным природному: «Как
в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зави­
сит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их
расположения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя
пользуется не основными химическими свойствами материи
(«подлинной действительностью» литературных критиков), а спо­
собными к мимикрии физическими явлениями, почти невиди­
мыми частицами воссозданного бытия» [Набоков 1987, 194].
И именно такие «преломления света» набоковского «зеркала»
создают в романе «мир многих занимательных измерений»
и «двойников» автора, который в прозе стремится найти «ход
коня», «перемену теней», «сдвиг, смещающий зеркало» [3, 215].
4
А. К. Жолковский [1994, 16) считает, что в этой сцене романа «Дар» Федор
пишет, «как Пушкин — то есть опять-таки интертекстуально — в постели, да к то­
му же с отсылкой к пушкинскому «Что в имени тебе моем?»...».
В работах Ю. И. Левина [1981], П. Тамми [1985] и И. И. Ковтуновой [1990] уже ставился вопрос о коммуникативном переходе
«Я-Он» в «Даре», однако не объяснялась его композиционная
функция в общей структуре романа. А этот переход от третьего
лица к первому и обратно позволяет выделить в романе три
измерения единого «Я» Набокова, которые в своем взаимном
преломлении рождают четвертое (по Белому) — структурно-типо­
логическое, проецирующееся на ось «стих-проза» и обретающее
«голос» через «телефонную» символику. Такая, имеющая четыре
измерения, Перспектива романа получает выражение в системе
сквозных лейтмотивов, организующих «прозрачную прозу» Набо­
кова как систему отражений. Реальный автор то приближается
к герою, и тогда текст пишется от первого лица, от «Я» Федора
(как в поэзии), то удаляется от него и переходит к повествованию
от третьего лица по отношению к герою, становится наблюда­
телем (Федор=Он), что более свойственно прозе. Три измерения
создаются следующими соотношениями (см. рисунок 10):
5
Я-ша Черны-ше-вский,
застрелившийся поэт
ОТЕЦ
>
о
Z
э
Q
О
О
ВС^ДАСТОЙЙ^Я
ТЫ
в трех ипостасях:
воображаемый рецензент
э
и
идеальный собеседник-поэт
X
ON
ПУШКИН
О
поэт со значимой фамилией
Кончеев («конец»)
Рис 10
• См. о решении проблемы «Я-ОН» в «Даре» в связи с М. Прустом (Сконечная 1999).
Чаще всего текст рассказывается от «Я» в моменты, когда
Федор действительно пишет стихи, однако это происходит
еще и тогда, (1) когда речь идет о Яше Черн-ышгевском,
застрелившемся поэте; (2) когда герой рассказывает о своем
«реальном отце» путешественнике-натуралисте, образ кото­
рого в сознании героя сливается с образом Пушкина; (3) ведет
диалог с п о э т о м с говорящей фамилией Кончеев и обращается
к некоторому идеальному собеседнику или рецензенту.
Все эти три линии в «конце» р о м а н а пересекаются в воспо­
м и н а н и я х о месте «гибели Яши» (Федор Константинович спус­
тился в эту глубь, всегда притягивающую его, словно он был как-то
повинен в гибели незнакомого юноши, застрелившегося здесь [3, 302]),
которое аллюзивно проецируется на место гибели поэта Ленского
в «Евгении Онегине» («ЕО») и самого Пушкина (и умер Пушкин
молодой). Здесь возникает разговор Федора с «воображаемым»
Кончеевым о желании вырваться из «конечности» восприятия
времени, а затем по «телефону» героя вызывает фрау Stoboj (ср.
Стобой — снова игра на латинском и кириллическом облике слов)
к якобы воскреснувшему «отцу», «конечные» же строки романа,
создающие «призрачную» структуру стиха, обращают нас к поэзии
и роману в стихах Пушкина. И хотя действие романа происходит
в Берлине, его «культурная топография» спроецирована на Россию.
Первое из рассматриваемых соотношений «Я — Я-ша Черныш-евский», в котором отчетливо выделяются «Я» и корень
черн- , возникает как раз тогда, когда речь идет о воображаемой
ситуации «сесть в собеседника», как «душа в душу». Коммуника­
тивный переход «Он-Я» возникает здесь при появлении «призра­
ка Яши» в доме Чернышевских, при этом говорится, что Яша был
поэтом «одинаковой духовной природы» с Федором, а сам Федор
«смутно похож на покойного», особенно «темной глубиной глаз­
ниц» [3, 31] . Этот призрак одновременно появляется в воображе­
нии не только Федора, но и «безумного» отца Яши в «тени книг»,
6
7
6
Здесь не обсуждается «круговая порука» имен семьи Чернышевских (Яша —
Яков Александрович, его отец Александр Яковлевич и мать Александра Яковлев­
на; связан ли этот «Александр» с Пушкиным — загадка) — современников Годуно­
ва-Чердынцева, а также самого Н. Г. Чернышевского, сына которого звали Саша.
Видимо, так закодировано определенное функциональное соотношение, связан­
ное с «кольцевой» структурой романа о Чернышевском, который пишет авторгерой.
Упоминание о «глазницах» в «Даре» очень важно, поскольку глаза художни­
ка, по Набокову, должны представлять собой «отверстые зеницы» пушкинского
«Пророка», и эти глаза должны быть «везде и нигде».
7
которые читал «покойный». «Умозрительный состав» Яши сопро­
вождает разговор о «детских болезнях» в поэзии Годунова-Чердынцева, в то время как сама поэзия Яши самим «Я» оценивается
как очень «хилая»: Он в стихах полных модных банальностей,
воспевал «горчайшую» любовь к России, — есенинскую осень, голубиз­
ну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский
гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. Его
мать читала их мне <...> неумелой гимназической интонацией, вовсе
не шедшей к этим патетическим пеонам, которые сам Яша, должно
быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь,
в странном блистании какой-то лирической гордыни, после чего
тотчас оседал, вновь становясь <...> вялым и замкнутым (как
в «Евгении Онегине» поэзия Ленского: Как он писал темно и вяло)
[3, 36]. В этих строках прежде всего обращает на себя внимание
«след локтя Пушкина», который обнаруживается в стихотворении
самого Набокова «Санкт-Петербург» (Орлы мерцают вдоль опуш­
ки./ Нева лениво шелестя, как Лета льется./След локтя оставил на
граните Пушкин), (вспомним, что Федор «старался везде и всегда
ВООБРАЗИТЬ ВНУТРЕННЕ ПРОЗРА ИНОЕ движение другого чело­
века, осторожно САДЯСЬ В СОБЕСЕДНИКА, как в кресло, так,
чтобы ЛОКТИ того служили ПОДЛОКОТНИКАМИ, и ДУША БЫ
ВЛЕГЛА В ЧУЖУЮ ДУШУ, и тогда МЕНЯЛОСЬ ОСВЕЩЕНИЕ
МИРА» [3, 33]), что позволяет в оценке стихов Яши видеть
самооценку автора «Дара»; Яшина же манера читать стихи, «раз­
дувая ноздри», совпадает с манерой «воскресшего» в романе
Пушкина: толстые губи вздрагивали, ноздри были раздуты [3, 90].
Затем описывается трагедия гибели Яши, когда неслучайно
появившийся в романе револьвер наконец стреляет — раздается
сухой хлопок выстрела. Так разрешается проблема любовного
«треугольника, вписанного в круг», в котором оказались Яша,
Ольга и «немец» Рудольф. Этот «треугольник» имеет сразу две
пародийные проекции: первая обращена к «литературно сыгран­
ной» реальной ситуации «треугольника» Белый — Брюсов —Нина
Петровская с мыслью о «совместном самоубийстве» и предпочте­
нии «неземной любви» (по мысли И. Паперно [1992, 36], этот
«треугольник» спроецирован на Пушкина — Баратынского —Закревскую; которая, по словам Баратынского, сочетала в себе
«Магдалину и русалку», Пушкин же называл ее «Клеопатрою
Невы»); вторая —в «памяти слов» кодирует трагедию поэта Лен­
ского, в которой в поэты предприятия вышел Яша, в роли «глупой
Ольги» — Ольга, Рудольф же создавал «геттингенский» фон для
Яши, который говорил о Рудольфе: «Я дико влюблен в его душу, — и
это также бесплодно, как влюбиться в луну». При этом имя
Ленского—Владимир совпадает с именем самого Набокова (По
имени Владимир Ленский,/С душою прямо
геттингенской./<...>/Он
из Германии туманной...). О Ленском также напоминает высказы­
вание об «аллегории на могильных барельефах» и реплика Кончеева о том, что Ольга в конце концов вышла замуж за американца —
«Не совсем улан, но все-таки...» (ср. в «Евгении Онегине»: Улан
умел ее пленить...). Во второй проекции идея «убийства на дуэли»
«Евгения Онегина» заменена на «самоубийство» при отсутствии
Евгения. Хотя Онегин неявно отражен в романе в имени Рудольф,
в звуковом обличье которого пересекаются Чайльд Гарольд Байро­
на и Адольф Констана —по комментариям Пушкина прообразы
Евгения . Сам Евгений же появится только в конце «Дара»,
поднимаясь с «колен», на которые его поставил Пушкин, но
вместе с ним из романа Набокова «удаляется» и «поэт».
Далее Федор идет по улицам Берлина, вспоминая Петербург,
достает старые «ключи» (новые остались в комнате, в которую он
переехал), и на него наваливается бремя бессонной ночи, железный
двойник, которого надо куда-то нести [3, 50]. В «ЕО» есть коммен­
тарий Пушкина, относящийся к строкам о Евгении, оставившем
«след локтя»: И опершися на гранит,/Стоял задумчиво Евгений,/
Как описал себя пиит. Этот комментарий соотносит строки «ЕО»
со строками Муравьева, где речь идет о «восторженном поэте»,
Что проводит ночь бессонну,/Опершися на гранит.
И «озадаченный» Федор произносит «как это глупо» «с фран­
цузским 1» (вспомним, Как эта глупая луна/На этом глупом
небосклоне — Онегин об Ольге у Пушкина). После этого в нем
зарождаются «волны поэзии», превращающие текст «Дара» в воз­
никающее на ходу стихотворение «Благодарю тебя, отчизна...» (с
ключевым корнем дар: Благодарю тебя, отчизна,/за злую даль
благодарю//Тобою полн , тобой не признан... ), и Федор входит
в новое жилище, хозяйка которого фрау Стобой. Там на столе как
раз «блестели ключи» (новые), а о своей книге стихов Федор
думает, что она «уже кончилась» (в двух смыслах: (1) он «раз8
9
8
В комментарии к «ЕО» Набоков воспроизводит рукопись предисловия
Пушкина к роману, где есть такие строки Пушкина: «Очень справедливо будут
осуждать характер главного лица — напоминающего 4<ильд> H<arold'a>»
(sic****; переправленное «Адольфа» отсылает к «Адольфу» Бенжамена Констана]»
[Набоков 1998, 90].
Ср. у Пушкина: В леса, в пустыни молчаливы/Перенесу, тобою полн,/Твои
скалы, твои заливы,/И блеск, и тень, и говор волн.
9
дарил» своим друзьям все экземпляры и (2) постепенно решает
перейти к другой манере письма —от стихов к прозе).
Второе появление «мертвого» Яши между «живыми» происхо­
дит в «желтоватом» доме снова в воображении отца Яши по имени
Александр. Он спрашивает Федора: «Как, разве вы не умерли?» и,
приняв его ссадину на виске за «след выстрела», признает в нем
«свежего самоубийцу» [3, 83]. Появление «живого между мертвы­
ми» здесь осмысляется иронически как «воскресение Христа»
в виде «садовника» среди «миртовых кустов»: Служитель подошел
к Федору Константиновичу и попросил удалиться. И идя через
могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном
успении цвели басисто-багряные георгины <...> Федор Константино­
вич тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является
как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзен­
ного надеждой горя, —и лишь гораздо позднее он понял все изящество
короллария и всю безупречную композиционную стройность, с кото­
рой включалось в его жизнь это побочное звучание [3, 83].
Слова о «безупречной композиционной стройности» относят­
ся прежде всего к самому роману «Дар», в котором в диалоге
с матерью у Федора вскоре после этого эпизода рождается реше­
ние писать прозаическую книгу о путешествиях отца (смерть
которого он так же не хотел принять, как Чернышевские смерть
сына), читая «Путешествие в Арзрум» Пушкина. О «своих» же
стихах Годунов думает «с тяжелым отвращением», и лишь «дву­
стишия о бабочках», которые Федор сочинял «на прогулках с от­
цом», вызывали умиление матери и сына. Так повествование
незаметно переходит в свое второе измерение, которое имеет вид
раскрывшей свои крылья «бабочки» — Пушкин-Я-Отец — «иска­
тель словесных приключений» Годунов, с которым Федор, как
и с Пушкиным, ходит в длительные «прогулки»: «5 течение всей
весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным,
вдыхал Пушкина,—у пушкинского читателя увеличиваются легкие
в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания,
он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, —
живым примером служило:
«Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный».
Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на
прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть»
[3, 87].
Глагол гулять, как мы помним, часто встречается в «Евгении
Онегине»: поэт гуляет с Евгением на берегах Невы, Татьяна
также очень любит ходить на прогулки и беседовать «с своими
рощами, лугами»; поэтому недаром впоследствии А. Терц назвал
свое эссе «Прогулки с Пушкиным». Точно так же Федор пишет
о «блаженстве наших прогулок с отцом по лесам, полям, тор­
фяным болотам» [3, 98), а «бабочку» они находят в «березовой
роще». В строках же Набокова о «прогулках с Пушкиным»
закодирована также парадигма «воздуха» русской поэзии, которая
обращает нас к высказыванию Блока о Пушкине (и как бы
о себе): «Поэт умирает, когда ему дышать уже нечем». Таким
образом, здесь в «Даре» Пушкин как бы заново «воскрешается»,
увеличивая «легкие» Набокова и давая «дыхание» его слову в пре­
одолении «бесовского уныния белого листа» [3, 138]: и на
страницах романа мы действительно видим (в свойственной
Набокову мистифицирующей манере) Пушкина, «пощаженного
пулей рокового хлыща» [3, 91].
«Звучание» этого измерения оказывается «чистейшим звуком
пушкинского камертона», в котором «с голосом Пушкина сливался
голос отца» [3, 87 — 88]. И мы видим, что здесь нет никакого
«разрыва», во-первых, между отцом и сыном Годуновыми, а вовторых, между веком Пушкина и веком отца: ритм пушкинского
века мешался с ритмом жизни отца [там же]. При этом, вспоми­
ная знаменитый диалог Бориса Годунова с сыном Федором в тра­
гедии Пушкина (Учись, мой сын...), Федор пишет: «Мой отец,
<...> не только многому меня научил, но еще и поставил самую
мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или рука»
[3, 115].
Говоря о «руке», нельзя не сказать о том, что смерть Пушкина
характеризуется в «Даре», как будто России «отрубили по бедро
ногу», но не раз в романе Набоков пишет о многозначительном
следе ноги и о том, что чувство России у него в ногах . Вспомина­
ния же о бабочке на березовом стволе у Черной речки приводят
к символическому описанию «выстрела», убившего «лиру» Пуш­
кина: Среди берез была одна издавна знакомая <...> береза-лира,
10
11
10
Игра слов, связанная с А. Белым.
" Некий же выдуманный Набоковым критик Сухошоков, создавший миф
о воскрешении Пушкина, пишет в «Даре», что «человек, которому отрубили по
бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая
несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присут­
ствие Пушкина» [3, 89].
и рядом старый столб с доской, на ней ничего нельзя было
разобрать, кроме следов пуль, —как-то в нее палил из браунинга
гувернер-англичанин <...> а потом отец взял у него пистолет <...>
и семью выстрелами выбил ровное К [3, 71] («К» —видимо,
Константин — имя отца, так что он стреляет в «себя», но «К» —
это и первая буква фамилии Кончеев, идеального поэта, собесед­
ника Федора).
Отца с Пушкиным объединяют еще многие «парадигмы» по­
этического языка, что так мотивируется в романе: Мой отец мало
интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он
знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декла­
мировать. Мне иногда думается, что эхо «Пророка» еще до сих пор
дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье. Еще
он цитировал несравненную «Бабочку» Фета [3, 133—134]. Послед­
нее еще раз подчеркивает «смежное подобие» пушкинской по­
эзии и «бабочки». Именно она получает название orpheus
Godunov; параллельно в «Даре» обыгрывается строка Пушкина
(«жреца» Аполлона): «Тут Аполлон —идеал, там Ниобея —пе­
чаль...», относящаяся одновременно и к бабочкам и богам: «и
рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами
прибрежной лужайки, где в первых числах июня (ср. день рож­
дения Пушкина) попадался изредка маленький «черный»
аполлон» [3, 88]. Цвета «черный» и «белый», овеществленные
в «африканском жаре» и русском «снеге», также все время играют
у Набокова: ведь Пушкин в романе это «гений-негр», «который
во сне видит снег», сердце же Федора во время вдохновения
погружалось в этот «снег сна» . При этом сама триада « о т е ц сын—бабочка», как считает Д. М. Бетеа [1991, 168], константна
для Набокова и связана с темами красоты, смерти и возрождения.
Черты характера отца также проецируются на Пушкина и его
парадигму «замораживания-размораживания», «льда и пламени»:
гнев отца был «как внезапно грянувший мороз»; он, как и поэт,
не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то [3, 104].
А далее Федор пишет о том, как на склонах «снеговых гор»
он с отцом обнаружил лавру императорского аполлона и открыл
новую змею, питающуюся мышами, причем та мышь, которую
я извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным видом [3,
12
12
О. Сконечная [1994] соотносит оппозицию «черное — белое» в романе На­
бокова с игрой на фамилиях Чернышевский и Белый, а также Белинский. Однако,
на наш взгляд, «черно-белый калейдоскоп» в «Даре» играет и в связи с проти­
вопоставлением прозы Пушкина и Белого.
111]. Тут вспоминается «Песнь о вещем Олеге» (причем Олег —
имя брата отца Федора, его дяди), где змея из «головы» «коня
своего» несет гибель, и жизни мышья беготня «Стихов, сочинен­
ных ночью во время бессонницы». Последнее замечание о «змее»
тем более замечательно, что «своеобразность Пушкина», внушав­
шая серьезные опасения для такого «материалиста», как Черны­
шевский, в романе Федора названа одной из тех опасных «тре­
щин», откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его
[Чернышевского. —Я. Ф.] [3, 229].
Такое же нереальное «воскресение» отца, как и Пушкина,
происходящее только в пространстве воображения и сна Федора
(благодаря «телефону»), описывается как его появление «на по­
роге» «за вздрогнувшей дверью»: Федору казалось —он умрет, если
вошедший к нему двинется <...> отец <...> опять заговорил, —и
это значило <...> что это и есть воскресение, что иначе быть не
могло, и еще: что он — доволен — охотой, возвращением, книгой сына
о нем, —и тогда, наконец, все полегчало, прорвался свет, и отец
уверенно-радостно раскрыл объятья [как крылья бабочки. —Я. Ф.].
И Федор шагнул к нему и почувствовал живое, не перестающее
расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце
растаяло и растворилось [3, 319]. При этом волнение Федора
перед встречей с отцом во сне обдавало сердце какой-то снежной
смесью счастья и ужаса [там же]. Пробуждение же от этого сна
описывается как «восстание из фоба» самого Федора: проснулся
в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу
повернулось, мысль осела <...> —и он понял, что смотрит на
занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном: таков договор
с рассудком, —театр земной привычки... [3, 320]. И в «разверну­
том» Набоковым «театре в слове» оказалось, что звонил все тот
же абонент, который ранее попадал не туда, но на этот раз
в «ужасном волнении», и ключи Федора «неизвестно где разгули­
вали». Иными словами, загадка «льда» Онегина и «пламени»
Ленского не была разрешена, хотя он уже снова переехал (Рас­
стояние от нового жилья было примерно такое, как где-нибудь
в России от Пушкинской — до улицы Гоголя [3, 131]) и начал писать
прозу. И Федор вновь садится за «свой стол» и замирает над
«белой страницей». И на этой «белой странице» при переходе
к «Я» С колен поднимется Евгений, —но удаляется поэт.
Тут в связи с «некончающейся строкой» мы попадаем в третье
измерение «Я-Он». Это самое загадочное измерение, поскольку
внутренний диалог автора-героя, организованный как «Я—Ты»
и обращенный к некоему «высшему» собрату по перу. И хотя
Набоков порою и хочет воплотить этот диалог в реальный диалог
с поэтом Кончеевым о творчестве и русской литературе, его
установка сопротивляется изображению чего-либо кончающегося
и стремится к достижению круга, который, по Набокову, связы­
вает земное и божественное. И Кончеев в романе как превос­
ходящий по мастерству Федора поэт также оказывается «почти
убит» разгромной рецензией на его «Сообщение» критика с гово­
рящей фамилией Христофор Мортус. При этом сам Кончеев,
«Ты» внутреннего диалога Федора, все время воображается его
личным внутренним рецензентом, который чаще всего находит
с Годуновым-Чердынцевым «общий язык». Мы не будем здесь
развертывать это соотношение и спорить, кто является прооб­
разом Кончеева — Ходасевич (как считают многие), или по неко­
торым параметрам — Пастернак, как предполагаем мы. В пользу
последнего говорит, например, реакция Набокова на Нобелев­
скую премию Пастернака (см. [Huges 1989]): Борис Пастернак,
чьим творчеством Набоков был «заражен» в молодые годы, по
принципу круга, превратился для него в «мишень» в старости,
когда получил Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», кото­
рого Набоков окрестил, по аналогии с Христофором Мортусом,
«Доктором Мертваго». Неудовлетворенность этих двух великих
художников слова XX века оказалась симметричной: Набоков не
смог стать настоящим поэтом, поскольку был такой поэт, как
Пастернак, — Пастернак не смог стать «первым» русским прозаи­
ком, потому что был такой русский писатель, как Набоков,
который первым написал роман о «даре».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
И. Бродский
...и не кончается строка.
В. Набоков
В своей работе мы стремились обнаружить и исследовать
новые ракурсы и измерения межтекстового взаимодействия. Осо­
бенность такого взаимодействия заключается именно в том, что
оно происходит не между отдельными языковыми единицами,
имеющими свою парадигматику и синтагматику, а между целыми
текстами, образующими каждый раз уникальную систему, об­
ладающую памятью. По Ю. М. Лотману, памятью текста может
быть названа «сумма контекстов, в которых данный текст приоб­
ретает осмысленность и которые определенным образом как бы
инкорпорированы в нем» [Лотман 1996, 21].
Однако само разрешение отношения «интертекстуальности»
всегда связано с выделением инвариантных единиц как содержа­
тельного, так и операционального уровня, на основании которых
между двумя текстами устанавливается отношение подобия и вы­
рабатывается «алгоритм» интегративного взаимодействия, по­
рождающий новое преломление исходной модели. На содержа­
тельном уровне можно говорить о подобии композиционной
и сюжетной организации (например, «Медный всадник» Пуш­
кина и «Петербург» Белого), наличии общих концептуальных
установок («Идиот» Достоевского и «Доктор Живаго» Пастерна­
ка), изоморфизме затекетовых ситуаций (смерть Ленского в «Ев­
гении Онегине» и Яши Чернышевского в «Даре» Набокова); на
операциональном уровне проекция единиц одного текста в дру­
гой происходит при помоши референциальной, комбинаторной,
звуковой и ритмико-синтаксической памяти слова. Крайний
пример восстанавления межтекстового отношения из аббревиату­
ры находим в поэзии 1990-х гг. у В. Друка: Твой дядя с. ч. п.
Л мой — не в шутку.
Прежде всего встает вопрос о выборе стратегии распознания
межтекстовой связи, то есть о «маркерах интертекстуальности»
и о «границах» текстов. Граница, как считает Ю. М. Лотман
[1996, 183], —это «механизм перевода текстов чужой семиотики
на язык «нашей», место трансформации «внешнего» во «внутрен­
нее», это фильтрующая мембрана, которая трансформирует чу­
жие тексты настолько, чтобы они вписывались в внутреннюю
семиотику семиосферы, оставаясь, однако, инородными».
Как мы писали, существует два основных способа введения
интертекстуального отношения в свой текст: это введение «чужо­
го» текста в хорошо распознаваемом, но подчеркнуто фрагмен­
тарном виде, когда чувство «границы» обостряется, и ассимиля­
тивное внедрение элементов чужих текстов в свой, которое фак­
тически ведет к нейтрализации отношения «свой»/«чужой»
и «обновлению чувства границы».
Фрагментарность — по мнению Тайлера [Tyler 1986, 125] —
провоцирует эстетическую интеграцию фрагментов и вызывает
«терапевтический эффект создания нового». Это техника обо­
стрения границы и ее преодоления — особенность творческого
сознания XX века. Фрагментарность дает возможность смены
точки зрения во вновь создаваемом тексте, а также большую
степень свободы смыслопорождения. Примером такого «нового
склеивания» служит рассказ Т. Толстой с говорящим названием
«Сюжет», где классические стихотворные строки, записанные
линейно, перемешиваются друг с другом и вступают в новое
ритмико-звуковое взаимодействие (ср. повторяющийся союз
«то... то... то» и пастернаковское отрицание «не тот... не та») —
ср. фрагмент: И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое.
И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице
темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под устриц,
шср ыеукиу, — не тот это город, и полночь не та. Много разбой­
ники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай
меня... Р, О, С, —нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что
я в аду.
Межтекстовая связь, основанная на метонимическом прин­
ципе, наоборот, показывает максимальную «замаскированность»
и органичность интертекстуального отношения. К таким ма­
лоизученным типам ассимилятивных межтекстовых отношений
относятся прежде всего поэтика даты, топографическая поэтика,
поэтика имени героя и автора, поэтика цвета и растения.
3. Г. Минц писала, что «даты могут функционировать мето­
нимически, активизируя в рамках одного произведения широкие
литературные и экстралитературные (т. е. исторические) области
цитирования» [Минц 1989, 147]. О такой функции «даты» мы
писали в разделе 2.6. Одной и той же датой «1 апреля» у Набокова
заканчивается его очерк «Николай Гоголь» (это дата рождения
Гоголя по новому стилю) и роман «Отчаяние», роман же «Дар»
этим «говорящим» числом открывается. Данная перекличка дат
задает у Набокова как общее автоинтертекстуальное простран­
ство, так и проекцию в тексты других авторов, к примеру, «За­
писки сумасшедшего» Гоголя, «Дневник лишнего человека» Тур­
генева, а также «Портрет художника в юности» Джойса (см.
[Тамми 1999а, 23]).
Набоков, мастер интертекстуальной мистификации, пре­
красно владел искусством вписывания конструкций «текст
о тексте» в свой текст. Точкой такого «вписывания» нередко
становятся личные имена главных действующих лиц текста,
а также имя собственное самого текста. Так, О. Ронен считает,
что имя Мартын, которое Набоков дает герою своего романа
«Подвиг», порождает не только межтекстовые, но и метатекстовые круги ассоциаций. Ронен пишет, что Мартын —это
образ, в котором преодолевается цитация из английской ли­
тературы, и благодаря этому он успешно развертывается «на
сюжетном материале, тематически мотивированном англо-рус­
ским воспитанием героя и реальным соприкосновением двух
культур» [Ронен 1999, 172]. Отрицательный же «подтекст»
для Набокова представляет роман Бахметьева «Преступление
Мартына», рецензия на который написана В. Шкловским.
В этой рецензии Шкловский упрекает русского автора как
раз в том, что идея искупления своего малодушия «подвигом»
уже была заложена в романе Д. Конрада «Лорд Джим» и ее
повторная цитация совершенно невозможна на специфическом
фоне большевистской революции. Таким образом, называя
свой роман «Подвиг», а героя Мартыном, Набоков как бы
вступает в литературное соперничество со своими предшест­
венниками и строит в межтекстовом пространстве своего ро­
мана своего рода «антипародии», т. е. намеренное и после­
довательное «изживание недостатков чужих текстов в своем»
[там же, 167].
Поэтика цвета —еще один интертекстуальный прием Набоко­
ва. Так, в его романе «Дар» борьба «черного» и «белого» цветов
связана с основным концептуальным противопоставлением
Пушкин/Белый. Эта борьба затем планомерно переходит в игру
на литературных и выдуманных фамилиях: Чернышевский
(«сердце черноты» романа), а также целая семья Чернышевских,
Белый, Белинский и Беленький —«вечный, так сказать, эми­
грант» (см. [Сконечная 1994]). Эта игра в какой-то мере сравни­
вается с решением шахматных задач на черно-белом поле, сама
же шахматная игра выступает как метафора словесного творчест­
ва. В связи с этим в «Даре» играют имена Яши Чернышевского —
неопытного поэта наподобие Ленского, и его отца Александра,
если учесть, что один из первых сборников стихов Набокова
«Горний путь» (Берлин, «Грани», 1923) был подготовлен к печати
его отцом В. Д. Набоковым и Сашей Черным. Важно учесть при
этом, что сам Набоков-Сирин расценивался в России как «бе­
лый» (т. е. антисоветский) автор, проживающий в Берлине, о чем
свидетельствует стихотворный фельетон Демьяна Бедного «Билет
на тот свет» (1927) (цит. по [Блюм 1999,201]): Что ж, вы вольны
в Берлине «фантазирен»,/Но, чтоб разжать советские тиски,/
Вам —и тебе, поэтик белый, Сирин,/Придется ждать... до гробо­
вой доски.
Точно так же в «Даре» интертекстуально играет и поэтическая
топография: как только Федор решает перейти от писания стихов
к прозе, он переезжает на новую квартиру — по Набокову, с «ули­
цы Пушкина» на «улицу Гоголя» (Расстояние от нового жилья
было примерно такое, как где-нибудь в России от Пушкинской — до
улицы Гоголя), и хотя действие романа происходит в Германии,
его литературная топография ориентирована на Россию. В част­
ности, активной в кругу названий «цветов» и «местностей» стано­
вится Черная речка (где состоялась дуэль Пушкина); в связи
с ней Федор Годунов-Чердынцев вспоминает о бабочке на бере­
зовом стволе и о символическом «выстреле», убившем «лиру»
Пушкина. «Смежное подобие» пушкинской поэзии и «бабочки»
рождает ботаническое название orpheus Godunov, а далее идет
описание «прибрежной лужайки, где в первых числах июня по­
падался изредка маленький «черный» аполлон». Все эти «интерте­
кстуальные» и даже «интеръязыковые» сущности вступают у На­
бокова во взаимодействие, образуя круг: «Пока не требует поэта/
К священной жертве Аполлон...» — «Борис Годунов» Пушки­
на-* Федор Годунов-Чердынцев «Дара», вторая часть фамилии
которого парадоксально «высвечивает» Чердынь —место ссылки
Мандельштама , а имя повторяет имя Достоевского.
Когда же Достоевский в «Даре» Набокова бежит к «сердцу
черноты» Чернышевскому, «густой дым повалил через Фонтанку
по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся
новый черный столб...» [3, 239].
Здесь в свете заочного диалога Пастернака и Набокова, кото­
рый анализируется в нашей работе, интересным оказывается то,
что в «Повести» (1929—30) Пастернака борьба «белого» и «черно­
го» цветов в мире происходит на «перекрестке» улиц СадовоКудринской и Чернышевского (символизирующих собой соответст­
венно «природный» и «исторический» миры), и «белый» побежда­
ет благодаря листве «тополей», с которыми Пастернак входил
в «неслыханную веру» — ср.: Ночной дождь только что прошел. Что
ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось
сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком,
окроплено их беловатой листвой. <...> Чудилось, будто гроза, уйдя,
возложила на эти деревья разбор последствий и все утро <... > —в их
седой и свежей руке [4, 141]. (ср. затем в «Даре»: «Из-за вороного
облака выпрастывалось облако упоительной белизны» [3, 69]).
Так органично мы переходим к интертекстуальной поэтике
растений, которая также объединяет миры Пастернака и Набоко­
ва. Неоднократно писалось о «природном происхождении» фами­
лии Пастернак, что все время обыгрывалось самим поэтом и даже
было возведено в концептуальный принцип его поэтики (см.
[Фатеева 19956]). Так, вся «тьма ботанической ризницы» попада­
ет на страницы его произведений, сам же поэт неоднократно
вписывает свою фамилию в текст о «природной» органичности
творческого процесса . Ср. в варианте стихотворения «Ларисе
Рейснер» (1926): Вмешать тебя в случайности ТВОРЕНЬЯ, ЗА­
РИФМОВАТЬ с НАчала до КОНца С РАСТЕРяННОСТью ТЕНИ
и РАСТЕНЬЯ РАСТушую РАСТЕРяННость ТВОРЦА, где в рифмах
(творенья/растенья) и звуковых схождениях «зарифмована» фа1
2
1
В свете «поэтики цвета» еще более парадоксальным оказывается тот факт,
что в «Подвиге» Набокова обнаруживается прямая интертекстуальная перекличка
со строками Мандельштама Век мой, зверь мой, кто сумеет/Заглянуть в твои
зрачки, имеющая «черную» окраску: «Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха,—
а зверинец есть у каждого, —имелся, между прочим, и тот зверек, который
по-французски зовется «черным», и этим черным зверьком был для дяди Генриха:
двадцатый век» [2, 2411. Ср. фр. bete noire.
О полемике Пастернака и Цветаевой на фоне растительной «метатропики»
см. [Жолковский 1997].
2
милия самого ПАСТЕРНАКА (в форме АСТЕРНАК) как Творца
и как Растенья. Мы показывали (в 1.4), что Борис Пастернак
в стихотворении «Елене» «СМЖ» выстраивает и потенциальную
паронимическую аттракцию с Парисом, похитившем Елену.
На фоне этого попадающей в «семантическую рифму» кажется
игра на «ирисах» у Набокова, которая неоднократно отмечалась
исследователями его творчества. В «Speak, Метогу» воспроизво­
дится фрагмент, как 28 марта 1922 года в Берлине автор читал
матери цикл Блока об Италии, особо останавливаясь на том
стихотворении, где Флоренция сравнивается с «дымным цветком
ириса». В этот же день от пули наемного убийцы погиб В. Д. На­
боков—отец писателя. Эта связь еще ранее запечатлена Набоковым-Сириным в романе «Дар», где Федор видит своего «погибше­
го отца», идущего «по весенней, сплошь голубой от ирисов равнине»
[3, 28], далее воссоздаются ботанические споры отца о «номенкла­
турной тонкости» «научного названия крохотного голубого ириса»
[3, 152]. Русский псевдоним В. Набокова — Сирин потом получил
отражение в романе «Смотри на арлекинов» в виде псевдонима
Вадима Вадимовича (ср. имя-отчество самого Набокова — Влади­
мир Владимирович) —«В. Ирисин» (см. [Тамми 1999а, 29]). Но
еще более интересно, что прилагательное «голубой» при определе­
нии «ириса» связано с Блоком , во-первых, в чисто звуковом
отношении, во-вторых, литературно-опосредованно через «Стихи
к Блоку» М. Цветаевой (1916), где имя Блока — «голубой глоток».
В этом смысле техника введения всех рассмотренных нами
«мелких ассимилятивных цитатных элементов» (В. Н. Топоров)
оказывается сродни тропеическому отношению, заданному не как
отношение между лексемами, а как отношение между целыми
текстами и парадигмами текстов. «Троп, —пишет Ю. М. Лотман
[ 1996, 58], — фигура, рождающаяся на стыке двух языков, и, в этом
отношении, он изоструктурен механизму творческого сознания как
такового». Именно такая «изоструктурность» объединяет метафори­
ческий «голубой глоток» М. Цветаевой и интертекстуальный «голу­
бой ирис» В. Набокова-Сирина. Однако во втором случае приходится
говорить не о тропах, а именно о «метатропах», поскольку набоковское сочетание создано по типу «текста о тексте в тексте». Глубина
«голубого ириса» с анаграммированным именем Сирин проступает еще
с большей очевидностью, когда мы обращаемся к книге Годунова3
3
«Голубые ирисы» появляются у Блока и в его прозе о Флоренции («Молнии
искусства»), где они связаны с темой воспоминания и улетающих вдаль «голубых
огней».
Чердынцева о Чернышевском в «Даре»: Чернышевский, по словам
автора, «расписавшись о Пушкине», когда вдруг захотел дать
пример «бессмысленного сочетания слов», привел «мимоходом
тут же выдуманное «синий звук»,—на свою голову напророчив
пробивший через полвека блоковский «звонко-синий нас» (гл. 4).
Сами же строки Блока: И над миром, холодом скован,/Пролился
звонко-синий нас (1905) вновь по кругу обращают нас к стихам
Цветаевой о «ледяном, голубом глотке».
Все это говорит о цикличности и обратимости поэтических
единиц внутри поэтического языка как целостной системы, об­
ладающей поэтической памятью. Поэтому «межтекстовая ком­
петенция» как раз «основана на том, что в объеме памяти чита­
теля хранятся следы ранее прочитанного, приемы литературных
описаний, принципы различных жанров, модели возможных пе­
реосмыслений (например, иронических), модели разных тропов,
схемы возможных стратегий и интерпретаций, учитывающих, что
смысл включений может постепенно раскрываться в дальнейшем
контексте и авторских комментариях» [Арнольд 1993, 9].
Однако круг «интертекстуальности» образуется не только за
счет авторских комментариев или метаописаний (например, рас­
смотренных нами эссе М. Цветаевой о Пастернаке и Белом), но
и за счет критических разборов литературоведов. Так, «новатор­
ские прочтения Гоголя деятелями Серебряного века, Достоев­
ского Бахтиным и «Станционного смотрителя» Гершензоном,—
считает А. К. Жолковский [1994, 16], —как бы отпечатались на
классических текстах, интертекстуально наложившись на пре­
дыдущие трактовки». При этом можно отметить, что в центр
внимания как самих художников слова, так и исследователей
попадают одни и те же классические тексты. Так, «Стихи, сочи­
ненные ночью во время бессонницы» А. Пушкина с доминирую­
щей строкой «жизни мышья беготня» оказались текстообразующими (как в звуковом, так и композиционном плане) в стихо­
творении Вяч. Иванова «Медный всадник» (1906), романе
А. Белого «Петербург» (1913—14, 1922), они также играют
и в «Отчаянии» (1932) Набокова и в «Докторе Живаго» (1946 —
53) Пастернака ; параллельно это произведение Пушкина стало
идееобразующим в статье М. Волошина «Аполлон и мышь»
(1911) и лекции А. Белого «О Пушкине» (1925), а с точки зрения
4
4
Об игре «мышьей беготни» в стихах Пастернака и Мандельштама см.
(Venclova 1992|.
своей звуковой и грамматической структуры подверглось тща­
тельному анализу самим Вяч. Ивановым в статье «К проблеме
звукообраза у Пушкина» (1925) и Р. Якобсоном в работе «О
«Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»» (1981). И,
наконец, снова эти «Стихи...» оказались центрирующими в пост­
модернистском эссе М. Безродного «Конец цитаты», которое
напоминает «детективный» роман по поиску интертекстуальных
параллелей и изобретению их новых поворотов.
Такая же длительная история и у пушкинских «нулей» из
«Евгения Онегина» (Мы почитаем всех нулями,/А единицами —
себя), которые через «Преступление и наказание» Достоевского
попадают в «Петербург» А. Белого, в главу «Откровение» (с апо­
калиптическими аллюзиями). Там «ноль» переводится в коор­
динаты летоисчисления и, благодаря Пушкину, соотносится
с Наполеоном, а благодаря Белому, с Николаем Аполлоновичем
(который говорит про себя Я—бомба; Я—ноль), имя-отчество
которого паронимично Наполеону. В то же время в «Петербурге»
Аблеухов-младший параллелизируется то с Германном из «Пико­
вой дамы», то с РаскОЛЬНиковым над «дрожащим муравейни­
ком», и оба этих мужских образа вспых-нули и лоп-нули в Николае
Аполлоновиче (см. 2.4) . В конце XX века «нули» попадают в по­
эму А. Вознесенского «Жуткий Крайзис Супер Стар», где запе­
чатлевается еще одна кризисная эпоха русской истории и литера­
туры и кризисное сознание ее носителей: Мой край, где Нуреев/
Лунный метал перед нами бисер,/где пулю заказывал георгиевский
соловей,/неужто ты не мессия,/как Андрей Белый мыслил,/неуж­
то, Россия, стала/эмиссиею
нулей!?
Все проанализированные нами межтекстовые цепочки пока­
зывают, что благодаря одновременному накоплению и расщеп­
лению интертекстуальных связей в каждом конкретном тексте
сосуществуют несколько «разновременных» субъектов высказы­
вания и несколько художественных систем. Именно поэтому
такой нагруженный «подтекстами» текст открыт разным чита­
тельским и исследовательским интерпретациям. В этом, по мне­
нию В. Набокова, отражается «гипертрофия писательского чутья
по отношению к читателю» (цит. по [Долинин 1999а, 42]). Эта
5
6
5
Ср. также в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама: Сквозь эфир
десятично-означенный/Свет размолотых в луч скоростей/Начинает число, опрозрачненный/Светлой болью и молью нулей.
На эти обращения «Я» хор отвечает: Налей «старочки» в хрусталь./Жуткий
Крайзис Супер Стар (ср. название рок-оперы «Jesus Christ Superstar»).
6
«гипертрофия» выводит интертекстуальные отношения на уро­
вень «гипертекстовых» , и образуется «подвижная специфич­
ность», которая оформляется и складывается «из всей совокуп­
ности текстов, языков и систем» и возобновляется в каждом
новом тексте [Барт 1994, 11 — 12].
А значит, не возникает никакого противоречия между строка­
ми двух великих авторов XX века —Бродского и Набокова, кото­
рые оба оказались одновременно как бы внутри и вне русской
литературы: «От всего человека вам остается часть речи» и «...не
кончается строка». В XX веке «поэтическое пространство текста
оказалось предельно углубленным и расширенным, его мерность
увеличилась, оно приобрело тот статус неопределенности и мно­
гозначности, который лишает текст окончательности, закончен­
ности смысловых интерпретаций и, наоборот, делает «откры­
тым», постоянно прибывающим in statu nascendi и поэтому спо­
собным к улавливанию будущего, к подстраиванию к потен­
циальным ситуациям» [Топоров 1981в, 8]. Благодаря этому в каж­
дом новом тексте «часть речи» предшественника побуждает и ав­
тора, и читателя находить закономерные и случайные межтек­
стовые скрещения... «за чертой страницы».
7
7
Ср. высказывание Ю. Д. Апресяна [1995, 676) о том, что для формальной
структуры «Дара» больше всего «подошло бы понятие гипертекста, но и от того,
что обычно называется гипертекстом, он отличается идеальной, хотя и неочевид­
ной согласованностью и гармонией входящих в него текстов».
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Ахматова А. Сочинения в 2-х тт. — М., 1987.
Белый А. Ритм как диалектика. — М., 1929.
Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование.—М.-Л., 1934.
Белый А. Петербург. —М., 1978.
Белый А. Петербург. —М., 1981.
Белый А. Ответы на вопросы анкеты//Как мы пишем.— М., 1989.
Белый А. Пушкин: план лекции. Publication and commentary by I. E. Malmstad//
Cultural Mythologies of Russian Modernism. California Slavic Studies XV. — Berkeley,
1992.
Битов А. Пушкинский д о м / / Новый мир. 1987. Ng 10—11.
Блок А. Собр. соч. Т. 1 . - М . , 1932.
Блок А. Сочинения.—М.-Л., 1962. Т. 5.
Блок А. Собр. соч. в 6-ти тт. —М., 1980.
Бродский И. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями. М., 1995.
Бродский И. Набережная неисцелимых. М., 1992а.
Брюсов В. Вариации на тему «Медного всадника»//Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 3.—
М, 1973.
Бунин И. А. Лика.—Берлин, 1939.
Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти тт. —М., 1966.
Бунин И. А. Избранное. —М., 1986.
Вознесенский А. Прорабы духа. М., 1984.
Вознесенский А. Разбейте иллюзии / / Огонек. 1996. N° 25.
Вознесенский А. Жуткий Крайзис Супер Стар. М., 1999.
Гиппиус 3. Живые лица. Стихи. Дневники. Т. 1 — 2. —Тбилиси, 1991.
Гоголь Н. В. Портрет//Собр. сочинений в 5-ми тт. Т. 3. М., 1952.
Достоевский Ф. М. Идиот//Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 5.—М., 1957.
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание//Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 6.—М.,
1957.
Кун И. А. Легенды и мифы Древней Греции.—М., 1955.
Лермонтов М. Ю. Сочинения в 2-х тт. — М., 1990.
Мандельштам О. Э. Собр. соч. в 2-х тт. — М., 1990.
Мандельштам О. Э. Последние творческие годы. Стихи. Письма. Воспоминания//
Новый мир. 1987. № 10.
Материалы для биографии. Борис Пастернак. (Составитель Е. Б. Пастернак —
М., 1989).
Мир Пастернака. —М., 1989.
Набоков В. В. Николай Гоголь//Новый мир. 1987. N? 4.
Набоков В. В. Дар - М., 1990а.
Набоков В. В. П ь е с ы - М., 19906.
Набоков В. В. Собр. соч. в 4-х тт.— М., 1990в.
Набоков В. Первое стихотворение //Октябрь — 1996а. № 11.
Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 19966.
Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». —СПб,
1998.
Набоков В. В. Собрание сочинений американского периода в 5-ти тт. —СПб.—
Т. 5, 1999.
Нарбикова В. Шепот Шума. Избранное. Париж — Москва — Нью-Йорк. М., 1994.
Нарбикова В. ...и путешествие / / Знамя. — 1998. N° 6.
Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы—М.-Л., 1965.
Пастернак Б. Л. Воздушные пути,—М., 1982.
Пастернак Б. Л. Избранное в 2-х тт. — М , 1985.
Пастернак Б. Л. Собр. соч. в 5-ти тт. — М., 1989—1992.
Пастернак Б. Л. Письма к Жаклин де Пруайар//Новый мир. 1992. № 1.
Пелевин В. Generation «П». — М., 1999.
Переписка Бориса Пастернака—М., 1990.
Письма Б. Л. Пастернака к жене 3. Н. Нейгауз-Пастернак. —М., 1993.
Платон. Пир. Беседа о любви.—М., 1908.
Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти тт.— М.-Л., 1949.
Рильке Р.-М., Пастернак Б., Цветаева М. Письма 1926 года— М., 1990.
Толстая Т. Лимпопо//Знамя.—1991. N° 11.
Хлебников В. Творения.— М., 1986.
Цветаева М. Избранная проза в 2-х тт. Т. 1. —Нью-Йорк, 1979.
Цветаева М. Проза.— М , 1986.
Цветаева М. Собр. соч. в 3-х тт. — М , 1990.
ЛИТЕРАТУРА
Аверинцев С. С. Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления// Изв. АН СССР.
Сер. лит. и языка. — 1990. Т. 49. N° 3.
Адамович Г. Владимир Набоков//Октябрь —1989. N° I.
Александров В. Набоков и «серебряный век» русской культуры//Звезда — 1996. N° 11.
Альми И. Л. Традиции Достоевского в поздней прозе Пастернака//Достоевский
и современность. Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». — Новгород, 1991.
Апресян Ю. Д. Роман «Дар» в космосе Владимира Набокова//Апресян Ю. Д. Изб­
ранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография —
М., 1995.
Арнольд И. В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика//
Интертекстуальные связи в художественном тексте. Межвузовский сборник науч­
ных трудов. - СПб, 1993.
Арнольд И. В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики: (В
интерпретации художественного текста). Лекции к спецкурсу. Рос. гос. пед. ун-т
им. А. И. Герцена.—СПб.. Образование, 1995.
Арутюнова Н. Д. Диалогическая цитация: (К проблеме чужой речи)//Вопросы
языкознания. — 1986. N° 1.
Арутюнова Н. Д. Феномен второй реплики, или О пользе спора//Логический
анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. — М., 1990.
АскольдовС. А. Концепт и слово//Русская речь. —Л., Academia, 1928.
Барт Р. Нулевая степень письма//Семиотика—М., 1983.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика—М., Прогресс, 1989.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.—М., 1994.
Баршт К. Рисунки в рукописях Достоевского.—СПб., 1996.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского — М., 1972.
Бахтин М. М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном творчест­
ве И Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. —М., 1975.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
Безродный М. Конец Цитаты//Новое литературное обозрение. — 1995. N° 12.
Бертнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго» / / Еван­
гельский текст в русской литературе XVIII—XX вв. Сб. научных трудов. — Петро­
заводск, 1994.
БетеаД. Изгнание как уход в кокон: образ бабочки у Набокова и Бродского//
Русская литература. — 1991. N° 3.
Блюм А. В. «Поэтик белый, Сирин...»//Звезда.— 1999. N° 4.
БобровС. Заимствования и влияния (Попытка методологизации вопроса)//Пе­
чать и революция.— 1928. Кн. 8.
Бонецкая Н. К. Проблема текста художественного произведения у М. Бахтина//
Филологические науки.—М., 1995. N° 5/6.
Борисов В. М., Пастернак Е. Б. Материалы к творческой истории романа Б. Па­
стернака «Доктор Живаго»//Новый мир, — 1988. JSfe 6.
Бочарове. Г. Поэтика Пушкина—М., 1974.
Бочаров С. Г. Кубок жизни и клейкие листочки (Два воспоминания из Пушкина
в «Братьях Карамазовых») //Бочаров С. Г. О художественных мирах — М., 1985.
Бродский И. Поэт и проза//Цветаева М. Избр. проза в 2-х тт. Т. 1 — Нью-Йорк,
1979.
Бродский И. Из Нобелевской лекции 1987 г.//Стихотворения. —Таллинн, 1991а.
Бродский И. О Марине Цветаевой//Новый мир. — 19916. N° 2.
И. Бродский —С. Волков. Вспоминая Ахматову. Диалоги—М., 1992а.
Бродский И. «Ты сам свой высший суд...»//Московский комсомолец — 19926.
N? 230.
Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. — М., Новое литературное обозрение, 1998.
Бушман И. Пастернак и Рильке//Сборник статей, посвященных творчеству
Б. Л. Пастернака,—Мюнхен, 1962.
Вайль П. Пространство как время//Бродский И. Пересеченная местность. Путе­
шествия с комментариями. —М., 1995.
ВежбицкаА. Метатекст в тексте//Новое в зарубежной лингвистике. VIII. —М.,
1978.
Виноградов В. В. О художественной прозе. —М.-Л., 1930.
Виноградов В. В. Стиль Пушкина. — М., 1941.
Виноградов В. В. О языке художественной прозы. —М., 1980.
Волгин И. «Не удостоенные света». Булгаков и Мандельштам: опыт синхрониза­
ц и и / / Октябрь.— 1992. Г*> 7.
Волошин М. Аполлон и мышь//Лики творчества.—Л., 1988.
Выготский JJ. С. Мышление и речь.—М.-Л., 1934.
Выготский Л. С. Психология искусства.—М., 1965.
Гаспаров Б. «Временной контрапункт» как формообразующий фактор романа
Пастернака «Доктор Живаго» //Дружба народов. — 1990, N° 3.
Гаспаров Б. Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении (Б. Л. Па­
стернак и О. М. Фрейденберг)//Сборник статей к 70-летию профессора
Ю. М. Лотмана — Тарту, 1992.
Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра. К семантике русского трехстопного
ямба//Лингвистика и поэтика.—М., 1979.
Гаспаров М. Л. «Поэма воздуха» М. Цветаевой: опыт интерпретации//Труды по
знаковым системам. XV. Учен. зап. ТГУ. Вып. 576. —Тарту, 1982.
Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфи­
к а . - М . , 1984.
Гаспаров М. Л. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-стопном ям­
бе//Проблемы структурной лингвистики. 1983.—М., 1986.
Гаспаров М. Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус
функциональный//Проблемы структурной лингвистики. 1984.—М., 1988.
Гаспаров М. Л. Эволюция метрики Мандельштама//Жизнь и творчество
О. Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. Новые стихи.
Исследования—Воронеж, 1990а.
Гаспаров М. Л. «Близнец в тучах» и «Начальная пора» Б. Пастернака: от ком­
позиции сборника к композиции цикла//Известия АН СССР. Сер. лит-ры
и я з ы к а . - 19906. N° 3. Т. 49.
Гервер Л. Хлебниковская мифология музыкальных инструментов//Материалы
IV Хлебниковских чтений. —Астрахань, 1992.
Гинзбург Л. Я. О лирике. —Л., 1974.
Гладков А. К. Мейерхольд. Т. 2.—М., 1990.
Голякова Л. Я. Подтекст и его экспликация в художественном тексте. — Пермь, 1996.
Григорьев В. П. Поэтика слова—М., 1979.
Григорьев В. П., Кожевникова Н. А., Петрова 3. Ю. Материалы к словарю паро­
нимов русского языка. — М., 1992.
Григорьева А. Д. Прозаическое начало в поздней лирике Пушкина//Русский язык.
Проблемы художественной речи—М., 1981.
Гуль Р. Пол в творчестве.—М., 1923.
Давыдове. «Тексты-матрешки» В. Набокова—Мюнхен: Отто Загнер, 1982.
Дейк Т. А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста//Новое в зарубеж­
ной лингвистике. XXIII. Когнитивные аспекты языка— М., 1988.
Дёринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П. Очерки по исторической типологии культу­
ры.—Salzburg, 1982.
Дмитровская М. А. Философия памяти//Логический анализ языка. Культурные
концепты.—М., 1991.
Долинин А. Поглядим на арлекинов. Штрихи к портрету В. Набокова //Лит. обо­
зрение.- 1988, № 9.
Долинин А. Две заметки о романе «Дар»//Звезда. — 1996. № 11.
Долинин А. Набоков, Достоевский и достоевщина//Литературное обозрение.—
1999а. № 2.
Дрозда М. Письма Б. Л. Пастернака и О. М. Фрейденберг//Поэтика Пастернака.
Pasternak's Poetics. Studia Filologiczne Zesryt 31/12. Filologia Rosyiska. — Bydgoszcz,
1990.
Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой (конфликт лирического героя и дей­
ствительности)//Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 30. — Wien, 1990.
Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или в поисках потерянного рая / /
Вопросы литературы. — 1988. № 10.
Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов.— М , 1996.
Жолковский А. К. К описанию смысла связного текста. V. Предварительные пуб­
ликации ИРЯ Р А Н . - М . , 1974. Вып. 61.
Жолковский А. К. Инварианты Пушкина//Труды по знаковым системам XI —
Тарту, 1979.
Жолковский А. К. Любовная лодка, упряжь для Пегаса и похоронная колыбель­
ная //Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста. Статьи
о русской литературе. —Эрмитаж, 1986.
Жолковский А. К. Механизмы второго рождения//Лит. обозрение. — 1990. N° 2.
Жолковский A. Philosophy of composition: (К некоторым аспектам структуры одно­
го литературного текста) / / Культура русского модернизма. Readings in Russian
Modernism. To Honor V. F. Markov. —M., 1993.
Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. — М., 1994.
Жолковский А. К. Книга книг Пастернака (К 75-летию «Сестры моей жизни») / /
Звезда.-1997. N° 12.
Жолковский А. К. В минус первом и минус втором зеркале. Татьяна Толстая, Виктор
Ерофеев — ахматовиана и архетипы//Литературное обозрение. — 1995. № 6.
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инвариан­
ты—Тема—Приемы—Текст. Сб. Статей.—М., Прогресс, 1996.
Злочевская А. В. Традиции Ф. М. Достоевского в романе В. Набокова «Пригла­
шение на казнь»//Филологические науки. — 1995. Jvfe 2.
Золян С. Т. «Свет мой, зеркальце, скажи...» (К семиотике волшебного зеркала)//
Труды по знаковым системам. XXII. Учен. зап. ТГУ. —Тарту, 1988. Вып. 831.
Золян С. Т. О семантике поэтической цитаты//Проблемы структурной лингви­
стики. 1985-1987. М., 1989а.
Золян С. Т. От описания идиолекта —к грамматике идиостиля//Язык русской
поэзии XX в. Сб. научных трудов. — М., 19896.
Зубова JI. В. Аграмматизм архаизма в современной поэзии (реликтовые формы
глагола «быть»)//Русистика сегодня. — 1996. N? 2.
Зубова Я. В. Категория рода и лингвистический эксперимент в современной
поэзии//http://levin, rinet. ru/ABOUT/zuboval. html (1998).
Иванов Вяч. К проблеме звукообраза у Пушкина//Собрание сочинений —
Брюссель, 1987. Т. 4.
Иванов Вяч. Вс. Лингвистические вопросы стихотворного перевода//Труды ин-та
ТМ и ВТ АН СССР. Вып. 1 1 - М . , 1961.
Иванов Вяч. Вс. Перевод в свете современной лингвистической теории //Худо­
жественный перевод. Вопросы теории и практики—Ереван, 1982.
Иванов Вяч. Be. Колыхающийся занавес. Из заметок о Пастернаке и изобразитель­
ном искусстве//Мир Пастернака— М., 1989.
Иванов Вяч. Вс. Русская поэтическая традиция и футуризм (из опыта раннего
Б. Пастернака)//Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе
конца XIX —начала XX века.—М., 1992.
Иванов Вяч. Вс. Литературные параллели кавказским стихам Пастернака//Куль­
тура русского модернизма. Readings in Russian Modernism. To Honor
V. F. Markov.-M., 1993.
Иванов Вяч. Be. Платье девочки//Избранные труды по семиотике и истории
культуры. Т. 1 . - М . , 1998.
Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы//Вестник Мос­
ковского университета. Сер. 9. Филология. — 1997. N9 3.
Ильин И. П. Стилистика интертекстуальности: теоретические аспекты//Пробле­
мы современной стилистики. Сборник научно-аналитических трудов. —М., 1989.
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм—М., 1996.
Йенсен П. А. Стрельников и Кай: «Снежная королева» в «Докторе Живаго»//
Scando-Slavica. Tomus 43. Munk sgaard Copenhagen, 1997.
Ковтунова И. И. Поэтика «контрастов» в романе В. В. Набокова «Дар»//Язык:
система и подсистема.—М., 1990.
Кожевникова Н. А. Язык Андрея Белого. — М., 1992.
Кожина [Фатеева] И. А. Заглавие художественного произведения: структура,
функции, типология. АКД. —М., 1986.
Корпев С. «Сетевая литература» и завершение постмодерна//Новое литературное
обозрение. - 1998 (4). N° 32.
Кругликов Р. И. Творчество и память//Интуиция, логика, творчество.—М., 1987.
Крученых А. Сдвигология русского стиха. 1922.
Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического язы­
ка.—Екатеринбург-Омск, 1999.
Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов//Новое в зарубежной линг­
вистике. Вып. X X I I I . - М . , 1988.
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Теория метафоры.—
М., 1990. Полностью вышла в УРСС, 2004.
Левин Ю. И., Сегал Д., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н. и др. Русская семантическая
поэтика как потенциальная культурная парадигма//Russian Literature.—The
H a g u e . - 1974. N° 7/8.
Левин Ю. И. Об особенностях повествовательной структуры и образного строя
романа В. Набокова «Дар»//Russian Literature.— 1981. IX—II.
Левин Ю. И. Зеркало как потенциальный семиотический объект //Труды по зна­
ковым системам. XXII. Учен. зап. ТГУ. Вып. 831. —Тарту, 1988.
Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова//
Russian literature. - 1990. XXVIII.
Левин Ю. И. Семиотика Венички Ерофеева//Сборник статей к 70-летию профес­
сора Ю. М. Лотмана. —Тарту, 1992.
Лившиц Б. Полутороглазый стрелец. —Л.: Изд-во писателей, 1933.
Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель.—М., 1993.
Лосев Л. Реальность Зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского//Иностранная лите­
ратура.— 1996. N9 5.
Лотман Ю. М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина//Пушкин
и его современники. — Псков, 1970.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. —Л., 1972а.
Лотман Ю. М. Искусствознание и «точные методы» в современных зарубежных
исследованиях//Семиотика и искусствометрия.—М., 19726.
Лотман Ю. М. Феномен культуры//Труды по знаковым системам. X. Учен, за­
писки Тартуского ун-та. Вып. 463. —Тарту, 1978а.
Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы //Труды по знако­
вым системам. X. Учен, записки Тартуского ун-та. Вып. 463.—Тарту, 19786.
Лотман Ю. М. Риторика//Труды по знаковым системам. XII. Учен. зап. Тарту­
ского ун-та. Вып. 515—Тарту, 1981а.
Лотман Ю. М. Текст в тексте//Труды по знаковым системам. XIV. Учен. зап.
Тартуского ун-та. Вып. 567. —Тарту, 19816.
Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог//Труды по знаковым системам. XVI. Учен,
зап. ТГУ. Вып. 635.-Тарту, 1983а.
Лотман Ю. М. Литература и мифология//Труды по знаковым системам. XIII.
Учен. зап. ТГУ. Вып. 546.-Тарту, 19836.
Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении//Wiener Slawistischer
Almanach. Sonderband 16. —Wien, 1985.
Лотман Ю. M. Культура и взрыв. — М., 1992.
Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — Текст — Семиосфера — Исто­
р и я . - М., 1996.
Лукин В. А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы
анализа.- М., 1999.
Маймескулов А. «Весна» Пастернака (дескриптивный уровень)//Dissertationes
Slavicae. XIX. Материалы и сообщения по славяноведению. Szeged, 1988.
де Ман П. Гипограмма и инскрипция: поэтика чтения Майкла Риффатерра (пер.
и прим. С. Козлова)//Новое литературное обозрение — 1993, N° 2.
Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Три беседы о метатеории созна­
ния//Труды по знаковым системам. V. Учен. зап. ТГУ. Вып. 284.—Тарту,
1971.
Мельников И. Криминальный шедевр Владимира Владимировича и Германа Кар­
ловича (о творческой истории романа В. Набокова «Отчаяние»)//Волшебная
гора.-1994. N> 2.
Минц 3. Г. Поэтика даты и ранняя лирика А. Блока//Studia Russica Helsingiensia
et Tartuensia. Проблемы истории русской литературы начала XX века. Department
of Slavonic Languages. University of Helsinki. 1989.
Минц 3. Г. и др. «Петербургский текст» и русский символизм//Труды по знако­
вым системам. XVIII. —Тарту, 1984.
Молчанова Н. А. Концептуальность стилистического приема в ранней прозе
В. Набокова//Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литерату­
роведение.—СПб., 1992. Вып. 4.
Новиков В. И. Книга о пародии. — М., 1989.
Обухова О. Я. Метаморфозы лирического «Я» в поэзии А. Ахматовой / / Russian
Literature.-1991. X X X - I I I .
Орлицкий Ю. Б. Стиховая экспансия пушкинских текстов в прозе А. Терца//
Пушкин и поэтический язык XX века. — М., 1999.
Павлович Н. В. Значение слова и поэтические парадигмы / / Проблемы структур­
ной лингвистики. 1984.—М., 1988.
Павлович Н. В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом язы­
к е - М., 1995.
Панченко А. М., Смирнов И. П. Метафорические архетипы в русской средневеко­
вой словесности и поэзии начала XX в.//Древнерусская литература и русская
культура XVIII-XX в в . - Л . , 1971.
Паперно И. Пушкин в жизни человека серебряного века//Cultural Mythologies of
Russian Modernism. California Slavic Studies XV — Berkeley, 1992.
Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова//Новое литературное обозрение — 1993.
N° 5.
Пастернак Л. О. Записи разных лет — М., 1975.
Перельмутер В. «Потаенная полемика»//Октябрь.—1996. JSfe 6.
Поливанов А. К. Марина Цветаева в романе Б. Пастернак «Доктор Живаго»//De
Visu.-1994. N° 0.
Приходько И. С. Мифопоэтические источники стихотворения А. Блока «Девушка
пела в церковном хоре...» (Замечания к исследованию Р. Якобсона)//Материалы
международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону».—М., 1996.
Ревзина О. Г. От стихотворной речи к поэтическому идиолекту//Очерки истории
языка русской поэзии. XX. Поэтический язык и идиостиль.—М., 1990.
Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение//
Теория метафоры.—М., 1990.
Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике О. Мандельштама//
Slavic Poetics. Essays in honour of К. Taranovsky.—The Hague-Paris, 1973.
Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические повторения и неконтролиру­
емый подтекст//Известия РАН. Сер. литературы и языка. Т. 56 — 1997. N° 3.
Ронен О. Пути Шкловского в «Путеводителе по Берлину»//Звезда. — 1999. N° 4.
Ротенберг В. С. Внутренняя речь и динамизм поэтического мышления//
НДВШЮ. Сер. филол. наук - 1991. № 6.
Руднев П. А. Введение в науку о русском стихе. Вып. 1. —Тарту, 1989.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.— М., 1981.
Сегал Д. Вопросы поэтической организации семантики в прозе О. Мандельш­
тама//Russian Poetics: Proceedings of the International colloq. at UCLA, 1975.—
Columbus, Slavica, 1983.
СилардЛ. Слово у Мандельштама//Структура и семантика литературного тек­
ста.—Будапешт, 1977.
ди Симпличио Даша. Борис Пастернак и живопись //Boris Pasternak and his Times.
Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. — Berkeley, 1989.
Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп //Литературное обозрение. — 1994. № 7—8.
Сконечная О. «Я» и «Он»: о присутствии Марселя Пруста в русской прозе Набо­
кова//Литературное обозрение.—1999. N9 2.
Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти / / Новое в зарубежной лингви­
стике. X I I . - М . , 1983.
Смирнов И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа
с примерами из творчества Б. Л. Пастернака//Wiener Slawistischer Almanach.
Sonderband 17.-Wien, 1985.
Смирнов И. П. На пути к теории литературы//Studies in Slavic Literature and
Poetics. Vol. X. —Amsterdam, 1987.
Смирнов И. П. Двойной роман (о «Докторе Живаго» Пастернака) / / Wiener
Slawistischer Almanach. Band 27— Wien, 1991a.
Смирнов И. П. Aemulatio в лирике Пушкина//Пушкин и Пастернак. Материалы
Второго Пушкинского Коллоквиума. — Будапешт, 19916.
Смирнов И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа
с примерами из творчества Б. Л. Пастернака. —С.-Петербург, 1995.
Струве Н. Осип Мандельштам. —Томск, 1992.
Тамми П. Заметки о полигенетичности в прозе Набокова //Проблемы русской
литературы и культуры. —Хельсинки, 1992.
Тамми П. Поэтика даты у Набокова//Литературное обозрение. — 1999а, Jvfe 2.
Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики //American
Contributions
to
the
Fifth
International
Congress
of
Slavists. —Sofie,
1963.
Тименчик P. Д. «Анаграммы» у Ахматовой//Материалы XXVII научной студенче­
ской конференции ТГУ: Литературоведение. Лингвистика. —Тарту, 1972.
Тименчик Р. Д. Текст в тексте у акмеистов//Труды по знаковым системам. XIV.
Вып. 567.-Тарту. 1981.
Гименчик Р. Д. «Медный всадник» в литературном сознании начала XX века//
Проблемы пушкиноведения.—Рига, 1983.
Тименчик Р. К символике телефона в русской поэзии//Труды по знаковым
;истемам XXII. Вып. 831.-Тарту, 1988.
Тименчик Р. Д. Заметки о «Поэме без героя»//Ахматова А. Поэма без героя. — М.,
1989.
Топоров В. Н. Поэтика Достоевского и архетипические схемы мифологического
мышления//Проблемы поэтики и истории литературы. —Саранск, 1973.
Топоров В. Н. Еще раз о др.-гр. 10Ф1А: происхождение слова и его внутренний
смысл//Структура текста.—М., 1980.
Топоров В. Н. Текст «города-девы» и «города-блудницы» в мифологическом ас­
пекте//Структура текста —81. Тезисы симпозиума—М., 1981а.
Топоров В. Н. Из исследований в области анаграммы//Структура текста—1981.
Тезисы симпозиума.—М., 19816.
Топоров В. Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога:
«блоковский» текст Ахматовой)//Modern Russian Literature and Culture. Studies
and Texts. Berkeley, Berkeley Slavic Specialities. 1981B, Vol. 5.
Топоров В. H. Петербург и петербургский текст русской литературы / / Труды по
знаковым системам. XVIII. Учен. зап. ТГУ. Вып. 664. —Тарту, 1984.
Топоров В. Н. Странный Тургенев.—М., РГГУ, 1998.
Тороп П. X. Проблема интекста//Труды по знаковым системам XIV. Текст в тек­
сте. Ученые записки Тартуского госуниверситета. Вып. 567. —Тарту, 1981.
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка.—М., 1965. Изд.З.М.:УРСС.2004.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.—М., 1977.
Устин А. К. Текст. Интертекст. Культура. —СПб.: Supermax, 1995.
Фарыно Е. Два поэтических портрета//Boris Pasternak: Essays. —Stockholm, 1976.
Фарыно E. Греческая губка на зеленой скамейке в «Весне» Пастернака / /
Dissertationes Slavicae. — Szeged, 1988.
Фарыно Е. Поэтика Пастернака («Путевые записки» — «Охранная грамота») / /
Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 22.-Wien, 1989a.
Фарыно E. Дешифровка//Russian Literature. XXVI —I, 19896.
Фарыно E. Княгиня Столбунова-Энрицы и ее сын Евграф. Архепоэтика «Доктора
Живаго». I//Поэтика Пастернака. Pasternak's Poetics. Studia Filologiczne. Zesryt
31/12. Filologia Rosyjska.— Bydgoczcz, 1990.
Фарыно E. Как Ленский обернулся соловьем-разбойником (Архепоэтика «Доктора
Живаго». 3)//Пушкин и Пастернак. Материалы Второго Пушкинского Коллок­
виума. — Будапешт, 1991.
Фарыно Е. Живопись Кологривской панорамы и Мучного городка (Архепоэтика
«Доктора Живаго». 4)//Studia Filologiczne.Zesryt 35. — Bydgosccz, 1992.
Фатеева H. А. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Б. Пастернака / /
Stylistyka. Comparative Stylistics. III. —Opole, 1994.
Фатеева H. А. Семантические преобразования в прозе и поэзии одного автора
и в системе поэтического языка / / Очерки истории языка русской поэзии XX в.
Образные средства поэтического языка и их трансформации. — М., 1995а.
Фатеева Н. А. Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастер­
нака (поэзия и проза)//Очерки истории языка русской поэзии XX века. Опыты
описания идиостилей—М., 19956.
Фатеева Н. А. Стих и проза как две формы существования поэтического иди­
остиля. А Д Д . - М . , 1996.
Фатеева Н. А. Действительно ли Достоевский диалогичен? (О диалогичности
и интертекстуальности «отчаяния»)//Russian Literature LI (2002).
Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания//Новое в зарубежной лингвистике.
Когнитивные аспекты языка. XXIII — М., 1988.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины — М., 1914.
Франк В. С. Водяной знак. Поэтическое мировоззрение Пастернака//Лит. обо­
зрение.— 1990. N° 2.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. —Л., 1936.
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М., 1978.
Фрейдин Г. «Сидя на санях»: Осип Мандельштам и харизматическая традиция
русского модернизма//Вопросы литературы. — 1991. N2 1.
Хансен-Лёве Л. Поэтика ужаса и теория «большого искусства» в русском сим­
волизме//Сборник статей к 70-летию профессора Ю. М. Лотмана. — Тарту, 1992.
Хансен-Лёве А. Мухи — русские, литературные //Studia Litteraria Polono-Slavica.
Tom 4: Utopia czystosci i gory smeci. —SOW. Warszawa, 1999.
Хартунг Ю., Брейдо E. Гипертекст как объект лингвистического анализа / / Вест­
ник Московского университета. Сер. 9. Филология. — 1996, № 3.
Чавдарова Д. Homo legens в русской литературе XIX века.—Шумен, 1997.
Чейф У. Память и вербализация прошлого опыта //Новое в зарубежной лингви­
стике. Вып. X I I . - М . , 1983.
Чудакова М. Пастернак и Булгаков: рубеж двух литературных циклов//Лит. обо­
з р е н и е . - 1991. N9 5.
Чуковский К. И. Онегин на чужбине//Дружба народов.— 1988. № 4.
Шапиро Г. «Поместив в своем тексте мириады собственных лиц...». К вопросу об
авторском присутствии в произведениях Набокова//Литературное обозрение.—
1999. N9 2.
Шаховская 3. В поисках Набокова. Отражения. — М., 1991.
Шимкевич К. Пушкин и Некрасов//Пушкин в мировой литературе. —М., 1926.
Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин—Достоевский —Чехов —авангард. —СПб.,
1998.
Щеглов Ю. К. Сюжетное искусство Пушкина в прозе//International Journal of
Slavic Linguistics and Poetics. XXXVII. —Columbus, Ohio, 1988.
Эйхенбаум Б. M. Проблемы поэтики Пушкина. Сквозь литературу//Slavic
printings and reprintings. XXVI.—Gravenhage, Mouton, 1962.
Эйхенбаум Б. M. Поэзия и проза//Труды по знаковым системам. V. Учен. зап.
ТГУ. Вып. 284.-Тарту, 1971.
Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии.—Л., 1986.
Эко У. От интернета к Гутенбергу// Новое литературное обозрение.— 1998. N9 4.
Эпштейн М. Медный всадник и золотая рыбка. Поэма-сказка Пушкина / / Зна­
м я - 1996. N9 6.
Эткинд А. Молодцы: от Золотого петушка к Серебряному голубю и обратно
в Петербург//Wiener Slawistischer Almanach. Band 36. 1995.
Эткинд А., Грельц А. Недосказанное о неосуществленном: из чего сделан «Плен­
ный дух» Цветаевой//Новое литературное обозрение. — 1996. N9 17.
Эткинд А. Кто написал «Доктор Живаго»//Новое литературное обозрение.—
1999. № 3.
Эткинд Е. «Флейтист и крысы» (Поэма М. Цветаевой «Крысолов» в контексте
немецкой народной легенды и ее литературных обработок)//Вопросы литерату­
р ы . - 1 9 9 2 . N9 3.
Юнггрен A. Juvenilia Б. Пастернака: 6 фрагментов о Реликвимин и—Стокгольм,
1984.
Якобсон Р. Работы по поэтике.—М., 1987.
Ямпольский М. ПамятьТиресия. Интертекстуальность и кинематограф.— М., 1993.
Anschuetz С. Bely's «Petersburg» and the End of the Russian Novel//The Russian Novel
from Puskin to Pasternak —London, 1983.
Amossy R L'allusion comme trope//Les jeux de I'allusion litteraire dans «Un Beau
Tenebreux* de Julien Gracq. Neuchatel, 1980.
Aucouturier M. The Metonymous Hero or the Beginnings of Pasternak as Novelist / /
Pasternak. A Collection of Critical Essays. — N. Y., 1978.
Barthes R. S/Z. P., 1970. Рус. пер. Барт P. S/Z. M.: УРСС, 2001.
Bethea D. M., Davydov S. Pushkin's Saturnine Cupid: The Poetics of Parody in «The
Tales of Belkin»//Publications of the Modem Language Association of America.
Vol. 96, 1981.
Bethea D. M. Remarks on the Horse as a Space-time Image from the Golden to Silver
Age of Russian Literature//Cultural Mythologies of Russian Modernism. California
Slavic Studies. XV. - Berkeley, 1992.
Bloom H. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. N.Y.: Oxford University
Press, 1973.
Bloom HA Map of Misreading. N. Y.: Oxford University Press, 1975.
Bodin P.-A. Nine Poems from Doctor Zhivago. A Study of Christian Motifs in
B. Pasternak's Poetry.—Stockholm, 1996.
Bodin P.-A. The Count and his Lackey. An analysis of B. Pasternak's 'Poem «Ballada» / /
Поэтика Пастернака. Pasternak's poetics. Studia Filologiczne Zesryt 31/12. Filologia
Rosyjska. — Bydgoszcz, 1990.
Borges J. L. Labyrinths. Harmondsworth: Penguin Books, 1970.
Busch U. Конкуренция реалистического и артистического начал в пушкинской
прозе на примере повести «Выстрел»//Russian Literature. — 1988. XXIII.
Caroll W. С. The Cartesian Nightmare of Despair//Nabokov's Fifth Austin, 1982.
O'Connor K. Elena, Helen of Troy and the Eternal Feminine. Epigraphs and
Intertextuality//Boris Pasternak and his Times. Selected Papers from the Second
International Symposium on Pasternak. — Berkeley, 1989.
Culler J. The Persuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction.—London,
Routledge, 1981.
Ddllenbach L. Intertexte et autotexte//Poetique.— 1976. N° 27.
Davydov S. The Sound and Theme in the Prose of Pushkin: A Logo-Semantic Study of
Paranomasia//Slavic and East European Journal. Vol. 27. 1983.
Davydov S. Weighing Nabokov's Gift on Pushkin's Scales//Cultural Mythologies of
Russian Modernism. California Slavic Studies XV.— Berkeley, 1992.
Davydov S. Nabokov and Pushkin// V. E. Alekxandrov (ed.): The Garland Companion
to Vladimir Nabokov. —New York, 1995a.
Davydov S. «Despair»//K E. Alexandrov (ed.): The Garland Companion to Vladimir
Nabokov.-New York, 19956.
Derrida J. L'Ecriture et la difference. P., 1967.
DerridaJ. The Supplement of Copula: Phylosophy before Linguistics//Textual
Strategies: Perspectives in Poststructuralist Criticism. — L, 1980.
Dolinin Alexander. The Caning of Modernist Profaners: Parody in Despair//http://
www.libraries.psu.edu/iasweb/nabokov/zembla.htm. —19996.
Ducrot O., Todorov T. Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. P.,
Seuil, 1979.
Hansen-Love A. Intermedialitat und Intertextualitat. Probleme der Korrelation von
Wort-und Bildkunst —Am Beispiel der russischen Modeme//Dialog der Texte.
Hamburger Kolloquium zur Intertextualitat. Wiener Slawistischer Almanach.
Sonderband l l . - W i e n , 1983.
Hansen-Love A. Mandel'stam's Thanatopoetics// Readings in Russian Modernism. To
Honour V F. M a r k o v - M . , 1993.
Huges P. H. Nabokov Reading Pasternak//Boris Pasternak and his Times. Selected
Papers from the Second International Symposium on Pasternak. — Berkeley, 1989.
GenetteG. Palimpsestes: La litterature au second degre. P., 1982.
Glazov E. The Status of the Concepts «Event» and «Action» in Pasternak's Detstvo
Ljuvers//Wiener Slawistischer Almanach. Band 27. Wien, 1991.
Grayson J. Nabokov Translated: a Comparison of Nabokov's Russian and English Prose.
Oxford University Press, 1977.
Federman R. Take it or Leave it— N. Y., 1976.
Jenny L. La strategic de la forme//Poetique.— 1976. N9 27.
Jensen P.-A. Pasternak's «Opredelenie poezii»//Text and Context-Stockholm, 1987.
Johnson D. B. Belyj & Nabokov. A Comparative Overview//Russian Literature.—1981.
IX-IV.
Kintsch W. The Representation of Meaning in Memory. —Hillsdale. — N Y . : Erlbaum,
1974.
Kintsch W. Memory for Text//Text Processing.—Amsterdam: North-Holland, 1982.
Kristeva J. Semeiotike: Recherches pour une semanalyse. P., 1969.
Kristeva J. Le texte du roman. — P., 1970.
Kroo К «Пиковая дама» Пушкина. Знак и значение: параллелизмы и синонимия / /
Пушкин и Пастернак. Материалы Второго Пушкинского Коллоквиума. —Буда­
пешт, 1991.
Lachmann R. Gedachtnis und Literatur: Intertextualitat in der russischen Moderne.—
Frankfurt: Suhrkampf, 1990.
Landow G. P. The Definition of Hypertext and Its History as a Concept. The Johns
Hopkins University Press. 1992.
Miller J. H. The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens.— Princenton, 1985,
XXI.
Morawski S. The Basic Functions of Quotation//Sign. Language. Culture. The HagueParis, 1970.
Oraic D. Цитатность//Russian Literature. — 1988. XXIII.
Pomorska K. Themes and Variations in Pasternak's Poetics. — Lisse, 1975.
Popovist A. Aspects of Metatext//Canadian Review of Comparative Literature. CRCL.
Fall, 1976.
Popovid A., Macri F. M. Literary Synthesis//Canadian Review of Comparative
Literature, CRCL. Spring, 1977.
Pfister M. How Postmodernist is Intertextuality?//Intertextuality. Ed. Heinrich F.
Plett.-Berlin: N.Y., 1991.
Riffatterre M. Semiotique intertextuelle: Pinterpretant//Revue d'Esthetique.— 1972.
№ 1-2.
Riffatterre M. Semiotics of Poetry— Bloomington. Indiana Univ. Press, 1978.
Riffatterre M. La syllepse intertextuelle //Poetique. 1979. N9 40.
$enderovich S. Внутренняя речь и терапевтическая функция в лирике//Revue des
Etudes Slaves.- 1987. № 59. № 1 - 2 .
Shapiro G. Nabokov's Allusions: Devidedness and Polysemy//Russian Literature —
X L I I I - 1 April 1998.
Tammi P. Problems of Nabokov's Poetics. A Narcological Analysis. —Helsinki, 1985.
Tammi P. Seventeen Remarks of Poligenetichnost' in Nabokov's Prose//Studia Slavica
Finlandensia.-Helsinki, 1990. Vol. 7.
Tammi P. Russian Subtexts in Nabokov's Fiction. Tampere University Press, 19996.
Taranovsky K. Essays on Mandel'stam. —Cambridge, 1976.
Tyler S. A. Postmodern Ethnography//Writing Culture: The Poetics and Politics of
Ethnography — Berkeley: University of California Press, 1986.
Venclova Т. О некоторых подтекстах «Пиров» Пастернака//Cultural Mythologies of
Russian Modernism.—Berkeley, 1992
Zholkovsky A. Intertextuality. Its Content and Discontents//Slavic Review.— 1988.
N9 47 (4).
Наталья Александровна
ФАТЕЕВА
Доктор филологических наук, ведущий научный сот­
рудник Института русского языка им. В. В. Виноградом
РАН, профессор Государственной академии славянской
культуры (ГАСК). зав. кафедрой русского и общего языкоэиаиня ГАСК. Автор более 120 научный и научно-иетодичесник работ в области лингвистики текста, стилис­
попики,
рых д в е монографии «Контрапункт иктертекстуальности. или Интертекст а
мире текстов» (М., 2 0 0 0 ) и «Поэт и проза. Книга о Пастернаке» (Н.. 2 0 0 3 ) .
Ответственный редактор сборников «Язык как творчество. Сборник статей,
посвященный 70-летию В. П. Григорьева» (И., 1996; совместно с 3. Ю. Петро­
вой); «Пушкин и поэтический язык XX века» (И., 1999), «Текст. Иитертекст.
Культура. Сборник докладов международной научной конференции (Москва.
4 - 7 апреля 2001 года)» (И.. 2001; совместно с В. П. Григорьевым); «Попика
поиска, или Поиск поэтики. Материалы международной конференции-фести­
валя "Поэтическим язык рубежа XX-XXI веков и современные литературные
стратегии" (Москва, 16-19 мая 2003 года)» (М„ 2 0 0 4 ) , Руководитель постоян­
ного научного семинара «Проблемы позтического языка» • Институте русского
тики, семиотики, лингвистической
среди кото­
яэыка им. В. В. Виноградова РАН.
Участвовала во многих международных научных конференциях, посвященный
проблемам истории поэтического яэыка XX в. и литературного авангарда. •
России и за рубежом (в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Сер­
бии, Эстонии). Организатор трех международны» научных конференций в
Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН по лингвистике текста и
лингвистической поэтике: «Текст. Иитертекст. Культура» (апрель 2 0 0 1 ) , «Поэ­
тический язык рубежа ХХ-ХХ1 веков и современные литературные стратегии»
(май 2 0 0 3 ) , «Художественный текст как динамическая система» (конференция
была пос вящена 80-летию В. П. Григорьева; май 2 0 0 5 ) .