Н. Н. Мурзин
advertisement
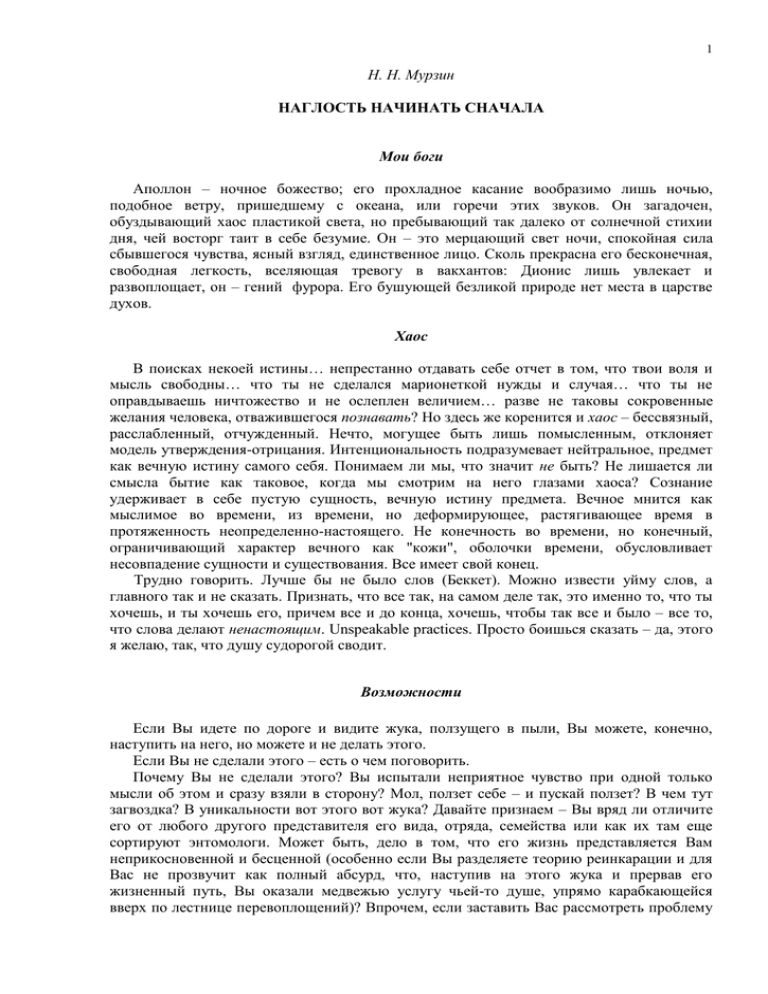
1 Н. Н. Мурзин НАГЛОСТЬ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА Мои боги Аполлон – ночное божество; его прохладное касание вообразимо лишь ночью, подобное ветру, пришедшему с океана, или горечи этих звуков. Он загадочен, обуздывающий хаос пластикой света, но пребывающий так далеко от солнечной стихии дня, чей восторг таит в себе безумие. Он – это мерцающий свет ночи, спокойная сила сбывшегося чувства, ясный взгляд, единственное лицо. Сколь прекрасна его бесконечная, свободная легкость, вселяющая тревогу в вакхантов: Дионис лишь увлекает и развоплощает, он – гений фурора. Его бушующей безликой природе нет места в царстве духов. Хаос В поисках некоей истины… непрестанно отдавать себе отчет в том, что твои воля и мысль свободны… что ты не сделался марионеткой нужды и случая… что ты не оправдываешь ничтожество и не ослеплен величием… разве не таковы сокровенные желания человека, отважившегося познавать? Но здесь же коренится и хаос – бессвязный, расслабленный, отчужденный. Нечто, могущее быть лишь помысленным, отклоняет модель утверждения-отрицания. Интенциональность подразумевает нейтральное, предмет как вечную истину самого себя. Понимаем ли мы, что значит не быть? Не лишается ли смысла бытие как таковое, когда мы смотрим на него глазами хаоса? Сознание удерживает в себе пустую сущность, вечную истину предмета. Вечное мнится как мыслимое во времени, из времени, но деформирующее, растягивающее время в протяженность неопределенно-настоящего. Не конечность во времени, но конечный, ограничивающий характер вечного как "кожи", оболочки времени, обусловливает несовпадение сущности и существования. Все имеет свой конец. Трудно говорить. Лучше бы не было слов (Беккет). Можно извести уйму слов, а главного так и не сказать. Признать, что все так, на самом деле так, это именно то, что ты хочешь, и ты хочешь его, причем все и до конца, хочешь, чтобы так все и было – все то, что слова делают ненастоящим. Unspeakable practices. Просто боишься сказать – да, этого я желаю, так, что душу судорогой сводит. Возможности Если Вы идете по дороге и видите жука, ползущего в пыли, Вы можете, конечно, наступить на него, но можете и не делать этого. Если Вы не сделали этого – есть о чем поговорить. Почему Вы не сделали этого? Вы испытали неприятное чувство при одной только мысли об этом и сразу взяли в сторону? Мол, ползет себе – и пускай ползет? В чем тут загвоздка? В уникальности вот этого вот жука? Давайте признаем – Вы вряд ли отличите его от любого другого представителя его вида, отряда, семейства или как их там еще сортируют энтомологи. Может быть, дело в том, что его жизнь представляется Вам неприкосновенной и бесценной (особенно если Вы разделяете теорию реинкарации и для Вас не прозвучит как полный абсурд, что, наступив на этого жука и прервав его жизненный путь, Вы оказали медвежью услугу чьей-то душе, упрямо карабкающейся вверх по лестнице перевоплощений)? Впрочем, если заставить Вас рассмотреть проблему 2 сугубо отвлеченно, то Вы, скорее всего, найдете существование этого жука довольно бессмысленным, наличие у него души – недоказуемым, и не сможете указать причину, по которой его «жизнь» (категорически) не следовало бы обрывать. Впрочем, неважно, что Вы затрудняетесь сказать определенно, что именно помешало Вам наступить на него, – важен тот факт, что Вы не наступили на него, а вместо этого обогнули его и пошли себе дальше своей дорогой, а жук пополз своей. Правда, если Вы не наступили на него по чистой случайности, то это не считается. Я не издеваюсь. И дело не в том, что Вы «гуманист» или что у вас «мягкое сердце». «Смерть» жука – это звучит глупо; «убийство» – еще глупее. Лейбниц утверждал, что относительно животных следует говорить не о «рождении» и «смерти», но о «возникновении» и «уничтожении». Вряд ли Вас остановили соображения вроде: «если каждый начнет наступать на жуков, попадающихся ему по дороге, мы нанесем урон природе»; мы и так его наносим, и причем куда больший, чем если бы мы день-деньской давили жуков. Хотя почему нет? А может быть, Вы задумались о гуманитарных последствиях: вдруг тот, кто хладнокровно истреблял целые народы, когда-то начал с того, что раздавил одного-единственного жука, который знай себе полз по пыльной дороге по своим делам? Все может быть. Все может быть. Я не знаю, что удержало Вас от того, чтобы наступить на жука. Но одно я знаю точно: и те соображения, что я перечислил; и масса других, не упомянутых мной; и те, относительно которых я пребываю в неведении; и те, что нельзя высказать ни на одном языке нашего мира, – вся эта давящая неопределенность и бесконечность, все эти гипотетические возможности, – они все здесь, они все сочтены, взвешены и разделены в одном шаге, который можно сделать, а можно и не делать, они, как бесчисленное множество ангелов – на кончике иглы, легко умещаются между «здесь» и «рядом», «этим» и «тем», «да» и «нет»; они – это все различие, которое только есть, вся разница между жизнью и смертью, которую только возможно представить и помыслить. Вселенная Допустим, Вселенная многовариантна. Проблема в том, что определить сам принцип, по которому выпадают вариации. Спиноза, возражая Декарту, утверждал, что если две субстанции определяются одним и тем же способом, тогда нет нужды в том, чтобы их было две, а не одна. Конечно, все это рассуждение немножко с позиции Бога. Так давайте поиграем в Бога. Создавать две одинаковые вещи бессмысленно. Следовательно, они должны отличаться. Но этого также недостаточно. Поскольку вариации не-совозможны, то есть, не могут существовать одномоментно как один и тот же мир. Вернее сказать, вариации и есть миры, но «подвешенные» на ниточку некоего уникального частного случая, определившего характер вариации. Мы должны, пускай только на начальном этапе, предположить, что дело в этом. Что некий возможностный принцип содержится как бы внутри миров, точнее, является имманентным последовательности моментов времени и элементов материи, а не трансцендентным (Бог-творец/Божественный ум/Идея в таком уме). То есть, обратным образом, с позиции того, что Аристотель называл «первым для нас», а не «первым по природе», мы должны предположить трансцендентность каждого произвольного мгновения в качестве необходимого условия имманентности принципа как такового. Основываясь на этом парадоксе, попытаемся проследовать дальше. Что может служить эмпирическом коррелятом такого принципа? Материальная трансформация – пресловутая «раздавленная бабочка»? Момент исторического выбора – в предположении, что человеческая воля включена в порядок Вселенной и учтена там как один из действующих факторов существования? Так или иначе, но все варианты пока сводятся к этим двум – 3 материи или сознанию, оно же дух, и т. п. Предположим третий вариант, основывающийся на том, что коррелят будет особенностью их взаимодействия. «Раздавленная бабочка» событие чисто физическое, т. е. случайное. «Историческое решение», напротив, предполагает в качестве своего источника и сферы чистый дух. И необходимое, и случайное здесь ведут к необратимому, хотя и не тождественны ему. И именно необратимость совершающегося ведет к предположению о возможной вариации, сколь парадоксально это ни выглядело бы. Такое раздвоение уже подталкивает нас к тому, чтобы неминуемо выбрать из двух прочтений одно: или все случайно, и потому необратимо; или все необходимо, и потому также необратимо. Возникает вопрос, должны ли мы включить само это разночтение в ход нашего рассуждения. Не является ли выбор Вселенной именно выбором между материей и духом, а не между разновидностями того или другого. Или даже так: не является ли «дух» тем самым принципом вариации, который мы ищем. Метафизика Метафизика – учение о сущем, поскольку оно есть. Это можно услышать так: о сущем, поскольку оно есть. Отсюда – вопрос Лейбница: почему есть Нечто, а не Ничто? (Забегая вперед, отметим, что и это можно спросить подругому: почему сверх того, что есть, мы находи еще нечто, а не ничто? Так что дело не в Лейбнице, а опять же в интерпретации предложенной им постановки вопроса – точнее, его перестановке). Но можно услышать и: о сущем, поскольку оно есть. Здесь – корень онто-тео-логии, по мысли Хайдеггера, то есть, учения о более-сущем или истинно-сущем, выделении некоего сущего в привилегированную, совершенную инстанцию, от которой зависит всякое иное бытие (причастно, скажем). Тупик? Вовсе нет. У Канта бытие – не стандартный, но все же предикат. В немецком языке Seiendes (сущее) – это производное от Sein (бытие): бытие и бытийствующее, если угодно. Но только через Seiendes определяется существо Sein. У нас же сущее все время теряется за бытием, нам кажется, что это все то многое, что существует и, тем самым, подводится под одно бытие, охватывается им. Но бытие на самом деле – только ключ к сущему, к его разгадке: оно указывает на сущее, поскольку оно есть, поскольку оно есть. Так что же есть? Само сущее. По видимости – тавтология, тупик. Но вспомним Витгенштейна, говорившего, что все истины – тавтологии. Так и есть. Предмет философии – сущее, поскольку оно есть сущее. Именно оно. Именно к нему, как к субъекту, относится бытие как предикат: «есть». К нему оно относится в полной мере, полноправно. Причем это не одно и то же, не – бытие есть (вот тогда – действительно тупик), а – сущее есть. И, поскольку оно есть, о нем (в нем) возможна мысль. Здесь сам язык ведет нас, но он – лишь хранитель истины, он рождается в ней, а не она – в нем. Наша ошибка в том, что мы сразу уже имеем некое представление, о чем идет речь, мы для себя (точнее, даже не мы – и задолго до нас) уже ответили на этот вопрос: мол, речь идет о сущем в смысле – мира. Но речь-то идет о самом сущем – еще до всякого мира, природы, вещей, события – они еще не показались на нашем горизонте. Мы же все время спешим, торопимся заглянуть за горизонт. Точнее, мы думаем, что мы уже там, на твердой земле. Но мы все еще в пути. Мы всегда в пути. Речь идет о самом сущем, и она не отпустит нас просто так, не даст нам легкого покоя. Да, именно что речь. Снова нам помогает язык. О чем речь, о чем ты говоришь, спрашиваем мы, когда не понимаем, что имеется в виду (то есть, я не вижу того, что видишь ты, в моем горизонте этого нет). Нечто дает о себе знать из-за горизонта, гонит в путь – за его кромку. Знак нам подает человек, но в конце нашего пути – Бог. Мы же «попадаем» в других, и в конце концов разочаровываемся – мы нашли только других, но не иное, погнавшее нас в путь. Возможно, мы не там – и не так – искали? 4 (Но там – не просто Другой и его горизонт, его мир. Вспомни Толкиена, как он с тоской пишет, что прямого пути больше нет, мир замкнулся в кольцо и за горизонтом – просто другие земли, которых ты еще не видел, но не Благословенный Край? Это важно). Уметь составить вещи по-новому, получить новые вещи из старых вещей, создать нечто из того, что уже есть – искусство. Вытащить весь мир из тавтологии, из ничто – философия. Философ знает, что мир не таков, каким кажется. Но он и не инаков. Что это значит? Только одно – мы не можем сомневаться бесконечно. Пытаясь проникнуть в суть вещей, поражаясь легкости, с которой видимость, истерзанная бесчисленными противоречиями, уступает нашему напору, мы подвергаемся опасности слишком удалиться от наших начал, потерять их из виду. И тогда, сколь многообещающе не выглядели бы наши философские, религиозные, эстетические и этические системы, они не завладеют умами людей, не найдут в них живого отклика, не склонят их на свою сторону, не приблизят их к истине. Может быть, философу это и не представляется заслуживающим пристального внимания; возможно, философу и не следует принимать в расчет каких-то там “людей”. Но они, так или иначе, всегда уже приняты в расчет, и не им. О «бедном» начале Трудно вообразить начало, которое было бы бедно. Это прямо противоречит нашей интуиции того, как следует мыслить всякое начало. Аристотель говорит: начала превосходят то, что на них – и с их помощью – основывается. Декарт утверждает не менее определенно: из меньшего не может следовать большее, а из ничего не может произойти нечто. Мы согласно киваем. Действительно, абсурд предполагать что-либо иное. Только так, и никак иначе. Между тем, начало бедно, и бедность его вовсе не кажущаяся. Не следует, конечно, путать собственно присущую началу бедность с представлением об известной «аскетичности» первых философских текстов. Дело не в том, что раньше писали количественно меньше – так сказать, редко, но метко. Это всего лишь очередной миф о превосходстве древности над современностью. Бедность начала не означает, что оно скрывает нечто драгоценное за нарочито неброской внешностью, и что мы неизбежно должны предпочесть некоему «поверхностному блеску» поздней сложности и многословности некую не менее вымышленную «простоту и глубину» ранних незамысловатых речений, если хотим пробиться к некоему «сущностному» мышлению. Так обстоит дело или нет, это, в конце концов, герменевтическая проблема, и она достаточна подробно уже освещена и проработана. Почему мы вообще заводим разговор о каком-то там «бедном» начале? Даже если оно отсутствует – что же все-таки делает его хотя бы желательным, пусть лишь в наших глазах? Ответ простой. Начало богатое и полное – способ оплатить наши собственные счета. И когда оно будет исчерпано, а его наследие растрачено, мы получим ту страшную нехватку ресурса, тот неотступный призрак опустошенности и судорожное оглядывание по сторонам с целью отыскать некие новые источники, чтобы продолжить привычное движение, гонку, которая предзадана иллюзией того, что мы уже что-то получили в самом начале и должны сохранить-использовать-преумножить, пустить в оборот это нечто, которое же очевидно нечто, а не ничто, а то и вообще «все» – короче, все то, что мы на сегодняшний день и имеем. Религия Распространенный в теологии взгляд на зло как на privatio boni – лишение блага – наполняется новым содержанием, если отстраниться от собственно теологических парадоксов, таких, например, как невозможность постижения ограниченным 5 человеческим разумом промысел бесконечного божественного существа, чья воля не терпит ограничений, а деяния не подлежат суду. Это еще и чисто языковой казус; перефразируя Ницше, можно было бы сказать - какие мы атеисты, коли по-прежнему верим в грамматику... Дело тут о том, что, раз “лишение” - значит, непременно есть “лишенный” и “лишивший”; к действию, по мысли все того же Ницше, с неизбежностью примысливается деятель. Принципиальная неразрешимость проблем, порождаемых таким подходом, очевидна: если Бог – источник всякого блага, то почему некто или нечто оказывается блага лишенным? Для человека нерелигиозного эта проблематика – абсурд, для религиозного – вызов. В наши дни религиозная аргументация утратила, до известной степени, свое глобальное значение. В пост-кантовском мире она еще сохраняет за собой право на утешение отдельных страждущих – и воспринимается, по большому счету, «психологически», как способ преодоления многочисленных кризисов личности, благотворно влияющий на социальную гармонию – но, когда дело касается проблем «большого» мира, а не «маленького», частного, «душевного» мира того или иного человека, сомнительно, чтобы она принималась всерьез или влияла на принятие того или иного решения. Тому есть два объяснения. Первое, связанное с «интеллектуальным» безумием, состоит в следующем. При обсуждении «проблем большого мира», будь то проблемы экономического, социального, политического, научного характера, редко применяется религиозная аргументация как таковая; у нас возникает впечатление, что она имеет место – просто потому, что в дискуссии участвует, скажем, духовное лицо. Однако приводимые в таком случае аргументы либо сводятся к откровенно несостоятельным сегодня радикальным, псевдо-ортодоксальным соображениям (т. н. «обскурантизм»), либо являются апелляцией к «общечеловеческим ценностям» (т. н. «абстрактный гуманизм»), сложившимся, в частности, под воздействием христианства, но совершенно не затрагивающим его глубинных смысловых пластов. Последняя тактика приносит если не успех, то уважение («они говорят правильные вещи, с которыми все могут согласиться»). В наших глазах «гуманное» зачастую имеет религиозное происхождение, но это не так. Политик или ученый, стремящийся избежать причинения вреда или ненужного риска, не обязательно (и даже скорее всего) не религиозен; духовное лицо, апеллирующее к «общечеловеческим ценностям», выступает не как христианин, или мусульманин, или буддист, но как представитель над-религиозного, над-национального, «вневременного» нравственного сознания. Однако ценности, составляющие это сознание, не тождественны религиозным истинам; и, с не меньшим, а возможно, и с большим основанием, к ним может апеллировать и человек нерелигиозный. Второе объяснение, связанное с «жизненным» без-умием, состоит в следующем. Дело в том, что христианская (и, в принципе, религиозная) мысль, как уже было сказано выше, де-онтологична по самому своему существу. Она не является описанием мира, не является даже этической концепцией, к которой ее чаще всего сводят, закрывая глаза на многие сомнительные моменты, препятствующие такому отождествлению. Религия говорит, прежде всего, о самой себе, и указывает на некий иной мир, который можно истолковать как «возможный», в противовес известному нам «действительному», хотя это натянуто и неточно. Вывод, который отсюда можно сделать, таков: религиозная аргументация (если здесь вообще уместно понятие «аргументация») вряд ли предназначена для того, чтобы решать проблемы «большого» или даже «маленького» мира. То, что вообще есть некая «религиозная аргументация», связано с обстоятельствами выживания религии, в которых ей приходилось приспосабливаться и меняться, но не с ее смысловым средоточием. Религия потому и без-умна, что представляет собой не способ решения проблем, сопровождающих человеческое существование, а перенесение и помещение самого этого существования в принципиально иной контекст. Откровение религии, откровение божества и мира, который оно обещает, не является простым ответом на наши вопросы, а если и принимает именно такую форму, то потому, что иной формы в нашем сознании, 6 скорее всего, не существует, – но и в таком случае это ответ, существующий «до» и «вне» всех наших вопросов, и всегда неожиданный, смысл которого в том, чтобы лишить эти вопросы их основания и показать их полную ненужность. Религия – это способ выстроить свою жизнь, исходя из этого откровения, потому что оно – «хорошо», а не потому, что вокруг – «плохо»; поскольку то, о чем оно – «есть», а не «должно быть». И в этом смысле пути разума и веры расходятся; разум не нуждается в советах веры, чтобы решать встающие перед ним проблемы, а вера не нуждается в том, чтобы их давать. Однако же мы живем в мире, сложившемся исторически под воздействием трех могущественных сил – (иудео-христианской) религии, (античной) культуры и (европейской) науки. Каждая из этих сил по-своему отразилась в других. Но все они, так или иначе, изменили человеческое существование, заложили основы того миропонимания, которое сегодня разделяем мы все, неважно, насколько мы интеллектуальны, культурны или религиозны. Наступила новая эпоха – мировая, планетарная, вселенская; мы поневоле меряем себя и свои действия этой новой меркой, и объектом приложения нашей воли является уже вселенная, пускай даже мы почти не осознаем этого в нашей повседневной жизни и практической деятельности. Но этот новый мир сделал возможным, помимо прочего, и абсолютное зло – то, что было почти невообразимо прежде. Тирания родилась не в ХХ веке – но ХХ век явил такие тирании, каких не знала история. Впервые стало возможно уничтожить все живое вообще; впервые появились средства, позволяющие искусственным путем подчинить человека, разрушить его разум и волю. Случилось то, о чем предупреждал Ницше – если раньше человек был просто животным, то сейчас он стал сверх-животным, чудовищем. История показала, что нет ничего такого, что нельзя было бы уничтожить, извратить, исказить; все, что ни есть в этой «долине смертной тени», постоянно находится под угрозой исчезновения, уничтожения – физического или ценностного. Близость обессмысливающего небытия – вот что, по большому счету, лишает нас веры сегодня, убивает ее в зародыше. Могут возразить: но разве не всегда обстояло так дело? Разве не отчаивались люди и раньше, видя, как безнаказанно торжествует зло, и не видно ему конца и края? Ответ философа таков: да, несправедливость была всегда – но никогда еще, наверное, не был человек столь подавлен мыслью об огромной вселенной, в масштабе которой его жизненное предприятие выглядит ничтожно малым, незначительным, в масштабе которой ничто не имеет смысла, и прежде всего – его собственные мысли и чувства, побуждающие его к действию. Это не заставит человека разрушать – зло имеет причину в себе самом – но способно помешать ему созидать. Мир, в котором возникновение жизни и ее сохранение, выживание добра носят по видимости случайный характер, плохо совместим с верой – это уже не Божий мир, который, какое бы зло в нем не творилось, все равно несет на себе образ благости. Это мир, в котором вера в промысел Божий свелась к смутной надежде, что зло неизбежно уничтожит само себя – но эта надежда может и не оправдаться, а даже если и оправдается, мы все равно можем не дожить до того дня, когда это все-таки произойдет. История 1. Представление, что основной или даже единственной причиной прекращения существования такого «нечто», как государство, может послужить некий кризис, глубоко ошибочно. Большинство или даже поголовно все государства существуют в ситуации постоянного, непрекращающегося кризиса. Собственно, кризис – вообще нормальное состояние истории. Средств и ресурсов всегда где-то больше, где-то меньше. Кто-то всегда страдает от их нехватки. Равенство, перераспределение доходов – по большому счету, утопия. Разумеется, подавляющее большинство живет и мыслит по маленькому счету. Для него разница между тысячными долями в какой-нибудь таблице, незначительное на первый взгляд колебание линии на графике – разница между жизнью и 7 смертью, свободой и неволей, порой не одного или даже многих людей, а одного или многих народов. Но такова цена, которую платит спекулятивный разум. Он должен осмелиться сам начать мыслить по большому счету, даже если это покажется кому-то бесчеловечным. Так вот, по большому счету, если завтра то или иное государство из разряда, что называется, экономически благополучных, внезапно прекратит свое существование, наверняка найдется масса теоретиков, которые предъявят нам экономические причины этого – например, «катастрофическое» увеличение внешнего долга страны, и прочие соображения в том же духе. Мой тезис таков, что если мы возьмем любое современное государство на предмет оценки «кризисности» его экономического состояния на произвольно выбранный момент, то выяснится, что в любой такой момент – вчера, сегодня, завтра – существует, с точки зрения экономики, достаточное основание для того, чтобы этот кризис привел к краху всего государства. С одним условием – если допустить, что действительно существует прямая зависимость такого рода между экономическим состоянием государства и самим фактом его существования. Но ее нет. Я даже готов сузить свой тезис, чтобы не провоцировать всезнаек на готовые затверженные ответы – я заявляю, что даже если кризис не перманентен, и такая вещь, как истинное благополучие, действительно существует и при этом является частичной или полной противоположностью критическому состоянию, все же кризиса самого по себе недостаточно. Закон достаточного основания здесь не работает, вернее, экономика этому закону не удовлетворяет, что неудивительно – закон этот философский. Замалчивание, игнорирование и переиначивание фактов – почетная, проверенная временем традиция – у «теоретиков». Но такие теоретики – не ученые. Телега у них всегда впереди лошади. Если есть положение дел «А», которому на схеме того или иного теоретика соответствует прогноз «а», он говорит: ну вот, все ясно, сложите 2 и 2. Но если схема выдает ему «а», а положение дел упорно остается «не А», он попадает впросак. Он либо закроет глаза на прогноз «а», либо займется усовершенствованием своей методики, либо начнет доказывать всем и каждому, что он прав, что прогноз не ошибочен, и что скоро, очень скоро, положение дел изменится на «А». И то, и другое, и третье по большому счету неверно, и ведет лишь к дальнейшим искажениям существа дела. Такие аналитики даже не задаются вопросом, почему их прогнозы не осуществились, они в лучшем случае подыскивают какое-нибудь наспех изготовленное объяснение, которое должно успокоить их совесть. Тут обычно выясняется, что есть некие иррациональные, или даже рациональные, но таинственные и злонамеренные силы, вмешивающиеся в прекрасно просчитанный процесс, чтобы спутать им/нам все карты. Так рядом с псевдонаукой возникает уже откровенная лже-наука вроде «теорий заговора». 2. Возникновению и уничтожению такого образования, как «государство», в перспективе мировой истории всегда сопутствуют факторы, в целом непредвидимые. Экономика, и даже политика, никогда ничем не управляют; мы позволяем себе иллюзию такого управления, потому что «нам» – большинству, живущему по маленькому счету – очень не нравится думать, что в действительности всем сущим правит Великая Бессмыслица. Она и образует истинный смысл, который справедливо тавтологичен: так, просто потому что так. Мир то, что выпало. Qui prosit – закон, не имеющий обратной силы. Часто случается то, что на руку всем, или многим – это не значит, что они за этим и стояли. Бывает, что ожидаемое не наступает, или наступает неожиданное. В истории есть моменты, когда бессильны огромные армии, и моменты, когда одиночки способны изменить судьбы мира. Такие моменты возвращают нам знание того, что мир – простая субстанция. Можно называть эту простоту «прекрасной», можно «страшной», суть от этого не меняется. В такие минуты все, что есть – это, скажем, девять граммов свинца, и единственный «механизм», который в этом задействован – это оружие в руке стрелка. 8 Никакой зловещей закулисы, никакого тайного планы. Мы одни. Один на один со светом дня и темнотой ночи, с жизнью и смертью. О, «мы» не хотим в это верить… Чем более нечто иррационально, чем хуже оно укладывается в наши схемы и выводится из наших прогнозов, тем более оно реально, тем больше шанс, что это и есть истина. В абсурде заключен великий смысл; собственно, это единственная среда, в которой смысл вообще может быть зачат, выношен и рожден – если только мы хотим иметь нормальных детей, а не недоносков. В отличие от лжеученых, которые начинают с иллюзии того, что все объяснимо, а заканчивают тем, что в отчаянии провозглашают полную необъяснимость, я не вижу причин разделять, или даже противопоставлять, эти две вещи. Только естественную необходимость различать их, как равносущие начала. Рациональное и иррациональное, logon и alogon, не находятся, далее, в диалектических отношениях, что бы мы под ними не подразумевали: они не «переходят» друг в друга. Они друг друга объясняют, и только. Помимо объективного существования иррационального в качестве мифа есть и субъективное требование иррациональности, идущее от нашей интеллектуальной совести. Ницше говорит, что мораль погубило ее первейшее условие – правдивость. Точно так же всякому догматизму, схематизму и иррационализму в науке и рядом с ней приходит конец, как только вспоминает и заявляет о себе снова первейшее условие познание – способность объяснения. Комфорт исключительно цель, фетиш ложно понятой потребности; утешение – смысл. Когда мы требуем, а не потребляем, мы становимся способны к смыслу. Разум, заплутавший в беспросветности лжеучений, оглохший от громких воплей зазывал, вербующих новых сторонников для старых авантюр, хочет вернуться назад, к тому, частью чего является изначально, и в единении с чем для него только и возможно быть в действительности собой. Это не память, потому что память всегда уже трачена забвением. Она безнадежное противостояние, и только уводит все глубже и глубже во тьму. 3. Всякий «процесс», политический, экономический, любой другой, по сути – часовой механизм. Взрывается бомба, а не часы. Мне всегда интереснее было ее устройство, не говоря уже о взрывчатом веществе. Без него часы абсолютно безобидны; они механически отмеряют пустое, неопределенное время, уходящее в дурную бесконечность. Этому времени не положен предел чем-то, находящимся вне времени – способностью бытия стать небытием. Часы создают иллюзию того, что время существует само по себе, вне бытия и небытия. Мы начинаем думать, что оно, время – некие метафизические часы, идущие, даже когда все остановилось, или вообще ничего нет. Точно так же «человек теоретический» тешится иллюзией некой человеческой субстанции, humanitas, раскрывающейся в истории – истории людей, народов, государств… Но без смертельно опасного вещества истории, грозящего оборвать ее в любой момент, эта история – только бессмысленное тиканье часов, висящих в пустоте, которые остановятся разве что от износа деталей. Не будем льстить себе: это вещество не человек, что бы он сам по этому поводу не думал. Он в лучшем случае проводок, в худшем – шестеренка. То есть, шестерка. 4. Истерию сегодняшних «толп», или «масс», которые с невесть какой стати попрежнему считают себя «народами», если не хуже, невозможно свести на нет воздействием извне, призывом к «разумности», вообще какими бы то ни было, либеральными ли, экстремистскими ли, средствами. Об этом не стоит и мечтать. Их бездумную, безоглядную, самоубийственную решимость в отстаивании своих химерических принципов способно поколебать, наверное, только очевидное предательство их собственных «лидеров». Правда, оно еще должно быть осознано как таковое. Иначе на место «предателей», сразу после их поспешной гражданской казни, 9 будут поставлены «истинные», «верные» сыны народа, радеющие за «правое дело», которое, по-хорошему, и должно быть скомпрометировано этими предателями в первую очередь… Итог: чем больше в нынешней политике откровенных провокаторов, проплаченных горлопанов, двуличных подонков и прочей нелицеприятной публики, преследующей конкретную шкурную выгоду, тем лучше. Гораздо опаснее, если во главе этой объединенной всемирно-исторической канальи встанет человек, искренне верящий в то, что она – последнее слово истины. Короче, настоящий сумасшедший. 5. Единственное, чем хорош нынешний патриотизм отечественного производства – в плане урока, который он может дать тому, кто действительно желает учиться у истории – он показывает, что общественное, государственное начало, особенно в эпоху отчаянного спроса на него – нечто иное, чем представление о сумме частных интересов и эгоизмов. Такая сумма всегда формальна. Государство же претендует на то, чтобы быть органическим единством, в котором границы составляющих его тел стерты, и все растворено в общем чувстве, подобии коллективного разума, ставящего себе выходящие за пределы индивидуальной разумности цели и задачи (как у Гоббса). Государство, понимающее себя таким образом, всегда строится на ограничении, если вообще не отказе, от индивидуальной разумности как критической функции общественного сознания; проще говоря, это некая форма безумия. Общество развинченное, разнесенное на свои составляющие успешнее справляется с патологиями, преследующими органические единства. Оно, например, не может окончательно и бесповоротно сойти с ума. 6. Война остается в существе своем непонятой; непонятной. Вообще насилие – угроза насилия в случае неповиновения – как способ осуществления государством своей власти. Однако насилие есть главное средство и орудие зла. Государство же есть попытка людей избавиться от зла или предупредить его, овладев его средствами и направив их против него самого, вырвать у него его оружие. Таким образом, государство представляет собой прирученное, неполноценное зло по сравнению со злом полноценным, реализующимся в безвластии и тотальном разрушении. Но оно (это подчиненное зло) нисколько не изменило своей природы и поэтому всегда угрожает и будет угрожать выйти из-под контроля и разрушить государство изнутри, подталкивая его к перерождению в то, чему оно, государство, по видимости противостоит. Эта неизбежность заключена в самой природе власти, ее жесте вызова хаосу, силу которого питает все тот же хаос. Допустим, мне глубоко неприятны, если не сказать отвратительны, право сильного, доминация низменных инстинктов, жестокость и разнузданность. Я не намерен жить по этим законам сам и не хочу, чтобы по ним жили другие – например, близкие мне люди, судьба которых мне не безразлична – жили и заставляли меня жить в точности так же. Но для того, чтобы мое желание превратилось в действующий механизм, я должен сам обладать силой, которая заставила бы живущих по законам насилия считаться со мной и позволила бы мне настоять на своем. Следовательно, я должен хотя бы отчасти вписываться в систему их координат и владеть языком, который они только и понимают – языком силы. Следовательно, стремясь обезопасить себя от насилия, я должен обратиться к средствам, которые составляют сущность насилия. Поэтому государство – это трагедия. 7. У меня нет цели. Бесполезно ставить себе цели в мире, который стал – не поверхностно нестабильным даже – он всегда таков – а глубинно нестойким. Сама структура реальности, обратимо или необратимо, но меняется. Мы плавимся. Переплавляемся во что-то иное. Политические и экономические процессы полярных зарядов и векторов, обобщенно именуемые сегодня «глобализация», только знак более существенных изменений. 10 Бессмысленно пытаться вписаться в эту полярную картину, найти себя в «за» или «против», играть на повышение или понижение; бессмысленно, конечно, по большому счету. Какая бы «сторона» ни одержала верх, она, сама того не ведая, будет лишь средством к превосходящей предлагаемую ею способность понимания цели. Мы должны перейти от многообразия тактической дискурсивности к единству стратегической. От анализа к синтезу. Но это все равно тактика. Единственной стратегией сейчас может являться лишь продуманный и осознанный отказ от стратегии. Бездействие с расчетом на катастрофу. Все втянуты в игру. И раньше или позже проиграют. Возможно, единственный способ «выиграть» в ней – проиграть с самого начала, или даже раньше, еще до того, как игра началась.