О ГРАЖДАНСКОМ НЕПОВИНОВЕНИИ
advertisement
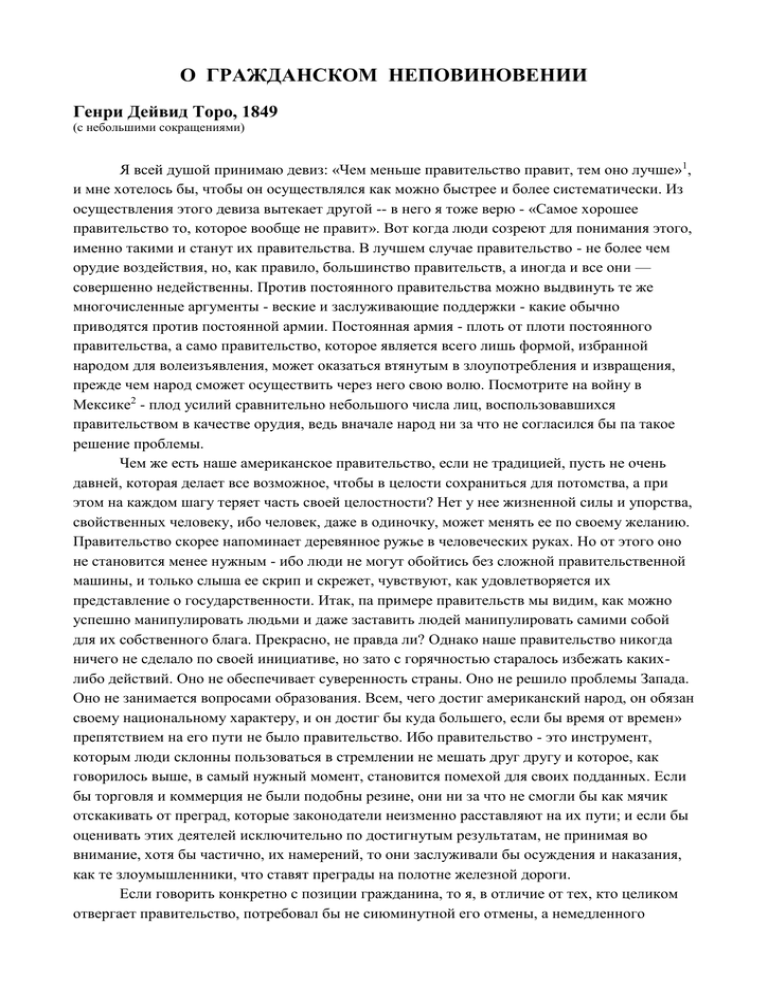
О ГРАЖДАНСКОМ НЕПОВИНОВЕНИИ Генри Дейвид Торо, 1849 (с небольшими сокращениями) Я всей душой принимаю девиз: «Чем меньше правительство правит, тем оно лучше»1, и мне хотелось бы, чтобы он осуществлялся как можно быстрее и более систематически. Из осуществления этого девиза вытекает другой -- в него я тоже верю - «Самое хорошее правительство то, которое вообще не правит». Вот когда люди созреют для понимания этого, именно такими и станут их правительства. В лучшем случае правительство - не более чем орудие воздействия, но, как правило, большинство правительств, а иногда и все они — совершенно недейственны. Против постоянного правительства можно выдвинуть те же многочисленные аргументы - веские и заслуживающие поддержки - какие обычно приводятся против постоянной армии. Постоянная армия - плоть от плоти постоянного правительства, а само правительство, которое является всего лишь формой, избранной народом для волеизъявления, может оказаться втянутым в злоупотребления и извращения, прежде чем народ сможет осуществить через него свою волю. Посмотрите на войну в Мексике2 - плод усилий сравнительно небольшого числа лиц, воспользовавшихся правительством в качестве орудия, ведь вначале народ ни за что не согласился бы па такое решение проблемы. Чем же есть наше американское правительство, если не традицией, пусть не очень давней, которая делает все возможное, чтобы в целости сохраниться для потомства, а при этом на каждом шагу теряет часть своей целостности? Нет у нее жизненной силы и упорства, свойственных человеку, ибо человек, даже в одиночку, может менять ее по своему желанию. Правительство скорее напоминает деревянное ружье в человеческих руках. Но от этого оно не становится менее нужным - ибо люди не могут обойтись без сложной правительственной машины, и только слыша ее скрип и скрежет, чувствуют, как удовлетворяется их представление о государственности. Итак, па примере правительств мы видим, как можно успешно манипулировать людьми и даже заставить людей манипулировать самими собой для их собственного блага. Прекрасно, не правда ли? Однако наше правительство никогда ничего не сделало по своей инициативе, но зато с горячностью старалось избежать какихлибо действий. Оно не обеспечивает суверенность страны. Оно не решило проблемы Запада. Оно не занимается вопросами образования. Всем, чего достиг американский народ, он обязан своему национальному характеру, и он достиг бы куда большего, если бы время от времен» препятствием на его пути не было правительство. Ибо правительство - это инструмент, которым люди склонны пользоваться в стремлении не мешать друг другу и которое, как говорилось выше, в самый нужный момент, становится помехой для своих подданных. Если бы торговля и коммерция не были подобны резине, они ни за что не смогли бы как мячик отскакивать от преград, которые законодатели неизменно расставляют на их пути; и если бы оценивать этих деятелей исключительно по достигнутым результатам, не принимая во внимание, хотя бы частично, их намерений, то они заслуживали бы осуждения и наказания, как те злоумышленники, что ставят преграды на полотне железной дороги. Если говорить конкретно с позиции гражданина, то я, в отличие от тех, кто целиком отвергает правительство, потребовал бы не сиюминутной его отмены, а немедленного улучшения. Пусть каждый скажет, какой вид правительства он готов уважать, и это уже будет шагом к созданию такого правительства. В конце концов, народ, взявший власть в свои руки, передает ее на долгое время большинству не потому, что большинство знает правду, и не потому, что так справедливее по отношению к меньшинству, а потому, что большинство сильнее физически. В этом кроется причина. Однако государство, в котором всегда и во всем правит большинство, не может основываться на справедливости, даже в том ограниченном смысле, как ее понимают люди. Неужели невозможно такое государство, где правду от кривды отделяет не большинство, а совесть, где большинству предоставляется решающее слово лишь в тех случаях, к которым приложим принцип целесообразности? Неужели это неизбежно и граждане, хотя бы не надолго или в малейшей степени, вынуждены отказываться от своей совести н передоверять ее законодателям? К чему же тогда человеку совесть? Я убежден, что мы, прежде всего люди, и лишь потом - подданные своего государства. Куда важнее воспитывать уважение к справедливости, чем к закону. Единственная обязанность, которую я имею право взять на себя - это обязанность быть правым в своих поступках. Совершенно справедливо говорится, что корпорации бессовестны, но корпорация честных людей знает, что такое совесть. Закон не делает людей сколько-нибудь более справедливыми, а уважение к закону ежедневно превращает самых порядочных из них в орудия несправедливости. Обычный и естественный результат чрезмерного уважения к закону – это стройные колонны воинов (полковник, капитан, капрал, солдаты и мальчики-подносчики пороха в одном ряду), марширующие по горам и долинам на ВОЙНУ вопреки своей воле; ба, - вопреки здравому смыслу и совести. Дорога очень крутая, и у идущих перехватывает дыхание. Они понимают, что их втянули в отвратительную игру, их - миролюбивых людей. Кто же они такие? Люди? Или небольшие передвижные укрепления и пороховые погреба на службе у сильных мира сего? Загляните на морскую базу и взгляните на матроса - образец выработки американского правительства. Вот во что они могут превратить человека своей черной магией - в жалкую тень и отдаленное напоминание о человечности, в человека напоказ, вроде бы живого и вытянувшегося в струнку, а в то же время мертвеца, похороненного с оружием в руках под звуки траурной музыки, а может, и без нее: «Ни звука музыки, ни дроби барабанной, Когда влекли его на вал мы крепостной, И в тишине, без выстрелов прощальных Почил герой в могиле земляной» Большинство служит государству именно так - не как человеческие существа, а как машины - своим телом. Из них состоят постоянная армия и милиция, они служат тюремщиками, констеблями и т.д. В большинстве случаев им не приходится выражать свои суждения или моральные оценки. Они низводятся до уровня неодушевленных предметов дерева, земли, камней; может, в один прекрасный день, удастся смастерить деревянных людей, которые вполне справятся со всеми обязанностями. Такие люди вызывают не больше уважения, чем соломенное чучело или комок глины. Да и стоят они не больше, чем лошади или собаки. Но даже они обычно принимаются за хороших граждан. Другие - большинство законодателей, политиков, адвокатов, священников и чиновников - служат государству, главным образом, своими мозгами, а поскольку им, как правило, чужды нравственные различия, то они, хотя и непреднамеренно, могут служить не только богу, но и дьяволу. Очень немногие - герои, патриоты, мученики, реформаторы с большой буквы, и настоящие люди служат государству также и своей совестью, а это значит, неизбежно восстают против него, и оно обычно считает их врагами. Разумный человек может быть полезным только в своем человеческом качестве, и, пока жив, он никогда не согласится превратиться в «глину» и «торчать затычкою в щели»4, (пусть уж для этой цели послужит его прах). Ведь. как известно, «... и так высок мои род. Что не могу я быть ничьим слугой, Приказы получать, как подчиненный, Как подданный, и быть слепым орудьем Какой-либо державы. »' Тот, кто отдается другим без остатка, выглядит бесполезным и эгоистичным, те же, кто отдаст себя лишь частично, слывут меценатами и филантропами. Как надлежит гражданину вести себя по отношению к американскому правительству сегодня? Мой ответ ясен: уважающий себя человек не может признавать его своим. Ни на одну минуту я не могу принять за свое правительство такую политическую организацию, в подчинении которой находятся рабы. Все люди приемлют право на революцию, т. е. право отказаться быть послушным и выступить против правительства, чьи тирания и безалаберность становятся нестерпимыми. Однако почти все утверждают, что сейчас нет такой ситуации. А вот в год революции 1775 года6 она, по их мнению, была таковой. Но если бы кто-нибудь сказал мне, что наше правительство никуда не годится, потому что оно обложило налогом некоторые иностранные товары, прибывающие в наши порты, я бы, скорее всего, не очень расстроился, поскольку могу без них обойтись. При работе любой машины возникает трение, и то доброе, что производит наша государственная машина, по всей видимости, уравновешивает зло. Во всяком случае, большим злом является шумиха вокруг этого. Но если трение завладевает машиной, если угнетение и грабеж принимают организованные формы, я говорю без обиняков: такая машина нам больше не нужна. Другими словами, если 1/6 населения страны, которая провозгласила себя обителью свободы - это рабы, а другая страна7 стала жертвой несправедливого нашествия иностранной армии и в ней объявлено военное положение, мне кажется, что пришло время и честные люди должны восстать и поднять революцию. Это наш долг, и он становится тем более неотложным, что объектом агрессии стала не наша страна, зато «нашей» мы можем назвать армию захватчиков. Пейли, известный авторитет по многим нравственным вопросам, в своей книге, в главе «Долг послушания гражданскому правительству» переводит все вопросы гражданского долга в плоскость целесообразности. Он говори т: «до тех пор, пока этого требуют интересы всего общества, иначе говоря, пока существующему праву невозможно противиться и добиваться его смены, не причиняя неудобства всему обществу, Божья воля... диктует подчинение существующему правительству — но и не долее. Если исходить из этого принципа, то в каждом случае непослушания справедливость сводится к расчетам - нужно определить меру опасности и ущерба с одной стороны, и возможность и цену их возмещения - с другой»8. И здесь, по его мнению, каждый должен решать сам за себя. По всей видимости, Пейли ни разу не задумался над теми случаями, когда принцип целесообразности неприменим, а люди -все вместе и каждый в отдельности должны осуществить правосудие любой ценой. Если я несправедливо вырвал доску у утопающего, я должен отдать ее, даже если сам угону. Согласно Пейли это было бы «неудобством». Но ведь в противном случае человек, который мог бы спастись, неминуемо погибнет. Наш народ должен перестать владеть рабами и вести войну в Мексике, хотя ценой за это может быть его существование как народа. В своей практике народы склонны соглашаться с Пейли; но разве хоть кто-нибудь считает, что власти штата Массачусетс правильно реагируют на сегодняшний кризис? «Власть-шлюха, девка ты, чье платье серебрится, Подол подобрала, а бедная душа по грязи волочится"9 По правде говоря, противники реформы в штате Массачусетс - это не сотня тысяч политиков Юга, а сотня тысяч купцов и фермеров, которых торговля и сельское хозяйство интересуют куда больше, чем гуманность. Они не готовы воздать справедливость рабам и Мексике, сколько бы это ни стоило. Я веду спор не с далеким противником, а с теми, кто здесь, в нашей стране, идет на сотрудничество и торговлю с ним, с теми, без чьей поддержки далекий враг был бы безвреден. Мы по привычке говорим, что массы еще не созрели, но перемены приходят медленно и с трудом, ибо меньшинство не намного мудрее и лучше большинства. Важно не то, чтобы большинство было таким же добродетельным, как ты, важно, чтобы где-то существовала некая абсолютная добродетель, и она, как хорошая закваска, расшевелит всех. Тысячи людей в глубине души противятся и рабству и войне, но практически они не делают ничего, чтобы покончить с этим злом. Считая себя детьми Георга Вашингтона и Бенджамина Франклина, они сидят, сложа руки, твердят, что не знают, что делать - и не делают ничего. Для них свободная торговля "важнее самой свободы, и по вечерам они спокойно читают прейскуранты вперемешку с последними донесениями из Мексики, а может, и впадают при этом в дремку. Каков сегодня прейскурант честного человека и патриота? Они колеблются, они сожалеют, они иногда посылают петиции, но они не делают ничего всерьез и с отдачей. Они будут ждать, сохраняя неизменно хорошее расположение духа, пока другие не расправятся со злом, и тогда им не придется больше испытывать сожалений. Самое большое, на что они способны - это отдать свой мало чего стоящий голос, послать хилую улыбку и пробормотать «Бог в помощь» справедливости, проходящей мимо. На одного добродетельного человека приходится 999 хранителей добродетели, но куда легче иметь дело с подлинным обладателем ценности, чем с теми, кто ее временно опекает. Всякое голосование - своего рода игра вроде шашек или триктрака, но с легким нравственным оттенком. Это игра с правдой и кривдой, с моральными проблемами, и при ней, естественно, делаются ставки. Репутация избирателей не ставится на карту. Может, я и голосую согласно своему представлению о справедливости, но не заинтересован кровно в том, чтобы она победила. Я готов предоставить решение большинству, так что все остается в рамках общественной целесообразности. Проголосовать за справедливость еще не означает действовать за нее. Вы просто ненавязчиво даете понять остальным, что хотели бы ее победы. Мудрый человек не оставит справедливость на волю случая, и не захочет, чтобы она победила благодаря силе большинства. В действиях масс не так уж много подлинного благородства. Когда большинство проголосует, наконец, за отмену рабства, причиной тому будет их безразличие к рабству или просто-напросто тот факт, что осталось слишком мало рабства, подлежащего отмене. Тогда единственными рабами будут сами голосующие. Ускорить отмену рабства может лишь тот, кто, голосуя против рабства, голосует за свою собственную свободу. Говорят, что в Балтиморе или каком-либо другом месте состоится конвенция, которая должна выбрать кандидата в президенты. В ее состав войдут, главным образом, писаки и представители политических профессий. И я задумываюсь, какое значение принятое ими решение может иметь для независимых разумных и уважаемых людей. Почему бы нам не воспользоваться преимуществом своей мудрости и честности? Разве мы не можем рассчитывать на голоса независимых избирателей? Сколько людей в нашей стране не принимает участия в конвенциях? Но не тут-то было: я вижу, что так называемый уважаемый человек с легкостью отказывается от своей точки зрения и при этом жалуется на свою страну, хотя, по правде говоря, это страна имеет основания быть недовольной им. Он с готовностью принимает одного из кандидатов, избранных методом конвенции, как единственно возможного, и доказывает тем самым, что им может манипулировать любой демагог. Его голос стоит ровно столько же, что голос беспринципного иностранца или наемника-соотечественника, которых, возможно, подкупили. Где ты, настоящий человек, у которого, как говорит мой сосед, хребет сделан из костей и его не согнешь при нервом толчке? Наша статистка ошибается: согласно переписи у нас живет слишком много людей. Сколько Человек приходится в нашей стране на тысячу квадратных миль? Пожалуй, ни одного. Почему бы Америке не предложить настоящим людям поощрения за то, чтобы они селились на ее землях? Американец превратился в одного из «Чудаков»10 с чрезмерно развитым стадным инстинктом и полным отсутствием интеллекта и жизнерадостной уверенности в себе. Придя на этот свет, он в первую очередь и главным образом озабочен состоянием домов престарелых, и прежде чем вырастет из коротких штанишек и превратится в настоящего мужчину, старается основать фонд в пользу потенциальных вдов и сирот. Короче говоря, он отваживается жить только на средства Компании взаимного страхования, которая обещала ему приличные похороны. Честно говоря, человек не обязан посвятить себя искоренению любого, даже самого огромного зла; ему вполне хватает других забот; но, тем не менее, он обязан хотя бы держаться в стороне от зла, и если не думать о нем, то хотя бы не поддерживать его фактически. Если я занимаюсь другими делами и размышлениями, то должен сначала, по крайней мере, проверить, не сижу ли я при этом на чужом хребте. И я должен, прежде всего, слезть с него, чтобы и тот, другой, мог предаваться своим размышлениям. Посмотрите, какая ужасная непоследовательность допускается всюду. Мои земляки говорят: «Пусть они мне велят принять участие в подавлении восстания рабов или послать меня в на войну в Мексику — так я и пойду!». Но те же самые люди вольно — своей поддержкой правительства, или, по крайней мере, невольно - своими деньгами обеспечивают себе заместителя. И они, поддерживающие несправедливое правительство, которое эту войну ведет, горячо аплодируют солдату, отказывающемуся принимать в ней участие; хвалят того, кто бросает вызов их собственному поведению и авторитету. Как если бы государство испытывало чувство раскаяния до такой степени, что наняло кого-то бичевать себя, но не настолько сильно, чтобы хоть на мгновение отказаться от греха. Итак, под прикрытием красивых слов: Порядок и Гражданское государство всем нам приходится оказывать уважение и поддержку нашей собственной подлости. Легкий румянец как свидетельство греха, сменяется равнодушием; грех перестает быть безнравственным, а становится как бы не связанным с моралью и отнюдь не таким уж неуместным в той жизни, которую мы себе создали. Самые тяжкие и укоренившиеся грехи государства могут существовать лишь при попустительстве со стороны его вроде бы бескорыстных и добродетельных граждан - тех благородных патриотов, которых мы лишь легонько браним за излишний патриотизм. Это они, хотя и не одобряют характер н меры, предпринимаемые государством, оказывают ему послушание и поддержку, а тем самым являются его самыми преданными сторонниками и зачастую - главным препятствием на пути реформ. Некоторые из них уговаривают правительство распустить Союз, на основании которого существуют Соединенные Штаты, перестать подчиняться президенту. А почему они сами не откажутся от союза, своего союза с государством и не перестанут платить налоги в казну? Разве между ними и государством не существуют те же самые отношения, что между государством и Союзом? И разве государство отказывается сопротивляться Союзу не по чем же самым причинам, по каким они не хотят сопротивляться своему государству? Как может человек довольствоваться тем, что имеет определенное мнение? Чем же тут довольствоваться, если это мнение состоит в том, что его обидели? Если ваш сосед обсчитает вас на один доллар, вы не успокоитесь на том, что знаете об этом или на заявлении о случившемся или даже петициях с требованием вернуть вам причитающуюся сумму. Вы примите эффективные меры, чтобы получить все сполна и чтобы вас не обманывали в будущем. Действия, продиктованные принципом, осознание права/справедливости и ее/его свершение меняют все - и вещи и отношения; они революционны по своей сути и выходят за пределы всего, что было раньше. Такие действия не только разделяют церкви и государства, они раскалывают семьи, более того, вносят раскол в душу отдельной личности, отделяя в ней дьявольское от божественного. Несправедливые законы существуют: как мы должны поступить - покорно подчиниться им или попытаться их исправить, не отказывая им пока что в повиновении, а, может, нарушить их сразу? При таком правительстве, как наше, люди, как правило, считают, что сначала нужно убедить большинство, а потом менять законы. Они полагают, что если начнут сопротивляться, это приведет к еще большему злу. Но если это так, если сопротивление - большее из двух зол, то виновато в этом само правительство, Оно усугубляет ситуацию. Отчего оно неспособно пойти навстречу реформам? Отчего оно недооценивает свое разумное меньшинство? Отчего оно поднимает крик и начинает сопротивляться, прежде чем его ударили. Почему оно не поощряет стремления своих граждан не проходить мимо недостатков государства, их стремления быть лучше, чем предписывают правила. Почему оно неизменно распинает Христа, отлучает от церкви Коперника и Лютера, а Вашингтона и Франклина объявляет мятежниками? Можно подумать, что единственный проступок, которого государству не удалось предусмотреть, - это сознательный и подкрепленный действием отказ признавать его власть. Как же иначе объяснить, что за такой проступок не причитается строго определенное и соразмерное наказание? Если гражданин, не владеющий собственностью, хоть раз откажется заработать у государства девять шиллингов, его посадят в тюрьму на неограниченный никаким известным мне законом срок, длительность которого определяется по усмотрению лиц, посадивших беднягу за решетку. А вот если он украдет у государства девяносто раз по девяти шиллингов, то в скором времени окажется на свободе. Если несправедливость - неизбежный элемент трения государственной машины, то пусть себе движется, пусть поскрипывает. Авось части со временем притрутся, да и машина износится. Если несправедливость зависит исключительно от какой-либо одной пружины, шкива, троса или шестеренки, стоит задуматься, не будет ли исправление зла еще большим злом, но если ее природа такова, что она втягивает тебя и заставляет причинять несправедливость другому, тогда я скажу такому закону: прочь! Пусть твоя жизнь послужит тормозом для государственной машины. Для меня самое главное - не поддаться злу, которое я осуждаю. Что касается путей исправления зла, предлагаемых самим государством, - мне на эту тему ничего неизвестно. Слишком долгое это дело, жизни не хватит, чтобы в нем разобраться. А у меня своих дел по горло. Я пришел в этот мир не для того, чтобы сделать его удобным для жилья, я явился сюда, чтобы жить, независимо от того, хорош наш мир или плох. Человеку не дано сделать всего, а лишь кое-что; и поскольку он не может сделать всего, в его обязанности не входит слать петиции губернатору или законодательным учреждениям, так же как и они не обязаны слать петиции мне. А если они не внемлют моим просьбам, что мне делать тогда? В этом случае государство не предусматривает никакого выхода: злом является сама конституция. Такая точка зрения может показаться жесткой, упрямой и непримиримой, но именно так я проявляю наибольшую бережность и уважение к той человеческой сущности, которая этого заслуживает или может оценить по достоинству. Таковы все перемены к лучшему, как, например, рождение и смерть, от которых тело содрогается в конвульсиях. Я безо всяких колебаний говорю, что те, кто называет себя аболиционистами, должны сразу же и эффективно отказать в поддержке как личной, так и финансовой, правительству штага Массачусетс. И нечего ждать, пока наберется большинство в один голос, прежде чем отобрать у правительства право говорить от их имени. По-моему, вполне достаточно того, что на их стороне Господь, и можно действовать, не дожидаясь перевеса в лице этой одиночки. Да ведь и всякий, кто более справедлив, чем его ближние, неизменно представляет собой большинство в один голос. С американским правительством или его представителем - правительством штата я сталкиваюсь непосредственно, лицом к лицу, раз в год (и не чаще) в образе сборщика налогов. Это единственная форма, в которой человек в моем положении не может избежать такой встречи. И каждый раз при этом государство внятно говорит: «Признай меня!». И самый простой, самый эффективный, а в данной ситуации и самый обязательный способ общения с ним, выражения своего недовольства, своей нелюбви к нему - это возможность отказать ему в признании. Мой учтивый сосед, сборщик налогов - вот с кем мне приходится иметь дело - ведь, в конце концов, я вступаю в спор с людьми, а не с мертвым пергаментом, а он добровольно взял на себя роль представителя правительства. И как ему быть, как вести себя то ли в роли агента правительства, то ли обычного человека? Он не разберется в этом, пока не решит, как обращаться со мной - как с уважаемым соседом и порядочным человеком или как с маньяком и нарушителем спокойствия, пока не попытается справиться с этим препятствием для добрососедских отношений, не прибегая при этом к более грубым словам, действиям или мыслям. Я хорошо знаю, что если тысяча, сто или десять человек, которых я мог бы перечислить, если только десять честных людей или даже всего один ЧЕСТНЫЙ человек из штата Массачусетс отказался бы владеть рабами и вышел из игры, за что его посадили бы в местную тюрьму, это означало бы отмену рабства в Америке. Суть не в том, что начало было скромным, суть в том, что раз сделанное хорошо, остается на века. Но мы предпочитаем действиям слова, и сводим свою миссию к говорильне. На службе реформы стоят десятки газет и ни одного человека ... При правительстве, которое несправедливо сажает людей за решетку, единственным местом для справедливого человека становится тюрьма. Сегодня подлинное место, которое штат приготовил тем, кто более свободен и независим духом, это массачусетские тюрьмы. По воли штата они должны быть физически изолированы, и содержаться взаперти, ведь они уже изолировали себя сами, следуя своим принципам. Именно здесь с ними могут встретиться беглый раб, мексиканец, находящийся в условном заключении, или американский индеец, пришедший с жалобой на расовую несправедливость; на этой изолированной, но куда более свободной и достойной почве, куда штат помещает тех, кто идет не в ногу, кто выступает против него - единственный дом в рабовладельческом штате, где свободный человек может жить, не теряя чести. Если вам покажется, что, пребывая там, вы утратите влияние, что ваш голос перестанет доходить до слуха властей, вы просто не знаете, насколько истина сильнее заблуждения и насколько красноречивее и успешнее может бороться с несправедливостью тот, кто хоть немного сам пострадал от нее. Опуская бюллетень, отдайте не просто свои голос в виде листка бумаги, отдайте делу все свое влияние. Меньшинство бессильно, когда подчиняется большинству, тогда оно даже и не меньшинство; но оно непреодолимо, если противится изо всех сил. Если штату придется выбирать: держать всех справедливых в тюрьме или отказаться от войны и рабовладения, он сделает выбор без колебаний. Если бы в текущем году тысяча человек отказалась платить налоги, в этом не было бы ни насилия, ни кровопролития, к которым приведет их уплата, позволяющая штату совершать насилие и проливать невинную кровь. Так выглядела бы мирная революция, если таковая вообще возможна. Если сборщик налогов или другое должностное лицо спросит меня, как это было однажды: «А что же мне делать?», я отвечу: «Если вы действительно хотите что-то сделать - откажитесь от исполнения своих обязанностей». Если подданный отказывается подчиняться, а чиновник подает в отставку революция совершилась. Но предположим даже, что прольется кровь, ибо ранена совесть. Из этой раны вытекают подлинное мужество и бессмертие человека; истекая кровью, он умирает, чтобы остаться в веках. Вот эта кровь и льется сейчас. До сих пор я говорил об аресте нарушителя спокойствия, а не о конфискации его имущества - хотя и то и другое послужило бы одной и той же цели. Дело в том, что те, кто гласит справедливость в самом чистом виде, и поэтому представляет самую большую опасность для коррумпированных властей, не тратят времени на накопление собственности. Им государство не оказывает услуг, и небольшой налог может показаться чрезмерным, особенно, если им приходится трудиться на него дополнительно. Если бы существовал человек, способный целиком обойтись без денег, власти вряд ли решились бы требовать денег от него. А вот богатый человек - прошу извинить за обидное сравнение - всегда продается тому, кто позволил ему разбогатеть. Обобщая, можно сказать, чем больше денег, тем меньше добродетели: ведь деньги стоят между человеком и вещами, деньги превращают предметы в собственность, а для того, чтобы добыть деньги, не нужно обладать особой добродетелью. Наличие денег снимает многие вопросы, на которые человеку, не имеющему денег, пришлось бы отвечать. С деньгами связан только один новый вопрос, нелегкий, но, скорее всего излишний - как их истратить? Так человек лишается моральной опоры. Богатство возможностей, предоставляемых жизнью, сокращается пропорционально росту материального богатства, так называемых «средств». Самое лучшее, что может сделать для своей культуры богатый человек - это попытаться воплотить в жизнь те планы, которые он лелеял, будучи бедным. Христос так ответил иродианам, спрашивающим, «позволительно ли давать подать кесарю»: «Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его» - и один из иродиан вынул монету из кармана - если вы пользуетесь деньгами с изображением кесаря, которые он ввел в обращение, наделив их стоимостью, иначе говоря, если вы верны этому государству и охотно пользуетесь преимуществами, которые несет правление кесаря, верните кесарю то, что ему принадлежит, когда он требует этого. «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу11, сказал Христос, и его ответ не сделал иродиан более мудрыми. Они по-прежнему не знали, что есть кесарево, а что божье, потому что не хотели знать этого. Когда я общаюсь с самыми свободолюбивыми из своих ближних, я чувствую одно: чтобы они не говорили о значении и серьезности вопроса и своей заинтересованности общественным спокойствием, суть дела сводится к тому, что они не могут обойтись без покровительства государства и боятся того, как гражданское неповиновение отразится на их собственности и семьях. Со своей стороны, мне не хотелось бы считать, что я когда-либо рассчитывал на покровительство государства. Однако если я откажусь признавать его власть, когда оно пришлет мне счет для уплаты налогов, оно вскоре приберет к рукам и разбазарит всю мою собственность, и тем самым будет без конца мучить меня и мою семью. Это трудное испытание. В таких условиях человек не сможет жить честно и при этом комфортабельно во внешних появлениях. Лишится смысла накопление собственности - ведь ее снова отберут. Придется довольствоваться малым - вырастить небольшой урожай и быстро съесть его. Придется жить внутри себя, в неустанном напряжении и готовности сорваться с места, не втягиваясь в различные дела. Хороший во всех отношениях подданный своего правительства может разбогатеть даже в Турции. Конфуций говорил: «Если государство управляется по принципам разума, следует стыдиться бедности и нищеты; если же оно не следует принципам разума, постыдны становятся богатство и привилегии». Нет! До тех пор пока я не нуждаюсь в том, чтобы штат Массачусетс пришел мне на помощь в каком-либо отдаленном южном порту, или пока я моя деятельность ограничивается мирным предпринимательством у себя дома, я могу отказать в лояльности штату Массачусетс и не признавать его права на мою собственность и мою жизнь. Наказание за непослушание обойдется мне в любом смысле дешевле, чем проявление покорности в отношении государства. В последнем случае я чувствовал бы себя обесцененным. Несколько лет тому назад государство столкнулось со мной на церковной почве. Оно потребовало, чтобы я внес определенную сумму в пользу священника, притчи которого слушал мой отец, я же ни разу не был в церкви, где он служил. «Плати», - сказало государство, - «или я посажу тебя в тюрьму». Я отказался платить, но, к сожалению, другой человек согласился. Я не понимаю, почему директор школы должен платить налог в пользу священника, а не наоборот - ведь я не был на государственном содержании, я собирал деньги на свою школу по добровольной подписке. Мне было непонятно, почему лицей 12 не может представить свое налоговое требование и ожидать от государства поддержки, так как это делает церковь. Однако по просьбе сборщика, я согласился написать заявление в письменном виде. В нем говорится: «Довожу до всеобщего сведения, что я. Генри Торо, не желаю, чтобы меня рассматривали как члена какого бы то ни было сообщества, в которое я не вступал». Я вручил это заявление чиновнику из городского магистрата, и он его принял. Узнав, что я не желаю считаться членом данной церковной конгрегации, государство никогда больше не обратилось ко мне с подобным требованием, хотя подчеркивало, что первый раз должно было исходить из такого предположения. Если бы я знал названия всех сообществ, я бы написал подробные заявления в каждое из них, сообщая, что не являюсь их членом, но у меня нет такого полного перечня. Я уже шесть лет не плачу избирательный налог. Раз меня за это посадили под арест на одну ночь. И вот, стоя в камере и разглядывая каменные стены метровой толщины, толстенную окованную железом дверь и железную решетку, сквозь которую сочился свет, я не мог удержаться от мысли о бессмысленности этого учреждения, обращающегося со мной так, словно я всего лишь плоть, кровь и кости, которые можно запереть в тюрьму. Я подивился, что они не нашли лучшего способа меня использовать и не подумали, что я гожусь на что-либо другое. Я понял, что если от моих сограждан меня отделяет каменная стена, то еще более непреодолимая, еще более высокая стена отделяет их от той свободы, которая дана мне. Ни на одну минуту я не почувствовал себя узником, и стены были напрасной тратой камня и известки. Меня охватило чувство, будто я один уплатил налог. Они просто не знали, как со мной обращаться, и вели себя, как невоспитанные люди. Они ошибались во всем - как в угрозах, так и в лести, ибо они были уверены, что моим главным желанием было оказаться по другую сторону каменной стены. Я не мог сдержать улыбку, глядя, как они старались запереть на замок мои мысли, которые беспрепятственно следовали за тюремщиками, а ведь мысли и представляли единственную опасность. Не имея возможности добраться до меня, они решили наказать мое тело, совсем как мальчишки, которые, если не могут расправиться с обидевшим их человеком, вымещают зло на его собаке. Я понял, что государство полоумно, что оно ведет себя как одинокая женщина, трясущаяся над серебряными ложками - своим единственным достоянием, что оно не умеет отличать друзей от врагов. И я потерял к нему всяческое уважение и почувствовал жалость. Итак, государству чуждо намерение вступить в конфликт с разумом или нравственными устоями человека, оно действует против его тела и свойственных ему чувств. Оно обладает не превосходящей мудростью или честностью, а лишь превосходящей физической силой. Я появился на свет не для того, чтобы мной помыкали. Я хочу дышать посвоему. И посмотрим, кто сильнее. В чем сила толпы? Принудить меня к послушанию могут лишь те, кто следует высшему, чем я, закону. А они принуждают меня уподобиться им самим. Я не слышал, чтобы толпе удавалось заставить конкретных людей жить на тот или иной лад. Какая это была бы жизнь? Когда я имею дело с правительством, которое говорит мне: «Кошелек или жизнь», с какой стати мне спешить отдать им кошелек? Быть может, государство попало в трудную ситуацию, и не знает, что делать - я тут не при чем. Пусть само находит выход, как делаю я. И нечего распускать нюни ... Ночь, проведенная в тюрьме, была новым и достаточно интересным опытом. Когда меня привели в тюрьму, заключенные без пиджаков толпились у входа, наслаждаясь беседой и вечерним воздухом. Но тюремщик сказал: «Ну, парни, пора закрывать», и я услышал звук их шагов, когда они расходились по своим пустующим помещениям. Надзиратель представил мне моего соседа по камере как отличного и умного человека. Когда заперли дверь, сосед показал мне, куда повесить шляпу, и объяснил, что к чему. Камеры раз в месяц белили, и, по крайней мере, наша с ее простой обстановкой была самой свежевыбеленной и опрятной комнатой в городе. Сосед, естественно, хотел знать, откуда я и как сюда попал, ответив на его вопросы, я, в свою очередь, спросил, что привело его в тюрьму, в полной уверенности, что имею дело с честным человеком. «Да, они, - сказал он, - обвиняют меня в том, что я поджог сарай; но я не делал этого». Насколько мне удалось понять, он лег спать в сарае и при этом курил трубку - вот сарай и сгорел. Сосед, прослывший умным человеком, провел в тюрьме уже три месяца в ожидании суда, до которого было еще далеко, но он вполне освоился здесь и был доволен, так как его бесплатно кормили и, по его мнению, с ним неплохо обращались. Он занимал место у одного окна, я - у другого; и я понял, что смотреть в окно становится главным занятием тех, кому приходится провести в камере долгое время. Я вскоре расшифровал все следы, оставленные моими предшественниками, и раскрыл все попытки к бегству, включая подпиленную решетку, я услышал рассказ о различных узниках этой камеры. И обнаружил, что и здесь есть своя хроника и свои легенды, которые не выходят за пределы тюремных стен. Это было, пожалуй, единственный дом в городе, где сочиняли стихи, печатали их ручным способом, но никогда не публиковали. Меня познакомили с длинным перечнем молодых людей, пойманных при попытке к бегству, которые в отместку распевали эти стихи. Я выжал из моего соседа все, что было можно, боясь, что нам никогда больше не придется встретиться, но, в конце концов, он показал мне мою постель и погасил лампу. В ту единственную ночь, лежа на тюремной койке, я чувствовал себя так, как если бы совершал путешествие в далекую страну, которую никогда не ожидал увидеть. Мне казалось, что я никогда раньше не слышал боя городских часов или вечерних отголосков уличной жизни; дело в том, что мы спали с открытыми окнами - снаружи их закрывала решетка. Я увидел свои родной город глазами средневековья, наша речка Конкорд превратилась в Рейн, а передо мной проплывали видения замков и рыцарей. С улицы до моего слуха доносились голоса давних горожан. Я был невольным зрителем и слушателем всего, что делалось и говорилось в кухне придорожной гостиницы - нечто совершенно новое для меня. Я как бы увидел свой город вблизи и изнутри. Раньше я никогда не видел его учреждений в действии. Тюрьма - одно из его специфических учреждений, так как наш город - окружной центр. И я начал понимать его жителей. Утром через отверстие в двери нам подали завтрак в небольших квадратных слегка закругленных оловянных мисках, сделанных по форме дверного окошка; это было какао с черным хлебом, полагалась также железная ложка. Когда пришли за пустой посудой, я по неопытности хотел отдать недоеденный мною хлеб, но мои сосед схватил его и велел оставить на обед или ужин. Вскоре соседа увели на работы - сенокос на ближайшем поле, куда он ходил каждый день до полудня, и он ушел, попрощавшись со мной, так как не рассчитывал увидеть меня снова. Когда я вышел из тюрьмы, ибо кто-то вмешался и заплатил за меня налог, я не обнаружил больших перемен вокруг, как замечает человек, покинувший родину в молодости и вернувшийся седовласым старцем. Тем не менее, я не мог не заметить перемены, которая произошла и в городе, и в штате, и в стране, которая не вытекала из продолжительности моего отсутствия. Образ государства, в котором я живу, стал еще более отчетливым. Я осознал, насколько можно доверять тем людям, среди которых я живу как хорошим соседям и друзьям; понял, что их дружба не выдерживает испытания на прочность; что они не готовы посвятить себя сполна справедливости; что по своим предубеждениям и предрассудкам они принадлежат к чуждой мне расе, как малайцы или китайцы; что для гуманных целей они не захотят рисковать ничем, хотя бы только собственностью, и что они отнюдь не благородны, но платят вору той же монетой и надеются спасти свои души с помощью внешних ритуалов, нескольких молитв и умения ходить время от времени с добродетельной миной. Может, я излишне строг к ним, но дело в том, что, по моему глубокому убеждению, многие из них просто не знают, что в их районе действует тюрьма. Раньше у нас был обычай приветствовать должника, выпущенного из тюрьмы, глядя на него сквозь скрещенные пальцы, имитирующие решетку. Мои соседи не поздоровались со мной таким образом. Они сначала взглянули на меня, а потом друг на друга, как если бы я возвратился из далекого путешествия. Меня арестовали, когда я шел к сапожнику за отданной в починку обувью. Выйдя из тюрьмы, на следующее утро я довел до конца начатое, и, надев починенный сапог, присоединился к компании сборщиков черники, которые нетерпеливо ждали моего появления как своего предводителя; через полчаса (запрячь лошадь - дело не долгое) я был в двух милях от города, в самом сердце черничника на вершине самого высокого холма в нашей околице. И нигде в поле моего зрения не было государства. Вот и вся история «Моего заключения» 13 Чего я никогда не отказываюсь платить - это дорожный налог, ведь я также хочу быть хорошим соседом, как плохим подданным. Что касается поддержки школы, я именно сейчас вношу свою долю в воспитание сограждан. Я отказываюсь платить налоги, не потому что мне не подходит тот или иной пункт в налоговой ведомости. Я просто отказываюсь повиноваться своему государству, не хочу иметь с ним дела. Я не желаю прослеживать путь моего доллара, даже если это было бы возможно, пока не обнаружится, что на него было куплено ружье, чтобы застрелить человека - доллар ни в чем не виноват - но я хочу проследить последствия моего повиновения. Итак, я по-своему объявляю государству тихую воину, хотя все же постараюсь, как принято в подобных случаях, извлечь из него некую пользу и преимущества. Если иные платят государству такой же налог из симпатии к нему, это их дело, но посмотрите, что они при этом делают в отношении самих себя, вернее, они поддерживают несправедливость еще в большей степени, чем этого требует государство. Если они платят налог из ложно понятых личных интересов отдельного налогоплательщика с целью защитить его собственность или уберечь его от тюрьмы, это значит, что они не сумели разумно оценить, насколько позволили своим частным чувствам взять верх над общим благом. Такова моя нынешняя позиция, но в подобных случаях нужно быть чрезвычайно осторожным, чтобы не оказаться под влиянием своего собственного упрямства или мнения других людей. Пусть каждый поступает по своей совести и согласно требованию времени. Иногда я думаю: да ведь эти люди хотят добра, они просто не знают, что к чему; они поступали бы лучше, если бы знали, как надо: зачем причинять боль своим ближним, заставляя их поступать с тобою так, как им не хотелось бы. Но затем я думаю: это не причина, чтобы я вел себя так, как они, или причинял другим гораздо большие страдания иного рода. И еще я задумываюсь иногда: какой смысл подвергать себя нападкам этой жестокой стихийной силы, если миллионы людей без всякого раздражения, злобы или личных пристрастий требуют от тебя всего лишь несколько шиллингов, не имея возможности, в силу своего устройства, отбросить или изменить свои требования; а ты, со своей стороны, не можешь апеллировать к другим миллионам? Ведь тебе не приходит в голову с таким же упорством сопротивляться голоду и холоду, ветрам и волнам; ты спокойно подчиняешься разным неизбежностям. И голову в огонь ты тоже не суешь. Но поскольку эта сила не представляется мне чистой стихией, поскольку я воспринимаю ее хотя бы отчасти как силу человеческую и верю, что в данном случае я связан с миллионами людей, а не холодных бесчувственных предметов, я считаю, что существует возможность апеллировать, во-первых, к их создателю и, во-вторых, к ним самим. Но если я сознательно всуну голову в огонь, то не смогу апеллировать ни к огню, ни к его создателю и должен винить только самого себя. Если бы я мог убедить себя, что следует довольствоваться людьми, как они есть, и относиться к ним соответственно, а не согласно моим представлениям и требованиям по отношению к ним и самому себе, то, как добрый мусульманин и фаталист, я попытался бы удовлетвориться существующим положением вещей, и считал бы, что такова воля Божья. Ну, и, прежде всего, существует разница между сопротивлением человеку и чисто стихийной силе природы - в первом случае в своем сопротивлении я могу рассчитывать на некоторый успех, но не могу уподобиться Орфею, который пытался изменить природу камней, деревьев и зверей. Я не хочу вступать в спор ни с отдельными людьми, ни с народами. Меня не интересует казуистика и тонкие различия, я не хочу казаться лучше своих ближних. Скорее наоборот, я ищу предлога, чтобы подчиниться законам своей страны. Я даже проявляю излишнюю готовность подчиняться. Я ловлю себя на этом, и каждый год, когда появляется сборщик налогов, я склонен пересмотреть действия и точку зрения правительств страны и штата, а также настрой общества, чтобы найти предлог повиноваться. «Отчизне надлежит сыновняя любовь. Случись же так, что вынуждены будем Ей отказать в труде, признанье и почете, Нам должно понимать, чем это все чревато, И душу научить жить совестью и верой, А не стремленьем к выгоде и власти».14 Я уверен, что государство скоро избавит меня от таких занятий, и тогда я буду не большим патриотом, чем мои соотечественники. Если посмотреть на конституцию со всеми ее недочетами с низменной точки зрения, она покажется очень хорошей, а законы и суды весьма достойными, даже наше государство и нынешнее американское правительство во многом кажутся несравненными, заслуживающими восхищения и благодарности, и именно так многие их и описывают; если же занять чуть более высокую позицию, они вполне соответствуют моему описанию, а с еще более высокой точки, не говоря о наивысших критериях, кто скажет, что они собой представляют, и стоят ли вообще того, чтобы присматриваться к ним и думать о них? Впрочем, какое мне дело до правительства, и чем меньше я думаю о нем, тем лучше. Даже в этом мире я редко бываю подданным своего правительства. Если человек свободен в своих мыслях, и воображении, он никогда надолго не поверит в существование того, чего нет на самом деле, и ему нипочем неразумные правители и реформаторы. Я знаю, что большинство людей думает иначе, но я расхожусь во мнениях и с теми, кто всерьез и профессионально занимается изучением этих или подобных проблем. Государственные деятели и законодатели, замкнутые целиком внутри своих учреждений, не в состоянии посмотреть на них извне и увидеть их в полную величину. Они собираются сдвинуть общество с места, но у них нет точки опоры за его пределами. Вполне возможно, что они обладают определенным опытом и проницательностью и изобрели без сомнения интересные и даже полезные системы, и за это мы им искренне благодарны, но вся их изобретательность и полезность ограничены очень узкими рамками ... Те, кому неизвестны более чистые истоки правды, кто не пытался подняться выше по течению, удовлетворяются, и вполне резонно, Библией и Конституцией и черпают из них с почтением и гуманностью. Но те, кто видит, как капли правды просачиваются то в один, то в другой резервуар, перепоясывают чресла и без устали продолжают свое паломничество к главному источнику. Америка не знает гениальных законодателей. Да их не так уж много появилось за всю историю человечества. Есть ораторы, политики, златоусты - их тысячи. Но нет такого мудреца, из уст которого мы услышали бы, как решать насущные проблемы сегодняшнего дня. Мы любим красноречие само по себе, а не потому, что оно несет нам правду или вдохновляет на героические поступки. Наши законодатели еще не научились сопоставлять сравнительные достоинства, которые несут народу свободная торговля и нравственная свобода. Они лишены таланта и способностей, которые позволили бы им справиться даже со сравнительно мелкими проблемами налогообложения, финансов, торговли, промышленности и сельского хозяйства. Если бы нам пришлось целиком полагаться на болтовню законодателей в Конгрессе, без своевременных корректив и действенных возражении со стороны народа, Америка не смогла бы надолго удержать свою высокую позицию в мире. Новый Завет был написан 1800 лет тому назад - может быть, я не имею права говорить об этом - но разве появился хоть один законодатель, сумевший постичь силой своего ума и практических способностей тот свет, который Новый Завет проливает на науку законодательства? Власть правительства, даже такого, которому я склонен подчиняться (а я с радостью подчинюсь тем, кто превосходит меня знаниями и умениями, и даже тому. кто уступает мне в этом), - нечистая власть: чтобы быть справедливым в полном смысле слова правительство должно иметь согласие и санкцию своих подданных. Оно имеет лишь те права на меня, которые я за ним признаю. Путь от абсолютной к ограниченной монархии, а от нее к демократии – это процесс, ведущий к полному уважению личности. Еще китайский философ понимал, что основой империи является личность. Разве наша демократия - последнее слово в усовершенствовании правления? Разве нельзя сделать следующий шаг к признанию и упорядочению прав человека? Правительство не будет подлинно свободным и просвещенным, пока не признает, что личность - это высшая и независимая сила, из которой оно черпает всю свою мощь и власть, и не станет относиться к ней соответственно. Я тешусь, воображая такое государство, которое наконец-то окажется справедливым в отношении всех людей и будет с уважением обращаться с каждым, как со своим ближним. Спокойствия такого государства не нарушит даже тот факт, что некоторые его граждане живут на особицу, не имеют с ним дела и не бросаются в его объятия, лишь бы при этом они выполняли свои обязательства как человека и ближнего. Государство, приносящее такие плоды и позволяющее им созреть и упасть, проторит путь к еще более совершенному устройству, которое я тоже рисую в своем воображении, но которого еще никто не видел. Примечания переводчика 1. Девиз журнала “United States Magazine and democratic Review” 2. Американо-мексиканская война 1846-1848 годов, предпринятая США. В результате войны США захватили свыше 1/2 мексиканской территории, что составляет 1/3 современной территории США 3. Чарльз Вульф (Charles Wolfe, 1791-1822) - ирландский поэт, отрывок из «The Burial of sir John Moore of Corruna»;в переводе И. Багаевой -Урбанек 4. Уильям Шекспир «Гамлет», акт V, сцена 1; перевод Б. Пастернака 5. Уильям Шекспир «Король Иоанн», акт V, сцена 2; перевод Н. Рыкова 6. Имеется в виду Война за независимость в Северной Америке 7. имеется в виду Мексика, см. 2 8. Уильям Пейли (William Paley, 1743-1805) - английский теолог и философ, цитируются «Principles of Moral and Political Philosophy» в переводе И. Б.-У. 9. Сирил Турнер (Cyril Tourneur, 1575-1626) - английский драматург, отрывок из «The Revengers Tragedie» в переводе И. Б.-У. 10. Odd fellows (Чудаки) - независимое общество взаимопомощи с тайным ритуалом массонского типа в Великобритании в XVIII веке 11. Евангелие от Матфея, 22.16. Издательство Жизнь с богом, Брюссель,1983 12. в США: организация по проведению популярных лекций и концертов, лекторий 13. ссылка на произведение Сильвио Пеллико (Silvio Pellico, 1789-1854) «Le Mio Prigioni» 14. Джордж Пил (George Peel, 1557-1597) - английский драматург и поэт, отрывок из «Battle of Alcazar» в переводе И. Б.-У. * Торо Генри Дейвид (Thoreau Henry David, 1817-1862) - американский писатель и мыслитель. За исключением четырех лет в Гарвардском университете почти всю жизнь прожил в г. Конкорд шт. Массачусетс. Выдающийся идеолог охраны природы автор повести «Уолден, или жизнь в лесу» (1854). В памфлете «Гражданское неповиновение», опубликованном на основании доклада, прочитанного в Конкордском лектории, (1849) призывает сограждан к индивидуальному сопротивлению общественному злу. Его идеи привлекли внимание Л. Толстого, оказали большое влияние на М. Ганди и др.