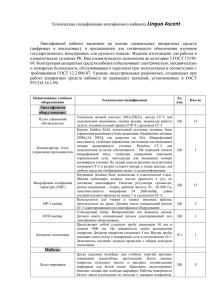Гришина Елена Петровна
advertisement
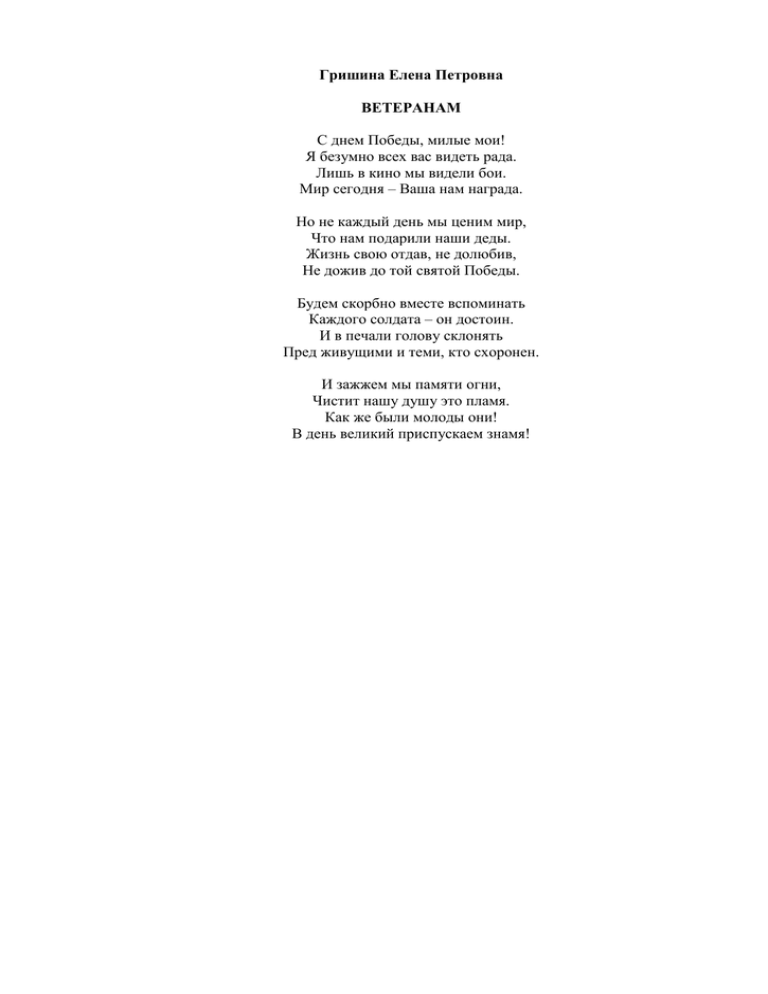
Гришина Елена Петровна ВЕТЕРАНАМ С днем Победы, милые мои! Я безумно всех вас видеть рада. Лишь в кино мы видели бои. Мир сегодня – Ваша нам награда. Но не каждый день мы ценим мир, Что нам подарили наши деды. Жизнь свою отдав, не долюбив, Не дожив до той святой Победы. Будем скорбно вместе вспоминать Каждого солдата – он достоин. И в печали голову склонять Пред живущими и теми, кто схоронен. И зажжем мы памяти огни, Чистит нашу душу это пламя. Как же были молоды они! В день великий приспускаем знамя! Нистюк Татьяна Юрьевна ВЕРНУЛСЯ КРЫМ В СВОЮ ОБИТЕЛЬ… Вернулся Крым в свою обитель, в родную гавань, в отчий дом. Свой выбор сделал крымский житель, и нет сомненья в факте том. Не потому, что в кабинете задумал Путин хитрый ход, − Домой, в любимую Россию, душой стремился сам народ. Он долго ждал, мечту лелеял, сопротивлялся в меру сил. Но для борьбы настало время, и он момент не упустил. Назначен референдум срочно. Неужто смогут?.. Не успеть!.. А шанса вновь не будет точно. Другой исход − России смерть. Чтоб в Севастополь – базу НАТО? Чтоб в Крыме власть Майдану сдать? Чтоб в море Черном правил Запад, а нам под дудку их плясать? Чтоб там, где русскими костями усеян каждый метр земли, Нацисты запросто гуляли? Того стерпеть мы не могли. И в напряженьи вся Россия в те дни тревожно замерла. Но власть смогла расправить крылья. Москва страну не подвела! Спокойно и без лишних слов дружину верную послала И референдум провела. Народа выбор поддержала! И все вздохнули с облегченьем: восстановилась справедливость! Тогда от счастья без стесненья у мужиков слеза катилась. Аксенов, Чалый, Константинов – их имена страна твердила. Моя бы воля, то Героем России всех я наградила. А Путину – почет, и слава, и от народа уваженье, За то, что в трудную минуту он принял верное решенье. И пусть Америка поймет: пути обратного не будет. И время вспять не повернет, но всех по совести рассудит. Гришина Елена Петровна МИНУТА МОЛЧАНИЯ Минута молчания… Минута… Она помогает понять, Что стоила жизни кому-то… Она могла близких отнять. Ее не хватало для Счастья, Она была лишней в Беде… Она, как святое причастье, Винтовка… В солдатской судьбе. Минута… Тебя мне хватает. Как память, тебя берегу. Кто выжил в той схватке… Тот знает, Что мы в неоплатном долгу. Нистюк Татьяна Юрьевна СТРАНЕ ПОЛЕЙ… Стране полей, стране березок белых, Стране тайги, морозов и снегов, Я попытаюсь строчкою несмелой К родной России выразить любовь. Свой стих тебе, Россия, посвятить, Наверно, никогда бы не посмела, Но травлю эту гнусную терпеть Со всех сторон мне очень надоело. И как тебя, родная, не честят. И кто? Свои же! Если бы чужие! Нас «ватниками» стали называть – Хотят обидеть жителей России. Смешно... Да разве хватит слов, Чтоб надломить могли народа силу, Унизить словом «ватник» тех сынов Кто в ватниках спасал тебя, Россия? Пусть ватник или валенок, и что ж? Для нас слова такие – сердцу радость. В них выдержим всегда любой мороз, В них наша сила, а не наша слабость. Нам надо уважать себя всегда, Не поклоняться их богам заморским. В России есть святые имена Толстой великий, Пушкин и Чайковский. Тот список можно долго продолжать: Талантами Россия не уступит. Не хватит жизни, чтобы всех назвать, А их она рождать и дальше будет. И где еще найдешь такой народ, Что каждому помочь душой стремится? Но только вот совсем наоборот Хотят представить русских за границей. Историю всю напрочь поменять, Европы оккупантами прославить. Победу нашу горькую забрать, И «победителей» своих на трон поставить. Нельзя отдать! И мы не отдадим! Отпразднуем по праву и по чести, И кто не продал душу силам злым, Тот встретит этот праздник с нами вместе. А в этот радостный Победы день В поселках дальних, в городах, в столице, Как в сорок пятом, расцветет сирень И ПОБЕДИТЕЛЬ будет веселиться! И ветераны стойкие пройдут, За память павших чарку опрокинут, И в честь ПОБЕДЫ прогремит салют, И ФЛАГ ПОБЕДЫ над страной поднимут. Россия, ты – страна моя родная. И никакая в мире заграница, Хоть обещают жизнь там краше рая, С тобой, ЛЮБИМОЙ, сроду не сравнится. Гришина Елена Петровна ТИШИНА... Тишина... Тишина… Душу гложет она, Заставляя сердца наши биться. Тишина... Тишина... Не твоя в том вина, Кто же знал, что такое случится?.. Я не слышу, не вижу вокруг ничего... Словно я в невесомости маюсь. На войне свой закон знают все... Кто кого... Если я... То успею... Покаюсь. А покаюсь я в том, что не смог уберечь Землю-мать от фашистской напасти. И о том, что не хватит в церквах ставить свеч И не нужно святое причастье. А еще я покаюсь за наших детей, Не рожденных под пулями смерти, За убитых отцов, и за их матерей, И за горе в солдатском конверте. Тишина... Тишина... Как печальна она. Как прискорбны фигуры и лица. Тишина... Тишина... Это горе-война. Пусть нигде никогда не случится. Савельева Татьяна Васильевна МЕЧТА Жизнь без мечты не может длиться, Мечта – отрада наших дней. Она, как звёздочка, искрится На небе сумрачных теней. Мечтают все о лучшей доле, О счастье, дружбе и тепле. Жизнь без страдания и боли – Всё воплощается в мечте. Мечтать не вредно – всем известно, И мы не устаём мечтать, Ведь всё, что есть в мечте чудесной, Однажды явью может стать. Мечта… Она так много значит Для нашей жизни непростой. Все растворяет неудачи, Даёт нам радость и покой. Так пусть мечты у всех сбываются И мир вокруг стаёт теплей, Пусть солнце всем нам улыбается И светит ярче и светлей! Нистюк Татьяна Юрьевна МИХАЙЛОВСКИЙ СОБОР Над Ижевском сумерки сгущаются, Город завершает разговор. Яркими огнями освещается На холме Михайловский собор. Человек любой, идя по улице И собора мимо проходя, Непременно видом очаруется, От души людей благодаря. Купола сверкают позолотою, Блеском привлекая каждый взгляд. А внутри за крепкими воротами Алтаря божественный наряд. Взорван был (навеки им позорище), Но в народной памяти храним. Вот настало время, и сокровище Снова возродилось из руин. Сообща народом всем поставили, Бережно весь облик сохранив, На служенье миру православному Божьею молитвой освятив. Утром заиграет колокольница, Раздается всюду перезвон. Тот, кто верит, господу помолится На коленях у святых икон. Городу родному украшением, Покаянья символом служи: Для него собора возрождение Словно возвращение души. Некипелова Ирина Михайловна Этот город другой в свете дробных огней, На асфальте лежат тени чёрных ветвей. Сядь ко мне, обними – крепкий кофе в руках – Посидим, помолчим на своих языках… Мы так долго бродили, так много несём, И так много – уже просыпаться вдвоём. …Я шепчу незнакомые миру слова – Ворох слов неродного тебе языка: Я шепчу, что усталость свалилась на нас, Что я знаю тепло твоих пристальных глаз, Что мне нравится, что мы с тобою близки, И что талые улицы сверху легки. …Шепчешь ты, что в полоску сегодня закат, Что «люблю» было несколько мыслей назад. Голос твой тонет в шуме проспектов ночных, Звуки улиц лишь фон, я не слушаю их. Я хочу тебя знать до мельчайших причин – Знать на всех языках, знать их все, как один. Как обломок скалы, я несусь по реке… Улыбнись мне сейчас на своём языке. Дресвянникова Светлана Владимировна МЕЧТА Она была мечтой, Летавшей в облаках. Она была живой, Но лишь в его словах. Он ждал ее надеясь, Что спустится она С небес своих волшебных, Летавших где-то там. Но в ней была гордыня, Обида на него. И вот она обрушила С вершины свой огонь. Но наш влюбленный странник Не предавал мечты. И стойко, как солдатик, Стоял в огне любви. В его глазах девица, Казнившая его, Была всегда царицей, Владычицей всего. Как жаль, что очень часто Людей, что любят нас, Мы просто убиваем, Сдвигая их в запас. Малина Ольга Васильевна ЛЮБИМЫМ РОДИТЕЛЯМ Сколько раз кружила непогода, Сколько раз уже мела метель, Сколько весен встретили вы вместе – А еще звенит любви капель. В вашем доме счастье поселилось, Нежность и простая доброта. В ваших детях дважды отразилась Ваших душ людская красота. Вместе уже пройдено немало, Еще много предстоит пройти, Ваши дети лишь на середине Этого прекрасного пути. С ними вы пройдете путь их вместе, Повторясь во внуках вновь и вновь. Их очаг любви всегда согреет Ваша бесконечная любовь. Терентьева Юлия Николаевна ОДА Посвящается любимой бабушке Эмме! Есть Солнце во Вселенной, Есть Солнце над Землёй, А ты наш лучик Солнца В обители земной. С тобой соприкасаясь, Мы чувствуем любовь. Общеньем наслаждаясь, Мы насыщаем кровь. Как много ты имеешь, Как много ты даёшь. Откуда только силы Ты на всех берёшь? Ко всем найти подходы Не каждый бы сумел. А ты, не зная годы, Нам всем дала задел. Задел души, задел ума, Безумной жажды жизни. И в этом ты нам помогла И мы с тобой до тризны. Но, знай, твой путь ещё далёк. Мы рядом с тобой будем. И как бы ни был путь тяжёл, Тебя мы не забудем! Мы будем рядом, так как ты Была когда-то рядом. Когда все были мы детьми, Не знавшими преграды. Ты помогла их обойти Своим советом, словом. И было мало их в пути С благословенным твоим: «С Богом!» Ты словом и делом нам помогала И от беды нас уберегала. Ты чувствовала аж на расстоянии Все наши проблемы и отчаянья. Ты знала, когда дать чуть-чуть по мозгам И тут же блины жарила нам. Со скотиной, успевая управляться, Водила на «Бушуйку» всех купаться. Нас, внуков, не было счастливей на Земле! За это благодарны мы тебе! Грибы и ягоды, кино, библиотека, черёмуха, гулянье при Луне! Ты нас сплотила всем, что есть в тебе! А свадьбы?! Вот ведь был фурор! Ты внучек быстро обскакала И свадебное лето вдруг настало. У всех на сердце был сплошной «ЛЯМОР»! Спасибо родная, спасибо любимая! Спасибо от правнуков, внуков, детей! Спасибо, что есть ты в нашей жизни – единственная! Долгих, здоровых, счастливых ЛЕТО-ДНЕЙ! Малина Ольга Васильевна ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ… Алеющей зари и таинство, и нежность, И блеск туманной утренней звезды, И мира необъятную безбрежность Впитал бутон – предвестник красоты. Росинки слез еще не окропили Его тугих холодных лепестков, В нем затаились страсти неземные, Пытаясь скинуть таинства покров. Все впереди: желания и грезы, Цветенья прелесть, жизни красота… Так из бутонов расцветают розы – В шестнадцать лет сбывается мечта… Некипелова Ирина Михайловна **** Я есть я. Я есть мир. Я есть жизнь. Я есть смерть. Я есть память и я же – забвение. Подо мною – земли раскалённая твердь, Надо мной – лёд и холод затмения. Я – причина, я – цель, я – идея, я – смысл, Не из тех я, кто ищет прощения, Ведь со мной начинается новая жизнь И со мною уходит последняя. Мне закрытая жизнь открывает простор, На отрезки мою вечность рубящий, Мои смерти и жизни – небрежный повтор, Я есть мост между прошлым и будущим. В никуда не откроют закрытую дверь Всепрощение и милосердие. Я вне списков, вне правил, вне церкви, вне вер, И тебе я молюсь без усердия. Спи, уставший давно, христианский кумир. Без меня – ни пространства, ни времени. Я есть бог, я – вселенная, я – этот мир, Я четвёртое есть измерение. Дресвянникова Светлана Владимировна НОТКИ ЮНОСТИ Она сидела у окошка под светом утренней зари, И тихо, медленно слезилась в глазах ее слеза мечты. Она мечтала вновь увидеть рассвет в сиянии Земли И шелест листьев утром ранним расслышать среди пенья птиц. Она надеялась, что чудо придет однажды в ее дом, И лишь тогда, что загадало сердце, осуществится вновь и вновь. Но время шло, и с розы нежной тихонько опадали лепестки, Опавшие спокойно, безмятежно в дыхании самой судьбы. Что дальше будет с ней – никто не знает. Никто не может ей помочь, и вот она, в надежду уповая, В последний раз глядит в свое окно. Некипелова Ирина Михайловна ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ Ты знаешь всё. Да, я ищу, но тщетно Те земли, что не знают рубежей, – Земля черна, лишь сорняки, да ветры, Да пустошь стылая, да шум дождей. Ты знаешь всё. От жизни жду расчёта: Рук не поднять, и глаз ослепших – брод. Я буду ждать знамён последних взлёта, Ждать первого открытия ворот. Ты знаешь всё. Мои глаза не видят. Но полагаю: не напрасна жизнь. И снов Следы мгновенья наших встреч предвидят В необратимой вечности богов. (Перевод стихотворения Оскара Уайльда) Малина Ольга Васильевна ПЕСЕНКА ПРО СЕРОСТЬ Ах, какая серая Изысканная серость: Серенькая наглость, Серая несмелость, И не то, чтоб добрый – Как-то добро-серый, Серо-гениальный, Серо-неумелый. Серые кварталы, Как нагроможденье, – Их для жизни мало И для вдохновенья. Туч свинцовых серость, Как напоминанье: Нет на свете красок – Вот и оправданье. Серенькие мышки! Где же ваши краски?! Бросьте ваши норы! Скиньте ваши маски! Оглянитесь, люди! Опьянейте что ли! В жизни красок – море, Как вина в застолье: Розовые чувства, Синие просторы, Радуга надежды, Голубые горы… Но одолевает Серое сомненье: Хватит ли для жизни И для вдохновенья?.. Терентьева Юлия Николаевна ЭЛЕГИЯ ЖИЗНЬ День за днем идет неумолимо, Приближая к часу расставанья. Расставанья с жизнью исполинной, Обрекая нас в воспоминанья. И от мыслей исчезает радость. Радость жить, но не одной – С любимым. И чувствами овладевает Хладость, Что в жизни быть мы Ко всему должны терпимы…. Терентьева Юлия Николаевна ПОСЛАНИЕ ВСТРЕЧА Твои лукавые глаза, Тепло руки твоей. Что я могу тебе сказать? Ты послан мне судьбой моей! О, это лето! Это море! Прищур твоих игривых глаз! Надеюсь, встретимся мы вскоре, Бывает чудо только раз. И этим чудом назову я Твой первый взгляд из-под очков, Влеченье наше роковое, Ему название – Любовь! Как сладостно взаимное влеченье, Украдкой брошенный на губы взгляд. На море вызвал ты во мне томленье, И счастлива была я, и ты, надеюсь, рад. Наш первый поцелуй, ему свидетель ветер, Ласкающий игривую волну. На небе солнце ласково в ответе За ту минуту, первую, одну! Терентьева Юлия Николаевна ЛИРИКА РУКА Рука любимого – опора. Рука любимого – отрада. Рука любимого – дорога, Ведущая из сада ада. Рука любимого – награда. Рука любимого – везенье. Рука любимого – надежда, Лишь в ней одной найти спасенье. Рука любимого – участье. Рука любимого со мной! Рука любимого – вот счастье, Что испытала всей душой! Васильев Андрей Валерьевич *** Рушатся устои теоремы О законах некой вероятности: Кажется, закончились проблемы, Тут же подступают неприятности. *** Заплывая сытым барством И схватив судьбу за горло намертво, Двоечники правят государством, И они же в думах и парламентах. *** Весь белый свет анафеме предав И впавши в состояние нервозности, Под настроенье щепок наломав, Сгорела на костре своей стервозности. *** Образован был до одури, Но, вне всякого сомненья, У него развито мЫшленье, Вместо должного мышлЕния. *** В жизни первые дни и в последние годы Очень скромны потребности наши: Пьем кефир, минеральные воды И питаемся жиденькой кашей. *** Терзает днем и лунными ночами, К мольбам бесстрастна, жалобам чужда, И держит за штаны холодными руками Ее степенство беспросветная нужда. *** «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!» Твердил Шекспир с зари и до зари. Скажу иначе: «Жизнь – вонючий город, И в нем живут одни золотари». *** Кран протек, иль ключ в замке заело, Опоздала, задержалась, не успела... При таком таланте можно смело Опоздать на вынос собственного тела. *** Мед порой горчит, соль бывает сладкой. Истина простая всем известна смолоду. Даже белый голубь кажется нам гадким, Если с поднебесья какает на голову. *** К чему, скажите мне, ребята, Кропать незрелые стишата? Ты не берись за них, пока Не увеличится кишка! *** Что ж, за все уплачено, веселись, народ! Чем помпезней свадьба, тем быстрей развод. *** Бывало, всей душой поешь, Теперь душа болит, хоть тресни! И хоть не стар еще, но все ж Пора учить другие песни. *** Мошна мешает быть свободным. Суди-ряди и так, и сяк: Художник должен быть голодным – Шедевры пишут натощак. *** Противна ложь, сопливость лести, Интриги и коварства ямы. У потаскухи больше чести, Чем у иной шикарной дамы. *** Злой сарказм не озвученных дум… Ироничность суждений важна. Чтобы циником быть – нужен ум, Чтоб не стать им – мудрость нужна. *** Мне вслед кричат: «Авантюрист! Поверхностная, вздорная натура!» Пускай клевещут! Я пред Богом чист. Вся наша жизнь сплошная авантюра. *** Взаимная любовь – вот высшее искусство! Но как достичь ее, сам черт не разберет. К рублю нежнейшие испытываю чувства, А он ко мне совсем наоборот. * Какой полет душевных сил! Каков размах изысканного скотства! Всю жизнь супруге отравил Высокой пробы благородством. *** Читал Шекспира обстоятельно, Роль короля учил часами. На сцену ж в образе сиятельном Явился комик с бубенцами. *** Умен, импозантен, напорист, В речах ироничен и краток, Он весь состоит из достоинств, И в этом его недостаток. *** Авторитетные глупости Слушая, твердо помни, Что и у зуба мудрости, Бывают больные корни. *** Змей-Горыныч, битый Муромцом-Ильёй, Растерял и гонор, и клыки, Горько пережив метаморфоз такой, Подрядился жарить шашлыки. *** Однажды покорителя небес спросили: «Какой же парашют вам больше нравится?» Ответил тот без видимых усилий: «Ну, очевидно тот, что раскрывается!» Некипелова Ирина Михайловна Дневная тьма во тьму ночную Добавит свет. Я влюблена и протестую – Ну что, в кювет? Тонуть, и телом всем желая Идти ко дну, И выть, конечно, обвиняя Во всём луну, От боли, что не всё бывает, Как я хочу, От мысли, что любовь такая – Не по плечу. Когтями горы звёзд горбатых Во тьме скребя, Порывами небес крылатых Люблю тебя. Но сердце не стучит волнами – Мне быть морской. И даже дерзкое цунами Найдёт покой. Янцен Татьяна Васильевна Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ! Как же быстро она проходит. Вот уже и мой 70-летний юбилей отметили, а перед глазами, как в кино, мелькают люди, даты, события. Школа позади, школьные влюблённости и друзья остались там, в Украине, которую я покинула в 18 лет, уехав за тысячи километров от дома в поисках самостоятельности и романтики. Судьба привела меня в Ижевск, как будто зная, что здесь моё будущее. Со временем я полюбила Ижевск со всеми его особенностями, и это навсегда! Ведь в нём мне судьба приготовила много подарков. Я стала студенткой ИМИ (ИжГТУ), а это не только учеба, но и интересная жизнь. Одно участие в набиравшем тогда силу КВН запомнилось надолго. Это и новые встречи, новые друзья, с которыми, думаю, мы в одной связке до сих пор. Здесь у меня появилась семья, которую я очень люблю. Но сначала я влюбилась в своего будущего мужа – он учился курсом старше тоже в ИМИ. Следующим подарком судьбы стала моя любимая работа на кафедре экономического факультета ИМИ, ей я посвятила 45 лет жизни. Наверное, работа со студентами сделала свое – до сих пор в душе чувствую себя молодой, несмотря на возраст. А потом судьба подарила мне двух чудесных и любимых сыновей. Сегодня я смотрю на них снизу вверх и вижу, как они выросли, возмужали и стали моей надеждой и опорой. Эти чувства мои так хорошо выразил автор строк, и они запали в душу: «Два хороших сына у меня! Две надежды, два живых огня! Мчится вечность по великой трассе, у меня две юности в запасе. Жизнь горит во мне неугасимо, у меня две вечности, два сына!!!» А подарки на этом не закончились. Очередные подарки сделали мои неповторимые невестки. Вот уже первая внучка родилась, хорошо помню этот день – вербное воскресенье. Я иду по солнечной улице Советской, рот до ушей, готова всем встречным сообщить о моем счастье. Очень хотела, чтобы её назвали моим любимым именем Ася! Получаю телеграмму – назвали Асей – Александра Сергеевна Янцен! Разве это не подарок!? Родилась она в Берлине, закончила ВУЗ в Ижевске, а теперь учится в магистратуре в Париже. А потом появилась Полина, которая тоже радует успехами: закончила музыкальную школу, отличница, очень любознательная, старательная и добрая девочка. К двум внучкам добавились два внука. Яков, увлекающийся футболом и игрой на гитаре. Сколько же он сыграл мною любимых блюзов! Самый маленький внук Марк радует тем, что отлично читает, считает и с нетерпением ждет 1 сентября, когда пойдет в первый класс. Теперь уже с внуками я снова окунулась и в детство, и в юность, очень благодарна им за это. У нас есть традиция, которой уже 20 лет: 1 июня мы с внуками ходим покупать подарки. Сначала в «Детский мир», потом в отдел бижутерии, подрастают внуки, меняются подарки, а традиция живет. Внуки ждут этот день, а я так люблю смотреть на их счастливые мордашки! Время идет, вот уже созрела я для дачи, с нетерпением жду весну, встречи с садом, цветником, с той красотищей, которая ждет меня там. Своей даче теперь с радостью посвящаю все больше и больше времени, так как другие заботы постепенно отходят на второй план. Конечно же, кроме этих приятных подарков были и потери, неприятности, огорчения. Но ведь это все и есть жизнь. И я люблю тебя жизнь! Теперь я точно это знаю! Богомолова Галина Николаевна ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ МОЕЙ БАБУШКИ Мне 66, я бабушка, уже трижды, но до сих пор с теплом и нежностью вспоминаю свою бабушку, бабушку Марию. Жила она в Кировской области Лебяжском районе в д. Быково. Деревни в этом районе небольшие и были разбросаны по небольшим возвышенностям над р. Вяткой. Соединялись они дорогами, проходящими через глубокие овраги, окруженные лесами. Воздух был напоен какой-то чистотой, ароматами трав и хвои. Электричества в деревнях не было, не было и радио. Эти деревни были отрезаны от большого мира и постепенно умирали. С 11 лет я начала осознавать красоту природы. На лето меня отправляли к бабушке в деревню. Я любила это путешествие. Сначала поезд, затем пароход по Вятке до с. Лебяжье, а потом 20 км на телеге, набитой душистым сеном. Когда мы приезжали, у ворот большого деревенского дома стояла бабушка, в длинной юбке, кофте с длинными рукавами, подпоясанная неизменным фартуком и в белом платочке на голове. Вскинет руки свои, обнимет сначала сына своего – моего отца, маму и нас, ребятишек, и заплачет, причитая «Милые вы мои, боженные вы мои…». Этими словами она встречала всех и провожала, перекрестив. Я запомнила эти слова на всю жизнь. Всплакнёт и быстрее на своё место – к печке. На столе появляется нехитрое угощение. Расстилается холщёвая скатерть, сотканная из выращенного и спрядённого ею же льна. И прямо на скатерть выкладываются оладьи, которые тут же пекутся перед печью, и варённые всмятку яйца, сметанка, снятая с молока. Стол большой, вокруг него лавки, мы все сидим большой семьёй, а бабушка хлопочет. Мне казалось, что ей уже лет 80, а ей было всего 64. Родила моя бабушка 11 детей. 3 умерли в младенчестве. Остальные 5 сыновей и 3 дочери подарили ей невесток, зятьев и внуков с внучками сполна. Дед у нас был суровый. Бывало, сидим за столом, едим с большой сковороды селянку ложками, с чужой стороны не вздумай взять кусочек, попадёт ложкой по руке, хоть ты и в гостях. Бабушке тоже доставалось от него. Если он ехал вечером с работы на лошади, то летел во весь опор, а бабушка должна была открыть ворота, чтоб он влетел в них на всём скаку, а если не успеет, то ей перепадёт крепко. Она никогда не роптала, не жаловалась. В доме всегда было прибрано, скотина накормлена, внуки младшие всегда под присмотром, обед и ужин готовы. Бабушка сама пекла хлеб, такой, какой сейчас давно есть в магазинах – подовый. В то время в городе не пекли такой хлеб, и когда мои родители уезжали, то моя мама просила бабушку положить нам с собой пару караваев. Очень вкусный он был у бабушки. Вставала она рано, в 4 часа, доила корову, затем провожала её и овец в стадо, которое собирал по деревне пастух. Затем отправляла телёнка на лужок, забивала колышек, косила сено, кормила кур, поросёнка, затем шла в огород, и так до вечера. После ужина, управившись с делами, тихонько ложилась на край кровати, согнувшись колечком, и тихо засыпала. Столько тепла и нежности я всегда испытывала к её мягким натруженным рукам, хотелось их погладить, а она прятала и говорила, что они такие страшные и некрасивые. Эти руки умели всё: погладить, приголубить ребёнка, готовить, косить, сеять, теребить лён, ткать, печь хлеб, варить, мыть, шить. Как-то она приехала к нам в город, мы ушли на работу, бабушка дома осталась одна. Она нашла мешок, в котором хранились старые вещи, предназначенные на тряпки. Она их все перечинила, перестирала, единственное, что она не могла – быстро вдеть нитку в иголку, она просила меня, говоря при этом: « Помоги мне, у тебя глазки востренькие…» Вот и я сейчас также иногда говорю своему Мише: «Ну-ка, посмотри, у тебя глазки востренькие, не как у меня сейчас…» Умерла моя бабушка в 78 лет, похоронена она на деревенском кладбище рядом с дедом, сыновьями, невестками и даже с внуками. Мне почему-то захотелось рассказать о ней, о простой женщине, прожившей нелёгкую жизнь, испытавшей малые людские радости, всё в работе и заботе, никогда не ропща на жизнь, просто принимая то, что есть. Я очень ей благодарна за то, что она жила и живёт в моей судьбе, и неспроста мне хочется говорить о ней, вспоминать, при жизни она не часто слышала слова любви и благодарности. Была ли она счастлива? Наверное, была, другого счастья – быть нужной всем – она не знала. Низко кланяюсь её памяти. Шибанов Олег Корнилович ИЖЕВСК – УСТИНОВ – ИЖЕВСК Декабрь 1984 года. Начавшееся сразу после обеда заседание бюро Удмуртского обкома партии затягивалось. Наконец, примерно в 8 часов вечера, первый секретарь В. К. Марисов произнес: – Все свободны. И вдруг: – Да, совсем забыл. У нас есть еще один вопрос. Прошу остаться. В связи с кончиной Дмитрия Федоровича Устинова ЦК просил нас подготовить предложения по увековечению его имени. Посоветовавшись с товарищами, я подписал документ о присвоении имени Д. Ф. Устинова производственному объединению «Ижмаш». А сегодня мне позвонил зав. отделом машиностроения ЦК КПСС Сербин и сообщил, что Центральным комитетом партии принято Постановление о переименовании города Ижевска в город Устинов. Нам необходимо принять план мероприятий по разъяснению народу правильности этого решения ЦК. В зале заседаний гробовая тишина… После короткого обсуждения предложенного отделом пропаганды и агитации плана члены бюро и приглашенные словно оглушенные начали расходиться. У выхода ко мне подошла зав. сектором печати, радио и телевидения К. Н. Дзюина: – Олег Корнилович, как теперь будут называться женщины, живущие в Устинове? – Не знаю, может быть, устиновки. – А вы знаете, что по-удмуртски «устя» – женщина легкого поведения? Что ж, выходит, все мы теперь… Говорит столица Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики! Июнь 1987 года. До выборов депутатов Верховного Совета СССР осталось два дня. В пятницу, в 17 часов, ко мне в кабинет вошел радостный Л. П. Емельянов, работавший тогда заместителем по радиовещанию Гостелерадио УАССР. – Олег Корнилович! В редакцию «Удмуртской правды» пришел телетайп – нашему городу вернули прежнее название – Ижевск! Надо скорее сообщить об этом по радио. – Согласен, – говорю, – только давай проверим, есть ли это решение в обкоме партии. Позвонил секретарю обкома партии Н. И. Смирновой. – Да, Олег Корнилович, документ этот мы получили, рассмотрели на секретариате и приняли решение сообщить об этом по радио и в газетах завтра утром. – Надежда Ивановна, но телетайп в газеты уже пришел, разрешите нам через два часа начать выпуск словами «Говорит Ижевск». – Я не могу отменить решение секретариата. – Тогда попросите, пожалуйста, об этом П. С. Грищенко (Грищенко П. С. – первый секретарь Удмуртского обкома КПСС). – Хорошо, позвоните через час. Через час в кабинет с ликующим видом влетает диктор Рита Носкова. – Олег Корнилович! «Маяк» уже передает! Давайте я через час откроюсь «Говорит Ижевск!» – Подожди, сами того хотим. Вновь звоню в обком. – Надежда Ивановна! Ну что? Не нашли? Но «Маяк» уже передал. Разрешите! Нельзя нарушать решение секретариата? Как же быть? – А вы скажите так, чтобы все поняли, что столица вновь называется Ижевск, но слово это не называйте. До начала вещания остается полчаса. Рита, Леонид Петрович и я мучительно ищем выход. Вдруг Риту осенило. – Придумала! Я скажу радостно и торжественно: говорит столица Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики! И все поймут нас. – Молодец, – говорю ей, – давай так и сделаем. Утром следующего дня слышу разговор на остановке автобуса. – Слышал, город-то наш снова Ижевск. – Как же, вчера «Маяк» передал. А наши-то по радио как сказали … Видать, знал, да струсил их начальник. Некипелова Ирина Михайловна ЗАКОН ЖИЗНИ Экскурсовод была прекрасна в своём, доставшемся ей от светловолосой и белокожей бабушки, русском языке. – А сейчас я хочу рассказать вам о полотне, которое расположено на стене прямо перед вами. На картине вы видите безукоризненной красоты женщину с печатью трагедии на лице. Девушка огляделась. Перед ней стояла разноликая русскоязычная публика. Плотные женщины перезрелого возраста о чём-то переговаривались, указывая жирными короткими пальцами с массивными перстнями на картину, о которой шла речь. Матовые изумруды и тёмные сапфиры, неуместные ранним утром, мягко искрились в лучах выпрыгивающего из высоких окон солнца. – Наверное, вы уже заметили, что эта женщина похожа на молодую прекрасную брюнетку с картины Карла Брюллова «Всадница». Расчёт был верным: об упомянутой экскурсоводом картине знали все русские, даже те, кто до этого ни разу не посетил ни один музей. Женщины активно зашевелились. – Да, это именно она, – экскурсовод сделала небольшую паузу и окинула взглядом довольно просторный зал закрытого частного музея, размещённого в доме, некогда принадлежавшем самой богатой русской женщине, эмигрировавшей во второй половине девятнадцатого века в Америку. Подождав, когда бурные обсуждения картины немного поутихнут, она продолжила: – Вы помните, что в последние годы первого пребывания в Италии Брюллов написал свою знаменитую «Всадницу», грациозно сидящую на великолепном скакуне. Уверенная ловкость амазонки вызывает неподдельное восхищение. Скромную воспитанницу графини Юлии Павловны Самойловой – Джованину, художник осмелился изобразить так, как до него на картинах изображали только титулованных особ. Экскурсовод практически безучастно цитировала текст из путеводителя по музею, который, как Катехизис, она знала наизусть. – Современные искусствоведы приписывают ей замужество с богатым французским дворянином. Однако, муж её, видимо, был не так уж и богат, поскольку после заключения брака Джованнина устроила тяжбу за своё наследство, куда была вовлечена ею и Самойлова, которая за всё время воспитания девушки так и официально её не удочерила. Скрежет мебели об пол прервал её речь. Женщина, крупная, высокая, с красным отёкшим лицом, мощными руками и толстыми ногами, в чём-то вычурно броском и режущем глаз, схватившись за спинку изящного антикварного стула, тащила его по полу через весь зал, чтобы загрузить на него своё давно потерявшее человеческие формы тело. Дотащив стул до толпы товарок, она грузно взгромоздилась на антикварную вещь. Стул скрипнул. Девушка поморщилась. Ох уж эти русские туристки! Никакого уважения к произведениям искусства! Бросить бы всё и уйти отсюда. Убежать от этих дурно пахнущих несвежих женщин, сесть в автобус и уехать на Смитсония стрит, где, сняв туфли, можно идти по тёплому асфальту просто так, босиком. Но работа есть работа. И она, поджав губы, продолжила: – Эта картина менее известна, чем блистательная «Всадница». Здесь Джованнина изображена уже не юной девушкой, а зрелой женщиной и не Брюлловым, а неизвестным американским художником. Портрет этот был сделан через несколько лет после переезда воспитанницы Самойловой в Америку в поисках богатого жениха, когда прелесть и свежесть красавицы начали уже увядать. Стул снова заскрипел. Женщина поменяла позу. Она уселась, закинув ногу на ногу и облокотившись о резную спинку стула. Было понятно, что женщина полагает себя властной и очень даже эффектной. Этой вычурной позой она, видимо, рассчитывала поразить всех мнимой красотой и изяществом, но получилось совсем не бонтонно, как она рассчитывала, а не по-хорошему смешно и сильно вульгарно. Край юбки застрял у женщины между ног, открывая нелицеприятный вид целлюлита на мощной ляжке. Лишённая упругости от возраста и длительного переедания кожа рук складками лежала на спинке стула. Жирное, с обвисшими брылами лицо, отяжелённое неуместным вечерним макияжем, лоснилось в ярком оконном свете. Экскурсовода, чья русская бабушка на старой полузатёртой фотографии поражала нежной славянской красотой и безупречным станом, слегка замутило. Она отвернулась, чтобы не видеть этого безобразного зрелища. – Больше портретов Джованнины не сохранилось, поэтому проследить её дальнейшую судьбу не представляется возможным. Однако известно, что она умерла в возрасте сорока восьми лет в нищете, так и не найдя достойной кандидатуры для замужества. Виной всему было сформировавшееся тогда в американском обществе мировоззрения, которое в мире получило название «американская мечта». Не имея достойного приданого, красавица оказалась никому не нужна. – Ну, это основной закон жизни, – грузная красномордая хабалка, перебравшись из центра зала к стене подальше от яркого солнечного света, лившегося из окна и нещадно выдававшего истинный возраст присутствующих, развалилась на антикварной мебели XVIII века, широко расставив, как мужик, ноги с толстыми ляжками. Что ж… За те деньги, что лежали на банковском счету этой дамы, она могла позволить себе сидеть даже на королевском диване Людовика XVI. Некипелова Ирина Михайловна ВСЁ ПОНЯТНО или ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В детстве всё было предельно просто, потому что всё было понятно. Мир делился на добро и зло, и поэтому все в нём были либо добрыми и хорошими, либо злыми и плохими. Например, папа был хорошим, потому что строил дом за городом и покупал ей игрушки. А вот дядя Толя со второго этажа был однозначно плохим, потому что пил водку. Однако позже она поняла, что мир – это не чёрное и белое, а множество оттенков серого, и привычная картина мира начала рушиться. Оказалось, что папа, вроде бы такой хороший и добрый, строит дом не для неё с мамой, а для своей новой любовницы. Дядя Толя же, напротив, хоть и пил по-чёрному, но имел для этого повод весьма убедительный – смерть жены. Мир перестал быть однозначным, а люди перестали делиться на добрых и злых. Теперь они стали просто людьми. И Вика долго не могла понять, что же она чувствует на самом деле к ним ко всем вместе и к каждому из них в отдельности. В период, когда сверстники стали значить больше, чем родители, измерять мир стало удобно иными категориями. Теперь всё стало нормальным, то есть разделяемым абсолютным большинством, и ненормальным – непринимаемым им. Пить и курить, плевать под ноги раньше было плохо, а теперь стало нормально, потому что так делали все. Нет, она, конечно, понимала, что нормальное не всегда явлется хорошим, и не делала всего того, что делают другие, однако и не сопротивлялась этому, иначе рисковала стать ненормальной в глазах окружающих. А все были патриотами, ярыми, слепыми и категоричными. И она, подчиняясь общему волнению, тоже преисполнилась желанием стать патриоткой. Ходить на демонстрации, рисовать плакаты, разоблачать коррупционеров и восстанавливать справедливость. И всё-таки здравый смысл и слёзы матери одержали верх – Вика поступила в университет и начала постигать другой мир. Теперь центральное место в её жизни стала занимать идея. Она захотела изменить мир, устроить глобальную революцию и заставить всех людей понять, что всё, что им нужно, – это любовь! Однако мир упорно сопротивлялся. Молодые люди занимались бизнесом и спортом, длинноногие и равнодушные девушки таскались по ночным клубам в поисках молодых людей, которые занимаются бизнесом и спортом, чтобы стать их любовницами, а если повезёт, то и жёнами, и никто, совершенно никто не разделял её идею о всемирной любви, способной принести всем людям на планете мир и покой. И именно поэтому любовь никак не наступала, а мир продолжали раздирать кровопролитные войны. Да, до университета всё было понятно. Есть она, есть родители, есть друзья и знакомые, есть люди плохо знакомые и незнакомые вовсе. В университете всё изменилось, оказалось, что родители – это чужие друг другу люди, друзья – не больше, чем плохие знакомые, а совсем незнакомые люди иногда больше, чем друзья. После университета перестало быть понятным всё. Друзья стали незнакомыми, сослуживцы – врагами, а незнакомые – оппозиционерами. Вика совсем запуталась. Иногда, сидя дома в своей комнате совсем без света и глядя на снующих за окном по тротуарам суетливых прохожих, она думала: кто они? кто она? и существуют ли все они реально или это всё блажь, обман сознания и массовый психоз? Отчаявшись разобраться во всём и разочаровавшись в людях, она даже решила осуществить попытку вступить в ряды армии, чтобы своим примером показать, чтó значит настоящий поступок борца за справедливость, или сбежать из дома и стать снайпером гденибудь в Чечне (а лучше всё-таки в Афгане!), но в этот самый момент она встретила своего будущего супруга, и все её планы на побег, революцию и отстрел злодеев рассыпались, как карточный домик. Зато всё снова стало понятно и просто. Пришла любовь. А мир во всём мире остался за спиной. Свадьба Вики и Алексея прошла без эксцессов, и они зажили самой обычной жизнью самой обычной современной молодой семьи. Они любили друг друга. Потом пошли дети. И с этого момента мир, представлявший собой одну глобальную проблему, рассыпался на множество мелких проблем и забот: надо было встать утром пораньше, чтобы, тихо прокравшись на кухню, успеть приготовить мужу и детям завтрак, затем всех разбудить, собрать кого на работу, а кого – в сад, собраться самой, договориться с мужем о том, кто сегодня должен закинуть двоих отпрысков в детский сад, не опоздать на работу, не попасть под строгий взгляд начальства, забрать вечером детей из сада домой, приготовить ужин, всех накормить, постирать, погладить мужу на завтра свежую рубашку, выпить на ночь таблетки (детей вполне уже хватало), поцеловать всех на сон грядущий и совершенно разбитой завалиться спать в упорной надежде на то, что муж потерпит со всеми своими интимными делами до субботы. И так каждый день. Исключая воскресенье. Но и в воскресенье не приносило облегчения. Наступило очередное будничное утро. Вика стояла посреди комнаты и смотрела, как её растерянный муж в недоумении бродит по квартире в поисках носков, которые он где-то бросил или куда-то сунул накануне, и понимала, что найти носки – это и есть самая глобальная проблема самой обычной человеческой жизни. Наумова Анжелика Леонидовна ВЕРОЧКА Ах, Верочка! Воздушная, волшебная Верочка... С большими голубыми глазищами, белокурыми кудряшками... полтора на полтора метра обжигающей страсти… нежнейшее, милейшее создание под сто пятьдесят кг. Как и положено всем полным дамам, Верочка работала у плиты. Конкретно в кулинарии. Верочка была чудо-пекарем, месила белое, воздушное, пахучее тесто, очень похожее на нее саму, и лепила вкуснейшие пироги, пирожки, растягаи. Маленькие пухлые пальчики, как птички, порхали над очередным пирожковым творением. Ну, что же снова с тобой приключилось? Идешь навстречу, искрятся смехом твои чудесные глаза, хохочешь и взахлеб начинаешь рассказывать об очередном приключении. Рядом с дверью в кулинарию, где работала Верочка, через пару метров, находилась дверь в стоматологический кабинет. И наша Верочка, записавшись на прием, отважно отправилась к врачу. А раз идти недалеко, да и потом обратно на работу, решила полностью не переодеваться, скинула фартук, косынку и потопала. Подошла к кабинету, а там надпись «Сметите обувь! Надевайте тапочки!» (Лет тридцать назад во всех поликлиниках около каждого кабинета были тапки, кожаные, сорок последнего размера убитые тапки.) Верочка скинула свои, заляпанные в тесте и муке, сунула свои ножки в безразмерные и храбро вошла в кабинет. У свободного кресла сидел маааленький, сууухонький мужчина-врач, вечный Иван Петрович. "Вечный" потому, что сколько себя помнят работники кулинарии, Иван Петрович "вечно" работал в этом кабинете, "вечно" был "худой и бледный", и лет ему уже точно под сто, в общем, "вечный". Верочка бочком протиснулась между стеной и врачом, зацепив последнего своей пышной грудью, прилизав в одну сторону его редкую прическу, чуть не смахнув самого врача со стула. Извиняясь, подобралась к креслу. «Ничего-ничего», – тихим голосом ответил тот. Еще раз извинившись, Верочка подошла к допотопному креслу, наступила одной ножкой туда, куда ставят ноги. Неожиданно для Верочки и особенно для врача кресло подскочило вверх, перевернулось и накрыло собой всего Ивана Петровича. Верочка побледнела, заохала и, как мать своего ребенка, бросилась спасать врача. Отшвырнула одной рукой кресло, подняла в воздух и встряхнула пару раз посиневшего Ивана Петровича. «Вы там живой? Простите, ради Бога!!!!» – с полными ужаса глазами, дрожащим голосом пропела Верочка. «Ничего-ничего», – еще тише сказал вечный Иван Петрович. У врача-женщины за соседним креслом открылся рот и выпала сверлилка из рук. Секундная немая пауза. Потом все резко пришли в себя, быстро все вместе установили кресло на место. Извиняясь и сгорая от стыда, покрасневшая Верочка бесшумно и с невиданной легкостью впорхнула в кресло, вжалась, замерла, боясь пошевелиться. Синева постепенно сошла с лица врача, он зарделся, разомлел, поправил свою редкую прическу в обратную сторону. Взялся за инструмент. «Ничего-ничего», – еще раз повторил он. – «Открывайте рот!» Верочка сидела с открытым ртом, Иван Петрович там манипулировал, а за соседним креслом разгорался скандал. «Вы почему в такой грязной обуви зашли в кабинет? Там же написано: надевайте тапочки!!!!!» – грозно кричала врач на молодого покрасневшего парня. Он что-то пытался ей объяснить, но она не слушала и возмущалась дальше. «Да я переодел! Да я поменял!» – смущенно шептал тот. «Не врите! Идите и наденьте тапки!» – не поддавалась врачиха. Верочка скосила глаза влево и, если бы не ее раскрытый рот и руки Ивана Петровича в нем, захохотала бы от души! Сказать ничего не может! Слезы льются от смеха! «Вам больно?» – встревожился Иван Петрович. «Ыыгыы», – нет, мотает головой Верочка и глазами и руками показывает на парня, а парень в ее рабочих заляпанных в тесте тапочках. Как позже рассказывал этот парень, он дооолго присматривался к грязным Верочкиным тапкам. Надеть, не надеть? Без тапок не пускают. Снял свои начищенные ботинки и сунул ноги в эти тапки. Потом долго смеялись парень, Верочка, врачиха и вечный Иван Петрович. «Вот такие пироги», – сказала Верочка и пошла стряпать пироги. Это было лет тридцать назад. Сейчас у Верочки уже внуки. Но она все такая же воздушная хохотушка с голубыми глазищами. Только в белокурые кудряшки изредка вплелась седина. (на реальных событиях) Бухтулова Елена Васильевна НАНОРЕПКА (сказка) Посадил дед нанорепку. Выросла нанорепка небольша, но крепка. Стал дед репку на Госпремию тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не может. Второй самосвал документов отправил, с пакетами формата А4, а решения все нет. Позвал дед бабку, надо же ей что-нибудь на пенсии-то делать. Стали вместе нанорепку на Госпремию тянуть. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Уж они и к индексу Хирша прицепились, и об Вебофсайнс уперлись, не тянет нанорепка на Госпремию. Пригласил дед в помощь академиков да ведущих ученых. Два симпозиума провели, три обширных конференции. Телевиденье привлекли, прессу напрягли, тянут-потянут нанорепку на Госпремию, а вытянуть не могут. Позвал дед иностранную делегацию, помогать нанорепку на Госпремию тащить. Вместе стараются, в друг друга упираются, тянут-потянут, вытянуть не могут. Тут пролетала птичка-невеличка Божье творение, увидала зеленый листочек – невеликий росточек, клюнула и проглотила нанорепку. Дед плачет, баба слезы утирает, а нанорепка где-то прорастает. А и то верно, какая от нанорепки теоретическая польза? Эх, дед, практика – она в жизни надежнее и всегда кому-нибудь да сгодится. Кашапова Светлана Васильевна О ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА Новогодний праздник у всех народов является одним из самых любимых. Несколько лет назад мы с мужем в составе группы туристов были предновогодний вечер во Франции. Встреча Нового года состоялась в одном из ресторанов Парижа. Столы были накрыты блюдами французской кухни. Особенно понравились лягушачьи лапки. Встреча запомнилась ещё и тем, что наступление Нового года отмечали трижды: сначала поижевски, затем по-московски, а в конце по-парижски. Два весёлых музыканта весь вечер под аккордеон исполняли популярные мелодии и развлекали присутствующих. Было очень весело. Совсем в другое время и по-другому отмечали мы Новый год в Китае. В тропиках (на острове Хайнань) он наступает в ночь с тридцать первого января на первое февраля. Встречают наступление Нового года очень шумно. Семьями китайцы приезжают на море на мотоциклах. Правительство выделяет бесплатно бензин на поездку. Всю ночь были слышны разрывы петард, летали ракеты. Очень красиво были украшены отели, улицы и площади. Кругом стояли «ёлочки» – это в кадушках деревца мандариновых деревьев с плодами на ветках и красными пакетиками с пожеланиями счастья. Китайцы – очень доброжелательный народ. Всюду окружали нас приветливые люди, и это создавало настоящий праздник. Из необычных блюд национальной кухни мы попробовали рис с мясом крокодила. Во Вьетнаме празднование Нового года начинается с девятнадцатого февраля и продолжается целых две недели. Весёлые компании собираются на побережье и готовят национальные блюда. Располагаются большими компаниями. Доброжелательно относятся к туристам. Почти не употребляют алкоголь. Улицы и общественные места украшены флагами, живыми цветами. Всюду нарядные клумбы. Вечером небо освещалось прожекторами. На улицах пальмы были подцвечены разноцветными лампочками. Из национальных блюд понравились устрицы в кляре и мясо страуса с гарниром. И вот, посетив несколько стран, мы убедились, что лучше и веселее всего встречают Новый год у нас в России. Действительно, хороши наши нарядные, пушистые, новогодние ёлочки-красавицы. А оформление улиц и площадей, катания с горок не оставляют равнодушными ни пожилых людей, ни молодёжь, ни детей. Запряжённые тройки с бубенцами, искрящийся снег – всего этого нет и не может быть в тропических странах. А дома новогодние угощения и обязательный салют шампанского. Арматынская Ольга Владимировна *** Недавно в подъезде меня остановил сосед. – Привет, погоди. Ты ведь в газетах пишешь? – Ну-у, – удивилась я, – и откуда знает? – Слушай это…, а можно я тебе про собаку свою расскажу? А ты напишешь. Собака у меня была. – Не-е зна-аю, – лихорадочно соображала я как отвертеться. Действительно, была у Сергея какая-то собака. – Понимаешь, мы ведь пишем про людей… Ты, в какой-нибудь журнал напиши, – «Поводок» или «Юный натуралист»…, – но сосед так на меня взглянул, что я осеклась, – Может, твой пес человеческим голосом разговаривал или чего-нибудь такое умел? – попробовала я пути к отступлению. – Все! – перебил меня он, – Серый у меня умел все! – и вдруг смутился: – ладно, забудь. Это мне Ленка, жена насоветовала. Про такую собаку, говорит, книжки нужно писать, и всякое такое. Хороший он был, Серый. Умный – страх! – и голос у него дрогнул. «Ничего себе», – подумала я, – «Взрослый мужик…» – Вот что, давай так. У меня диктофончик есть, – я порылась в сумке, – всего две кнопки – запись, воспроизведение, кассету купишь. Сядешь дома и наговоришь. Никто мешать не будет, чего захочешь, то и расскажешь. Диктофон сосед вернул через три дня. Я слушала их целый вечер, а потом набрала Серегин номер: – Сергей, не спишь?! Значит, так: писать я ничего не стану, ты уже все сам написал. Просто расшифрую запись, наберу текст, запятые расставлю, разделю на главы… А Серый твой… Может быть, и правда, про таких книжки нужно писать… Сергей Тепляшин ДРУГ. МОЙ, СЕРЫЙ. Глава первая У меня никогда не было собаки. Мать в детстве не разрешала, потом я мотоспортом занимался – всегда на сборах. Потом в армию сходил, женился рано, так, по глупости. Жена Танька как-то сказала, что ей не до собак, ей и моих дружков хватает. С собакой я только раз дело имел – еще в перестроечные времена. Водка тогда продавалась в ларьках круглосуточно – и это было в новинку. Идем мы с мужиками в ларек в Металлурге часа в 4 утра, веселые, настроение у нас – то ли подраться, то ли разыграть кого – как уж выйдет. А за нами увязалась дворняжка. Подходим мы к ларьку, стучим в окно, и там в глубине показывается заспанная девчонка. Мы присели, собаку мордой в – окошко, и Колька – мой дружок говорит за нее тоненько, само собой, человеческим голосом: "Бутылочку водочки, пожалуйста". Девчонка так заорала, что дворняжка пулей рванула по улице, а мы на четвереньках отползли за соседний забор и даже смеяться сначала не могли. Водку, конечно, в другом ларьке купили. Короче, собака – не человек, вот что я раньше знал. Дворняжек в Ижевске полно: и бесхозные, и которых старухи и дети подкармливают. А есть такие, которые сами по себе, люди их вообще не замечают, даже не видят, это они нас видят. Серый мой как раз такой. * * * День тогда выдался пакостный. Я с утра послал начальника в конторе: юлит , зарплату, гад, третий месяц зажимает, приходишь в бухгалтерию как милостыню просишь… Ну, я к нему: «Где деньги?» В общем, он поорал, потом вдруг успокоился, повеселел и ласково так говорит: «Не нравится – увольняйся! Мне только свиснуть – желающих навалом» Ну, я сразу заявление написал… Домой прихожу – от жены Таньки записка: «Я с тобой развожусь, ухожу к Виталику. Документы подам сама». «Интересно» –, думаю, – «Поженились, оттого и развелись. И чего мне делать теперь?» Походил я по комнате, вижу, Танька вещички свои собрала… В рогах правды нет, я на диване немного посидел, встал, на стул сел… И так мне дома противно стало, я куртку схватил, дверью жахнул, спускаюсь по лестнице – а куда пошел,– черт его знает. Сел на скамейку перед подъездом, за сигаретой в карман полез и – представьте, скамейка подо мной крякнула, да еще доской мне поддала. Придурок какой-то ножку спилил, не лень ведь было! Сижу я на заплеванном снегу, смотрю на этот спил на скамейкиной ножке и чувствую: все, что на этом свете шевелится, мне охота придушить. Вот сейчас, пока не опомнился – так бы и… Тут сзади кто-то охает: «Что делается-то, господи!» Мне что ли говорят? Поворачиваю голову – в пяти шагах старушенция уставилась куда-то наверх: – Че делается, уже вороны лают! Конец света, тьфу! – и пошаркала дальше. Я тоже вверх посмотрел. На здоровенной березе сидит ворона, с поросенка размером, всклокоченная, вид нахальный и …лает! Самым настоящим собачьим лаем. Думаю, чудится мне. А под деревом сидит пес бомжовского вида. Тихо сидит, не двигается и глаз с вороны не сводит. Та заливается, а пес сидит. Ворона от натуги аж захрипела, а этот молчит и смотрит. И я сижу в снегу около скамейки, даже смешно мне стало. Штаны уже промокли – снег сырой, – да какая разница, сижу себе и ухмыляюсь… А чего? Вороны лают, бабы уходят, скамейки падают – веселуха! Наконец, ворона крякнула с досады, качнулась на ветке и подалась куда-то в сторону улицы, в полет ушла. Тогда пес встал, повернулся. и мы друг на друга поглядели. Морда оказалась, скажу я вам! Весь он был длинный и поджарый, светло-серый какой-то, будто седой, морда узкая, длинная, хвост палкой. Но глаз таких я не видал. Совершенно желтые глаза, светлые, как у волка, – хотя, может, у волков и не такие, не заглядывал. А посередине каждого желтого глаза – вредный черный зрачок, который следит за мной без всякого доброго выражения. Помолчали мы, и я не выдержал, встал, отряхнулся, человеком себя почувствовал: – Че уставился? – говорю я псу, – Облаяли тебя? Дак, меня, брат, тоже... Меня хоть начальник, а тебя ворона облезлая облаяла! Ты вот скажи: ты чего терпел, даже не гавкнул, а? Пес переступил, голову на бок наклонил, послушал и снова на меня взглянул: тут мне померещилось или нет, но как-то он по-другому взглянул. Брови у него черные, он их поднял «домиком» и выражение людоедское пропало и ухо одно смотрю – порванное. – Эх, шпана дворовая! Жрать поди охота? Хочешь? А запросто, раз такое дело! Пошли! Но не тут-то было: псина смотрит на меня, как на давешнюю ворону, и с места не трогается. – Ну, как тебя, там, Жучка! Как вас там зовут, Джульбарс, что ли, или этот, Мухтар… Полкан… – Я стараюсь, а странный пес слушает и молчит. – Ну, я не буду куски тебе таскать. Хочешь – пошли ко мне, супа налью, не хочешь – как хочешь. Посвистел я ему, а этот сидит, как сидел, и молчит. – Ну, говорю, Серый волк, воля твоя! Дурак ты, Серый! И сразу, как по команде, пес легко поднялся и – ко мне. Осторожно ботинок понюхал, хвостом виляет и уставился на меня. Я и догадался: – Ты Серый, что ли? Серый-Серега, тезка, стало быть! Он давай хвостом вилять, вроде: «Серый я, Серый. Давай, веди, куда звал». Так мы и пошли домой. Серый зашел в дверь деликатно, чуть не на цыпочках. Никуда в сторону не поглядел, строго по прямой пошел за мной на кухню, только пол перед собой обнюхивал. Налил я ему супу специально в любимую Танькину тарелку – и как только она ее прихватить забыла? «Ешь», – говорю, – «гостем будешь». Потом он еще одну тарелку навернул, я рядом посидел. Потом мы просто так посидели, потом я пошел на диван, а Серый – осторожно осматриваться в квартире. Оставил я его ночевать, а назавтра совсем оставил. Стали мы жить вдвоем. * * * Гулять, я его сначала не водил – только дверь ему открывал. Он набегается, в дверь скребется, а не услышу – тявкнет, аккуратно так. А я на улицу не ходил – только до магазина. В общем, пил я. Сидел, лежал и пил. Таньку вспоминал. Жили мы не то, чтобы хорошо, вроде бы и не любил я ее, но не обижал. А может, тем и обижал, не знаю. Словом, пил я неделю-полторы, кажется. И допился: с сигаретой уснул – мало ли так нашего брата горит! Как я отключился – этого не помню, зато помню, как просыпался… Серый просто ополоумел: мне всю руку изжевал, пока я не очнулся. Отталкиваю его спросонья, хочу выругаться – и не могу, кашель душит, встать хочу – тоже не могу. Глаза разлепил: вижу еле-еле, Серый скулит нехорошо, ногтями по полу скребет. А еще трещит что-то, и ногам горячо. Кое-как я стал соображать – мама родная, пожар! На мне уж одеяло тлеет, пол у меня крашеный, черными пятнами пузырится…. Сгорю! Я прыжком кровать перескочил: хорошо, что белье у меня в ванне неделю кисло, я все это тряпье на огонь побросал, краны в ванне крутанул, стал ведром плескать во все стороны. Огонь будто сбил, только чувствую – задохнусь сейчас, глаза режет, горло больно, все в дыму. По стеночке я дошел в прихожую, дверь открыл и вывалился на площадку. Отдышался, – живой, черт! И спохватился: Серого- то нет! Пополз я обратно, прихожую проползаю – смотрю, он навстречу хрипит и по-пластунски, тихонечко, лапами ко мне перебирает, жмурится и скулит. Я его за загривок потянул, вылезли мы за порог, сидим на площадке в обнимку. По лестнице – дым клубами. Сверху соседка баба Вера бежит, шлепанцы ловит на ходу, кричит: – Горим! Ты что ли горишь, Сергей? Живой ли? Потушил? Я уж хотела спасателей звать! А говорят за ложный вызов деньги надо платить… – Вот, – говорю ей, – мой спасатель. Серегой зовут, знакомься! Глава вторая Когда Серый нас от дурной смерти спас, я себе сказал: «Все, Серега! Мужик ты молодой, свободный, классный водитель, здоров как бык, а дурак. Чуть на собственном диване не кончился. И Серый у меня теперь есть». В общем, пить я бросил, враз. Вытряхнул я все карманы, собрал, сколько было денег, купил Серому роскошный ошейник, чтоб не думали, что бродяга. Купил китайской лапши, колбасы и закрылись мы с Серым в квартире. Я ее ремонтировал, а Серый на полу лежал, чихал от краски или дремал под табуреткой, на которую я лазил обои клеить. С тех самых пор он всегда старался поближе ко мне быть, где я – там и он. Из комнаты в комнату всегда за мной перейдет, и спал всегда у меня под кроватью. Я, бывало, во сне в другую сторону перекачусь – и он переползет, где б я утром глаза не открыл – невдалеке серая морда. Вожаком в нашей стае, конечно, был я. Серый на меня не оскалился ни разу, не рыкнул. Он, кстати, молчаливый был, почему-то лаять не любил. Ну, и я старше, в конце концов, мне уж как Христу. Потом собачники меня научили, что собаке за первый год жизни идет четырнадцать лет, за второй – семь, а за каждый следующий – по пять. Серый, похоже, трехлетка, значит, по-человечески молодой мужик лет двадцати шести-двадцати семи. Еще Серый точно понимал по-русски. Я где-то в газетке вычитал, что у нынешних подростков как раз запас слов – сотня-другая. Значит, мой Серега столько же знал. Лежу на диване, пальцем не шевельну, говорю только: «Серый, обедать пора» – все, он встал, на кухню пошел, сидит там и ждет, когда я к плите пойду. «Спать, гулять, нельзя, идем», – это он как будто всегда знал, но ведь «оглянись», «веди вправо» или « телевизор», «что случилось» – тоже понимал. Еще мы стали с ним гулять. Правда, когда я дома бывал, потому что бросился работу искать. Но само в руки плывет только то, что не тонет. Туда-сюда сунулся, везде одно и то же: денег – кот наплакал, машины – дрянь, а баранку крути целый день. Бегал я по городу, а вернусь домой – веду Серого на прогулку. Идем мы с ним, я ему рассказываю, чего видел, чего люди говорят, а он слушает. Однажды добрели мы до Удмуртской, думаю, в скверик пойдем, посидим. Серый припустил куда-то, я стою, жду. А рядом на обочине у машины мается мужик с мобилкой и газетой в руках. При нем ротвейлер, а поводок мужик почему-то отпустил. Вдруг из-за куста скачет мой Серый, гонит к дороге собачонку – вроде этих, которые на тонких ножках качаются, голопузые такие. Не то, чтоб он ее напугал, чихать она на него хотела, но из кустов выгнал. Моська мужика с собакой увидала, про Серого забыла и придумала поругаться с ротвейлером. Сидит и квохчет на него. Серый – сразу в сторонку и наблюдает. А ротвейлер как стоял, вдруг открывает пошире пасть, прыгает и хватает моську так, что вся ее голова в этой пасти скрывается. И голову не откусил и не выпускает! Моська в пасти пытается гавкать, народ радостно останавливается и смотрит на весь этот цирк, а тут и хозяйка моськи объявилась: верещит – ни слова не понятно. Мужик даже газету отшвырнул, расстроился, но молчит и явно ничего своему песику командовать не собирается. Моськина хозяйка заплакала, и толпа давай за собачонку вступаться: – Скажите ему, чтоб собачку отпустил. – Да он меня не послушает, зараза! – отвечает мужик. – А кого послушает? – Жену только... Снимает мужик мобилку, звонит, докладывает ситуацию, сует трубу псу под ухо. Оттуда на три метра доносится: «Ах ты, скотина! Выплюнь! Выплюнь сейчас же!!!» Перепуганный ротвейлер плюется бедной моськой и отскакивает, народ – в полном восторге. Я глазами Серого нашел, зову его. А этот артист спокойно и чинно проходит через всю «сцену», чуть не перед носом у ротвейлера, мимо хозяйки с моськой к моей ноге. Сел в позицию «Мы с Мухтаром на границе» и замер как статуя. Точно знаю – это он на публику выделывался! Мужик с мобилой даже не скрывал, что позавидовал: – Серьезная у вас собака. А у нас – женское воспитание, жена собакой занимается. Он только ее и слушает, и то раз в неделю. Ваш-то дворянин? – Не, – отвечаю, – какой дворянин… во дворе подобрал. – Ну, я и говорю, дворянская кровь. Как звать-то, Серый? И представьте, Серый только ухом дернет, если его посторонний позовет, а не я. А тут голову повернул, на мужика посмотрел, на меня, снова на мужика. Будто сказать чегото хочет. Я никуда не спешил, мы с мужиком разговорились: машину у него похвалил, то да се. Словом, Станиславич тогда как раз шофера искал, ну, мне и предложил. Поездили мы с ним денек, попробовали, и он меня взял. Зарплату приличную назвал и еще сверху пятьсот накинул – «на Серого». Выходит, Серый меня на работу устроил. Вообще, я и не думал раньше, что у собачников своя жизнь, остальным не понять. Любой зоомагазин – полный «Аншлаг»! А бессобачное человечество относится к собачникам по-разному, кто уж как. Идем мы однажды с Серым по парку Кирова, никого не трогаем. Доходим до скамеечки, где сидят три мужика и соображают. Портвешок, конечно, и пластиковый стаканчик. Один берет стаканчик, идет к большой луже, раздвигает ногой жухлые листья, аккуратненько моет в ней посудину, прополаскивает, отходит за скамеечку, срывает пучок травы и стаканчик вытирает. Я это все спокойно наблюдаю. А Серый, в десяти шагах занят тем, за чем спешил на улицу. Посудомойщик косится на него поворачивается к своему обществу бухих и со слезой в голосе говорит: – Эх, мужики! В каких антисанитарных условиях пьем! Или выходим мы с Серым во двор, и как положено – бегом на пустырь. На горизонте появляется бабулька с двумя половиками: во дворе ей почему то железка для выхлопывания не понравилась. А тут мы с Серым по сугробам бегаем. Бабка бросает половички и с ходу запевает: «Развели тут собак, людям жрать не на что купить, пенсия маленькая, а они собак кормят». Мы с Серым – люди мирные, пусть выговорится. Но бабка, видать, расстроенная, ей повоевать хотелось, а мы с бой не вступаем – какая с нас радость? Повернулась она к своим половикам, один по снегу потащила, зацепилась за что-то, бросила и совсем зашлась с досады: – Ходят тут! Вообще откуда пришли, мусор из баков таскают! Весь двор от вас в дерьме! – Мы не во дворе, бабуля, – замечаю я, – а на пустыре. – Весна покажет, где кто клал! – радостно заводится бабка. Серый трусит себе на расстоянии, чего-то в снегу роет, но на нас поглядывает. И вдруг эта баба яга поднимает с земли палку – и со всего размаху запускает в Серого, да так метко, – попала, словом. Серега мой выгнулся как-то весь, холка у него дыбом, оскалился как-то криво и молча прямо к бабке. Глазищи желтые – те самые, людоедские. Я только подумать успел: «Все! Хана бабуле!». А Серый притормозил, как-то боком заруливает к ее брошенному половичку, холка у него опускается, забирается он через сугроб на коврик и… метит его как положено. «Мол, территория моя, возражения есть?» Бабка онемела. Я и сам не ожидал. Кликнул быстренько Серого, и мы, ухмыляясь, тихо-тихо пошли восвояси. За угол повернули, когда бабка очнулась, но мы уже не слушали про ее огорчения. * * * Со Станиславичем мне повезло. Работа у него конечно, беспокойная: он по своим магазинам носится, потом по ларькам, по базам разным. Но мужик порядочный и веселый. Не заладится чего-нибудь, отходит быстро еще и посмеется: «Такие времена, Серега! То ты голубь, то ты статуя! Персты судьбы сложились в фигу...» А к Серому он прямо проникся. Серый даже с нами ездил – когда за город нужно или на день в Глазов или в Сарапул, быстро к машине попривык. Зато мы ее оставляли спокойно: закрывали и Серого садили у колеса. Стоило Серому разозлиться – глаза у него делались как у монстра в ужастике – и все молчком… Здоровые мужики – и те в сторону отступали. Однажды мы Серого не взяли – пассажир с нами был, а ехать нужно было на весь день. Ну, еды, воды я ему оставил, таз в коридоре поставил – думаю, будет невтерпеж, сообразит. «Так и так», – говорю, – я ушел». А Серый на меня не смотрит, обиделся, не нравилось ему это слово «ушел». Возвращаюсь я вечером, затемно – что за дела? Дверь в квартиру приоткрыта, покачивается от подъездного сквозняка. Я на всякий случай руку в карман, ножик перочинный нащупал и тихонечко дверь отвожу. Вдруг из темноты Серый летит в прихожую, аж на повороте на когтях поскальзывается. Лапы мне на плечи, всего языком умыл – я и вырваться не успел. «Серый», – говорю, – « погоди, друган, чего тут стряслось?». А мне в ответ из комнаты Танькин голос: «Друган у него! Убери этого людоеда, господи! Гадина хвостатая, я тут с обеда сижу!» Идем мы с Серым в комнату, свет включаю: Танька! На столе с ногами сидит, злющая и растрепанная. Подержал я Серого, пока она со стола сползала и чего-то в шкафу шарила, послушал ее. Танька прокричалась, собрала, чего ей нужно было, ключ шмякнула на стол и дверью хлопнула. – Серый, ты что ж, запустить ее запустил, а не выпустил? А хитрюга жмурится, носом меня тычет – и ухмыляется – была у него такая привычка, вроде как улыбается. Глава третья А потом пришла весна и мы с Серым совсем обрадовались. Гоним, бывало, со Станиславичем, остановимся где-нибудь на тракте, в лес свернем, пустим Серого на волю. В первый раз он у нас столбом встал и ни с места, только ноздри раздуваются… А потом как рванет в лес, один хвост в овраге мелькнул. Полчаса его звали, искать уж пошли - а он вылезает из под елки: шерсть дыбом, глаза шальные, в зубах мышь– полевка.. Станиславич смеялся : «Серый твой – городской волк!» Он ведь лес, наверное первый раз в жизни увидал. А по всем повадкам – был у него в роду какой-нибудь волчара, лесной бандит» Однажды вечером Станиславич говорит: – Серега, в выходной едем в Свердловск, фу, ты, в Екатеринбург то есть. В семь утра подъезжай. На два-три дня, думаю, но может и больше. У нас пассажир, мужик капризный, как барышня, а не взять не могу. Серого сможешь кому-нибудь на время пристроить? – Ладно, говорю. Бабу Веру попрошу – у меня соседка – хорошая бабка, одинокая. Вечно мне кости сдает для Серого, он ей даже погладить себя разрешил. Один раз. Сходил я к бабке, специально вместе с Серым. Она обрадовалась: «Езжай- езжай, поладим как-нибудь. Будет мне старой кампания», – и Серого зовет: «Иди, волчок, иди сюда». Серый вежливо стерпел, когда его потрепали, и мы отправились восвояси. Стал я себе сумку назавтра собирать, – я ее всегда беру, мало ли чего, оглянулся – Серого не вижу. Позвал – тишина. Шорохнулось что-то под кроватью, я туда заглянул– там Серый лежит, на меня не смотрит и не выходит. Я зову – ни в какую. Обиделся! – Серый, – говорю,– выходи, не могу я тебя взять, пойми. Полчаса с ним объяснялся – хотите верьте, хотите нет – не выходит из-под кровати и все. Я плюнул, и спать лег. Утром открываю глаза – в комнате темно, что за черт! На будильнике 4 часа, а Серый стоит у кровати как изваяние и на меня смотрит, я только промычал чего – не помню как заснул снова. Будильник зазвонил, глаза открываю – а этот как стоял, так и стоит – такое впечатление, что с места не двинулся. – Все, – говорю, – друг. Ну, что ты меня гипнотизируешь? Вернусь скоро, а ты бабу Веру слушайся. Зову его на кухню: «Серый, иди ешь!» Не идет. И из квартиры его выманить не могу – к бабе Вере отвести – волоком, что ль тащить, я уже опаздываю? «Ладно….тогда я ушел!» – кричу ему, взялся за замок – и началось. Мой молчаливый Серега вдруг поднимает голову к потолку и как завоет! Испугался я даже: – Ты что, пес? А? – я его обнял, а он скулит у меня в руках с подвыванием, как по покойнику – что ты будешь делать? Потащил я его на площадку к соседкиной двери. Баба Вера дверь открыла, высунулась, он на нее рычит и уши прижал. Переглянулись мы с бабкой, она вздохнула, а я пошел звонить Станиславичу. Так и так, мол, ревет как ребенок, и никак его не оставишь. Станиславич чертыхнулся, но сказал: – Бери. И чтоб весь ваш цирк Дурова был у меня через пятнадцать минут! Я еще этого козла должен в аэропорт везти! * * * Станиславич сел сзади, Серого ему в ноги положили, а место впереди он «этому козлу» уступил. Пассажир, видно, сервисом был недоволен, со мной вообще не поздоровался, а когда мы его в аэропорт докатили, буркнул что-то Станиславичу на прощанье даже не обернувшись. Станиславич шуршал какими-то бумагами, потом задремал, Серый тоже делал вид, что спит. А за бортом погода совсем испортилась, заморосило – то ли первый дождь, то ли последний снег, небо серое, машин почти нет… В общем, полдня все ехали молча, недовольные и полусонные. Я давно замечаю – как только жизнь скорость сбавляет, и будто в телевизоре укручивает звук – значит, держись, скоро поворот! Мы гнали так до обеда. Станиславич проснулся, потребовал радио включить, начал по обыкновению ерничать над выпусками новостей. Диктор слово – Станиславич в ответ два – это у него привычка такая. Даже Серому что-то там объяснял про американцев: мол, куда они денутся, если у самого Кеннеди в Белом доме жила собаченка Пушинка – родная дочь русской космонавтки Стрелки….Отошел, в общем. Тем временем догоняет нас замурзанный газик. Обошел, развернулся и вдруг – тормознул поперек дороги, и я – по тормозам. Выскакивают из газика четверо мужиков и бегут к нам. Я успел подумать: нехорошо как-то бегут. Двое подскочили сразу к дверям – ко мне и Станилавичу, а двое встали у бампера. Тот, который за моим стеклом, высокий такой наклонился, осклабился: – Открывай, по-быстрому! – Мужики, вы чего? – встрепенулся сзади Станиславич, и Серый заворочался за моим креслом. – А у нас проезд платный, господа пассажиры. Впереди вдруг что-то хрякнуло – рыжий, который у бампера стоял, монтировочкой покачивает. Фару, значит, разбил, гад! А иначе,– и высокий махнул рукой своему, – хрясь, вторая фара… – Ты дверочку-то отопри. Купи билетик – поедешь! В это время один в ватнике догадался проверить: пошел назад, ударил по ручкам, и одна задняя дверь открылась, то ли Станиславич не запер, то ли что…Ватник и ввалился на сиденье к Станиславичу. Сначала он заорал – я думал оглохну, потом крик захлебнулся и мужик стал вываливаться обратно. Пока мы со Станиславичем в четыре руки ему помогали, рыжий стал по моему окну монтировкой бить. Я рванул в другую сторону, на выход, и краем глаза замечаю, что Ватник не один выполз, а вместе с Серым, который повис у него между ног как неживой. Потом все закрутилось, все орали… Серый отпустил Ватника, и тот куда-то делся. Зато передо мной нарисовался рыжий с монтировкой, я отшатнулся и между нами взлетел Серый – достал его где-то у шеи, они покатились вбок… Дальше я не видал – мне в скулу попало, ладно, вскользь и хорошо, что – дождь – сразу примочка.. Голову поднял – это тот, высокий. А сверху-то все льет и капля у него на носу висит – вот я эту каплю только и видел, по ней и вложился… Он поскользнулся, рукой схватился за машину – и тут же на этой руке Серый повис. Я оглянулся: где Станиславич? А он там еще с одним за машиной барахтается, я – туда. Ну, вырубили последнего и вдруг – визг. Короткий такой, мне как ножом под ложечку, бегу за машину: Серый лежит на боку, а высокий уже сапогами топает к газику, остальные за ним ковыляют. Газик у них рванул вперед как в боевике, разве что не взлетели. Я к Серому на коленках подползаю, под ним красная лужа и парок от нее… Заглянул ему в морду, а глаза у Серого закатились и хрип у него такой тихонький, щенячий такой. Я слышу – скулит еще кто-то – а это я сам. Станиславич гаркнул мне в ухо: – На руки бери, в машину, в больницу надо! Вез я Серого на руках, Станиславич гнал до самого Первоуральска – по дороге как назло ничего нет. Это я все плохо помню. Ни о чем я не думал, только ждал, когда доедем, и руки липкие были. Под большим пальцем как раз жилка билась и я слушал – бьется или нет? В первой ветеринарке мужик у Серого в ранах покопошился и сказал, что пес – не жилец, весь порезанный и его надо усыпить. Станиславич ему пачку денег молча на стол положил. Ветеринар только вздохнул: – Убери деньги. Я ж сказал, пустое! – У вас еще больница есть? – Больница-то есть. Да ты его туда не довезешь. Говорю же, усыпить… – Сам усни! ….. Серега, поехали! В другой ветеринарке сидели двое теток, одна почему-то в халате с цветочками. Они захлопотали вокруг Серого, только спросили – чем это его? Нам велели не мешаться и, если деньги есть, лекарство у них какое-то дорогое купить. Мы сидели в другой комнате часа два. Ветеринарша в смешном халате нам Серого и сшила. Станиславич рассказал ей, как Серый дрался, и она сказала, что может, Серый и не волк, но мужик – настоящий. Станиславич сам две недели крутил баранку, а я сидел с Серым. Еще два месяца Серый только ходил по комнате от стенки до стенки, – спасибо, днем баба Вера за ним приглядывала. А вечером я его на кресле подтаскивал к себе, чтоб сидеть рядом. Так мы и телик смотрели и даже на балконе гуляли. Шрам у него остался от груди на всю правую лапу. А когда Серый бежит, одну заднюю, тоже раненую, он подтягивает вверх, а другую, здоровую, лихо пропускает между передними – и мчится, как огромный веселый кролик. Глава четвертая В конце лета мы гуляли с Серым каждый вечер долго-долго. По паркам ходили или по улицам, весь город обошли. И вот однажды в Кировском парке мы встретили Никишу. Серый культурно шел около меня и вдруг рванул знакомиться к роскошной рыжей колли, которая стояла на газоне, как барышня в саду. – Она у нас девочка, – заявила хозяйка, – а у вас, небось, мальчик? У нас собака благородная, с родословной. Нас зовут Николь-Хитчака-Гайт! Пока я соображал, как они ее по-человечески зовут, Серый коротко вильнул хвостом, – «мол, спасибо, понял!» и понесся за очаровательной незнакомкой по тропинке. Хозяйка Тамара Ивановна особо не возражала, и мой дворняга принялся ухлестывать за Никишей – так по -простому звали нашу подружку. Я удивился, что нас, беспородных, не послали подальше, но Серого никакие сомнения не мучили. Не знал я своего Серого, тот еще Ромео оказался… Они с Никишей так рвались при встрече друг к другу, что мы с Тамарой неслись навстречу друг другу, как на водных лыжах. Не пришлось, не видал, чтоб так ухаживали, разве что в кино. Серый даже уши умудрялся ставить как-то «бантиком», прыгал около Никиши, как щенок, и все норовил подарить ей какую-нибудь веточку или палочку. А уж о том, чтобы без игры пойти на приступ, и речи не было! Попытки конечно, Серый предпринимал – нормальный же мужик, но надо было видеть, как он ее уговаривал, как они валялись в траве, как прыгали друг через друга…., разве что не ворковали. Прохожие останавливались посмотреть, как они играют, а дети просто пищали от восторга. Из-за Никиши Серый даже дрался, лез, как на буфет, на огромного сенбернара, думал загрызут друг друга. Стоило мне спросить: «Серый, где Никиша?» и пес вертелся юлой, скакал на месте, а до парка я летел за ним как на пожар. Я даже стал остерегаться просто так вспоминать, как его любимую величают. Станиславич к случаю заявил, что на Тихом океане умные люди поставили памятник собакам, которые жили на разных островах и плавали через залив на свидания. И долго рассуждал, о том, что двуногие влюбленные мужики тоже ведут себя как щенки. Вообще, чтобы мужики не делали в жизни – все ради женщин. И только безделье – для себя! Когда надо было идти по домам, а расстаться с Никишей не было никаких сил, я обычно ждал, пока Тамара уведет ее: «Киша, Никиша, пойдем домой, девочка моя!». Я надевал на Серого ошейник, из которого он готов был выпрыгнуть: Серый, она ушла... Видишь – она ушла! Не знаю уж как, но «ушла» он понимал. Продолжал тяжело дышать, но как-то смирялся, только на меня взглядывал, чтоб я подтвердил: завтра придет? Я и отвечал: «Завтра, завтра, Серега». И, честно говоря, было в этом что-то стыдное.. Что я, бог что ли, чтобы ему указывать? Когда выть, когда любить, когда чего… Кто мы такие, кто нас такими хозяевами назначил? Однажды с Никишей пришла гулять другая молодая баба. Никиша скакала вокруг Серого и все пыталась положить ему лапу на голову, а баба сидела на скамейке и отпускала веселой Никише такие названия, от которых у мужика уши вянут. Серый издалека приглядывался к новой хозяйке, тянул ноздрями воздух и тряс головой. Что уж там он унюхал, не знаю, но я видел – встревожился не на шутку. Баба, правда, была противная, но я как-то ее сразу не раскусил, а Серый, наверное, понял. Только куда ему деваться? Баба эта, Светка, оказалась дочерью Тамары Ивановны, и Серый просто ее терпел, чтоб Никише не влетало. В парк мы ходили по-прежнему: Серега мчался навстречу подружке и она к нему. Обменявшись лаем, они вихрем носились по кустам и траве, как пара мустангов. Так же смотрели на них дети и приставали к родителям: «Мама, купим собачку!» Тамара Ивановна как-то рассказала мне про свою жизнь. Дело обыкновенное: муж пил, потом подсел, вышел и снова сел, уже навсегда. Мужа у Светки нет, дети ее бегают раздетые, ждут, что бабка им принесет с пенсии. Сама Светка тоже пьет, но не всегда, а время от времени. Тамара ее жалела, причитала, что «доче в жизни не везет» – и мужики негодящие и работа никудышная, а Светочка на самом деле хорошая, добрая: вот, еще одну собаку взяла, которого хозяева выбросили, кавказца – такой красавец! – А Никиша как же? – Двоих, конечно, накладно держать, – вздыхала Тамара, – но какой толк с Никиши? Она ведь не овчарка, не защитит, если что. Хотя вот Светланочка намедни шла поздно вечером, выпимши, к ней кто-то пристал. Девочка наша так залаяла, тот прям отскочил! Ну, видно будет... Что теперь вспоминать? Хотел я у них Никишу выпросить, забрать к нам. Ну, живут же люди вместе, когда у них любовь, а чем собаки хуже? Да все откладывал, думаю – я на работе весь день, бывает, уезжаю, опять же в моей хрущобе только-только места для нас с Серым. Никогда себе не прощу. Серый на меня как на бога надеялся – а я … Фиговый из меня вышел бог. Однажды Тамара пришла радостная, похвасталась, что устроилась уборщицей в банк: чисто, прилично и оклад – не сравнить с магазином. Будет на что внуков кормить, потому что Светочку-то в очередной раз выгнали за пьянку … Но ходить в банк надо рано, пока клиенты не появились. Гулять с Никишей теперь всегда будет милая Светочка. Слушал я все это и чертыхался про себя. А Серый, будто мысли мои подслушивал – все забегал передо мной и взглядывал – чего, мол? И опять подумал я тогда – надо Никишу забирать, пусть у нас с Серым живет черноглазая красавица, устроимся как-нибудь… Вот съездим со Станиславичем в Сарапул, с делами немного разберусь… Тут и мой бог, человеческий, разобрался со мной по-своему… Пришли мы в парк через три дня, Серый уже не ел на третий день, по Никише тосковал. Тамара появилась с обоими – кавказцем на поводке и Никишей. Серый прямо остолбенел, а потом как взвился! Как же: Никиша виляла кавказцу хвостом и даже, кажется, не прочь была поиграть… – Трудно с двумя-то – брюзжала Тамара, – соседям хотели отдать – так она опять сбежала к нам. Пока решили себе оставить. Я не нашелся, что сказать, пошли мы с Серегой домой недовольные и встревоженные. И точно – в парке Тамара больше не показывалась. Чуть не каждый вечер мчались мы с Серегой к любимой клумбе, где они всегда встречались, а Никиша не появлялась. Что я мог Серому сказать? Прошло недели три… Я решил – случилось что-то в алкогольном семействе, еще Тамару пожалел - она ж у них там одна за всех… Наконец, они появились: Тамара и растолстевший кавказец в наморднике. Серый вырвал поводок - и полетел к ним. – Здравствуйте, Тамар Иванна! Куда ж вы пропали? Никиша наша где? Заболела, что ли? – Усыпили, – говорит Тамара. – Светочка меня пожалела, уговорила: ну, куда нам две собаки! Ты, говорит, мама, только на них и работаешь и еще обоих гуляй! Я б сказал, что любой бы мужик сказал на моем месте, но, бляха муха, не смог. Оторопь нашла. Как в детстве, когда еще мой папаша был жив и мать бил за то, что сам разбил бутылку водки. Потянул я Серого молча, пошли мы….Он сначала не понял – хвостом виляет, крутится вокруг: «Мы куда, хозяин, куда? Ты что? А как же Никиша? Мы к ней пришли?» – Она ушла, Серый,– сказал я ему.– Она ушла. Насовсем. – Не смог я ему правду сказать. А Серый вдруг понял. Может и по-своему. Крутанулся вдруг у меня в руках и назад – Тамара даже ойкнуть не успела, а он уже кавказца свалил и тряс эту огромную тушу, тряс, как цыпленка… На куски бы порвал, да Тамара завопила: –Убьет! Убьет, держи же его! Серый, взбесился ты, что ли? И Серый услышал: смотрит на нее, дышит тяжко – взгляд тот самый – желтый, бешеный, в самые глаза… Тамара попятилась, потянула своего порванного овчара, но еще и объяснила: – Серый, Никиша ушла. Ушла! Все! Я на Серого смотреть боялся… А с кого ему еще спрашивать? Я ж хозяин. Который все знает, все может. Вот мог – и не спас Никишу. В парк Кирова мы больше не ходили никогда. Мимо, бывало, проходили – и даже год спустя Серый рвался к входу, значит, все помнил. Я ему говорил: «Она ушла, Серый» и чувствовал, что я – сволочь. Глава пятая Станиславич как-то рассказывал: мол, собака охраняла вход в рай, и когда туда намылился дьявол, она его не пускала – защищала от рогатого Адама с Евой. А собаки раньше были голые, как люди. Дьявол тогда на нее смертный холод напустил и шкуру посулил. Одела собака шкуру и выжила. С тех пор собака – животное священное, а шкура у нее считается нечистой. Не знаю, что тут святые отцы придумали, что нет, а выходит одно: собаки всегда за нас расплачивались, с самого начала. И защищали всегда, и друзьями были, так уж вышло. Два года мы прожили с Серегой, а потом нас стало трое. Но Ленку свою я бы не нашел никогда, если б не Серый – как ни крути, а так. Бродили мы с Серым по лесу. В октябре было сыро, воздух в такое время звонкий и самые далекие звуки слышатся, будто у самого уха. Вот мы и слышим собачий лай у лесной развилки – прямо заливается собачонка. Серый без разговоров и без спросу – тянет меня туда. Ну, бежим, видим: стоит жигуленок, все четыре колеса разуты. В закрытом наглухо салоне беснуется маленькая болонка, в окна царапается. А за дворником записка: «Собака не виновата, она лаяла!». В это время и хозяева машины подоспели. Мужик, конечно, посерел, как увидел разутую машину, чуть не плачет. Жена давай его утешать, пацаненок тут же сопит и только девчонка лет двадцати – она последняя из леса вышла – увидала все это безобразие и давай хохотать! Всхлипывает даже: – Дядя Костя, не обижайтесь! Они гады, конечно, но Жулька-то, Жулька ваша, умничка, «лаяла»! Семейство оказалось невредное, незлобное, и даже дядя Костя в конце концов заухмылялся. Геройскую болонку Жульку он лично вез на коленях и нахваливал. Мы все семейство, само собой, в город подкинули Не стану врать – я на Ленку даже не оборачивался, не подумал ни разу, что вот, мол, приглянулась, или еще чего. Только когда музыку в машине включал, вдруг понял очень меня заботит – такая ей музыка нравится или, не дай бог, какая другая. Потом высаживал их у подъезда, вынимал корзинки из багажника. Всем подал как следует, а Ленке стал доставать – рассыпал и стою, чувствую, что вид у меня дурацкий. Ладно, хоть они все к дому пошли, я дух перевел. А у самого подъезда Ленка о чем-то с теткой пошушукалась, обернулась и кричит: – Сергей! Заходите с нами чай пить! Я и пошел. Едем потом домой с Серым, он ко мне лезет и лезет – вроде расспрашивает. Мы ж друг друга как облупленных знаем. «Чего пристал?», – говорю я ему,– «подумаешь, чаю зашел попить». Потом долго так было: только я Ленку увижу – все! Руки не слушаются, рубашка как назло, грязная, спотыкаюсь на ровном месте, покупаю ей мороженое – сдачу посчитать не могу. Ну, она вроде не замечала, или делала вид, а Серый по-моему все замечал. Через полгода мы поженились. Станиславич на свадьбе сказал тост «за Серого волка», который нашему царевичу невесту добыл». А Серый на свадьбе сидел культурно под столом, гостям не мешал, но все время около Ленки – охранял, значит. Ее у меня и украть не смогли, – кому охота с этим желтоглазым чертом связываться. Ленка у меня – добрая. Серый ее сразу раскусил: вечно перед ней хвостом бьет и носом в руку тычется – погладь, мол, или голову на колени укладывает. Ко мне так ни разу не подлизывался! Потом он сразу просек, что кухня теперь – Ленкино царство. Говорю ему как всегда: «Пора пожевать, Серый, а?» – и он на цыпочках, деликатно – прямо к Ленке: «Давай, мол, хозяйка, мужики есть просят». Пока Ленка беременная была, я их частенько в лес возил, гуляли-гуляли мы до упаду. Ленчик научила Серого грибы собирать. И ни разу ведь не ошибся: находит только съедобные. Ленка-хитрюга сначала сама гриб найдет, на шляпку чего-нибудь вкусненького положит для Серого и его подзывает. Серега рад стараться – так и выучился! А когда у нас Ванька родился – нянька не понадобилась. Иван в коляске на балконе – и Серый рядом дремлет. Ваньку на улицу везут – Серый у колеса коляски как привязанный. Ванька и ходить учился держась за его хвост, а то и за ухо, – Серый все покорно терпел. «Мама», «папа» и «бака» Ванька говорить научился одновременно. Главное дело, что на эту «баку» Серый отзывался, – но только если Ванюшка позвал, если кто другой – и ухом не поведет… А прошлым летом я поехал Станиславича забирать из Сарапула. Выехали мы с Серым пораньше, чтоб не спешить. И черт дернул меня остановиться у леса, посидеть захотелось, подышать в лесу. Серый бегал по кустам, исчезал, появлялся, а я сидел на травке у сосны. Не то чтоб спал, так, на солнышке жмурился. Чувствую, если еще посижу – засну, такая тишина стоит. Даже комаров нет, только воздух от света дрожит – но его ведь не слышно. Придется, думаю, вставать. Поднялся, Серого свистнул. Подождал – нету. Еще позвал – ни звука в ответ. Помаялся я минут пятнадцать и почему-то сразу почувствовал – плохо. Пошел в лес, звал, орал уже – нету! Лазил по малиннику, изодрался весь, следы искал на тропинке – да какой из меня следопыт! Куда он мог деться? Как сквозь землю провалился. Смотрю на часы – звоню Станиславичу: такое дело, Серый пропал. Он мне говорит: «Ищи, пока не найдешь». Искал я до темноты. Носился по лесу и злился: вот, выпедриваемся, человеки мы, то да се… Был бы собакой – враз бы Серого по следам нашел. А так – дурак дураком. Был Серый – и нет Серого. Ушел. Сначала мы надеялись, что он заплутал или в деревню добежал, может, на кенские огороды забрел. Но все деревни и дачные участки я в округе объехал – люди говорят, не видали, не живого, ни мертвого. И я не увидел. Потом мы с Ленкой в лес этот ездили сколько раз… Искали всю осень. Я на улице до сих пор на каждую серую собаку оборачиваюсь – ну, не может мой Серый просто так уйти. Кого мне спрашивать? Где мой хозяин, который все знает и поможет? Или это мне за Никишу такое наказание вышло? Вот и все про моего Серого. И вот еще: если кто силой его держит – не обижайте, очень прошу, отпустите. Только отпустите, он сам домой придет. А мы его ждем.